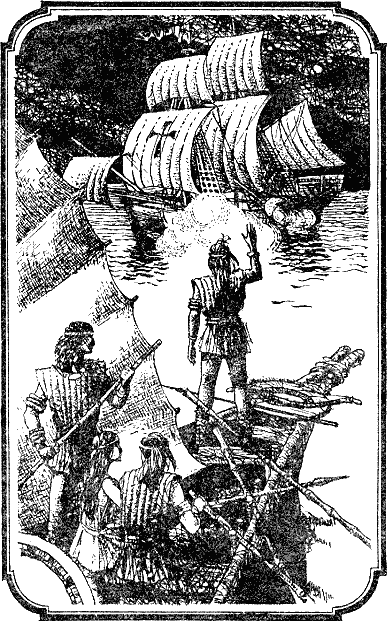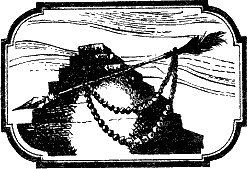Генри Райдер Хаггард
Прекрасная Маргарет
ГЛАВА I. ПИТЕР ВСТРЕЧАЕТ ИСПАНЦА
Это случилось весенним днем в шестой год правления короля Англии Генриха VIII
[1].
В Лондоне было большое торжество — его величество открыл только что созванный парламент и объявил своим верноподданным что он намерен вторгнуться во Францию и собственной персоной возглавить английскую армию. Народ встретил это известие радостными криками. Правда, когда в парламенте был сделан намек на то, что война потребует денег, это сообщение вызвало гораздо меньший восторг. Но толпу около парламента, состоявшую в большинстве своем из людей, которым не нужно было раскошеливаться, эта сторона дела не волновала. Когда появился король, окруженный блестящей свитой в толпе принялись кидать в воздух шапки и кричать до хрипоты.
Король, уже усталый человек, несмотря на свою молодость, с тонким и нервным лицом, улыбался чуть иронически. Вспомнив, однако, что ему, занимающему несколько сомнительное положение на троне нужно радоваться этим приветствиям, он произнес несколько милостивых слов и допустил трех граждан к своей королевской руке. Король даже разрешил каким-то сольным детям дотронуться до своей одежды — это должно было излечить их от злого духа. Его величество задержался, чтобы принять прошения от бедняков, передал их одному из своих офицеров и, провожаемый возобновившимися с новой силой приветственными возгласами, проследовал в Вестминстерский дворец на пир.
В свите короля находился и посол де Айала представлявший при английском дворе государей Испании — Фердинанда и Изабеллу
[2]. Его сопровождала группа роскошно одетых дворян. Судя по тому месту которое занимал испанец в процессии, его страна пользовалась здесь почетом. Да и как могло быть иначе — ведь уже четыре года назад принц Артур, старший сын короля, которому исполнился тогда только год, был официально обручен с дочерью Фердинанда и Изабеллы, инфантой Екатериной, которая была старше его на девять месяцев. Ведь в те времена считалось, что привязанности принцев и принцесс должны направляться заранее по пути, выгодному их коронованным родителям и воспитателям.
Слева от посла на превосходном черном коне ехал высокий испанец, одетый богато, но просто, в черный бархат; его черную бархатную шляпу украшала единственная жемчужина. Это был красивый мужчина лет тридцати пяти, с суровым и резко очерченным лицом и острыми черными глазами. Говорят, что в каждом человеке можно найти сходство — иногда, конечно, довольно далекое и приблизительное — с каким-нибудь зверем или птицей. В данном случае это сразу бросалось в глаза. Спутник посла напоминал орла, и случайно или умышленно изображение орла украшало ливреи его слуг и сбрую коня. Пристальный взгляд, крючковатый нос, гордый и властный вид, тонкие, длинные пальцы, быстрота и изящество движений — все в нем напоминало царя птиц. Намекал на это сходство и девиз, сообщавший, что владелец его все, что ищет, находит и все, что находит, берет. С презрительным и скучающим видом он наблюдал за разговором английского короля с предводителями толпы, которых его величеству угодно было вызвать.
— Вы находите эту сцену странной, маркиз? — обратился к нему посол.
— Здесь, в Англии, если ваше преосвященство не возражает, называйте меня сеньор, — с достоинством ответил он, — сеньор д'Агвилар, Маркиз, которого вы изволили упомянуть, живет в Испании и является полномочным послом у мавров в Гранаде
[3]. Сеньор д'Агвилар, смиренный слуга святой церкви, — он перекрестился, — путешествует за границей по делам церкви и их величеств.
— И по своим собственным, я полагаю, — сухо заметил посол. — Откровенно говоря, сеньор д'Агвилар, одного я не могу понять: почему вы — а я знаю, что вы отказались от политической карьеры, — почему вы тогда не облачитесь в черное одеяние? Впрочем, почему я сказал — черное? С вашими возможностями и связями оно уже сейчас могло бы быть пурпурным, с головным убором того же цвета
[4].
Сеньор д'Агвилар улыбнулся:
— Вы хотите сказать, что я иногда путешествую по своим собственным делам? Ну что ж, вы правы. Я отказался от мирского тщеславия — оно причиняет беспокойство, а для некоторых людей, высокорожденных, но не обладающих соответствующими правами, весьма опасно. Из желудей этого тщеславия часто вырастают дубы, на которых вешают.
— Или плахи, на которых отрубают головы. Сеньор, я поздравляют вас: вы обладаете мудростью, которая умеет извлекать главное, отбрасывая в сторону призрачное. Это так редко встречается.
— Вы спрашиваете, почему я не меняю покроя своей одежды, — продолжал д'Агвилар, не обращая внимания на то, что его прервали. — Если быть откровенным, ваше преосвященство — по личным соображениям. У меня те же слабости, что и у других людей. Меня могут увлечь прекрасные глаза или ослепить чувство ненависти, а это все несовместимо с черным или красным одеянием.
— Однако те, кто носят его, грешат всем этим, — многозначительно заметил посол.
— Да, ваше преосвященство, и это позорит святую церковь. Вы, как служитель ее, знаете это лучше, чем кто-либо другой. Оставим земле все зле, но церковь, подобно небу, должна быть над всем этим, непорочная, ничем не запятнанная. Пусть она будет обителью молитв, милосердия и праведного суда, куда не вступит нога такого грешника, как я, — и д'Агвилар вновь перекрестился.
В его голосе было столько искренности, что де Айала, знавший кое-что о репутации своего собеседника, с любопытством посмотрел на него.
«Истый фанатик, — подумал де Айала, — и человек полезный нам, хотя он отлично знает, как получать радости и от церкви и от жизни».
Вслух же он сказал:
— Неудивительно, что святая церковь радуется, имея такого сына, а ее враги трепещут, когда он поднимает свой меч. Однако, сеньор, вы так и не сказали мне, что вы думаете обо всей этой церемонии и здешнем народе.
— Народ этот, ваше преосвященство, я знаю хорошо — ведь мне случалось уже жить здесь и я говорю на их языке. Именно поэтому я покинул Гранаду и нахожусь сегодня здесь, чтобы наблюдать и докладывать… — Он приостановился и добавил: — Что же касается церемонии, то, будь я королем, я бы вел себя иначе. Ведь только что в этом здании чернь — представители общин, так ведь, кажется, они себя называют? — чуть ли не угрожала своему коронованному владыке, когда он униженно просил ничтожную частицу богатств страны для того, чтобы вести войну. Я видел, как он побледнел и задрожал от этих грубых голосов, будто один звук их может поколебать его трон. Уверяю вас, ваше преосвященство, настанет время» когда Англией будут править эти самые общины. Посмотрите на человека, которого его величество держит за руку и называет сэром. Ведь король, так же как и я, знает, что это еретик, и имей король права, этого человека за его грехи следовало бы отправить на костер. По полученным мною вчера сведениям, он высказывался против церкви…
— Церковь и ее слуги не забудут об этом, когда придет время, — обронил де Айала. — Однако аудиенция окончена, и его величество приглашает нас на пир, где не будет еретиков, которые раздражают нас, а так как сейчас пост, то и еды почти не будет. Поедем, сеньор, а то мы загораживаем путь.
Прошло три часа, солнце уже садилось. Оно было красноватое, несмотря на начало весны; на болотистых полях Вестминстера было холодно. На пустыре напротив дворца, где шел пир, толпились лондонские горожане. Они окончили свои дневные дела и пришли посмотреть на королевское торжество. В этой толпе обращали на себя внимание мужчина и дама, которую сопровождала молодая хорошенькая женщина.
Мужчине на вид было лет тридцать. Одет он был скромно, как одевались обычно лондонские купцы; у пояса его висел нож. Роста в нем было добрых шесть футов
[5]. Впрочем, и его спутница, закутанная в отделанный мехом плащ, тоже была высокого роста. Строго говоря, мужчину вряд ли можно было назвать красивым — у него был слишком высокий лоб и резкие черты лица. К тому же правую сторону его чисто выбритого лица от виска и до энергичного подбородка пересекал красноватый шрам от удара мечом. Тем не менее лицо это было открытое, мужественное, хотя и несколько суровое, а серые глаза смотрели прямо. Это было лицо не купца, а скорее человека благородного происхождения, привыкшего к походам и войнам. У него была великолепная подвижная фигура, а голос его, когда он говорил, что бывало весьма редко, звучал ясно и приятно.
О фигуре его спутницы сказать что-либо было трудно, так как ее скрывал длинный плащ, но лицо, выглядывавшее из-под капюшона, когда она поворачивала голову и лучи заходящего солнца падали на него, поражало своей красотой. Маргарет Кастелл, или, как ее называли, прекрасная Маргарет, до конца жизни затмевала других женщин своей редкостной красотой. Нежными тонами и округлыми линиями ее лицо напоминало цветок. Его украшал белоснежный ясный лоб и великолепно очерченные яркие губы. Но для того чтобы понять секрет обаяния, выделявшего ее среди других красивых женщин того времени, нужно было заглянуть в ее глаза. Они были не голубыми или серыми, как можно было ожидать, судя по цвету лица, но огромными черными, блестящими и в то же время влажными, как у лани; их обрамляли черные, изогнутые ресницы. От этих глаз нельзя было оторваться, как, скажем, от розы, лежащей на снегу, или от утренней звезды, сверкающей в предрассветном тумане. И несмотря на застенчивость этих глаз, мужчине требовалось немало времени, чтобы забыть их, особенно если ему удавалось видеть глаза Маргарет в сочетании с темно-каштановыми волосами, волнами спадавшими на ее точеные плечи.
Питер Брум — так звали мужчину — несколько беспокойно посматривал вокруг и наконец обратился к Маргарет:
— Стоит ли нам оставаться здесь, кузина? Тут много простолюдинов. Ваш отец может рассердиться.
Тут следует объяснить, что в действительности родственные отношения Питера и Маргарет были гораздо менее близкими — только дальнее родство по линии матери, — однако они называли так друг друга, поскольку это было удобно и могло значить и очень много и ничего.
— Почему? — возразила она. В ее глубоком и мягком голосе слышался чуть заметный иностранный акцент, нежный, как дуновение южного ветра ночью. — С вами, кузен, — и она с удовольствием посмотрела на его рослую, мужественную фигуру, — мне некого бояться. А я очень хочу поближе увидеть короля. И Бетти тоже об этом мечтает. Правда ведь? — обратилась она к своей спутнице.
Бетти Дин была кузиной Маргарет, хотя ее родство с Питером Брумом было уже совсем далеким. Бетти была благородного происхождения, но ее отец, необузданный и беспутный человек, разбил сердце ее матери и умер вслед за ней, оставив Бетти на попечении матери Маргарет, в доме которой она и выросла.
Бетти была по-своему примечательна как внешностью, так и характером. Красивая, превосходно сложенная, сильная, с большими дерзкими голубыми глазами и яркими полными губами, она отличалась смелостью и прямотой. Будучи женщиной романтичной и тщеславной, Бетти любила общество мужчин и еще больше любила нравиться им. Однако в свои двадцать пять лет она была честной девушкой и умела постоять за себя, в чем имели возможность убедиться многие ее поклонники. И хотя Бетти занимала довольно низкое положение, в глубине души она очень гордилась своим происхождением и была весьма честолюбива. Самым сокровенным ее желанием было выйти замуж так, чтобы подняться до положения, которого ее лишили безумства отца, — довольно трудная задача для девушки, являвшейся чем-то вроде прислуги и к тому же без всякого приданого.
И наконец для завершения ее образа надо добавить, что она любила свою кузину Маргарет больше, чем коголибо другого на всем свете, хотя Питера она уважала не меньше, вероятно потому, что, как она ни старалась, ее красота оставляла его совершенно хладнокровным.
В ответ на вопрос Маргарет Бетти рассмеялась:
— Конечно! Ведь мы так редко выбираемся из Холборна
[6] и мне не хотелось бы пропустить случай посмотреть на короля и его двор. Однако мастер
[7] Питер так благоразумен, что я всегда слушаюсь его. К тому же начинает темнеть.
— Ну хорошо, — ответила Маргарет со вздохом, слегка пожав плечами,
— если вы оба против меня, придется идти. Но в следующий раз, когда я пойду гулять, кузен Питер, я пойду с кем-нибудь более добрым.
Она повернулась и начала быстро пробираться сквозь толпу. Прежде чем Питер успел остановить ее, Маргарет свернула направо, где было посвободнее, и очутилась на площадке перед самым залом. Здесь собрались солдаты и слуги с лошадьми, ожидающие своих господ. Толпа замкнулась за Маргарет, и Питер с Бетти на несколько минут остались отрезанными от нее.
Маргарет вдруг оказалась одна среди солдат, составлявших стражу испанского посла де Айала. Солдаты эти отличались своей заносчивостью и грубостью — они были уверены в полной безнаказанности, так как знали, что положение их господина всегда будет им защитой. К тому же почти все они были пьяны.
Один из этих людей, здоровенный рыжий шотландец, которого дипломат-священник вывез из его родной страны, где был раньше послом, неожиданно увидев перед собой молодую и красивую женщину, решил поближе рассмотреть ее и прибегнул для этого к грубой уловке. Сделав вид, что он споткнулся, шотландец схватился за плащ Маргарет якобы для того, чтобы удержаться, и с силой сдернул его, открыл прелестное лицо и стройную фигуру.
— Друзья, — заорал он хриплым, пьяным голосом, — эта голубка прилетела сюда, чтобы подарить мне поцелуй! — И, обхватив Маргарет своими длинными руками, он старался привлечь ее к себе.
— Питер! На помощь, Питер! — закричала Маргарет, отчаянно сопротивляясь.
— Нет уж, красотка, если ты зовешь святого, — отвечал пьяный шотландец, — то Эндрью ничуть не хуже Питера.
Его приятели встретили это «остроумное» замечание громким смехом, ибо знали, что шотландца зовут Эндрью.
Однако в следующее мгновение они опять хохотали, но уже по другой причине. Эндрью показалось, что он очутился во власти урагана. Маргарет была вырвана из его рук, а сам он крутящимся волчком отлетел в сторону и со страшной силой упал вниз лицом.
— Вот это Питер! — воскликнул по-испански один из солдат.
— Да, у него стоящий святой патрон, — откликнулся второй.
А третий принялся поднимать лежащего Эндрью. Вид шотландца был страшен. Шляпа слетела, и огненно-рыжие волосы были измазаны грязью. Кроме того, падая, он разбил себе нос о камни, и по лицу его текла кровь. Маленькие красные глаза его свирепо сверкали, как у хорька, а физиономия посерела от боли и ярости. Рыча что-то по-шотландски, он выхватил меч и бросился на своего противника с явным намерением убить его.
Питер был без меча, а свой коротенький нож он даже не успел вытащить. Однако в руке у него была толстая палка с железным наконечником. И не успела Маргарет всплеснуть руками, а Бетти взвизгнуть, как Питер отбил меч и, прежде чем шотландец мог напасть вновь, ударил его палкой. Страшный удар пришелся шотландцу по плечу и заставил его пошатнуться.
— Хороший удар, Питер! Отлично сработано. Питер! — закричали зрители.
Но Питер не видел и не слышал их — он был ослеплен яростью из-за оскорбления, нанесенного Маргарет. Палка вновь взлетела, но на этот раз всей силой обрушилась на голову шотландцу, расколола ее, как яичную скорлупу, и оскорбитель рухнул мертвым.
Наступило минутное молчание — шутка окончилась трагедией. Наконец один из испанцев, глядя на поверженное тело, воскликнул:
— Во имя бога, нашего товарища убили! Этот торгаш бьет крепко!
Среди приятелей убитого поднялся ропот, и один из них закричал:
— Рубите его!
Питер рванулся вперед и схватил с земли меч шотландца. Одновременно он отбросил палку и левой рукой выхватил из ножен свой кинжал. Теперь Питер приготовился встретить врагов. Вид у него был такой свирепый и воинственный, что, хотя четыре или пить мечей сверкнули в воздухе, противники приостановились. Питер, однако, понимал, что против такого количества врагов ему не выстоять, и в первый раз за время всей этой сцены раздался его голос:
— Англичане! — громко крикнул он, не поворачивая головы и не отводя глаз от врагов. — Неужели вы будете стоять и смотреть, как эти испанские собаки убивают меня?
Наступила короткая пауза, и затем раздался чей-то голос:
— Клянусь, только не я! — И высокий вооруженный кентец очутился рядом с Питером. Вокруг левой руки у него был обернут плащ, а в правой он держал обнаженный меч.
— И не я! — крикнул другой. — С Питером Брумом мы вместе воевали.
— И не я! — откликнулся третий. — Мы ведь с ним земляки из Эссекса!
Не прошло и минуты, как рядом с Питером собралась довольно внушительная группа крепких и рослых англичан. Силы противников оказались приблизительно равны.
— Теперь хватит, — сказал Питер. — Мы хотим только, чтобы игра была честная. Друзья, посмотрите за женщинами. А вы, убийцы, если хотите испробовать, как англичане умеют работать мечом, выходите. А если трусите, так дайте нам спокойно уйти.
— Выходите, чужеземные трусы! — зашумела толпа, которая не любила эту буйную и привилегированную стражу.
Теперь уже закипела кровь у испанцев — проснулась старая национальная вражда. На ломаном английском языке сержант выкрикнул несколько грязных ругательств по адресу Маргарет и призвал своих товарищей «перерезать глотки лондонским свиньям». В красноватых лучах заходящего солнца алым пламенем сверкнула сталь мечей, еще секунда — и завязалась бы кровавая драка.
Однако этого не случилось. Высокий сеньор, укрывавшийся в тени и наблюдавший всю эту сцену, стал между противниками и отвел готовые скреститься мечи.
— Довольно, — спокойно сказал по-испански д'Агвилар (ибо это был он). — Дураки! Вы что, хотите, чтобы всех испанцев в Лондоне разорвали на куски? Что касается этого пьяного животного, — и он тронул ногой труп Эндрью, — то он сам виноват. К тому же он не был испанцем, и вам незачем мстить. Слушайте меня. Или я должен сказать вам, кто я?
— Мы знаем вас, маркиз, — послушно ответил сержант. — Спрячьте свои мечи, приятели. В конце концов, это не наше дело.
Солдаты повиновались с явной неохотой, но в этот момент появился де Айала. Ему уже сообщили о смерти его слуги, и взбешенный посол громко потребовал, чтобы человек, убивший шотландца, был выдан.
— Мы не выдадим Питера испанскому попу! — зашумела толпа. — Идите сюда и попробуйте взять его, если хотите!
Опять все заволновались, а Питер со своими приятелями приготовился к бою.
Сражение было неминуемо, несмотря на попытки д'Агвилара предотвратить его, но шум неожиданно начал затихать, и воцарилась тишина. Среди поднятых мечей шел невысокий, богато одетый человек. Это был король Генрих.
— Кто осмелился обнажить мечи на моих улицах, перед самыми дверьми моего дворца? — ледяным голосом спросил он.
Дюжина рук указала на Питера.
— Говори, — приказал ему король.
— Маргарет, иди сюда! — крикнул Питер.
И девушку вытолкнули к нему.
— Ваше величество, — сказал Питер, показывая на труп Эндрью, — этот человек хотел обидеть девушку, дочь Джона Кастелла. Я, ее кузен, отшвырнул его. Тогда он обнажил свой меч и напал на меня, и я убил его палкой. Вон она лежит. А испанцы — его товарищи — хотели убить меня. Я позвал на помощь англичан. Вот и все.
Король оглядел его с ног до головы.
— Купец по одежде, — сказал он, — и воин по виду. Как твое имя?
— Питер Брум, ваше величество.
— А! Был такой сэр Питер Брум, который пал на Босвортском поле, сражаясь против меня. — Король улыбнулся: — Ты, случаем, не знаешь его?
— Это был мой отец, ваше величество. Я видел, как его убили, и убил убийцу.
— В это я могу поверить, — произнес король, разглядывая его. — Но почему сын Питера Брума, носящий на лице боевой шрам, одет в купеческое платье?
— Ваше величество, — спокойно ответил Питер, — мой отец продал свои земли, дав взаймы короне все, что у него было. А я никогда не предъявлял счета. Поэтому я должен жить так, как могу.
Король рассмеялся:
— Ты нравишься мне, Питер Брум, хотя ты, конечно, ненавидишь меня.
— Нет, ваше величество. Пока был жив Ричард, я сражался за Ричарда. Ричарда нет, и я, если понадобится, буду сражаться за англичанина Генриха и служить королю Англии.
— Хорошо сказано! Может быть, ты мне понадобишься. Я не помню зла. Однако я чуть не забыл: это ты так собираешься сражаться за меня — устраивая бунт на улицах и ссоря меня с моими друзьями испанцами?
— Ваше величество, я все рассказал вам.
— Твою историю я слышал. Но кто подтвердит, что это правда? Может быть, ты, дочь купца Кастелла!
— Да, ваше величество. Человек, которого убил мой кузен, оскорбил меня. А моя единственная вина в том, что я хотела посмотреть на ваше величество. Вот, видите мой разорванный плащ?
— Неудивительно, что он убил его из-за таких глаз, как твои. Но ты можешь быть пристрастна. — Король опять улыбнулся и добавил: — Нет ли других свидетелей?
Бетти уже открыла рот, но вперед вышел д'Агвилар, снял шляпу, поклонился и сказал по-английски:
— Есть, ваше величество. Я все видел. Этот смелый джентльмен ни в чем не виноват. Виноваты слуги моего соотечественника де Айала. Во всяком случае, вначале. А потом уже началась ссора.
Тут вмешался де Айала. Он был все еще зол и заявил, что если он не получит удовлетворения за убийство его слуги, то напишет их величествам, королю и королеве Испании, и сообщит им, как обращаются с их людьми в Лондоне.
При этих словах Генрих помрачнел. Более всего он не хотел портить отношения с Фердинандом и Изабеллой.
— Ты сделал сегодня дурное дело, Питер Брум, — сказал он. — Разобраться в этом должен будет судья. А пока тебя следует задержать.
— И король обернулся, как бы для того, чтобы отдать приказ об аресте.
— Ваше величество! — воскликнул Питер. — Я живу в доме купца Кастелла в Холборне и никуда не скроюсь.
— А кто поручится за это, — спросил король, — или за то, что ты не затеешь новой ссоры по дороге домой?
— Я поручусь, — спокойно сказал д'Агвилар, — если эта леди разрешит мне проводить ее вместе с ее кузеном домой. Кроме того, — добавил он тихо, — мне кажется, что если бросить его в тюрьму, то это гораздо скорее может вызвать мятеж, нежели если отпустить его домой.
Генрих посмотрел на толпу, которая следила за этой сценой, и прочел на лицах нечто такое, что заставило его согласиться с д'Агвиларом.
— Хорошо, маркиз, — сказал он, — я полагаюсь на ваше слово и слово Питера Брума, что он явится, когда будет вызван. Пусть этот труп оставят до завтра в аббатстве, пока не начнется расследование. Дайте мне руку, ваше преосвященство, у меня есть гораздо более важные вопросы, о которых я хочу поговорить с вами, прежде чем мы отойдем ко сну.
ГЛАВА II. ДЖОН КАСТЕЛЛ
Когда король удалился, Питер обратился к тем, кто окружал его, и сердечно поблагодарил их. Затем он сказал Маргарет:
— Пойдемте, кузина. Представление окончено, и ваше желание исполнилось — вы видели короля. А теперь, чем скорее мы попадем домой, тем спокойнее я буду.
— Конечно! — ответила Маргарет. — Я видела больше, чем мне бы хотелось увидеть. Но прежде чем мы уйдем, надо поблагодарить этого испанского сеньора…
— … д'Агвилара, леди. Пока достаточно этого имени, — любезно ответил испанец, низко кланяясь и не сводя глаз с прекрасного лица Маргарет.
— Сеньор д'Агвилар, я благодарю вас от себя и от имени моего кузена, чью жизнь, возможно, вы спасли. Не так ли, Питер? И мой отец будет вам благодарен.
— Да, — несколько мрачновато произнес Питер, — я очень благодарен ему. Что же касается моей жизни, то я больше полагаюсь на мои собственные руки и руки моих приятелей. Покойной ночи, сэр.
— Я боюсь, сеньор, — с улыбкой отозвался д'Агвилар, — что мы еще не можем расстаться. Вы забыли, что я поручился за вас и поэтому должен сопровождать вас до вашего дома, чтобы увидеть, где вы живете. К тому же это будет безопаснее, ибо мои соотечественники мстительны, и, если я не пойду с вами, они могут напасть на вас.
Заметив по лицу Питера, что он решительно против такого сопровождения, Маргарет поспешно вмешалась:
— Конечно, это самое разумное. И мой отец решил бы так же. Сеньор, я буду показывать вам дорогу. — И, приняв галантно предложенную ей д'Агвиларом руку, Маргарет быстро пошла вперед, предоставив Питеру идти с Бетти.
Шествуя в таком порядке, они пересекли окутанные наступающими сумерками поля, лежащие между Вестминстером и Холборном, и углубились в лабиринт узеньких улочек. Маргарет довольно скоро разговорилась со своим спутником по-испански — язык этот она, по причинам, которые в дальнейшем будут разъяснены, знала хорошо. Позади шел Питер Брум в самом дурном настроении, держа в одной руке меч шотландца, а другой поддерживая Бетти.
Джон Кастелл жил в большом, выстроенном без четкого плана доме на главной улице Холборна. Позади дома находился сад, обнесенный высокой стеной. Фасад дома был занят лавкой, складом для товаров и конторой. Джон Кастелл был очень богатый купец, занимавшийся по королевскому разрешению вывозом товаров из Испании. Его суда привозили оттуда прекрасную испанскую шерсть, которая обрабатывалась в Англии, бархат, шелка и вина из Гранады, а также превосходное инкрустированное оружие из толедской стали. Иногда он имел дело с серебром и медью, добываемыми в горных рудниках, так как он был не только купцом, но и банкиром или тем, что подразумевалось под этим словом в те времена.
Никто точно не знал размеров его богатства. Говорили, что под лавкой находятся наполненные драгоценными товарами подвалы. Своими толстыми каменными стенами и железными дверьми, через которые не мог проникнуть ни один вор, его дом напоминал тюрьму. В этом большом здании, которое во времена Плантагенетов
[8] представляло собой укрепленную дворянскую усадьбу, существовали тайные помещения, известные одному лишь хозяину. Даже его дочь и Питер никогда не переступали их порога. В доме было немалое количество слуг, крепких парней, носивших под плащами ножи и даже мечи и охранявших покой хозяев. Внутренние комнаты, в которых жили сам Кастелл, Маргарет и Питер, отличались простором и удобствами, были заново отделаны дубом в соответствии с модой Тюдоров и имели глубокие окна, выходившие в сад.
Когда Питер и Бетти подошли к двери, они обнаружили, что Маргарет и д'Агвилар, шедшие гораздо быстрее их, уже вошли в дом. Дверь была закрыта. На довольно сильный стук Питера отворил слуга. Питер пересек прихожую и вошел в зал, откуда доносились голоса. Это была красивая комната, освещенная висящими лампами, заправленными оливковым маслом, с большим камином, в котором горел огонь. Дубовый стол, стоявший перед очагом, был накрыт для ужина. Маргарет, сбросившая с себя плащ, грелась, стоя у огня, а сеньор д'Агвилар удобно устроился в большом кресле. У него был такой вид, словно он здесь привычный гость. Шляпу он держал в руках и, откинувшись назад, наблюдал за Маргарет.
Перед ним стоял Джон Кастелл, крупный мужчина лет пятидесяти — шестидесяти, с умным лицом, на котором выделялись острые черные глаза и черная борода. Здесь, у себя дома, он был одет в богатый камзол, отделанный дорогим мехом и украшенный золотой цепью с драгоценным камнем на застежке. Когда Кастелл сидел у себя в лавке или в конторе, он одевался проще, чем любой купец в Лондоне. Однако в глубине души он любил роскошь и по вечерам, даже если никто не мог его увидеть, доставлял себе такое удовольствие.
Едва взглянув на лицо Кастелла, Питер понял, что тот очень взволнован. Кастелл обернулся на звук шагов Питера и сразу обратился к нему со свойственной ему решительностью и твердостью в голосе:
— Что я услышал, Питер? Ты убил человека перед воротами дворца? Ссора! Бунт, который едва не дошел до кровопролития между англичанами с тобой во главе и стражей его преосвященства де Айала. Король арестовал тебя, а этот сеньор взял на поруки. Это правда?
— Совершенная, — спокойно ответил Питер.
— Тогда я погиб, мы все погибли! О, будь проклят тот час, когда я пустил человека вашей кровожадной профессии в свой дом! Что ты можешь сказать?
— Что я хочу ужинать, — ответил Питер. — Те, кто начал рассказывать эту историю, пусть и кончают ее. У них язык привешен лучше, чем у меня! — И он сердито посмотрел на Маргарет, которая открыто смеялась, в то время как важный д'Агвилар улыбался.
— Отец, — вмешалась Маргарет, — не сердись на кузена Питера. Его единственная вина в том, что у него слишком тяжелая рука. Виновата я, потому что захотела остаться, чтобы посмотреть на короля, хотя и Питер и Бетти были против. А потом этот грубиян, — и ее глаза наполнились слезами стыда и гнева, — схватил меня, и Питер сбил его с ног. Когда же тот набросился на Питера с мечом, Питер убил его своей палкой, ну и… потом случилось все остальное.
— Это было великолепно проделано! — сказал д'Агвилар своим мягким голосом с иностранным акцентом. — Я видел все и был уверен, что шотландец вас убьет. Я еще понимаю, как вы сумели отпарировать удар, но как вы успели ударить его прежде, чем он напал вновь, — о, это…
— Ну ладно, — вмешался Кастелл. — Давайте сначала ужинать, а потом поговорим. Сеньор д'Агвилар, я надеюсь, вы окажете мне честь, разделив с нами наш скромный ужин? Хотя, конечно, трудно после королевского пира сесть за стол купца.
— Это вы мне оказываете честь, — ответил д'Агвилар, — что же касается пира, то в связи с постом его величество очень воздержан. Я почти ничего не ел и, так же как и сеньор Питер, весьма голоден.
Кастелл позвонил в серебряный колокольчик, и слуги принесли обильный и вкусный ужин. Пока они расставляли блюда, купец подошел к буфету, вделанному в стену, и вынул оттуда две оплетенные бутыли. Он осторожно откупорил их и объявил, что хочет угостить сеньора вином его родной страны. При этом он прочитал по-латыни молитву и перекрестился. Д'Агвилар последовал его примеру, присовокупив, что он рад обнаружить, что оказался в доме такого доброго христианина.
— А кем, вы думаете, я еще могу быть? — спросил Кастелл, бросив на него проницательный взгляд.
— Я ничего не думаю, сеньор, — ответил д'Агвилар, — но, увы, не все же христиане. В Испании, например, есть много мавров и… евреев.
— Я знаю, — сказал Кастелл, — я ведь торгую и с теми и с другими.
— Тогда вы, наверное, бывали в Испании?
— Нет, я английский купец. Но попробуйте это вино, сеньор, оно из Гранады, и одно это уже говорит за то, что оно хорошее.
Д'Агвилар пригубил, а потом выпил весь бокал.
— Вино действительно превосходное, — сказал он. — У меня нет подобных даже дома в моих подвалах.
— Значит, вы живете в Гранаде, сеньор д'Агвилар? — спросил Кастелл.
— Иногда, когда я не путешествую. У меня там есть дом, который оставила мне моя мать. Она любила этот город и купила у мавров старый дворец. А вам, сеньора, не хотелось бы повидать Гранаду? — спросил он, обращаясь к Маргарет. Похоже было, что он хочет переменить тему разговора. — Там есть великолепное здание, его называют Альгамбра
[9]. Оно видно из окон моего дома.
— Вряд ли моя дочь когда-либо увидит его, — обронил Кастелл. — Я не думаю, что она посетит Испанию.
— Вы не думаете, но кто может знать? Один лишь бог и его святые. — Д'Агвилар опять перекрестился и принялся расписывать красоты Гранады.
Он был прекрасный рассказчик, с приятным голосом, и Маргарет с интересом слушала его, забывая о еде, а ее отец и Питер наблюдали за ними обоими. Наконец ужин был окончен, слуги убрали со стола и удалились. Тут Кастелл обратился к Питеру:
— Ну, а теперь рассказывай свою историю.
Питер рассказал ему все в нескольких словах, не упустив, однако, ничего.
— Я не виню тебя, — сказал купец, когда Питер закончил, — и понимаю, что ты не мог действовать иначе. Я виню Маргарет, потому что я разрешил ей прогуляться с тобой и Бетти только до реки и приказал остерегаться толпы.
— Да, отец, это моя вина, и я прошу у тебя прощения, — сказала Маргарет так покорно, что Кастелл не нашел в себе сил бранить дочь.
— Прощения ты должна просить у Питера, — пробормотал он, — похоже, он попадет в тюрьму за это дело, да еще его будут судить за убийство. Не забывай, это был слуга де Айала, с которым наш король не захочет портить отношения, а де Айала, по-видимому, весьма рассержен.
Эти слова напугали Маргарет. Ее сердце сжалось при мысли, что Питер может пострадать. Она побледнела, и глаза ее опять наполнились слезами.
— О, не говори так! — воскликнула она. — Питер, тебе нужно немедленно скрыться.
— Ни в коем случае, — твердо ответил тот. — Ведь я дал слово королю, а этот иностранный господин поручился за меня.
— Что же делать? — продолжала Маргарет; затем повернулась к д'Агвилару и, сжимая свои тонкие пальцы, обратилась к нему, с надеждой глядя в лицо. — Сеньор, вы так могущественны, и вы в дружбе с сильными людьми, помогите нам!
— Разве я здесь не для того, чтобы сделать это? Хотя, я думаю, человек, который может созвать половину Лондона себе на помощь, как это сделал на моих глазах ваш кузен, вряд ли нуждается в моей поддержке. Однако послушайте меня. Испания имеет здесь при дворе двух послов — де Айала, который оскорблен, и доктора де Пуэбла, друга короля. Как это ни странно, де Пуэбла не любит де Айала. Но он любит деньги, которые, вероятно, можно добыть. Итак, если обвинение будет предъявлено не священником де Айала, а де Пуэбла, который знает ваши законы и ваш суд, то… вы понимаете меня, сеньор Кастелл?
— Понимаю, — ответил купец. — Но как я могу подкупить де Пуэбла? Если я предложу ему деньги, он только потребует еще.
— Я вижу, что вы знаете его светлость, — сухо заметил д'Агвилар. — Вы совершенно правы, никаких денег предлагать не нужно. Подарок должен быть сделан после того, как будет получено помилование, не раньше. О, де Пуэбла знает, что слово Джона Кастелла так же ценится в Лондоне, как и среди евреев Гранады и купцов Севильи. В обоих этих городах я слышал о богатстве купца Кастелла.
При этих словах глаза Кастелла вспыхнули, но он только сказал:
— Может быть. Но как я могу добраться до посла, сеньор?
— Если вы разрешите, это будет моя задача. А теперь скажите, какую сумму вы считаете возможной, чтобы выручить вашего друга из неприятностей. Пятьдесят золотых?
— Это слишком много, — возразил Кастелл. — Убитый мерзавец не стоит и десяти. Кроме того, шотландец был нападающей стороной и платить вообще ничего не следует.
— Сеньор, в вас говорит купец. Вы опасный человек, если вы думаете, что миром должна управлять справедливость, а не короли. Мерзавец не стоит ничего, но слово де Пуэбла, замолвленное королю Генриху, стоит дорого.
— Ладно, пусть будет пятьдесят золотых, — сказал Кастелл, — и я заранее благодарю вас за посредничество. Вы возьмете деньги сейчас?
— Ни в коем случае. Только тогда, когда я принесу решение о помиловании. Сеньор, я буду у вас и сообщу, как обстоят дела. Прощайте, прекрасная сеньора. Пусть святые заступятся за того покойного мошенника, благодаря которому я познакомился с вами, и благословят ум вашего отца и крепкую руку вашего кузена. До следующей встречи.
Д'Агвилар с поклоном удалился, провожаемый слугой.
— Томас, — сказал Кастелл слуге, когда тот вернулся, — ты умеешь хранить тайны. Надень-ка шапку и плащ и проследи, куда пошел этот испанец. Узнай, где он живет, и выспроси о нем все, что сумеешь. Поторапливайся!
Слуга поклонился и исчез. Кастелл прислушался, пока не донесся стук запираемой двери, потом повернулся к Питеру и Маргарет, сказал:
— Не нравится мне это дело. Я чувствую, оно принесет нам несчастье. И испанец этот мне тоже не нравится.
— Он выглядит очень благородным джентльменом и высокого происхождения, — сказала Маргарет.
— Да, очень благородным, слишком благородным, и высокого происхождения, слишком высокого, если я не ошибаюсь. Таким благородным и такого высокого происхождения… — Кастелл остановился и затем добавил: — Дочь моя, ты своим своеволием привела в движение страшные силы. Иди в постель и моли бога, чтобы они не обрушились на наш дом и не сокрушили его и нас.
Маргарет удалилась, перепуганная и слегка возмущенная — что плохого она сделала? И почему ее отец не доверяет этому красивому испанцу?
Когда она ушла, Питер, который за все время почти ничего не произнес, поднял голову и прямо спросил:
— Чего вы боитесь, сэр?
— Многого, Питер. Во-первых, что из меня благодаря этому делу вытянут много денег. Известно ведь, что я богат. А вытянуть деньги не считается тяжелым грехом. А во-вторых, если я буду противиться, это может вызвать вопросы.
— Какие вопросы?
— Ты слышал когда-нибудь, Питер, о новых христианах, которых испанцы называют маранами?
Питер кивнул головой.
— Тогда ты должен знать, что мараны — это крещеные евреи. Так вот,
— я рассказываю тебе об этом потому, что ты умеешь хранить тайны, — мой отец был мараном. Как звали его, не важно, пусть лучше имя его будет забыто. Но он бежал из Испании в Англию по причинам, которые касались его одного, и взял имя той страны, откуда приехал, — Кастилии, или Кастелл. А так как закон не разрешает евреям жить в Англии, он принял христианскую веру. Не доискивайся причин, почему он это сделал, они похоронены вместе с ним. Он крестил и меня, своего единственного сына. Мне тогда было десять лет. Его очень мало интересовало, как я клялся: отцом Авраамом или святой Марией. Документ о моем крещении до сих пор лежит у меня в стальном ящике. Так вот, отец был умный человек, и он создал свое дело. Когда же двадцать пять лет назад он умер, то оставил мне немалое состояние. В этот же год я женился на англичанке, двоюродной сестре твоей матери. Я любил ее, был счастлив с ней и дал ей все, о чем она могла мечтать. Но после рождения Маргарет — это было двадцать три года назад, — она заболела и уж не могла оправиться. Спустя восемь лет она умерла. Ты помнишь ее, ведь ты был уже юношей, когда она привезла тебя сюда и взяла с меня обещание, что я всегда буду помогать тебе, так как, кроме твоего отца, сэра Питера, не оставалось никого из вашего старинного рода. Сэр Питер вопреки моему совету поставил все на этого узурпатора и мошенника Ричарда, который обещал облагодетельствовать его, а сам тем временем забрал у него все деньги. Твой отец был убит при Босворте, оставив тебя без земель, без денег и в немилости, и тогда я предложил тебе кров, и ты, как умный человек, снял свои доспехи и надел суконную одежду купца, став моим партнером по торговле, хотя твоя доля в прибылях была ничтожна. Теперь ты опять сменил трость на сталь, — и Кастелл глянул на меч шотландца, лежавший на маленьком столике, — а Маргарет вызвала к жизни те страшные силы, о которых я говорил.
— Что вы имеете в виду, сэр?
— Этого испанца, которого она привела в дом и нашла таким приятным.
— Вы что-нибудь знаете о нем?
— Подожди минутку, и я расскажу тебе.
Джон Кастелл взял лампу и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся, держа в руках письмо и расшифрованный текст, написанный его собственной рукой.
— Это, — сказал он, — письмо от моего компаньона и родственника Хуана Бернальдеса, марана, живущего в Севилье, где находится двор Фердинанда и Изабеллы. Помимо других дел, он пишет мне: «Я предупреждаю всех братьев в Англии, чтобы они были осторожны. Я узнал, что некто, чье имя я не могу упомянуть даже в шифрованном письме, могущественный и высокопоставленный человек, который, хотя и известен как любитель наслаждений и распутник, является одним из самых ярых фанатиков Испании, послан или в ближайшее время будет послан из Гранады, где он жил, чтобы наблюдать за маврами, в Англию в качестве посла, для того чтобы заключить секретное соглашение с королем. Должен быть составлен список богатых маранов, имена которых хорошо известны здесь, с тем чтобы, когда настанет момент для истребления всех евреев и маранов, их можно было схватить и доставить в Испанию на суд инквизиции. Он должен также договориться о том, чтобы ни одному еврею или марану не разрешалось искать убежища в Англии. Используй эту информацию и предупреди всех, кого это касается».
Вы думаете, д'Агвилар и есть этот человек? — спросил Питер, пока Кастелл складывал письмо и прятал его в карман своего камзола.
— Думаю, да. Я уже слышал, что лиса вышла на охоту и надо следить за своими курятниками. А ты разве не заметил, что он крестился как священник и как он говорил о том, что находится среди добрых христиан? Потом, сейчас великий пост, а у нас, к несчастью, на столе было мясо, хотя никто из нас не ел его, Ты ведь знаешь — добавил поспешно Кастелл, — я не очень строго соблюдаю всякие церковные правила. Испанец заметил это и притронулся только к рыбе, хотя выпил немало сладкого вина. Я уверен, сообщение об этом мясе будет отправлено в Испанию с первым же курьером.
— А если и так, что за беда? Мы живем в Англии, и англичане не подчиняются испанским законам и обычаям. По-моему, сеньор д'Агвилар убедился в этом сегодня около дворца. Последствий этой ссоры следует бояться здесь, дома. И пока мы в безопасности в Лондоне, нам ничего не угрожает из Испании.
— Я не трус, но я думаю, Питер, опасность гораздо серьезнее. У римского папы длинные руки, а у хитрого Фердинанда еще длиннее. И оба они тянутся к горлу и к кошелькам еретиков.
— Но мы не еретики.
— Да, вероятно, не еретики, но мы богаты, а отец одного из нас был еврей. К тому же в этом доме есть еще кое-что, чего может пожелать даже самый верный сын святой церкви. — И Джон Кастелл посмотрел на дверь, через которую ушла Маргарет.
Питер понял — его сильные руки сжались в кулаки, а серые глаза вспыхнули.
— Я пойду спать, — сказал он. — Я хочу подумать.
— Нет, — ответил Кастелл, — наполни свой бокал и посиди. Мне нужно еще кое-что сказать тебе, а такого подходящего момента у нас не будет. Кто знает, что может случиться завтра.
ГЛАВА III. ПИТЕР СОБИРАЕТ ФИАЛКИ
Питер послушно сел в глубокое дубовое кресло у потухшего камина и, по своему обыкновению, молча ждал, что скажет Кастелл.
— Слушай, — начал
тот. — Пятнадцать месяцев назад ты говорил со мной кое о чем.
Питер кивнул головой.
— О чем ты тогда говорил?
— Что я люблю мою кузину Маргарет и прошу у вас разрешения сказать ей об этом.
— И что я ответил?
— Что вы запрещаете, потому что недостаточно испытали меня и она сама не испытала себя. И потому еще, что она будет очень богата и при ее красоте может рассчитывать на мужа с более высоким положением, хотя она и дочь купца.
— Ну, а дальше?
— А дальше ничего. — Питер медленно выпил свое вино и поставил стакан на стол.
— Ты очень молчаливый человек, даже когда дело идет о любви, — сказал Кастелл, пристально глядя на него своими острыми глазами.
— Я молчу, потому что говорить больше нечего. Вы приказали мне молчать, я и молчу.
— Даже тогда, когда ты видишь, как эти блестящие лорды делают ей предложения и она сердится, потому что ты никак не проявляешь своей любви, и уж готова уступить кому-либо из них?
— Да, даже тогда. Это тяжело, но я молчу. Разве я не ем ваш хлеб? Что же я должен обманывать вас и нарушать ваш запрет?
Джон Кастелл опять посмотрел на него, и на этот раз в его взгляде было уважение и любовь.
— Молчалив и суров, но честен, — сказал он как будто про себя и тут же добавил: — Тяжелое испытание, но я понимал это и помогал тебе самым лучшим образом, отправляя этих поклонников — а все они нестоящие люди — к чертям. Теперь скажи, ты по-прежнему хочешь жениться на Маргарет?
— Я редко меняю мои решения, а в таком деле никогда.
— Отлично! Тогда я разрешаю тебе узнать, что она думает по этому поводу.
Лицо Питера вспыхнуло от радости, которую он не мог скрыть. Но затем, как будто устыдившись такого проявления чувств, он взял стакан и выпил несколько глотков вина, прежде чем ответить.
— Благодарю вас. Я даже не смел думать об этом. Но, по чести говоря, я действительно не пара кузине Маргарет. Земель, которые должны были принадлежать мне, у меня пет, и я ничего не скопил из того, что вы платите мне за мою скромную помощь в торговле. А Маргарет богата или будет богата.
Глаза Кастелла блеснули, ответ ему понравился.
— Зато у тебя честное сердце, — сказал он. — Какой мужчина в подобном случае стал бы говорить против себя? Кроме того, ты благородного происхождения и недурен собой; во всяком случае, так думают некоторые девушки. Что же касается богатства, то, как говорил мудрый царь нашего народа, богатые часто приделывают себе крылья и улетают. Больше того: я тебя полюбил и стал уважать, и я охотнее отдам свое единственное дитя тебе, чем любому лорду Англии.
— Я даже не знаю, что сказать, — прервал его Питер.
— Ничего не говори. Это твоя привычка, и неплохая. Слушай. Ты только что вспомнил о своих землях в Эссексе, в чудесной долине Дедхэма, как о пропавших. Так вот, они возвращены. Месяц назад я купил их и даже по цене более высокой, чем мне хотелось бы, так как на них были другие претенденты. И как раз сегодня я выплатил все в золоте и получил купчую. Она — на твое имя, Питер Брум, и, женишься ты на моей дочери или нет, земли будут твоими, когда я умру, потому что я обещал моей покойной жене помогать тебе, а она ребенком жила в вашем замке.
Взволнованный молодой человек вскочил на ноги и обратился, как было принято в то время, к святому, чье имя он носил:
— Святой Петр, благодарю тебя…
— Я просил тебя помолчать, — перебил его Кастелл, — к тому же, кроме бога, благодарить нужно только Джона, а не святого Петра, который имел к этим землям не больше отношения, чем отец Авраам или терпеливый Иов. Ну, с благодарностью или без, но эти земли твои, хотя я и не собирался пока говорить тебе об этом. А сейчас я хочу кое-что предложить. Во-первых, скажи мне, что думает Маргарет по поводу твоего каменного лица и сжатых губ.
— Откуда я знаю? Я никогда не спрашивал ее об этом. Вы запретили мне.
— Ха! Живя в одном доме, в вашем возрасте, я бы узнал все, и не нарушая слова. Однако темпераменты бывают разные, а ты слишком честен для влюбленного. Скажи, испугалась она сегодня, когда этот негодяй бросился на тебя с мечом?
Питер подумал:
— Не знаю, я не смотрел на нее. Я смотрел на шотландца и его меч, иначе был бы мертв я, а не он. Но, конечно, Маргарет сильно испугалась, когда тот негодяй схватил ее, ведь она громко позвала меня.
— Ну, и что же? Какая женщина в Лондоне не позвала бы на помощь такого парня, как Питер Брум, в подобном случае? Ладно, ты должен спросить Маргарет, и поскорее, если ты сможешь найти слова. Поучись у этого испанского лорда — шаркай ногой, кланяйся и льсти, рассказывай ей всякие басни про войну и посвящай стихи ее глазам и волосам. Питер, ты же не дурак. Неужели я в мои годы должен учить тебя, как ухаживать за женщинами!
— Может быть, сэр. Я не умею делать ничего подобного, а стихи мне трудно читать, не то что писать. Но я могу задать вопрос и получить ответ…
Джон Кастелл нетерпеливо покачал головой:
— Спрашивай, если ты хочешь, но никогда не принимай ответа, если он отрицательный. Лучше подожди и спроси еще раз…
— И если понадобится, — продолжал Питер, не замечая, что его прервали, — я могу переломать этому испанцу все его кости, как веточки.
— Ну что ж, возможно, тебе и придется это сделать прежде, чем все это кончится. Что касается меня, то я думаю, что кости ему ломать нужно. А ты поступай как знаешь, спрашивай как умеешь. Но спрашивай! Я хочу услышать ответ до завтрашнего вечера. Однако становится поздно, а мне нужно еще кое-что сказать тебе. Мне угрожает опасность. О моем богатстве прослышали за границей, и есть немало людей, которые мечтают поживиться. Среди них, я полагаю, и некоторые высокие персоны. Так вот, Питер, я хочу закрыть свою торговлю и удалиться туда, где никто не найдет меня, — в твой замок в Дедхэме, если ты приютишь меня там. Уже больше года прошло с того дня, как ты заговорил со мной о Маргарет. Я собираю свои деньги в Испании и Англии, вкладываю их небольшими суммами в надежные дела, покупаю драгоценности или одалживаю деньги купцам, которым я доверяю и которые не ограбят ни меня, ни моих близких. Ты хорошо работал у меня, Питер, но ты не купец, у тебя нет этого в крови. Денег у нас более чем достаточно, я передам свое дело другим. Они продолжат его под своим именем, но на паях, и, если бог позволит, святки мы будем проводить в Дедхэме.
В эту минуту открылась дверь, и в комнату вошел слуга, которого Кастелл посылал проследить за испанцем.
— Ну, что скажешь? — обратился к нему Кастелл.
Слуга поклонился и начал рассказывать:
— Я шел за сеньором, как вы приказали мне, до его дома, но он не заметил меня. Он живет неподалеку от Вестминстерского дворца, в том же большом доме, где и посол де Айала. Люди, стоявшие у его дома, снимали перед ним шляпы. Потом я приметил, что некоторые из них вошли в таверну. Я последовал за ними, заказал себе вина и стал прислушиваться к их разговорам. Испанские язык я знаю хорошо, ведь я служил пять лет в вашей конторе в Севилье. Они обсуждали сегодняшнюю драку и говорили, что если бы они поймали того длинноногого парня, имея в виду мастера Питера, то расправились бы с ним, так как он опозорил их, убив своей палкой шотландца, который был их начальником. Я разговорился с ними, выдав себя за английского матроса, бывавшего не раз в Испании. Они были слишком пьяны, чтобы задавать мне вопросы. А я спросил их о высоком сеньоре, который вмешался в драку, перед тем как прибыл король. Они объяснили, что это богатый сеньор, по имени д'Агвилар, но служить ему во время поста плохо, потому что он очень строг в религии, хотя во всем другом совсем не строг. Я сказал, что принял его за очень знатного дворянина, и тогда один из них ответил, что я прав и в Испании нет более высокого рода, чем род этого господина, но, к несчастью, его родословная не так уж чиста — в его крови есть немного чернил.
— Что это значит? — спросил Питер.
— Это испанское выражение, — объяснил ему Кастелл, — оно означает, что он незаконнорожденный и что в его венах есть кровь мавров.
— Потом я поинтересовался, что здесь делает этот господин, а солдат ответил мне, что с этим вопросом лучше обращаться к самому господу богу или к королеве Испании. В конце концов после еще одной кружки вина солдат рассказал мне, что этот сеньор большей частью живет в Гранаде и что если я навещу его там, то увижу немало прелестных женщин. А имя его маркиз Нигель. Я заметил, что это значит маркиз Никто, на что солдат заявил мне, что я слишком любопытен и что он именно так и хотел сказать — никто. Он тут же крикнул своим товарищам, что я шпион, и я решил, что пора уходить, а то они были так пьяны, что могли изувечить меня.
— Хорошо, Томас, — сказал Кастелл. — Сегодня ты на страже? Посмотри хорошенько, чтобы двери были на запоре и мы могли спать спокойно, не боясь испанских воров. Иди отдыхай, Питер. А я еще задержусь. Мне нужно написать письма в Испанию, чтобы отправить с кораблем, который уходит завтра вечером.
Когда Питер ушел, Джон Кастелл потушил все свечи, за исключением одной. Со свечой в руке он прошел в небольшой зал, в котором в старые времена, когда этот дом принадлежал знатному дворянину, находилась домашняя церковь. Здесь стоял алтарь и над ним распятие. Джон Кастелл преклонил колено перед алтарем — даже в этот ночной час он не был уверен, что за ним не следят чьи-нибудь глаза, — затем поднялся, проскользнул за алтарь, приподнял занавес и нажал пружину, скрытую в деревянной панели. Дверь открылась в крохотную потайную комнатку без окон, скрывавшуюся в толщине стены. Возможно, здесь когда-то священник хранил свое облачение или священные дары.
Сейчас в этой комнатке стоял простой дубовый стол, на нем свечи, небольшой деревянный ящик и несколько свитков пергамента. Джон Кастелл пал ниц перед этим столиком и начал горячо молиться отцу Аврааму. Хотя отец и крестил его, когда он был мальчиком, Джон Кастелл остался верен своей религии. Именно поэтому он так тревожился за свою тайну. Если это будет обнаружено, он погибнет — его уделом и уделом его семьи будет смерть, ибо в те времена не было более страшного преступления, чем молиться другому богу, кроме того, которому разрешала молиться святая церковь. Однако в течение многих лет он шел на этот риск, молясь так же, как молились его предки.
Окончив молитву, Кастелл покинул свою тайную молельню, закрыл потайную дверь и прошел в контору. Там он просидел до рассвета сначала за письмом к своему другу в Севилью, а потом зашифровывая его. Он запечатал письмо, сжег черновик, потушил свечу и подошел к окну посмотреть на восход солнца. В саду под его окном цвели бледные примулы, пели дрозды.
— Интересно, — сказал он вслух, — увижу ли я эти цветы, когда они вновь распустятся? У меня ощущение, что петля уже затягивается на моей шее. Я почувствовал это, когда проклятый испанец перекрестился за моим столом. Ну что ж, пусть будет что будет, я постараюсь скрывать правду, пока смогу, но если они откроют мою тайну, я не стану отрицать ее. Большая часть моих денег в сохранности, моего богатства им никогда не получить, теперь я устрою свою дочь — с Питером она будет в безопасности. Мне не нужно было откладывать это так долго, но я мечтал о хорошей партии для нее — ведь она, как христианка, могла на это рассчитывать. Я исправлю свою ошибку — не позже завтрашнего утра она будет помолвлена с Питером и не позже мая станет его женой. Бог моих отцов, дай нам спокойно и в безопасности прожить еще один месяц, а потом возьми мою жизнь, ибо я публично отрекся от тебя.
Раньше чем Джон Кастелл отправился к себе в спальню, Питер уже был на ногах — по правде говоря, он почти не спал эту ночь. Разве мог он заснуть, когда между заходом и восходом солнца судьба его изменилась столь удивительным образом. Еще вчера он был только помощником купца — подходящее ли занятие для человека, приученного владеть оружием и с честью носившего его? Сегодня Питер стал джентльменом, владельцем обширных земель, принадлежавших многим поколениями его предков. Вчера он был безнадежным влюбленным, так как в глубине души он никогда не верил, что богатый Джон Кастелл позволит ему, бедняку без кола, без двора, ухаживать на его дочерью — самой прекрасной и самой богатой невестой в Лондоне. Он уже просил однажды его разрешения, но, как и ожидал, получил отказ. Будучи человеком слова, Питер ни разу не сказал Маргарет ни единого нежного слова, не пожал ей руки, даже не смотрел ей в глаза. Иногда, правда, ему казалось, что она не была бы против, если бы он сделал что-нибудь подобное. Пожалуй, Маргарет бывала даже удивлена, что он этого не делает. Больше того: теперь он понял, что даже ее отец удивлен его сдержанностью. Такова была странная награда за добродетель.
Питер любил Маргарет. С тех пор как мальчиком он играл с ней, он не любил никого, кроме нее. Она одна заполняла его мысли днем и сны по ночам. Она была его надеждой, его путеводной звездой. Небо представлялось ему местом, где он всегда будет вместе с Маргарет, земля без нее могла быть только адом. Только ради нее он оставался в лавке Кастелла, подставляя свою гордую шею под ярмо торговца, занимаясь торговыми операциями, выслушивая грубости от купцов и знатных покупателей, принимая чеки, торгуясь, и все это без малейшего неудовольствия, хотя частенько ему казалось, что он не выдержит и отвращение к такой жизни задушит его. Ведь только из-за нее он оказался здесь, вместо того чтобы вдали отсюда мечом пробивать себе дорогу к славе и успеху или этим же мечом вырыть себе могилу. Здесь он мог быть рядом с Маргарет, мог касаться ее руки утром и вечером, видеть сияние ее необыкновенных глаз, а иногда, когда она наклонялась над ним, чувствовать ее дыхание на своих волосах. И вот теперь испытание приходит к концу — ему вдруг приоткрылись врата рая.
Но что, если Маргарет окажется ангелом с огненным мечом, запрещающим ему войти в рай? Питер трепетал при этой мысли. Ну что ж, пусть будет что будет, он не станет силой навязываться ей или звать на помощь ее отца. Он сделает все, чтобы завоевать ее благосклонность, а если потерпит поражение, благословит ее и не будет досаждать ей.
Рассвет еще только наступал, но Питер не мог дольше лежать в постели. Он встал и быстро оделся. У открытого окна он произнес молитву, поблагодарив бога за все прошлые милости, и попросил его благословения. Взошло солнце, и вдруг Питера охватило страстное желание оказаться на лоне природы, наедине с небом, птицами и деревьями. Ведь он родился в деревне и не любил город, а здесь, в Лондоне, куда ни пойдешь, обязательно всюду люди. Тут же он вспомнил, что теперь ему нельзя ходить по улицам одному, без охраны, — испанцы могут подкараулить его и захватить врасплох. Остается сад — туда он может пойти погулять.
Питер спустился по широкой дубовой лестнице, отпер дверь и очутился в саду. Хотя сад содержался не очень хорошо, но зато для Лондона он был достаточно велик. Сад окружала высокая стена. Одна из дорожек вела к старым вязам. Под ними была скамейка, невидимая из окон дома. Летом она была излюбленным местом Маргарет, которая также всей душой любила природу. Сад доставлял ей большую радость — почти все цветы были посажены ее руками.
Некоторое время Питер прогуливался по аллее. Случилось так, что Маргарет, тоже плохо спавшая этой ночью, проснулась рано и увидела Питера сквозь шторы окна. Ей стало любопытно, что он делает в саду в такой ранний час и почему он одет в свой лучший костюм. Может быть, подумала она, его обычная одежда оказалась порванной или испачканной во вчерашней стычке? Тут Маргарет вспомнила, как храбро вел себя Питер во время этого столкновения. Она как будто вновь увидела все это — как сильные руки Питера схватили огромного рыжего негодяя и швырнули его на землю, как Питер отражал удары сверкающей стали одной только тростью, потом последовал его удар, и оскорбитель упал мертвым.
Да, ее кузен Питер был настоящим мужчиной, хотя и несколько странным. Вспомнив некоторые непонятные для нее вещи, Маргарет пожала плечами и надула губки. Этот испанец за один час сказал ей больше учтивых слов, чем Питер за два года. К тому же испанец красив, и у него очень благородный вид. Но, в конце концов, испанец — это испанец, и все другие мужчины — только другие мужчины, а Питер — это Питер, человек особенный, интересующийся женщинами так же мало, как и торговлей.
Но почему же он, человек, который не интересуется ни женщинами, ни торговлей, живет здесь, думала она. Чтобы нажить богатство? Это было трудно предположить. Очевидно, деньги тоже мало его интересовали. Во всем этом была какая-то тайна. Маргарет очень хотелось бы заглянуть в сердце Питера и увидеть, что скрыто там. Ни один мужчина не имел права оставаться загадкой для нее. Да, в один прекрасный день она это сделает, чего бы это ей ни стоило.
Маргарет вспомнила, что она так и не поблагодарила Питера, больше того — предоставила ему идти домой с Бетти, а это путешествие, как она поняла из оживленного рассказа своей кузины, когда та раздевала ее, не доставило удовольствия ни ему, ни ей. Здесь надо разъяснить, что Бетти была сердита на Питера за то, что он однажды сказал ей, что она красивая дура, которая слишком много думает о мужчинах и слишком мало о своих делах. Маргарет подумала, что, когда начнется день со всеми его заботами, она уже не сможет поговорить с Питером, и решила сойти вниз, поблагодарить его и попробовать заставить его хоть на этот раз заговорить.
Итак, Маргарет завернулась в свой отороченный мехом плащ, накинула на голову капюшон, ибо апрельское утро было довольно холодным, и спустилась в сад. Однако, когда она оказалась в саду, Питера там уже не было. Маргарет пожалела, что она так рано пришла в сад, где было еще сыро, и стала подумывать, не пора ли ей вернуться. Тут она решила, что будет глупо, если кто-нибудь увидит ее, и направилась по дорожке, делая вид, что ищет фиалки. Но фиалок не было. Так она дошла до старых вязов в глубине сада и меж их древних стволов увидела Питера. Теперь она поняла, почему не нашла фиалок — их собрал Питер. В эту минуту он был занят том, что пытался, довольно неуклюже, связать их травою вместе с листьями в небольшой букет, в левой руке он держал фиалки, правой тянул за один конец травинки, а так как ему не хватало пальцев ухватить другой конец, то Питер пытался сделать это с помощью зубов. Наконец ему удалось затянуть узелок, но стебелек травы разорвался, и фиалки рассыпались. Тут у Питера вырвалось такое словечко, которое не следует произносить даже наедине с самим собой.
— Я знала, что это случится, — воскликнула Маргарет, — но никогда не думала, что ты способен рассердиться из-за такого пустяка.
Питер поднял глаза и увидел Маргарет, освещенную солнцем, свежую и прекрасную, как сама весна. Она с упреком покачала головой, и от этого движения капюшон упал, ее губы и глаза смеялись. Маргарет была так прекрасна, что при виде ее у Питера дрогнуло сердце. Но, вспомнив вырвавшиеся у него только что слова и кое-что сказанное накануне Кастеллом, он покраснел так отчаянно, что щеки Маргарет от сочувствия к нему тоже зарделись. Это было глупо, но Маргарет ничего не могла с собой поделать. Питер сегодня был какой-то странный, и это невольно взволновало ее.
— Для кого ты так рано собираешь фиалки? — спросила она. — Тебе сейчас нужно было бы молиться за душу шотландца.
— Меня совершенно не интересует его душа! — раздраженно буркнул Питер. — Если у этого негодяя была душа, то он должен был сам позаботиться о ней. А фиалки я собираю для тебя.
Маргарет изумленно раскрыла глаза. У Питера никогда не было привычки преподносить ей цветы. Неудивительно, что он выглядел так странно.
— Ну, тогда я помогу тебе связать их. Ты знаешь, почему я встала так рано? Это все из-за тебя. Я дурно вела себя вчера вечером. Я рассердилась, потому что ты перечил мне, когда я хотела остаться посмотреть на короля. Я так и не поблагодарила тебя за все, что ты сделал, хотя в глубине души я так признательна тебе. Ты выглядел очень благородно, стоя с мечом в руке, окруженный англичанами. Иди сюда, и я как следует поблагодарю тебя.
Питер от растерянности выронил и остальные фиалки. В этот момент его осенила идея, и он сказал:
— Ты видишь, я не могу подойти к тебе. И если ты действительно хочешь отблагодарить меня за такой пустяк, иди сюда и помоги мне собрать эти фиалки, черт бы их побрал, у них такие короткие стебли!
Маргарет чуть помедлила, затем подошла поближе, наклонилась и начала подбирать фиалки одну за другой. Питер рассыпал их на довольно большом пространстве, и сначала он и Маргарет находились далеко друг от друга, но по мере того как фиалок становилось все меньше, они сближались. Наконец на земле остался только один цветок, и оба потянулись за ним. Маргарет схватила фиалку, а Питер — ее руку. Они выпрямились, и лица их оказались совсем рядом — глаза Маргарет сияли, а в глазах Питера вспыхнуло пламя. Секунду смотрели они друг на друга, и неожиданно Питер поцеловал ее в губы.
ГЛАВА IV. ВЛЮБЛЕННЫЕ
— Питер! — задохнулась от волнения Маргарет. — Питер!
Но Питер не отвечал, только его лицо стало таким бледным, что шрам от удара меча, пересекавший щеку, казался красной ниткой узора, вышитого на белой скатерти.
— Питер, — повторила Маргарет, освобождая свою Руку, — ты понимаешь, что ты сделал?
— По-моему, ты сама понимаешь, — пробормотал Питер, — зачем же мне объяснять?
— Значит, это не случайно! Значит, ты действительно хотел этого! И тебе не стыдно!
— Если бы это было случайно, то я не прочь чаще сталкиваться с такими случайностями.
— Питер, пусти меня! Я сейчас же скажу обо всем отцу.
Питер радостно улыбнулся:
— Можешь все рассказать ему. Он не будет сердиться. Он сам сказал мне…
— Питер, как ты смеешь еще и лгать! Не хочешь ли ты убедить меня, что мой отец велел тебе поцеловать меня и сделать это непременно в шесть часов утра?
— Он ничего не говорил о поцелуях, но я думаю, что он имел это в виду. Он сказал мне, что я могу просить тебя выйти за меня замуж.
— О, это совсем другое дело! — ответила Маргарет. — Если бы ты попросил меня выйти замуж и я после долгого раздумья сказала бы «да», чего мне, конечно, не следовало бы делать, тогда, может быть, перед нашей свадьбой ты мог бы поцеловать меня… А ты начал с этого, и это бессовестно и безнравственно с твоей стороны, и я никогда не буду больше разговаривать с тобой.
— Тем более я должен поговорить с тобой, — покорно заметил Питер,
— раз у меня есть такая возможность. Ты не должна уходить, прежде чем не выслушаешь меня. Послушай, Маргарет, я люблю тебя с той поры, когда тебе было еще двенадцать лет…
— Это новая ложь, Питер, или ты сошел с ума. Если ты любишь меня целых одиннадцать лет, ты бы сказал мне об этом.
— Я давно хотел сказать, но твой отец запретил мне. Я просил у него разрешения пятнадцать месяцев назад, по он взял с меня слово, что я ничего не скажу тебе.
— Ничего не скажешь?.. Но он же не мог заставить тебя обещать никак не показывать этого.
— По-моему, это одно и то же. Теперь я понимаю, что вел себя, как дурак, и, кажется, упустил время.
Питер выглядел таким удрученным, что Маргарет несколько смягчилась.
— Ну что ж, — сказала она, — по крайней мере, это было честно, и я рада, что ты честен.
— Ты только что сказала, что я лгал… дважды. Если я честен, как я мог лгать?
— Я не знаю. Для чего ты загадываешь мне загадки? Дай мне уйти и постарайся забыть все это.
— Только после того, как ты прямо ответишь мне. Ты выйдешь за меня замуж? Если нет, то тебе незачем уходить, потому что тогда уйду я и не буду больше тебя беспокоить. Ты знаешь меня и знаешь все обо мне. Мне нечего тебе больше сказать, кроме того, что, хотя ты можешь найти более красивого мужа, ты никогда не найдешь такого, который любил бы тебя и заботился о тебе больше, чем я. Я знаю, что ты очень красива и очень богата, а я некрасив и небогат. Я не раз молил небо, чтобы ты была не такой богатой и не такой красивой, потому что иногда это приносит несчастье женщине, когда она честна и имеет только одно сердце, чтобы отдать его мужчине. Но это так, и я не могу ничего изменить. И хотя у меня мало шансов на успех, но я решил довести дело до конца. Есть ли у меня какая-нибудь надежда, Маргарет? Скажи мне и положи конец моим страданиям. Я ведь не умею много говорить.
Теперь заволновалась Маргарет, обычная кокетливая уверенность покинула ее.
— Так делать не полагается, — прошептала она, — и я не хочу… Я поговорю с отцом. Он даст тебе ответ.
— Не нужно беспокоить его, Маргарет. Он уже сказал свое слово. Его самое большое желание — чтобы мы поженились. Твой отец хочет оставить торговлю и поселиться с нами в Дедхэме, в Эссексе. Он купил там имение моего отца.
— Ты полон странными новостями сегодня утром, Питер.
— Да, Маргарет, колесо нашей жизни, которое тащилось так медленно, сегодня закрутилось. Наверно, бог там, над нами, подхлестнул лошадей нашей судьбы, и они понеслись галопом, куда — я не знаю. Будут ли они бежать вместе или врозь? Это ты должна сказать.
— Питер, — попросила она, — дай мне немного подумать.
— Хорошо, целых десять минут по часам, а если нет, то всю твою жизнь, потому что я соберу свои вещи и уеду. Пусть говорят, что я боялся быть схваченным за убийство солдата.
— Это нехорошо с твоей стороны — так настаивать.
— Нет, так лучше для нас обоих. Может быть, ты любишь другого?
— Должна тебе признаться, да, — прошептала Маргарет, незаметно взглянув на него.
Тут Питер, как ни крепок он был, побледнел и в волнении отпустил ее руку, все еще державшую фиалки. Маргарет с удивлением посмотрела на него.
— Я не имею права спрашивать тебя, кто он, — пробормотал Питер, пытаясь прийти в себя.
— Конечно, нет, но я скажу тебе: это мой отец. Какого еще мужчину я могу любить?
— Маргарет, — с гневом вскричал Питер. — Ты дразнишь меня!
— Почему? Какого еще мужчину могу я любить… разве только тебя…
— Я не могу больше переносить эту игру! — вырвалось у Питера. — Прощайте, госпожа Маргарет. Да будет с вами бог! — И он бросился бежать.
— Питер! — позвала она, когда он пробежал уже несколько ярдов. — Хочешь взять эти фиалки на прощанье?
Питер остановился.
— Тогда иди сюда и возьми их.
Питер подошел. Чуть дрожащими пальцами Маргарет стала прикалывать цветы к его камзолу, придвигаясь все ближе к нему, пока ее дыхание не коснулось его лица, а волосы не задели его шляпу. И не важно, как это случилось, но фиалки опять оказались на земле, она вздохнула, а Питер обнял ее своими сильными руками и начал целовать в волосы, в глаза, в губы. Она не сопротивлялась.
Наконец она оттолкнула его и, взяв за руку, заставила сесть на скамейку и сама села на некотором расстоянии.
— Питер, — прошептала она, переводя дыхание, — я должна сказать тебе кое-что. Питер, ты плохо думаешь обо мне? Нет, нет, молчи, теперь моя очередь говорить. Ты думаешь, что я бессердечная и играю тобой. Я делала это только для того, чтобы убедиться, что ты действительно любишь меня. Теперь я уверена и хочу сказать тебе. Я люблю тебя так же давно и так же сильно, как и ты. Иначе разве я не могла бы выйти замуж за кого-нибудь из моих многочисленных поклонников? И признаюсь тебе, к стыду своему, однажды я так рассердилась на тебя за твое молчание, что чуть не вышла замуж за другого. И все-таки я не смогла сделать этого. Питер, когда я увидела вчера, как ты с одной только тростью в руках защищал меня, и подумала, что тебя могут убить, тогда я поняла всю правду, и сердце мое чуть не разорвалось. И если бы ты умер, оно разорвалось бы. Но теперь все это позади, и мы знаем тайну друг друга. Ничто теперь не разлучит нас. Только смерть.
Так говорила Маргарет, и Питер жадно впитывал ее слова, подобно тому как пустыня, иссушенная годами засухи, впитывает капли дождя. Он смотрел в ее лицо, с которого исчезла насмешливость, — это было лицо самой прекрасной и самой серьезной женщины, к которой неожиданно пришло сознание, что такое жизнь со всеми ее радостями и тяготами. Когда Маргарет кончила говорить, этот молчаливый мужчина, который даже в минуту величайшего счастья оставался немногословным, сказал:
— Бог был добр к нам! Поблагодарим его.
Так они и сделали. Их молитва была детски простодушной, они верили, что сила, которая соединила их, научила любить друг друга, благословит и защитит их от всех бед, врагов и зла на всю жизнь.
Они еще долго сидели, то разговаривая, то опять замолкая. И вдруг после одного из таких моментов блаженного молчания они оба чего-то испугались — так бывает, когда темная туча среди ясного дня вдруг закрывает солнце и грозит ураганом и ливнем.
— Пойдем, уже пора, — сказала Маргарет. — Отец будет искать нас.
Они молча вышли из укрытия старых вязов на поляну. И вдруг Маргарет заметила, что ее нога наступила на чью-то тень. Она подняла глаза: перед ней стоял не кто иной, как сеньор д'Агвилар, серьезно и немного иронически смотревший на них. Возглас испуга вырвался у Маргарет, а Питер, повинуясь инстинкту храброго человека, всегда идущего навстречу опасности, шагнул к испанцу.
— Матерь божья! Уж не приняли ли вы меня за вора? — В голосе д'Агвилара была насмешка.
Чтобы не столкнуться с Питером, испанец посторонился.
— Извините, сеньор, — ответил, придя в себя Питер, — но вы появились столь неожиданно. Мы меньше всего ожидали видеть вас здесь.
— Не более, чем я мог думать, что, встречу вас. Мне кажется, в саду несколько неуютно в такое холодное утро. — И д'Агвилар оглядел их обоих своими внимательными, насмешливыми глазами. Под его испытующим взглядом молодые люди покраснели. — Позвольте мне объяснить, — продолжал д'Агвилар. — Я явился сюда так рано по вашему делу — предупредить вас, мистер Питер, чтобы вы не выходили сегодня из дому, так как есть приказ о вашем аресте, а я еще не имел возможности уладить это дело и добиться его отмены Совершенно случайно я встретил ту красивую леди, которая была с вами вчера. Она возвращалась с рынка и сказала мне, что она ваша кузина. У нее добрая душа. Она привела меня в дом и, узнав, что ваш отец, которого я хотел повидать, молится в старой часовне, проводила меня до ее дверей. Я вошел, но никого не увидел и, подождав немного, спустился через открытую дверь в этот сад, решив погулять, пока кто-нибудь не выйдет. Ну, и, как видите, мне посчастливилось гораздо больше, чем я мог надеяться.
— Так, — заметил Питер. Маневры этого человека и его пространные объяснения были ему неприятны. — Надо найти господина Кастелла.
— Мы очень благодарны вам, что вы пришли предупредить нас, — пробормотала Маргарет. — Я пойду поищу отца. — И она проскользнула мимо испанца.
Д'Агвилар посмотрел ей вслед и обернулся к Питеру:
— Вы, англичане, крепкие люди: вы не боитесь холодного весеннего воздуха. Хотя в таком обществе и я бы не побоялся. Она поистине красавица. У меня есть кое-какой опыт по этой части, но такой женщины я никогда еще не видел.
— Моя кузина достаточно хороша, — холодно ответил Питер, которому весьма не понравились слова испанца.
— Да, — продолжал Д'Агвилар, не обращая внимания на тон Питера, — она так хороша, что достойна иного положения — не дочери купца, а благородной леди, графини, правящей городами и землями, а может быть, даже королевы. Королевская одежда и украшения очень пошли бы ей.
— Моя кузина не ищет этого. Она счастлива своим скромным жребием,
— возразил Питер и тут же добавил: — А вот и господин Кастелл.
Д'Агвилар направился навстречу купцу и вежливо приветствовал его. От его внимания не ускользнуло, что, несмотря на все усилия, прилагаемые Кастеллом, чтобы выглядеть спокойным, ему это явно не удавалось.
— Я очень ранний гость, — обратился к нему д'Агвилар, — но я знаю, что вы, деловые люди, поднимаетесь вместе с жаворонками, а мне хотелось застать нашего друга раньше, чем он выйдет отсюда. — И д'Агвилар объяснил причину своего прихода.
— Благодарю вас, сеньор, — ответил Кастелл, — вы очень добры ко мне и к моей семье. Я весьма сожалею, что вам пришлось ожидать меня. Мне сказали, что вы искали меня в часовне, но я уже успел уйти оттуда в контору.
— Да, я смог убедиться в этом. Какое необычное это место — ваша старая часовня! В ожидании вас я прошел в алтарь и прочитал молитву, которую не успел совершить дома.
Кастелл чуть заметно вздрогнул, быстро глянул на д'Агвилара и переменил тему разговора. Он предложил испанцу позавтракать вместе с ним. Однако тот отказался, объяснив, что спешит по их делам и своим собственным, и попросил разрешения прийти к ним ужинать завтра, в воскресенье, а заодно и рассказать, как идут дела, — предложение, не принять которое Кастелл не мог.
Итак, испанец вежливо откланялся и вышел из дома. Он пришел сюда пешком и без сопровождающих. Свернув за угол, Д'Агвилар столкнулся не с кем иным, как с Бетти. Она возвращалась откуда-то с поручением, которое ей показалось удобным выполнить именно сейчас.
— Как! — воскликнул Д'Агвилар. — Опять вы! Святые очень добры ко мне сегодня. Прошу вас, сеньора, пройдемте немного со мной. Мне хочется спросить вас кое о чем.
Помедлив секунду, Бетти согласилась. Не часто случалось ей пройти по Холборну с таким благородным кавалером.
— Пусть вас не смущает ваше скромное платье, — говорил Д'Агвилар:
— с такой фигурой, как ваша, можно одеваться во что угодно.
Этот комплимент заставил Бетти покраснеть от удовольствия — она очень гордилась своей фигурой.
— Не хотелось бы вам, — продолжал Д'Агвилар, — иметь мантилью из настоящего испанского кружева? Ну, так вы получите ее. Я привез одну такую мантилью из Испании и преподнесу ее вам. Я не знаю ни одной женщины, которой она пойдет больше, чем вам. Однако, госпожа Бетти, вы сказали мне неправду о вашем хозяине. Я пошел в часовню и не нашел его там.
— Он был там, сеньор, — возразила Бетти, стараясь оправдаться перед этим приятным и изысканным иностранцем. — Я видела, как он вошел туда за минуту до вашего появления и не выходил оттуда.
— Но куда же он девался, в таком случае, сеньора? Может быть, там есть склеп?
— Не знаю, но там, за алтарем, есть маленькая комнатка.
— Вот как! А откуда вы знаете?
— Однажды я услышала голос за занавесом, приподняла его и увидела приоткрытую потайную дверь. За ней был господин Кастелл, он стоял на коленях перед столиком и произносил молитву.
— Как странно! А что было на столике?
— Только деревянный ящик странной формы, похожий на маленький домик, два подсвечника и несколько свертков пергамента. Но, сеньор, я совсем забыла — я обещала господину Кастеллу никому не рассказывать об этом. Он тогда обернулся и бросился на меня, как сторожевой пес. Вы ведь никому не скажете о том, что я вам рассказала?
— Никогда. Меня не интересуют частные дела вашего хозяина. Я хочу спросить вас о другом. Скажите, почему ваша прелестная кузина не замужем? Разве у нее нет поклонников?
— Поклонников? О, сколько угодно, но она отказывает им и делает вид, что они ее не интересуют.
— Может быть, она влюблена в своего кузена, этого длинноногого, здоровенного и крепколобого мастера Брума?
— О нет, сеньор, не думаю. В него не может влюбиться ни одна женщина — он слишком суров и молчалив.
— Я согласен с вами, сеньора. Но тогда, вероятно, он влюблен в нее?
Бетти покачала головой.
— Питер Брум не думает о женщинах, сеньор. Во всяком случае, он никогда не говорит ни о них, ни с ними.
— Ну, это как раз доказывает обратное. Но, в конце концов, ведь это не наше с вами дело. Я просто рад услышать, что между ними ничего нет, потому что ваша хозяйка должна выйти замуж за человека высокого рода и стать благородной леди, а не женой купца.
— Конечно, сеньор. Хотя Питер Брум не купец, по крайней мере по рождению. Он дворянин и был бы сэром Питером Брумом, если бы его отец не сражался против нынешнего короля и не лишился своих земель. Питер Брум солдат, и, говорят, очень храбрый. В этом все могли убедиться вчера вечером.
— Без сомнения. Пожалуй, он со своим суровым лицом и молчаливостью мог бы стать великим полководцем, если бы подвернулся случай. Однако, сеньора Бетти, скажите мне, как это могло случиться, что вы, такая красавица, — и д'Агвилар поклонился, — до сих пор не замужем? Я не думаю, чтобы это было от недостатка в претендентах на вашу руку.
И опять Бетти, эта глупая девушка, покраснела от удовольствия.
— Вы правы, сеньор, — ответила она, — у меня их много, но я в этом отношении похожа на свою кузину — они мне не нравятся. Хотя мой отец потерял свое состояние, я благородного происхождения, и, полагаю, именно поэтому меня не привлекают все эти простолюдины. Я скорее останусь здесь навсегда, чем выйду замуж за кого-нибудь из них.
— Вы совершенно правы, сеньора, — проникновенно сказал д'Агвилар.
— Не позорьте вашу кровь. Выходите замуж только за человека, равного вам по происхождению. Для такой прекрасной и обворожительной девушки это не будет трудно. — И он посмотрел в ее большие глаза с выражением нежного обожания.
Теперь, когда они уже шли по полю, где встречалось мало людей, проявления этой нежности со стороны испанца становились все откровеннее, и тщеславная Бетти, которая тем не менее была гордой и честной девушкой, сочла за лучшее заявить, что ей нужно возвращаться. Несмотря на протесты д'Агвилара, она оставила его и побежала обратно, не чуя под собой ног от счастья.
«Как красив и благороден этот джентльмен! — думала Бетти. — Настоящий кавалер. И, конечно, он влюбился в меня. Почему бы и нет? Это случается довольно часто. Многие богатые леди, которых она знает, не были и вполовину так красивы и благородны по происхождению, как она, а оказались бы менее подходящими женами для его… если только, — эта мысль несколько охладила ее, — если только он уже не женат».
Судя по всему, д'Агвилар довольно быстро добился успехов в выполнении замысла, который родился у него всего несколько часов назад. Бетти была уже наполовину влюблена в него. Правда, он совершенно не стремился покорить сердце этой красивой, но глупой женщины, — он видел в ней только полезное для него орудие, ступеньку, благодаря которой он мог приблизиться к Маргарет.
В Маргарет он влюбился с первого взгляда. Когда он впервые увидел ее в толпе перед королевским дворцом, без плаща, испуганную, разгневанную, ее нежная и в то же время величественная красота зажгла огонь в его южной крови. Д'Агвилар был человеком чувственным и пресыщенным, но чувство, которое он испытывал в этот момент, было для него совершенно неизведанным. Его потянуло к этой женщине так, как не тянуло ни к одной женщине до тех пор, и более того — он захотел сделать ее своей женой. Почему бы и нет? Правда, в его родословной есть пятно, но положение он занимает высокое. Маргарет, конечно, ниже его, но это возмещается ее красотой; кроме того, она остроумна и образованна настолько, чтобы занять то положение, которое он может предложить ей. К тому же как ни велико его состояние, но беспутный образ жизни заставил его наделать много долгов, а она единственная дочь одного из самых богатых купцов Англии, и ее приданому позавидуют многие принцессы. Что еще может помешать ему? Он оставит Инессу и всех остальных — по крайней мере, на время — и сделает Маргарет хозяйкой своего дворца в Гранаде. Короче говоря, как это часто бывает с теми, у кого в венах течет восточная кровь, он решил все еще до того, как встал из-за стола Кастелла накануне вечером. Он должен жениться на Маргарет и ни на ком другом.
Правда, он тут же представил себе все трудности, стоявшие на его пути. Прежде всего он не доверял Питеру, этому спокойному, сильному человеку, который мог одной тростью расправиться с хорошо вооруженным воином и одним словом призвать половину Лондона себе на помощь. Д'Агвилар был уверен, что Питер не может не быть влюбленным в Маргарет, а это был опасный соперник. Ну что ж, если Маргарет не думает о Питере, то это не страшно, но если это так — кстати, что они делали сегодня утром одни в саду? Пожалуй, от Питера необходимо избавиться, вот и все. Это не так уж трудно, если прибегнуть к некоторым известным способам: здесь найдется немало испанцев, которым ничего не стоит нанести ему в темноте удар кинжалом в спину.
И все же при всех его грехах мысль о таком шаге смущала д'Агвилара. Он был фанатиком, у которого злодеяния сменялись периодами раскаяния и молитв. Тогда он отдавал свои средства и свой талант на службу церкви, как было в настоящий момент. Нет, д'Агвилар никогда не запятнает себя убийством, об этом не может быть и речи, иначе чем он сможет смыть этот грех со своей души? Но есть другие пути. Разве, к примеру, этот Питер — правда, при самообороне — не убил одного из слуг испанского посла? А может быть, этим не придется воспользоваться. Ему казалось, что он нравится Маргарет, и, кроме этого, он многое может предложить ей. Он будет честно ухаживать за пей и, если она или ее отец отвергнут его, тогда начнет действовать. Тем временем над головой Питера будет занесен меч, и д'Агвилар сделает вид, что он единственный человек, который может удержать этот меч. А пока он должен узнать все о Кастелле.
На этот раз судьба в лице глупой Бетти улыбнулась ему. У него не было сомнений, об этом он уже слышал в Испании, и пребывание в доме купца окончательно убедило его, что Кастелл — еврей. Рассказ Бетти о комнате за алтарем, где был молитвенный ящик, свечи и свитки, подтверждал это. В конце концов, этого было вполне достаточно, чтобы отправить его на костер испанской инквизиции или изгнать из пределов Англии. Если теперь Джон Кастелл, испанский еврей, не захочет отдать ему свою дочь, не заставит ли его переменить свое решение легкий намек на полномочия их величеств королей Испании и святого отца?
Обдумывая все это, д'Агвилар вернулся к себе и прежде всего записал рассказ Бетти и все, что он сам видел в доме Джона Кастелла.
ГЛАВА IV. ТАЙНА ДЖОНА КАСТЕЛЛА
В доме Джона Кастелла, как и во многих других домах в те времена, было принято, что все продавцы и клерки завтракали и обедали вместе с хозяевами в одном зале, но за двумя отдельными столами. Исключение составляла Бетти, как кузина и компаньонка дочери хозяина, — она ела за одним столом с Кастеллами. В это утро место Бетти оказалось пустым. Кастелл, хотя и сидел в глубокой задумчивости, заметил это. Ни Маргарет, ни Питер не могли ответить на его вопрос. Однако один из слуг, как раз тот, которого накануне вечером Кастелл посылал проследить за д'Агвиларом, сказал, что он видел Бетти, когда проходил через Холборн, — она шла вместе с тем самым испанским господином. Услышав это, хозяин дома помрачнел.
Завтрак
прошел в полном молчании, и, едва слуги покинули зал, появилась раскрасневшаяся Бетти.
— Где ты была? — обратился к ней Кастелл. — И почему опоздала к завтраку?
— Я ходила за полотном для простынь, но оно не было приготовлено,
— бойко протараторила Бетти.
— Как видно, тебя заставили долго ждать, — спокойно заметил Кастелл. — Ты никого не встретила?
— Только людей на улице.
— Я не буду тебя больше ни о чем спрашивать, иначе ты будешь продолжать лгать и принимать грех на свою душу, — сурово сказал Кастелл. — Отвечай мне: куда ты ходила с сеньором д'Агвиларом и о чем ты с ним говорила?
Бетти поняла, что ее видели с испанцем и что продолжать скрывать это бесполезно.
— Я прошла с ним совсем немного и то только потому, что сеньор попросил показать ему дорогу.
— Послушай, Бетти, — перебил ее Кастелл, не обращая внимания на ее слова, — ты уже достаточно взрослая девушка, чтобы отвечать за себя. Я не буду ничего говорить тебе относительно прогулок с кавалерами. Эти прогулки не приведут к добру. Но имей в виду: ни один человек, знающий дела моего дома, — и он пристально посмотрел на нее, — не должен иметь ничего общего ни с одним испанцем. Если тебя еще раз увидят с этим господином, ты никогда больше не перешагнешь порог моего дома. Молчи, мне не нужно твоих оправданий. Забирай свой завтрак и иди с ним куданибудь в другое место.
Бетти, чуть не плача, покинула зал. Она была очень рассержена, ибо на характеру своему была девушкой упрямой. Маргарет, любившая свою кузину, попыталась сказать что-то в ее оправдание, но отец перебил ее:
— Глупости! Я знаю Бетти — она тщеславна, как павлин. Она не может забыть о своем благородном происхождении, о том, что она хороша собой, и ищет мужа выше себя по положению. А этот испанец играет на ее слабостях в своих целях, и я ручаюсь, что эти цели не из хороших. Если мы не помешаем этому, она может навлечь беду на всех нас. Ну, хватит говорить о Бетти Дин. Я должен идти работать.
Однако Питер, не промолвивший ни слова за все это время, остановил его:
— Сэр, нам нужно сказать вам кое-что о себе.
— О себе? — с удивлением переспросил Кастелл. — Ну что ж, говорите. Впрочем, здесь не место для таких разговоров. Я думаю, что у стен тут тоже есть уши. Идите за мной.
Он провел их в старую часовню и запер дверь.
— Вот теперь говорите, в чем дело.
— Сэр, — начал Питер, — получив ваше разрешение, я просил сегодня утром вашу дочь стать моей женой.
— Я вижу, ты не терял время даром, друг мой. Если б ты поднял ее с постели или просил ее руки через дверь, то и тогда не мог проделать это быстрее. Впрочем, понятно; ты всегда был человеком действия. Так что ответила тебе моя Маргарет?
— Час назад она сказала, что согласна стать моей женой.
— Ты осторожный человек, — улыбнулся Кастелл, — ведь известно, что женщина за час может изменить свое решение. А что ты скажешь теперь, Маргарет, после столь долгого раздумья?
— Что я сердита на Питера! — воскликнула Маргарет, топнув своей маленькой ножкой. — Если он не доверяет мне на час, то как он может навеки связать свою жизнь с моей?
— Нет, нет, Маргарет, — вмешался Питер, — ты не поняла меня. Я просто не хотел связывать тебя в случае, если…
— Вот ты опять говоришь то же самое! — перебила его Маргарет, раздраженная и в то же время довольная.
— Похоже, что мне лучше помолчать, — смиренно заметил Питер. — Говори сама.
— Да уж, конечно, молчать ты мастер. Я это знаю лучше, чем кто-нибудь другой, — ответила Маргарет, вознаграждая себя за томительные месяцы и годы ожидания. — Хорошо, я скажу за тебя. Отец, Питер сказал правду, я согласилась выйти за него замуж, хоть это и означает вступить в орден Молчаливых братьев. Да, я согласна, не ради Питера, конечно, — у него слишком много недостатков, — а ради себя, потому что я люблю его. — И Маргарет мило улыбнулась.
— Не шути, Маргарет.
— А почему, отец? У Питера такой торжественный вид, что этого хватит на двоих. Посмотри на него. Давай смеяться, пока это возможно. Кто знает, не придется ли нам плакать.
— Хорошо сказано, — вздохнул Кастелл. — Итак, вы решили обручиться. Я рад этому, дети мои, ибо кто знает, когда могут нагрянуть те слезы, о которых сейчас говорила Маргарет. Возьми ее руку, Питер, и клянись распятием, которому ты поклоняешься, — Питер с удивлением посмотрел на него, но Кастелл продолжал, — поклянитесь оба, что в любом случае, вместе и порознь, при добрых или худых вестях, в бедности или богатство, в мирные дни или в дни гонений, в тяжких испытаниях, в радости или горе, вы останетесь верными своему слову, пока не будете обвенчаны, а после этого — верными друг другу всю жизнь, пока смерть не разлучит вас.
Кастелл произнес эти слова серьезно и взволнованно, он всматривался в лица Питера и Маргарет так, словно хотел прочитать их самые сокровенные мысли. Его волнение передалось молодым людям — они опять ощутили страх, подобный тому, который охватил их в саду, когда они увидели перед собой тень испанца. Торжественно, почти не испытывая радости, естественной в такой момент, они взялись за руки и поклялись на распятии, что через все испытания, даже те, которые они сейчас не могут предвидеть, они пронесут эту клятву и сохранят верность друг другу до самой смерти.
— И после нее, — добавил Питер.
Гордая голова Маргарет склонилась в знак согласия.
— Дети, — сказал Кастелл, — вы будете богаты. Не так много людей в этой стране богаче вас. Но, пожалуй, разумнее будет с вашей стороны не выставлять напоказ ваше богатство и не пытаться подражать знатным людям. Иначе вы возбудите зависть, и она погубит вас. Умейте ждать, и положение само придет к вам, а если не к вам, то к вашим детям. Питер, я хочу сказать тебе сейчас, чтобы не забыть, что опись всех моих капиталов и вложений в движимую собственность, в земли, суда и торговые предприятия зарыта под полом в моей конторе, как раз под тем местом, где стоит мой стул. Поднимете доски, выкопаете землю и найдете каменную плиту, под ней железный ящик с документами, инвентарными книгами, там лежат и драгоценности. Если по какой-либо причине этот ящик будет потерян, копии почти всех документов находятся у моего друга и партнера по торговле в Англии — Симона Леветта, которого вы знаете. Запомните мои слова.
— Отец, — озабоченно прервала его Маргарет, — почему ты так говоришь? Как будто ты не будешь с нами. Ты боишься чего-нибудь?
— Да, дочь моя, я боюсь или, вернее сказать, не боюсь, а жду. Я готов встретить все, что ждет меня. По и вы ведь поклялись, и вы сдержите клятву?
— Да, — в один голос ответили Питер и Маргарет.
— Тогда приготовьтесь принять на себя тяжесть первого испытания, потому что я не хочу больше скрывать от вас правду. Дети, вы были убеждены, что я одной с вами веры, на самом деле это не так. Я еврей, как были ими мой отец и дед еще во времена Авраама.
Эти слова произвели на Питера и Маргарет ошеломляющее впечатление. Питер от удивления раскрыл рот и второй раз за этот день побледнел; Маргарет без сил опустилась в кресло и беспомощно смотрела на него. В те времена быть евреем означало подвергаться страшной опасности. Кастелл смотрел на них обоих — их молчание показалось ему оскорбительным.
— Ах, вот как! — воскликнул он с горечью. — И вы, оказывается, как все? Вы презираете меня за то, что я принадлежу к расе более древней и благородной, чем все эти ваши выскочки лорды и короли? Вы знаете мою жизнь — сделал я что-нибудь плохое? Обманывал своих соседей или грабил бедняков? Или я насмехался над вашим причастием? Замышлял ли я крамолу против властей? Может быть, я был плохим другом или жестоким отцом? Вы качаете головой, но почему же тогда вы смотрите на меня, как на отверженного? Разве я не имею права следовать вере моих отцов? Разве я не могу молиться богу так, как мне нравится? — И он с вызовом посмотрел на Питера.
— Нет, сэр, — ответил тот, — конечно, вы можете. По крайней мере, я так считаю. Но почему же тогда вы все эти годы притворялись, что молитесь так же, как мы?
При этом прямом вопросе, столь характерном для Питера, Кастелл отпрянул, как воин, получивший неожиданный удар в самое уязвимое место. Мужество покинуло его, гнев в его глазах сменился смирением, и сам он стал как будто меньше ростом. Теперь это был обвиняемый, ждущий милосердного приговора из рук своей дочери и ее возлюбленного.
— Не судите меня жестоко, — сказал он. — Подумайте о том, что значит быть евреем — отверженным, которого каждый бродяга может оттолкнуть и оплевать, человеком вне закона, за которым охотятся в каждой стране, охотятся, как за диким волком, и, поймав, убивают для развлечения добрых христиан, предварительно обобрав его до нитки. И теперь представьте себе, что была возможность избежать всех этих ужасов, приобрести безопасность, спокойствие и защиту церкви, а затем богатство и положение.
Он остановился на мгновение, словно ожидая возражений, но Питер и Маргарет молчали, и Кастелл продолжал:
— К тому же в детстве меня крестили, но сердце мое, как и сердце моего отца, осталось с евреями, а там, где сердце, там и человек.
— Это ухудшает дело, — заметил как бы про себя Питер.
— Так учил меня мой отец, — защищался Кастелл.
— Мы должны отвечать за свои грехи, — еще раз прервал его Питер.
Тут уже Кастелл не выдержал:
— Вы молокососы, вы еще ничего не знаете об ужасах жизни, а готовы упрекать меня! Если бы вам пришлось пережить то, что пережил я, кто знает, оказались бы вы хоть наполовину так смелы, как я. Почему, вы думаете, я открыл вам эту тайну, которую я мог бы скрыть от вас так же, как скрывал ее от твоей матери, Маргарет? Я открыл ее вам потому, что это часть той кары, которую я должен нести за свой грех. Да, я знаю, мой бог ревнив, и грех падет на мою голову, я заплачу все, до последнего гроша, хотя и не знаю еще, когда и где эта кара обрушится на меня. Иди, Питер, иди, Маргарет, донесите на меня, если хотите. Ваши попы похвалят вас за это и откроют вам кратчайший путь в рай. Я не буду винить вас и не уменьшу ваше богатство ни на один золотой.
— Не давайте волю своему гневу, сэр, — сказал Питер. — Это дело касается только вас и бога. Что мы можем сказать вам, и кто поставил нас судьями над вами? Мы только молим бога, чтобы ваши опасения оказались напрасными и чтобы вы окончили свои дни в мире и почете.
— Я благодарю тебя за эти добрые слова, они делают честь тебе, — сказал Кастелл. — Но что скажет Маргарет?
— Что я скажу? — растерянно спросила Маргарет. — Мне нечего сказать. Питер прав: это дело твое и бога. Но мне тяжело потерять любимого.
Питер удивленно посмотрел на нее, а Кастелл воскликнул:
— Потерять? Почему? Разве он только что не клялся?
— Дело не в этом. Как я могу просить его, дворянина, христианина по рождению, жениться на дочери еврея, который всю жизнь молился Христу, а на самом деле отрицал его!
Тут Питер поднял руку.
— Прекрати этот разговор, — сказал он. — Даже если бы твой отец был самим Иудой, какое это имеет отношение к тебе и ко мне? Ты принадлежишь мне, а я тебе до тех пор, пока смерть не разлучит нас. И никакая вера другого человека не может стать между нами ни на минуту. Сэр, мы благодарим вас за доверие, и будьте уверены, что, хотя все, что вы сказали, огорчило нас, мы будем любить и уважать вас ничуть не меньше оттого, что знаем правду.
Маргарет с рыданием припала к груди отца:
— Прости меня, если я была резка. Ведь я ничего не знала об этом, а меня всю мою жизнь учили ненавидеть евреев. Какое мне дело до того, какой ты веры, — ведь для меня ты только любимый отец!
— Зачем же тогда плакать? — спросил Кастелл, нежно гладя ее по голове.
— Потому что тебе грозит опасность. По крайней мере, ты так говоришь, а если с тобой что-нибудь случится… что я тогда буду делать?
— Прими это как волю божью и, если удар падет на меня, встреть его храбро, как, надеюсь, встречу его я. — Кастелл поцеловал Маргарет и вышел, из часовни.
— Оказывается, радость и беда идут рука об руку, — прошептала Маргарет.
— Да, дорогая, они близнецы. Но если мы уже обрели радость, то не будем страшиться беды. Чума побери всех попов и весь их фанатизм! Христос старался обратить всех евреев в свою веру, но он не призывал убивать их. А что касается меня, то я уважаю человека, который держится своей веры, и могу простить его, потому что это попы заставили его притворяться и лгать. Моли бога, чтобы мы скорее обвенчались и спокойно уехали из Лондона туда, где сумеем укрыть твоего отца.
— Я молю, молю… — прошептала Маргарет, придвигаясь к Питеру.
И скоро они забыли обо всех страхах в объятиях друг друга.
На следующее утро — это было воскресенье — Питер, Маргарет и Бетти отправились к мессе в храм святого Павла. Кастелл сослался на плохое самочувствие и остался дома. Теперь, когда его тайна уже не была тайной, он решил, насколько это возможно, избегать посещения христианского храма. Поэтому он сказался больным. Но Маргарет это не могло не тревожить. Что же будет? Ведь нельзя же все время притворяться больным? А не посещать церковь — значило объявить себя еретиком.
Оставшись дома, Кастелл послал двух крепких парней из числа своих слуг незаметно сопровождать Питера и Маргарет, приказав им следовать всюду за ними.
Когда Питер, Маргарет и Бетти выходили из церкви, Питер заметил двух испанцев, лица которых были ему знакомы. Ему показалось, что они следят за ним. В толпе он потерял их из виду, поэтому ничего не сказал своим спутницам. Самая близкая дорога к дому шла через поля и сады, где было совсем мало домов. Питер и Маргарет шли, разговаривая; вдруг Бетти, которая шла сзади, вскрикнула. Питер поднял голову и увидел двух испанцев, пролезающих через дыру в изгороди не более чем в шести шагах от него. Он заметил также, что испанцы держатся за рукоятки мечей.
— Вперед, смелей, — прошептал Питер Маргарет, — я не покажу им спину.
При этом он взялся за рукоятку меча, который был у него под плащом, и попросил Маргарет держаться позади.
Они оказались лицом к лицу с испанцами. Те довольно вежливо поклонились и спросили, не он ли мастер Питер Брум. Говорили они по-испански, но Питер, как и Маргарет, знал этот язык довольно прилично — он учил его в детстве, и ему приходилось говорить по-испански, работая у Джона Кастелла, который широко пользовался этим языком в своих торговых операциях.
— Да, это я, — ответил он. — У вас дело ко мне?
— У нас есть поручение к вам от одного нашего товарища, шотландца, по имени Эндрю, которого вы встретили на днях, — обратился к Питеру один из испанцев. Он умер, но просил передать поручение, суть которого сводится к тому, чтобы вы встретились с ним. Мы все поклялись передать вам это и проследить за тем, чтобы вы явились на свидание.
— Вы хотите сказать, что собираетесь убить меня, — ответил Питер, стискивая зубы и вытаскивая меч из-под плаща. — Ну что ж, подходите, трусы, и мы увидим, кто из нас составит компанию в аду вашему Эндрью. Маргарет, Бетти, бегите!
Питер сбросил плащ и обмотал им левую руку. Испанцы на мгновение остановились — решительный вид Питера ясно говорил о том, что сладить с ним будет нелегко. Когда же они двинулись на него, послышался звук шагов, и рядом с Питером оказались двое слуг с мечами в руках.
— Очень рад вас видеть, — заметил Питер, взглянув на них. — А теперь, сеньоры, вы все еще хотите передать послание?
Вместо ответа испанцы пустились бежать. Один из слуг схватил с дороги большой камень и изо всех сил бросил им вслед. Камень попал в спину отставшего испанца и свалил его лицом в грязь. Испанец вскочил л, прихрамывая, побежал дальше, выкрикивая поиспански проклятья.
— Я думаю, — сказал Питер, — теперь мы можем спокойно идти домой. Сегодня мы, пожалуй, больше никаких посланцев от Эндрью не встретим.
— Сегодня, может быть, и нет, — вздохнула Маргарет, — но завтра или послезавтра они опять придут. Чем все это кончится?
— Ну, это знает один бог, — мрачно ответил Питер, опуская свой меч в ножны.
Когда они рассказали про нападение Кастеллу, тот очень взволновался.
— Они хотят отомстить тебе за смерть того шотландца, — озабоченно сказал он. — Испанцы мстительны. Кроме того, они никогда не простят, что ты тогда позвал англичан на помощь. Я боюсь за тебя, Питер: если ты будешь выходить из дому, они убьют тебя.
— Но ведь я не могу вечно сидеть взаперти, как крыса в щели! — сердито возразил Питер. — Что же делать? Обратиться к закону?
— Нет, ты ведь сам нарушил закон, убив человека. Я думаю, что тебе лучше всего уехать на время, пока эта буря не минует нас.
— Уехать? Питеру уехать? — испуганно вскрикнула Маргарет.
— Да! Послушай меня, дочь. Вы не можете сейчас же обвенчаться. Это не так просто. Нужно дать извещение, договориться о церемонии. На это уйдет около месяца. Уже не так уж долго, и конце концов, вы ведь толь ко вчера обручились. Теперь вот что: никто не должен знать о вашей помолвке. Иначе испанцы начнут преследовать и тебя, Маргарет. Я заклинаю вас, это должно храниться в полной тайне. Вы должны держаться подальше друг от друга, как будто между вами ничего нет.
— Как хотите, сэр, — заметил Питер. — Что касается меня, то мне не нравится, когда скрывают правду. Это всегда приводит к осложнениям. По-моему, мне нужно рискнуть и остаться здесь, а свадьбу устроить как можно скорее.
— Чтобы твоя жена через неделю стала вдовой или чтобы эти мерзавцы сожгли наш дом? Нет, нет, Питер, не надо дразнить судьбу. Мы узнаем, как обстоят дела у д'Агвилара, и тогда решим.
ГЛАВА VI. ПРОЩАНИЕ
Д'Агвилар, как и обещал, явился в тот же вечер, но уже не пешком и не один, как в прошлый раз, а со свитой, приличествующей знатному вельможе. Двое слуг бежали впереди, расчищая дорогу. За ними на великолепном белом коне следовал сам д'Агвилар в бархатном плаще и шляпе с длинными страусовыми перьями. Четверо вооруженных всадников в ливреях с гербом д'Агвилара сопровождали его.
— Мы приглашали одного гостя, или, скорее, он сам напросился, а кормить придется семь человек, не говоря уже о лошадях! — проворчал Кастелл, наблюдая за этой процессией из окна верхнего этажа. — Ну что ж, делать нечего. Питер, пойди проследи, чтобы хорошо накормили слуг — они не должны обижаться на наше гостеприимство. Слуг можно накормить в маленьком зале вместе с нашими людьми. А ты, Маргарет, надень свое лучшее платье и драгоценности, которые ты надевала, когда я прошлым летом брал тебя на городской бал. Покажем этим изысканным иностранным птицам, что у лондонских купцов тоже есть красивое оперение.
Питер медлил, сомневаясь, разумно ли устраивать такой роскошный прием. Будь на то его воля, он бы послал сопровождающих испанца людей в таверну, а его самого принимал бы в скромном платье и за обычным столом. Но Кастелл, который в этот вечер нервничал и, кроме того, любил иногда похвастать своим богатством, рассердился и стал кричать, что, очевидно, ему самому придется идти встречать д'Агвилара. Кончилось тем, что Питер, сокрушенно качая головой, ушел, а Маргарет отправилась выполнять приказание отца.
Через несколько минут Кастелл в своем самом дорогом парадном костюме приветствовал д'Агвилара в гостиной. Воспользовавшись тем, что они одни, Кастелл спросил гостя, как обстоят дела с де Айала.
— И хорошо и плохо, — ответил д'Агвилар. — Доктор де Пуэбла, на которого я рассчитывал, покинул Лондон, заявив, что он оскорблен и что при дворе нет места двум послам. В результате мне пришлось обратиться к самому де Айала. Короче говоря, я дважды беседовал с этим высокопоставленным священником по поводу совершенно заслуженной смерти его мерзкого слуги. Де Айала считает себя оскорбленным, ибо он потерял уже несколько слуг в подобных стычках, поэтому мне с большим трудом удалось убедить его взять пятьдесят золотых — конечно, для передачи семье покойного, как он сказал, — и дать расписку. Вот она, — И д'Агвилар протянул Кастеллу бумагу, которую тот внимательно прочитал.
Там было сказано, что Питер Брум уплатил сумму в пятьдесят золотых родственникам Эндрью Ферсона, ввиду чего слуги испанского посла и упомянутый посол обязуются не преследовать никаким образом упомянутого Питера за убийство, совершенное им.
— Но ведь деньги не были заплачены, — заметил Кастелл.
— Я заплатил их. Де Айала не дает расписок в обмен на обещания.
— Я благодарен вам за вашу любезность, сеньор. Вы получите это золото прежде, чем покинете мой дом. Немногие на вашем месте настолько доверяли бы незнакомому человеку.
Д'Агвилар протестующе поднял руку.
— Не будем говорить о таких пустяках. Я прошу вас рассматривать это как знак уважения к вашей семье. Иначе это было бы оскорблением такого богатого человека, как вы. Но я должен еще кое-что рассказать вам. Вы или, скорее, ваш родственник Питер все еще находитесь в опасности. Де Айала простил его. Но есть еще король Англии, чей закон он нарушил. Я сегодня видел короля, и он, между прочим, говорил о вас как об очень достойном человеке. К тому же он добавил, что всегда думал, что таким богатством может обладать только еврей. Но король знает, что вы не еврей; ему говорили о вас как о верном сыне церкви. — Тут д'Агвилар остановился, пытливо глядя на Кастелла.
— Боюсь, что его величество преувеличивает мое богатство, — холодно ответил Кастелл, делая вид, что не обратил внимания на последние слова испанца. — Что же сказал король?
— Я показал его величеству расписку де Айала, и он сказал, что если его преосвященство удовлетворен, то его это больше не касается и с его стороны не последует никаких распоряжений о судебном следствии. Но король приказал мне передать вам и Питеру Бруму, что, если тот еще раз устроит драку на улицах, хотя бы вынужденную и в особенности между англичанами и испанцами, он повесит его — по суду или без суда. Король говорил об этом весьма раздраженно, потому что меньше всего его величество желает каких-либо недоразумений между Испанией и Англией.
— Это очень плохо, — вздохнул Кастелл: — только сегодня утром такая драка была весьма возможна. — И он рассказал, как двое испанцев следили за Питером и как одного из них слуга свалил ударом камня.
При этом сообщении д'Агвилар сокрушенно покачал головой.
— Вот с этого и начинаются неприятности, — воскликнул он. — Я знаю от своих слуг, которые всегда обо всем рассказывают мне, что слуги де Айала, а их более двадцати, поклялись севильской мадонной, что, прежде чем покинут эту страну, они заставят вашего родственника кровью заплатить за убийство шотландца Эндрью Ферсона, который был их офицером и храбрым парнем. Они его очень любили. Если они нападут на Питера, будет схватка, потому что Питер умеет драться, а если будет схватка, то Питера наверняка повесят, как обещал король.
— Прежде чем они покинут эту страну? А когда они это сделают?
— Де Айала уедет не позже чем через месяц со всей своей свитой. Дело в том, что другой посол, де Пуэбла, не хочет больше терпеть его и написал из своего загородного дома, что один из них должен уехать.
— Тогда я думаю, сеньор, что будет лучше всего, если Питер уедет на месяц.
— Дорогой мой Кастелл, вы мудры. Я думаю о том же и советую вам сделать это немедленно. О, сюда идет ваша дочь!
Па широкой дубовой лестнице, ведущей в гостиную, появилась Маргарет. В руке она держала лампу, которая ярко освещала ее, в то время как д'Агвилар и Кастелл стояли в полутьме. На пей было открытое платье из темно-красного бархата, вышитое по лифу золотом. Цвет платья оттенял поразительную белизну ее стройной шеи и груди. Ее горло охватывала нитка крупного жемчуга, а на голове была золотая сетка, усеянная менее крупными жемчужинами, из-под которой густыми волнами спадали великолепные темно-каштановые волосы, достигавшие колен. Повинуясь приказанию отца, она оделась, чтобы выглядеть как можно лучше, но не для гостя, а для любимого, с которым она только что обручилась. Она была так прекрасна, что у д'Агвилара, художника и поклонника красоты, перехватило дыхание.
— Во имя одиннадцати тысяч девственниц! — воскликнул он. — Ваша дочь прекраснее, чем все они вместе взятые. Она должна быть королевой и покорить весь мир.
— Нет, нет, сеньор, — поспешно заметил Кастелл, — пусть она остается честной и скромной и покоряет своего мужа.
— Так бы и я сказал, если бы был ее мужем, — прошептал д'Агвилар, шагнув вперед и низко кланяясь Маргарет.
Теперь свет серебряной лампы, которую она высоко держала в руке, падал на них двоих, и они выглядели очень подходящей парой. Оба были высокие и статные, оба отличались величавостью движений, глубоким голосом и речью, исполненной достоинства. Кастелл заметил это и испугался, сам не зная чего.
В этот момент через другую дверь вошел Питер. Он был в своей обычной одежде серого цвета, так как ему и в голову не пришло надевать праздничный наряд ради испанца. Он тоже обратил внимание на Маргарет и д'Агвилара, и инстинкт влюбленного подсказал ему, что этот великолепный иностранец — его соперник и враг. Но Питер не испугался, он почувствовал только ревность и злобу. Больше всего ему вдруг захотелось, чтобы испанец ударил его и в следующие же пять мипут можно было бы доказать, кто из них настоящий мужчина. Он понял, что когда-нибудь это должно произойти, и подумал, что было бы лучше, если бы это случилось сейчас, а не позднее, тогда один из них был бы избавлен от многих волнений. Но Питер вспомнил, что он обещал не выдавать своих отношений с Маргарет, и поэтому вежливо, но холодно приветствовал д'Агвилара, сообщив ему, что лошади находятся в конюшне, а люди устроены.
Испанец поблагодарил его, и они прошли к столу. Это был странный ужин для всех четырех, хотя внешне весьма приятный. Кастелл позабыл о своих опасениях и, подливая то и дело вино, рассказывал всевозможные истории, свидетелем которых ему приходилось быть. Д'Агвилар, в свою очередь, охотно рассказывал об испанских войнах и политике — в войнах он сам участвовал, а политику знал до тонкостей. Нетрудно было понять из его слов, что он один из тех людей, которые бывают при дворах и пользуются благосклонностью министров и королей. Маргарет с интересом и любопытством слушала о том, что делается в большом мире, за пределами Холборна и Лондона. Она засыпала гостя вопросами. Ее интересовало, что представляет собой Фердинанд, король Арагонский, и его жена Изабелла, знаменитая королева.
— Я расскажу вам об этом в нескольких словах, сеньора, — с готовностью начал Д'Агвилар. — Фердинанд — самый честолюбивый человек в Европе. К тому же он лжив, когда это нужно для его целей. Деньги и власть для него превыше всего. Это боги, которым он поклоняется, потому что подлинной религии у него нет. Он не очень умен, но зато хитер, а это помогает ему добиваться успеха и оставлять других позади.
— Довольно неприглядная картина, — заметила Маргарет. — Ну, а какова королева?
— Это великая женщина! — воскликнул Д'Агвилар. — Она знает, как использовать дух времени для достижения своих целей. Она умеет показать свое мягкосердечие, но под этим скрывается железная решимость.
— А к чему она стремится? — поинтересовалась Маргарет.
— Подчинить своей власти всю Европу; сокрушить мавров и захватить их земли; добиться того, чтобы Христова церковь восторжествовала во всем мире; искоренить ересь: обратить всех евреев в христианскую веру или уничтожить их, — медленно продолжал Д'Агвилар, и Питер, наблюдавший за ним, заметил, что глаза его при этих словах блеснули, — предать тела их очистительному огню, а богатство — своей казне. Таким путем она думает заслужить благодарность всех верующих на земле и престол в раю.
После этих слов воцарилось молчание, затем Маргарет храбро сказала:
— Если троны в раю зиждятся на человеческой крови и слезах, то какие же камни и известь применяют в аду, хотела бы я знать.
Не дождавшись ответа, она встала, сославшись на усталость, присела в реверансе перед д'Агвиларом, отцом и Питером и удалилась.
После ее ухода беседа не ладилась, и Д'Агвилар вскоре стал прощаться. Перед уходом он сказал:
— Дорогой мой друг Кастелл, вы расскажете о новостях, которые я вам принес, вашему родственнику. Во имя нашего блага, я надеюсь, что он склонит свою голову перед необходимостью и тем самым сохранит ее на плечах.
— Что имел в виду этот человек? — спросил Питер, когда стук копыт замер вдали.
Кастелл рассказал ему о своей беседе с д'Агвиларом перед ужином, показал расписку де Айала и добавил раздраженно:
— Я забыл отдать ему деньги! Надо будет отправить их ему завтра.
— Не волнуйтесь, он сам придет за ними, — холодно заметил Питер. — Что касается меня, то, будь моя воля, я бы предпочел встретиться с мечами этих испанцев и с веревкой короля, но остаться здесь.
— Этого ты не должен делать, — возразил Кастелл, — если не ради себя самого, то во имя моей и Маргарет безопасности. Не хочешь же ты сделать ее вдовой раньше, чем она станет твоей женой? Но слушай меня, я требую, чтобы ты отправился в Эссекс и занялся оформлением передачи тебе земель твоего отца в Дедхэме и приведением в порядок дома, который, как я слышал, сильно в этом нуждается. А когда эти испанцы покинут Лондон, ты вернешься, и мы тут же устроим свадьбу. Это будет всего-навсего через месяц.
— А вы с Маргарет не поедете со мной в Дедхэм?
Кастелл покачал головой:
— Это невозможно. Я должен закончить все свои дела, а Маргарет одна не может ехать с тобой. Кроме того, там ей негде остановиться. Я буду оберегать Маргарет до твоего возвращения.
— Да, сэр, но сумеете ли вы уберечь ее? Коварные речи испанцев иногда опаснее их мечей.
— Я думаю, что у Маргарет есть лекарство против этого, — с улыбкой ответил Кастелл и вышел, оставив Питера одного.
На следующий день, когда Кастелл объявил Маргарет, что ее возлюбленный должен вечером уехать, — сам Питер был не в состоянии сказать ей это, — она со слезами на глазах умоляла отца не отсылать Питера так далеко или уехать всем вместе. Но Кастелл мягко объяснил ей, что это невозможно и, если Питер немедленно не уедет, ему грозит смерть. А через месяц, когда испанцы уедут, они поженятся и будут жить в мире и спокойствии.
В конце концов Маргарет признала, что это лучший и, пожалуй, самый мудрый выход из положения. Но чего ей это стоило и каким скорбным было их расставание! Поездка в Эссекс была не таким уж далеким путешествием, а вступление во владение землями, которые для Питера еще два дня назад казались навсегда потерянными, было не таким уж неприятным делом. И все-таки у них было очень грустно на сердце, и звезда надежды казалась им весьма далекой.
Маргарет беспокоилась, как бы Питера не подстерегли по дороге, но он посмеялся над ее опасениями, объяснив, что Кастелл посылает с ним шесть крепких молодцов и что с таким эскортом он не боится никаких испанцев. Питер же боялся, что д'Агвилар станет ухаживать за Маргарет в его отсутствие. Но тут уж Маргарет посмеялась над ним, заявив, что ее сердце принадлежит Питеру и ей нечего предложить ни д'Агвилару, ни какому-либо другому мужчине. Кроме того, она напомнила ему, что Англия свободная страна и ни одну женщину, если она не находится под опекой короля, нельзя заставить делать то, чего она не хочет. Таким образом, казалось, им нечего было бояться. И всетаки они испытывали тревогу.
— Любимый мой, — сказала, немного подумав, Маргарет, — наша дорога кажется прямой и легкой, и тем не менее на пей могут оказаться западни, о которых мы и не подозреваем. Ты должен поклясться мне в одном: что бы ты ни услышал и что бы ни случилось, ты никогда но будешь сомневаться во мне, так же как и я в тебе. Если, к примеру, тебе скажут, что я отказала тебе и выхожу замуж за другого, или даже если ты будешь уверен, что это написано моей рукой, или услышишь это, сказанное моим голосом, все равно не верь.
— Как это может случиться? — с тревогой спросил Питер.
— Я и не предполагаю, что это может случиться. Я говорю о самом худшем, чтобы мы были готовы ко всему. До сир пор моя жизнь была безоблачна, как летний день, по ведь неизвестно, когда могут налететь зимние бури. Мне часто кажется, что я рождена для того, чтобы испытать дождь, ветер и бури так же, как тишину и солнце. Не забывай, что мои отец еврей, а с евреями и их детьми случаются иногда страшные вещи. Все паше богатство может исчезнуть в какой-нибудь час, и ты можешь найти меня в тюрьме или в нищенских лохмотьях. Так ты клянешься? — Маргарет поднесла к губам Питера золотой крест.
— Да, — сказал он, — я клянусь этим святым крестом и твоими губами. — Питер поцеловал сначала крест, потом ее губы и добавил: — Должен ли я потребовать такой же клятвы и от тебя?
Маргарет засмеялась:
— Если ты хочешь. Но, по-моему, это не нужно. Я знаю, что сердце твое никогда больше никого не полюбит, даже если я умру и ты женишься на другой. И все-таки мужчины — это мужчины, поэтому я поклянусь вот в чем: если ты случайно поскользнешься и я доживу до того, что услышу об этом, я постараюсь не судить тебя сурово. — И она засмеялась, так как была абсолютно уверена в своей власти над Питером.
— Благодарю тебя, — ответил Питер. — Но я постараюсь крепко стоять на ногах, и, если тебе будут рассказывать какие-либо сказки обо мне, прошу тебя, хорошенько разберись в них.
Они забыли о своих страхах и сомнениях и принялись говорить о будущей свадьбе, назначенной ровно через месяц, и о своей счастливой жизни в Дедхэме. Маргарет хорошо знала тамошний дом, так как жила в нем ребенком, и надавала Питеру массу наставлений, как устроить комнаты, какую и где поставить мебель. Денег на обстановку решили не жалеть, и Маргарет обещала отправить туда все, что нужно, как только потребуется.
Так текли часы за часами, и вот уже настал вечер. В последний раз они втроем сели за стол. Было решено, что Питер тронется в путь, когда взойдет луна, чтобы никто его не увидел. Ужин нельзя было назвать веселым, хотя все трое делали вид, что едят с аппетитом. Наконец лошади были поданы, и Маргарет пристегнула Питеру его меч и набросила плащ на плечи. Питер пожал руку Кастеллу, напомнил ему об обещании беречь их общее сокровище, поцеловал на прощанье Маргарет и пошел к выходу.
Маргарет с серебряной лампой в руке провожала его до прихожей. В дверях Питер обернулся и увидел, что она смотрит ему вслед широко раскрытыми глазами. Лицо у нее было напряженное и бледное. Питер заколебался, решимость почти покинула его. Ему так захотелось остаться! Но он превозмог себя и вышел.
Маргарет стояла неподвижно, пока не услышала стук копыт. Тогда она обернулась к отцу и сказала:
— Отец, я не знаю почему, но мне кажется, что теперь мы с Питером встретимся далеко отсюда, в бушующем море. Я только не знаю, где это будет.
Не ожидая ответа, она пошла к себе в комнату. Кастелл молча смотрел ей вслед, потом пробормотал:
— Хвала богу, она не прорицательница. Но почему у меня так тяжело на сердце? Ведь я сделал для нее и для Питера все, что мог. А что будет со мной, мне теперь все равно.
ГЛАВА VII. НОВОСТИ ИЗ ИСПАНИИ
Питер Брум был очень спокойный человек — его голос редко слышался в доме Кастелла. И тем не менее без Питера большой старый дом в Холборне казался пустым. Даже красивая Бетти, с которой Питер никогда не был особенно дружен, так как он многого не одобрял в ее поведении, и та чувствовала, что его не хватает, и сказала об этом своей кузине. Маргарет в ответ только вздохнула.
В глубине души Бетти боялась и уважала Питера. Она боялась его внимательных глаз и насмешливых замечаний, ибо знала, что они всегда справедливы. А уважала она его за прямоту и честность характера, особенно в тех случаях, когда дело касалось женщин.
Ходили слухи, что, когда Питер впервые появился в доме Кастелла, Бетти решила, что это человек благородного происхождения — как раз тот, кого бы ей хотелось иметь своим мужем, и она пошла в наступление. Но так как ее чары оставались незамеченными, атаки постепенно становились все более и более откровенными. Чем это кончилось, знали только они двое. С тех пор Бетти отзывалась о Питере как о бессердечном грубияне, который думает только о делах и выгоде. Постепенно другие заботы заставили ее позабыть об этом эпизоде, но уважение к Питеру осталось. Более того: Питер доказал, что он хороший друг, и — что еще важнее — Друг, который умеет молчать. Бетти хотелось, чтобы он вернулся именно теперь, когда нечто более серьезное, чем простое тщеславие и жажда острых ощущений, охватило ее, ибо Бетти чувствовала, что она вступила на очень опасный и довольно скользкий путь.
Приказчики и слуги тоже ощущали отсутствие Питера. Ведь это к нему они приходили для разрешения всех споров. Кроме того, он всегда был готов помочь или выручить из беды, если только человек, обратившийся к нему, не совершил бесчестного поступка. Больше всех не хватало Питера Кастеллу; только теперь, после его отъезда, он понял, что значил для него Питер и как помощник и как друг. Что касается Маргарет, то без Питера жизнь казалась ей долгой и одинокой ночью.
В такой момент в доме бывают рады всякому разнообразию, и, хотя д'Агвилар мало интересовал Маргарет, она все же была довольна, когда однажды утром Бетти сообщила ей, что испанец собирается сегодня навестить ее и преподнести подарок.
— Меня не интересуют его подарки, — безразлично ответила Маргарет и тут же спросила. — А откуда ты знаешь об этом, Бетти?
Девушка покраснела:
— Я знаю об этом потому, что вчера, когда я шла навестить мою старую тетку, которая живет на набережной у Вестминстера, я встретила его. Он окликнул меня и сказал, что у него есть подарок для тебя и для меня тоже.
— Будет лучше, Бетти, если ты не станешь встречать его так часто. Испанцы не всегда отличаются большой честностью. Как бы тебе самой не пришлось убедиться в этом.
— Я благодарна тебе за добрый совет, — обиженно промолвила Бетти,
— но я старше тебя и достаточно хорошо знаю мужчин, чтобы оберегать себя и держать их на расстоянии.
— Я очень рада этому, Бетти, только иногда мне кажется, что это расстояние бывает слишком близким, — заметила Маргарет и прекратила разговор на эту тему, ибо ее в настоящую минуту занимали совсем другие мысли.
Днем, когда Маргарет гуляла в саду, к ней прибежала раскрасневшаяся Бетти и сообщила, что лорд д'Агвилар ожидает ее в зале.
— Хорошо, — ответила Маргарет, — я сейчас приду. Сходи к отцу и скажи ему, что у нас гость. Но что с тобой, почему ты такая взволнованная и запыхавшаяся? — добавила она с удивлением.
— О! — вырвалось у Бетти. — Он принес мне подарок, такой прелестный подарок! Он подарил мне мантилью из самых удивительных кружев, какие я когдалибо видала, и оправленный в золото черепаховый гребень, для того чтобы придерживать ее на голове. Он не отпускал меня, пока не показал, как она надевается. Потому я так спешила.
Маргарет с трудом могла уловить связь между этими двумя сообщениями и только сказала:
— Я думаю, что разумнее было бы сначала прийти сюда. И вообще, я не понимаю, почему этот красивый лорд носит тебе подарки.
— Но он принес и тебе подарок, он только не хотел сказать, что это за подарок.
— Тут я понимаю еще меньше. Пойди скажи отцу, что сеньор д'Агвилар ожидает его.
Маргарет вошла в зал. Д'Агвилар рассматривал украшенный цветными рисунками молитвенник, который она обычно читала. На одной странице молитвы были написаны по-испански, на противоположной — по-латыни. Д'Агвилар приветствовал Маргарет со свойственным ему изяществом, которое выглядело естественным и отнюдь не вызывающим, когда он обращался к ней, и сразу же спросил:
— Так вы читаете по-испански, сеньора?
— Немного.
— И по-латыни?
— Тоже немного. Читая молитвенник, я стараюсь лучше постичь оба языка.
— Я не сомневаюсь, что вы столь же образованны, как и прекрасны. — И он изысканно поклонился ей.
— Благодарю вас, сеньор, но я не претендую ни на то, ни на другое.
— Зачем претендовать на то, чем уже обладаешь — заметил д'Агвилар и добавил: — Но я совсем забыл: я принес вам подарок, если вы соблаговолите принять его. Вернее сказать, я принес вам то, что принадлежит вам или, во всяком случае, вашему отцу. Я торговался с его преосвященством доном де Айала, доказывая ему, что пятьдесят золотых слишком высокая цена за жизнь того негодяя. Но он мне не вернул деньги, поскольку он не в силах расстаться с золотом. Все-таки я получил кое-что взамен, и это находится сейчас у ваших дверей. Это испанская лошадь настоящих арабских кровей, из тех, которых мавры сотни лет назад привели с собой с востока. Его преосвященству она больше не нужна, так как он возвращается в Испанию. Она приучена к дамскому седлу.
Маргарет не знала, что ответить, но, к счастью, в этот момент вошел отец. Д'Агвилар повторил всю историю, добавив, что он слышал, как Маргарет говорила, что ее лошадь упала во время прогулки и она не может больше на ней кататься.
Кастеллу не хотелось принимать этот подарок — он понимал, что это именно подарок, — но д'Агвилар заверил его, что если Кастелл откажется, то он вынужден будет продать коня и вернуть Кастеллу деньги, так как они не принадлежат д'Агвилару. Другого выхода не было, и Кастелл поблагодарил испанца от имени своей дочери и от своего собственного, и они прошли в дворик посмотреть лошадь.
В тот момент, когда Кастелл увидел лошадь, он понял, что она представляет собой огромную ценность. Лошадь была совершенно белого цвета, с длинным b низким крупом, маленькой головой, ласковыми глазами, круглыми копытами и развевающимися гривой и хвостом. На такой лошади могла ездить королева.
Это смутило Кастелла — он был уверен, что такое животное никто не отдаст в качестве сдачи, хотя бы потому, что оно стоит больше пятидесяти золотых. Кроме того, на лошади было женское седло и уздечка из великолепно выделанной красной колдовской кожи, серебряные стремена и мундштук. Но д'Агвилар улыбался и клялся, что все произошло именно так, как он рассказал. Делать было нечего. К тому же Маргарет была так довольна лошадью, на которой ей сразу же захотелось прокатиться, что забыла о своих подозрениях. Заметив радость, которую Маргарет не могла скрыть, д'Агвилар сказал:
— Теперь я попрошу вас сделать мне одно одолжение. Вы говорили, что совершаете по утрам прогулки с отцом. Могу я просить вашего разрешения, — обратился он к Кастеллу, — сопровождать вас завтра утром, часов, скажем, в семь? Мне хотелось бы показать вашей дочери, как обращаться с лошадью этой породы.
— Если вы желаете, — ответил Кастелл, — и если погода будет хорошая.
Предложение было столь любезным, что
отказать было невозможно.
Д'Агвилар поклонился, и они вернулись в дом. Когда они вошли в зал, испанец спросил, благополучно ли добрался их родственник Питер до места, и добавил:
— Прошу вас не говорить мне, где он, чтобы я мог положа руку на сердце поклясться кому угодно, а особенно тем, кто продолжает искать его, что я не знаю, где он скрывается.
Кастелл ответил, что всего несколько минут назад он получил письмо, в котором сообщается о благополучном прибытии Питера. При этой новости Маргарет встрепенулась, но, вспомнив данное обещание, с безразличным видом заметила, что рада слышать это, так как дороги не совсем безопасны. Д'Агвилар тоже сказал, что весьма рад этому обстоятельству, и, поднявшись, попросил разрешения откланяться.
Когда он ушел, Кастелл передал Маргарет адресованное ей письмо Питера, написанное его прямым и твердым почерком. Она быстро пробежала его. Письмо начиналось и кончалось нежными словами, но было кратким и деловым. Питер сообщал, что его путешествие закончилось благополучно и он счастлив оказаться в старом доме. На следующий день он собирался встретиться с мастерами, ведь ремонт необходим — даже ров полон грязи и сорной травы. Письмо заканчивалось так: «Я не верю этому красивому испанцу и ревную, когда думаю, что он будет рядом с вами в мое отсутствие. Остерегайтесь его, прошу вас, остерегайтесь его. Да хранит вас пресвятая матерь божья и все святые. Преданный вам всей душой ваш возлюбленный».
Ответ Маргарет написала в тот же день, так как посланный должен был на рассвете ехать обратно. Помимо всех прочих дел, она сообщила Питеру о подарке д'Агвилара и о том, как она и отец были вынуждены принять его. Она умоляла Питера не ревновать: хотя подарок ей и нравится, но того, кто преподнес его, она не любит, а только считает часы, когда ее возлюбленный вернется и возьмет ее с собой.
Утро и погода были превосходны, Маргарет встала рано и оделась в костюм для верховой езды. Ровно в семь часов явился д'Агвилар. Из конюшни вывели испанскую лошадку, и он ловко помог Маргарет сесть в седло. Затем показал, как следует осторожно натягивать уздечку, и предупредил, что ускорять или замедлять бег лошади нужно только голосом, ни в коем случае не прибегать к хлысту или шпорам.
Лошадь была действительно великолепна: кроткая, как ягненок, послушная и в то же время горячая и быстрая.
Д'Агвилар оказался прелестным кавалером. Он рассказывал о самых разнообразных вещах — серьезных и веселых, так что в конце концов даже Кастелл забыл о своих тревогах и повеселел. Было свежее весеннее утро. Они легким галопом пересекали долины, взбирались на холмы, слушали пение птиц в лесу и наблюдали работающих в поле людей.
Эта прогулка оказалась только началом. Д'Агвилар узнавал часы прогулок даже тогда, когда они меняли их, и, приглашали они его или нет, присоединялся к ним или встречал во время прогулок с такой естественностью, что невозможно было отказаться от его общества. Отец и дочь никак не могли догадаться, каким образом д'Агвилар узнавал об их прогулках и даже о том, куда они собирались ехать. Они предполагали, что все это он узнает от грумов, хотя тем было дано строгое приказание ничего не говорить. Им и в голову не приходило, что это могла делать Бетти. Они не могли предположить, что если они встречаются с д'Агвиларом по утрам, то Бетти делает то же самое по вечерам, когда все думают, что она в церкви, или занимается шитьем, или навещает свою тетку в окрестностях Вестминстера. Но об этих своих прогулках девушка никому но рассказывала по причинам, одной ей ведомым.
Теперь, когда они катались вместе, д'Агвилар попрежнему оставался вежлив и предупредителен, но манеры его становились все более непринужденными. Он рассказывал всевозможные истории из своей жизни, наполненной необычайными событиями, намекал на свое высокое положение, которое он пока вынужден скрывать. Говорил о своем одиночестве, о том как оно тяготит его и как он хотел найти родственную душу, которая разделила бы с ним его богатство, положение и надежды. В эти минуты его черные глаза останавливались на Маргарет, словно говоря: «Вы та женщина, которую я ищу».
В конце концов эти намеки испугали Маргарет, и она решила, не имея возможности избежать встреч с д'Агвиларом, отказаться от верховых прогулок до возвращения Питера, хотя очень любила верховую езду. Она заявила, что повредила себе колено и седло причиняет ей боль. Великолепная испанская кобыла вынуждена была теперь оставаться в конюшне.
Таким образом Маргарет на несколько дней освободилась от общества даагвилара и занялась чтением, работой и сочинением длинных писем Питеру, который был чрезвычайно занят в Дедхэме и давал ей в своих посланиях многочисленные поручения.
Однажды утром, сидя у себя в конторе, Кастелл занимался расшифровкой только что полученных писем. Накануне ночью его лучшее судно водоизмещением в двести тонн, названное по имени его дочери «Маргарет», благополучно прибыло из Испании в устье Темзы. В этот вечер во время прилива оно должно было бросить якорь в Грейвсенде, и Кастелл собирался поехать туда, чтобы посмотреть за разгрузкой. Это был последний из его кораблей, который еще не был продан, и Кастелл намеревался тут же вновь нагрузить корабль товарами и продовольствием и отправить в Севильский порт, где испанский компаньон Кастелла, Хуан Бернальдсс, на чье имя был зарегистрирован корабль, обязался приобрести его за условленную цену. После этого Кастеллу оставалось только передать свою торговлю лондонским купцам, и он мог, сохранив свое состояние, удалиться от дел и провести остаток жизни на покое, в Эссексе, со споен дочерью и ее мужем. Больше он ни о чем не мечтал.
Как только «Маргарет» оказалась у берегов Темзы, капитан Смит высадил на берег приказчика, приказав ему взять лошадь и немедленно доставить Кастеллу в Холборн письма и список грузов. Эти письма и читал сейчас Кастелл. Одно из них было от сеньора Бернальдеса из Севильи; оно не было ответом на письмо, посланное Кастеллом в ту ночь, когда началась вся эта история, — то письмо еще не дошло, — однако оно было посвящено тому же самому делу. В письме говорилось следующее:
Вы помните, я писал вам о человеке, посланном в Лондон ко двору. Пользуясь тем, что наш, шифр никому неизвестен, а это очень валено и вы должны быть предупреждены, я беру на себя риск назвать его имя. Его зовут д'Агвилар. После отправки моего прошлого письма я узнал еще кое-что об этом гранде. Хотя он называет себя просто д'Агвиларом, в действительности это маркиз Морелла. Говорят, в нем течет королевская кровь, так как он является незаконнорожденным сыном принца Карлоса
[10] и, следовательно, сводным братом короля. По слухам, Карлос был влюблен в богатую и знатную мавританку из Агвилара. У нее были огромные поместья в Гранаде и в других местах. И так как Карлос не мог жениться на ней из-за разницы в их положении и вероисповедании, то союз их не был узаконен. У них родился сын. Перед тем как принц Карлос умер или был отравлен, будучи пленником в Морелле, он добился для этого мальчика титула маркиза, дав ему, по странной фантазии, имя Морелла. Ему же он завещал некоторые свои земли. После смерти принца его возлюбленная, которая тайно стала христианкой, перевезла сына в свой замок в Гранаде. Там она умерла десять лет назад, оставив сыну все свое богатство, так как не была замужем. Говорят, жизнь его была в опасности, потому что, хоть он наполовину мавр, но в его венах слишком много королевской крови. Однако маркиз оказался человеком умным и сумел убедить короля и королеву в том, что он думает только о собственных удовольствиях. К тому же за него вступилась церковь, ибо он доказал, что является ее верным сыном, занимаясь истреблением еретиков, особенно евреев, и даже мавров, хотя они с ним одной крови. Его оставили в покое и утвердили за ним его владения. Но стать священником он отказался.
С тех пор маркиз был представителем испанского престола в Гранаде, его посылали в Лондон, Рим и в другие места по делам, связанным с вопросами веры и создания святой инквизиции. Вот почему он находится сейчас в Англии — он должен добыть имена и сведения о маранах, живущих там, особенно если они торгуют с Испанией. Я видел список имен тех, кем он должен заняться в первую очередь. Поэтому я и пишу вам так подробно, — ваше имя стоит в этом списке первым. Я думаю, что вы поступили правильно, ликвидируя свою торговлю с Испанией и особенно, что вы срочно решили продать нам свои корабли. Иначе они могут быть захвачены, так же как и вы, если появитесь здесь. Мой совет вам: спрячьте свое богатство, — оно будет достаточно велико, после того как мы выплатим вам свои долги, — и уезжайте в безопасное место, пока эта ищейка д'Агвилар не напал на ваш след в Лондоне. Хвала всевышнему, никого из нас ни в чем не подозревают, вероятно потому, что мы многим хорошо платим.
Закончив расшифровку письма, Кастелл внимательно перечитал его. Затем он прошелся в зал, где горел камин, так как день был холодный, бросил письмо в огонь и подождал, пока оно превратилось в пепел. После этого он вернулся в контору и спрятал оригинал письма в потайной ящик в стене. Только тогда он уселся в кресло и задумался:
«Мой добрый друг Хуан Бернальдес прав. Д'Агвилар, или маркиз Морелла, выслеживает меня и других. Ну что ж, я не собираюсь и дальше связывать свою судьбу с Испанией. Почти все деньги, за исключением тех, которые еще должны прибыть из Испании, укрыты так, что ему никогда не добраться до них. И все-таки я молю бога, чтобы Питер и Маргарет скорее поженились и мы все трое уединились в Дедхэме, вдали от чужих глаз. Я слишком долго был в этой игре. Мне нужно было закрыть свои книги год назад. Но торговля шла так хорошо, что я не мог решиться на это. К тому же мне везло, и за этот год я удвоил свое состояние. И все-таки нужно было свернуть торговлю раньше, чем они пронюхали о моем богатстве. Жадность, чистая жадность! Ведь я не нуждался в этих деньгах, которые могут погубить нас».
Его раздумья были прерваны стуком в дверь. Джон Кастелл схватил перо, обмакнул в чернильницу, и, крикнув: «Входите! «, принялся вписывать колонки цифр в лежавшую перед ним бумагу.
Дверь отворилась, но Кастелл сделал вид, что он настолько поглощен счетами, что не слышит. Какое-то чутье подсказало ему, что за его спиной стоит д'Агвилар. Возможно, он подсознательно узнал его шаги. На мгновение он похолодел — только что он читал о миссии этого человека,
— страх перед наступающим охватил его. Однако Кастелл сыграл великолепно.
— Зачем ты беспокоишь меня, дочка? — спросил он раздраженно, не поворачивая головы. — У меня и так масса огорчений. Половина груза оказалась испорченной, а ты отрываешь меня, когда я подсчитываю свои убытки.
С этими словами Кастелл бросил перо и резко повернулся вместе со стулом.
Перед ним действительно стоял с улыбкой склонившийся в своем обычном поклоне роскошно одетый д'Агвилар.
ГЛАВА VI. Д'АГВИЛАР ГОВОРИТ
— Убытки? — переспросил д'Агвилар. — Неужели я ослышался: богач Джон Кастелл, который держит в своих руках половину торговли с Испанией, говорит об убытках?
— Да, сеньор, это так. Дела очень плохи. С этим судном мне не повезло. Оно едва уцелело от весенних бурь. Однако садитесь, прошу вас.
— Неужели дела действительно плохи? — усмехнулся д'Агвилар, усаживаясь. — Как, однако, нагло врут слухи! Я слышал, что ваши дела идут хорошо. Впрочем, конечно, то, что для вас является убытком, для такого человека, как я, было бы колоссальной прибылью.
Кастелл не ответил. Он выжидал, чувствуя, что его гость пришел не для того, чтобы разговаривать с ним о торговых делах.
— Сеньор Кастелл, — вновь обратился к нему д'Агвилар; в голосе его чувствовалось волнение. — Я пришел просить вас кое о чем.
— Если вы хотите одолжить у меня денег, сеньор, то боюсь, что момент как раз неподходящий. — И он кивнул на бумагу, испещренную цифрами.
— Я не собираюсь просить у вас денег в долг, я прошу вас сделать мне подарок.
— Все, что есть в моем бедном доме, принадлежит вам, — с восточной вежливостью ответил Кастелл.
— Рад слышать это, сеньор, потому что я действительно хочу получить кое-что из вашего дома.
Кастелл вопросительно посмотрел на него.
— Я прошу руки вашей дочери, сеньоры Маргарет.
Кастелл удивленно посмотрел на д'Агвилара, и с его губ сорвалось:
— Это невозможно.
— Почему невозможно? — медленно спросил Д'Агвилар, словно ожидавший такого ответа, — По возрасту мы подходим друг к другу, хотя я занимаю гораздо более высокое положение, чем вы предполагаете. Не хочу хвастаться, но женщины не считают меня уродливым. Я буду добрым другом дому, из которого возьму жену, а ведь может прийти день, когда понадобятся друзья. И, наконец, я хочу жениться на ней не ради того, что она принесет с собой, хотя богатство никогда не бывает лишним, а потому — прошу вас поверить мне, — что люблю ее.
— Я слышал, что сеньор Д'Агвилар любит многих женщин там, в Гранаде.
— Так же как я слышал, что «Маргарет» проделала очень выгодный рейс, сеньор Кастелл. Слухам, как я только что говорил, верить нельзя. Я буду говорить прямо. Я не был святым. Но теперь я им стану ради Маргарет. Я буду верен вашей дочери, сеньор. Что вы теперь скажете?
Кастелл только покачал головой.
— Послушайте, — продолжал Д'Агвилар, — я не тот, за кого выдаю себя. Ваша дочь, выйдя за меня замуж, получит высокое положение и титул.
— Да, вы маркиз Морелла, сын принца Карлоса и мавританки, племянник его величества короля Испании.
Д'Агвилар в упор посмотрел на своего собеседника и слегка поклонился.
— Ваши сведения не менее точны, чем мои. Вам, конечно, не нравится примесь в моей крови. Ну что ж, если бы ее не было, я бы теперь сидел на месте Фердинанда. Мне она тоже не по душе, хотя это древняя кровь благородных мавров. Однако разве племянник короля и сын гранадской принцессы не может быть подходящим мужем для дочери… еврея… да, марана, и английской леди, христианки, из хорошей семьи, но не больше?
Кастелл поднял руку, собираясь сказать что-то, но Д'Агвилар продолжал:
— Не отрицайте этого, друг мой. Здесь, когда мы с вами одни, не стоит это делать. Разве некий Исаак из Толедо лет пятьдесят назад не покинул вместе со своим маленьким сыном Испанию и не стал известен в Лондоне как Джозеф Кастелл? Как видите, не только вы изучаете родословную.
— Ну, и что из этого, сеньор?
— Что из этого? Ничего, мой друг Кастелл. Кого может заинтересовать эта старая история, если старый Исаак давно умер, а его сын уже около пятидесяти лет добрый христианин, был женат на христианке и имеет христианку дочь. Вот если бы он только притворялся христианином, а в действительности тайно исполнял еврейские обряды, вот тогда…
— Что тогда?
— Тогда он безусловно был бы изгнан из этой страны, где евреям запрещено жить, его имущество было бы конфисковано в пользу королевской казны, его дочь попала бы под опеку короля и была бы выдана замуж по желанию его величества, а сам он был бы, по всей вероятности, передан в руки испанских властей, с тем чтобы ответить за все. Но мы отвлеклись. Все ли еще невозможен наш брак?
Кастелл посмотрел прямо в глаза д'Агвилару:
— Да!
Он произнес это слово так смело, что Д'Агвилар на мгновение растерялся. Он не ожидал такого ответа.
— Может быть, вы будете так любезны объяснить мне причину?
— Причина проста, маркиз: моя дочь обручена.
Д'Агвилар не выразил удивления.
— С этим скандалистом, вашим родственником, Питером Брумом? — спросил он. — Я догадывался об этом, и, клянусь всеми святыми, мне жаль ее. Это слишком скучный возлюбленный для такой красивой и яркой женщины, а как муж… — Д'Агвилар передернул плечами. — Дорогой Кастелл, ради нее вы не допустите этого брака.
— А если допущу?
— Тогда я разрушу его ради нас всех, включая, конечно, и меня, потому что я люблю Маргарет и хочу возвысить ее, и ради вас, ибо я хочу, чтобы вы прожили оставшиеся годы в мире и довольстве, а не как затравленная собака.
— Как вы разрушите его, маркиз? Путем…
— О нет, сеньор, — перебил его Д'Агвилар, — не чужими мечами, если вы это имеете в виду. Достой шли Питер в безопасности от них, поскольку это зависит от меня, хотя, если мы столкнемся лицом к лицу, победит тот, кто сильнее. Не бойтесь, друг мой, я не унижусь до убийства, я слишком дорожу своей душой, чтобы осквернять ее кровью. И я никогда не женюсь на женщине вопреки ее воле. Однако Питер может умереть, и прекрасная Маргарет сможет протянуть мне руку и сказать: «Я выбираю вас своим мужем».
— Все это, конечно, может случиться, маркиз, но я не думаю, чтобы это произошло. Что касается меня, я благодарю вас, но вынужден отклонить ваше лестное предложение. Я полагаю, что моя дочь будет более счастлива в ее нынешнем скромном положении с тем человеком, которого она избрала. Вы разрешите мне вернуться к моим счетам? — Кастелл встал.
— Да, сеньор, — ответил Д'Агвилар, тоже вставая, — но прибавьте к тем убыткам, о которых вы говорили, еще один — дружбу Карлоса, маркиза Морелла, а на той странице, где у вас прибыли, добавьте его ненависть.
— Смуглое, красивое лицо д'Агвилара исказилось от злобы. — Вы что, сошли с ума? Вспомните о маленькой молельне за алтарем в вашей часовне и о том, что там находится!
Кастелл пристально посмотрел на него и затем сказал:
— Пойдемте, посмотрим. Нет, не бойтесь: так же как и вы, я помню о своей душе и не обагрю своих рук кровью. Идите вслед за мной, вы будете в безопасности.
Любопытство или какая-то другая причина заставила д'Агвилара подчиниться. Через несколько минут они оказались позади алтаря.
— Смотрите, — сказал Кастелл, нажав пружину и открыв потайную дверь.
Д'Агвилар заглянул в комнатку. Но куда делись стол, ящик, подсвечники, свитки, о которых говорила ему Бетти? Там были только старые пыльные ящики с пергаментами и поломанная мебель.
— Что вы видите? — спросил Кастелл.
— Только то, что вы гораздо умнее, чем я предполагал. Но отвечать на эти вопросы вам придется не сейчас и не мне. Поверьте, я не инквизитор.
С этими словами Д'Агвилар повернулся и вышел. Когда Кастелл, прикрыв потайную дверь, поспешно вышел из часовни, маркиза уже не было.
Чрезвычайно взволнованный, Кастелл вернулся в свой кабинет и сел поразмыслить. Судьба, которая так долго оставалась благосклонной к нему, теперь отвернулась. Хуже быть не могло. Д'Агвилар через своих шпионов раскрыл тайну его веры, и так как, к несчастью, маркиз влюблен в его дочь, а Кастелл вынужден отказать ему, то Д'Агвилар стал его злейшим врагом. Почему же он отказал д'Агвилару? Ведь это человек знатный и занимающий высокое положение. Маргарет стала бы женой одного из первых грандов Испании, стоящего ближе всех к трону. Может быть — такие случаи бывают, — она стала бы королевой или матерью королей? Более того: этот брак принес бы самому Кастеллу безопасность, спокойную старость, тихую смерть в собственной постели — ведь будь он хоть пятьдесят раз мараном, кто посмеет тронуть тестя маркиза Морелла? Так почему же он отказал? Да просто потому, что он обещал выдать ее замуж за Питера, а за всю жизнь купца он никогда не отказывался от своего слова. И в душе Кастелл пожалел, что согласился выдать Маргарет за Питера. Почему он не заставил Питера, который так долго ждал, подождать еще месяц? Но теперь уже было поздно. Он дал слово и будет держать его, чего бы это ему ни стоило.
Кастелл встал и приказал служанке позвать к нему Маргарет. Однако та вернулась с сообщением, что ее хозяйка отправилась на прогулку вместе с Бетти и что лошадь ожидает хозяина, чтобы ехать к реке. Кастелл собирался провести ночь на борту своего судна.
Положив перед собой лист бумаги, Кастелл подумал было, не написать ли Маргарет и не предупредить ли ее. Но затем он решил, что ей нечего бояться д'Агвилара, по крайней мере в настоящее время, и что опасно доверять бумаге такие вещи; он написал только, чтобы она берегла себя и что он вернется на следующий день утром.
В тот же день вечером, когда Маргарет сидела в своей маленькой гостиной, примыкавшей к общему залу, дверь отворилась, и, подняв глаза от вышивания, Маргарет увидела стоявшего перед ней д'Агвилара.
— Сеньор, — с удивлением воскликнула она, — как вы попали сюда?
— Сеньора, — с поклоном ответил Д'Агвилар, закрывая за собой дверь, — меня принесли сюда мои ноги. Если бы я мог, я думаю, что никогда не уходил бы от вас.
— Не говорите мне комплиментов, сеньор, прошу вас, — нахмурившись, сказала Маргарет. — Я не могу принимать вас одна, поздно вечером, когда отца дома нет.
Маргарет встала и попыталась пройти мимо него к двери. Однако д'Агвилар не сдвинулся с места, и ей пришлось остановиться.
— Я знал, что его нет, — учтиво заметил д'Агвилар, — и именно поэтому я рискнул обратиться к вам по вопросу чрезвычайно важному. Я умоляю вас уделить мне несколько минут.
У Маргарет мелькнула мысль, что он принес ей новости о Питере, — вероятно, плохие.
— Садитесь и говорите, сеньор, — ответила она, опускаясь в кресло.
— Сеньора, — начал д'Агвилар, — мои дела в этой стране закончены, и через несколько дней я возвращаюсь в Испанию… — Он приостановился, словно выжидая.
— Я уверена, что ваше путешествие будет приятным, — заметила Маргарет, не зная, что еще сказать.
— Я тоже надеюсь на это, сеньора, потому что я пришел просить вас разделить его со мной. Выслушайте меня, прежде чем отказывать мне. Сегодня я видел вашего отца и просил у него вашей руки. Он не дал мне никакого ответа, не сказав ни «да», ни «нет». Он заявил мне, что вы сами решаете свою судьбу и что я должен услышать решение из ваших уст.
— Мой отец сказал так? — перебила его удивленная Маргарет, но потом ей пришло в голову, что у Кастелла, очевидно, была какая-то причина для такого ответа, и она быстро добавила: — Ну что ж, мой ответ будет прост и краток. Я благодарю вас, сеньор, но я остаюсь в Англии.
— Ради вас и я готов остаться здесь, хотя, по правде говоря, я нахожу эту страну холодной и варварской.
— Если вы останетесь здесь, сеньор д'Агвилар, уеду в Испанию я. Прошу вас, пропустите меня!
— Только после того, как вы выслушаете все. Я уверен, что тогда вы будете более снисходительны. Поймите, я занимаю очень высокое положение у себя на родине. Это здесь я предпочитаю жить инкогнито, под скромным именем сеньора д'Агвилара. Я маркиз Морелла, племянник короля Фердинанда. Я богат и знатен. Если вы не верите мне, я могу представить вам доказательства.
— У меня нет оснований не верить вам, — холодно ответила Маргарет.
— Все это, может быть, и правда, но какое это имеет отношение ко мне?
— А то, что я, у которого в венах струится королевская кровь, прошу дочь купца стать моей женой.
— Благодарю вас, но меня вполне устраивает мой скромный жребий.
— Вам безразлично, что я люблю вас всем сердцем? Выходите за меня замуж, и я возвышу вас, может быть, даже до трона.
Маргарет подумала мгновение и затем сказала:
— Вы предлагаете крупную взятку, но как вы сделаете это? Разве девушек не обманывают поддельными драгоценностями?
— А как это делалось раньше? Далеко не все любят Фердинанда. У меня есть много друзей, которые помнят, что мой отец был старшим сыном, но его отравили. А моя мать была мавританской принцессой. И если я, живущий среди мавров в качестве посла испанского престола, соединю свой меч с их мечами… Есть и другие пути. Однако я говорю вещи, которые никогда раньше не произносили мои уста. Если они когда-либо станут известны, это будет стоить мне жизни — пусть это послужит доказательством того, насколько я доверяю вам.
— Благодарю вас, сеньор, за ваше доверие, но мне кажется, что эта корона находится так высоко, что путь к ней весьма опасен. Я предпочитаю оставаться внизу, в безопасности.
— Вы отказываетесь от славы, — взволнованно прервал ее д'Агвилар,
— может быть, вас тронет любовь. Вам будут поклоняться. Вы будете окружены таким обожанием, как ни одна женщина в мире. Клянусь вам, в ваших глазах есть искра, которая зажгла в моем сердце огонь, он пылает день и ночь и никогда не погаснет. Ваш голос для меня сладчайшая музыка, ваши волосы пленили меня сильнее, чем кандалы — узника; когда вы идете, мне кажется, что богиня красоты Венера спустилась на землю. Ваш ум так же ясен и благороден, как и ваша красота, и с его помощью я достигну всего на земле и завоюю место на небе. Я люблю вас, моя госпожа, моя прекрасная Маргарет. Из-за вас все женщины на свете потеряли для меня всякую прелесть. Смотрите, как сильно я люблю вас, если я, один из первых грандов Испании, преклоняюсь перед вашей красотой. — С этими словами д'Агвилар неожиданно упал перед ней на колени и, схватив подол ее платья, прижал к своим губам.
Маргарет смотрела на него, и гнев, вспыхнувший было у нее в душе, таял; вместе с ним исчезло чувство страха. Этот человек был искренен, в этом она не могла сомневаться. Рука, державшая подол ее платья, трепетала, лицо было бледно, а в черных глазах блестели слезы. Почему же бояться этого человека, который был ее рабом?
— Сеньор, — мягко сказала она, — поднимитесь, прошу вас. Не тратьте на меня свою любовь, я не заслуживаю ее и не достойна вас. Я не могу ответить на нее. Сеньор, я уже обручена. Забудьте меня и найдите другую женщину, достойную вашей любви.
— Обручена! — воскликнул д'Агвилар. — Я знаю об этом. Нет, я не хочу сказать о нем ничего дурного. Порочить того, кому более повезло, непристойно. Но какое имеет значение то, что вы обручены? Что значило бы для меня, если бы вы даже были замужем? Я все равно добивался бы вас, для меня нет другого пути. Вы говорите, что вы ниже меня. Вы выше меня, как звезда, и вас так же трудно достичь. Искать другую любовь? Уверяю вас, что я завоевал немало женщин — ведь не все так неприступны, как вы, — и теперь я ненавижу их. Я жажду вашей любви и буду добиваться вас до последнего дня моей жизни. Я завоюю вас или погибну. Впрочем, нет, я не умру, пока вы не будете моей. Не пугайтесь, я не буду убивать вашего возлюбленного, иначе как в честном бою. Я не буду принуждать вас стать моей женой, даже если бы я имел такую возможность, но я еще услышу из ваших собственных уст, как вы попросите меня быть вашим мужем. Я клянусь в этом Иисусом! Я клянусь, что только этому посвящу всю свою жизнь! И если случится так, что вы умрете раньше меня, я последую за вами до самых ворот рая и найду вас там.
Страх вновь сжал сердце Маргарет. Любовь этого человека была страшна, хотя и величественна. Питер никогда не говорил ей таких слов.
— Сеньор, — сказала она почти виноватым голосом, — мертвые оказываются плохими невестами. Оставьте эти больные фантазии, их порождает ваша восточная кровь.
— Но это и ваша кровь — ведь вы наполовину еврейка, и вы должны понимать мои чувства.
— Возможно, я и понимаю. Может быть, я восхищаюсь ими и даже считаю их по-своему возвышенными и благородными, если можно считать благородным стремление завоевать чужую невесту. Но я, сеньор, невеста другого и принадлежу ему вся, телом и душой. И я не откажусь от своего слова и не разобью его сердце за все царства на земле. Еще раз прошу вас, сеньор, предоставьте бедной девушке ту скромную участь, которую она избрала, и забудьте ее.
— Леди, — ответил д'Агвилар, — ваши слова мудры и деликатны, я благодарен вам за них. Но я не могу забыть вас. И клятву, которую я только что произнес, я повторяю. — И прежде чем Маргарет успела остановить его и даже догадаться о том, что он собирается делать, д'Агвилар взял золотое распятие, висевшее у нее на груди, поцеловал его и опустил со словами: — Вы видите, я мог поцеловать вас в губы и вы не успели бы остановить меня, но я никогда этого не сделаю, пока вы сами не позволите мне. Поэтому вместо ваших губ я поцеловал распятие, которое мы оба носим. Леди Маргарет, моя леди Маргарет, через день или два я уплываю в Испанию, и я увожу с собой ваш образ. Я верю, что пройдет немного времени — и наши пути скрестятся. Разве может быть иначе — ведь наши жизни переплелись в тот вечер около Вестминстерского дворца, переплелись для того, чтобы никогда не разойтись, пока один из нас не покинет этот мир. А сейчас прощайте.
Д'Агвилар исчез так же бесшумно, как и появился. Выпустила его из дома та же Бетти, которая перед тем открыла ему дверь. Быстро оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что ее никто не видит — на это можно было надеяться, так как Питера дома не было, а с ним уехали лучшие слуги, хозяин тоже отсутствовал, — Бетти оставила дверь приоткрытой, чтобы иметь возможность вернуться незамеченной, и выскользнула вслед за д'Агвиларом. Они дошли до старой арки, которая в давние времена служила входом в ныне разрушенный дом. Сюда, в этот темный уголок, и завернула Бетти, потянув за руку д'Агвилара. Он остановился на мгновение, пробормотал сквозь зубы какое-то испанское проклятие и пошел за ней. « — Что вы хотите мне сказать, прелестная Бетти? — спросил он.
— Меня интересует, — с едва сдерживаемым негодованием воскликнула Бетти, — что вы хотите мне сказать, мне, которая так много сделала для вас сегодня! Для моей кузины у вас находится немало слов, я знаю. Я ведь была в саду и сквозь ставни слышала, как вы говорили, говорили, говорили, как будто защищали свою жизнь.
«Надеюсь, что в этих ставнях нет отверстий, — подумал про себя д'Агвилар, — и она ничего не могла увидеть». Вслух же он сказал:
— Мисс Бетти, вы не должны были стоять на этом жестоком ветре. Вы могли простудиться, что бы я тогда делал?
— Не знаю. Скорее всего, ничего. Но я хочу знать, почему вы уверяли меня, что хотите прийти, чтобы повидать меня, и вместо этого провели целый час с Маргарет?
— Чтобы избежать подозрений, дорогая Бетти. Кроме того, я должен был поговорить с ней о Питере, который ее, по-видимому, так интересует. Вы ведь очень проницательны, Бетти, скажите мне: там готовится свадьба?
— Думаю, что да. Мне ничего не говорили, но я многое замечаю. Кроме того, она почти каждый день пишет ему письма. Я только не понимаю, что она нашла в этом человеке.
— Без сомнения, она высоко ценит его честность, так же как я вашу. Кто может объяснить движения сердца? Ведь, как говорят знающие люди, одни из них внушает небо, а другие ад. В конце концов, это не наше с вами дело. Пусть они будут счастливы, поженятся, и пусть у них будет многочисленное и здоровое потомство. Однако, дорогая Бетти, вы готовы к поездке в Испанию?
— Не знаю, — мрачно ответила Бетти. — Я не уверена, что можно довериться вам и вашим красивым словам. Если вы хотите жениться на мне, как вы клянетесь, почему мы не можем сделать все это до отъезда? Откуда я знаю, что вы выполните свое обещание, когда мы будем в Испании?
— Вы задаете много вопросов, Бетти. Я вам уже ответил на них раньше. Я уже говорил вам, что не могу жениться на вас здесь потому, что должен получить на это разрешение. Оно необходимо из-за различия в нашем положении. Здесь, где все знают, кто вы, я такого разрешения не получу. В Испании вы будете представлены как знатная английская леди — а вы действительно имеете на это право по своему рождению — и я получу такое разрешение в течение часа. Но если вы сомневаетесь во мне, то, хотя сердце у меня разрывается в груди, когда я говорю это, нам лучше расстаться сейчас же. Мне не нужна жена, которая не доверяет мне. Скажите, жестокая Бетти, вы хотите покинуть меня?
— Вы знаете, что я не хочу этого, вы знаете, что это убьет меня! — воскликнула Бетти голосом, полным страсти. Вы знаете, что я люблю землю, по которой вы ходите, и ненавижу каждую женщину, которая оказывается около вас, даже свою кузину, хотя она всегда была так добра ко мне. Я рискну и поеду с вами, потому что я верю, что вы честный джентльмен и не обманете девушку, доверившуюся вам. Но если вы обманете меня, пусть бог накажет вас. Я ведь не игрушка, которую можно сломать и выбросить, и вы убедитесь в этом. Да, я рискну, потому что вы заставили меня полюбить вас так, что я не могу жить без вас.
— Бетти, ваши слова восхищают меня! Я вижу, что не ошибся в вашем благородном сердце. Но говорите чуть потише. Вернемся к нашему плану. В день отплытия я приглашу госпожу Маргарет и вас на мой корабль.
— А почему не пригласить меня без Маргарет?
— Потому что это возбудит подозрения, которых нам нужно избегать. Не перебивайте меня, Я приглашу вас обеих или заставлю приехать под каким-нибудь другим предлогом и тогда распоряжусь, чтобы ее отправили на берег. Предоставьте все это мне, поклянитесь только, что вы выполните все, что я напишу вам. Если вы этого не сделаете, имейте в виду, у нас есть могущественные враги, которые могут навсегда разлучить нас. Я буду откровенен с вами, Бетти: есть одна знатная дама, которая ревнует и следит за вами. Вы клянетесь?
— Да, да, я клянусь! Но кто эта знатная дама?
— Ни слова о ней, во имя вашей и моей жизни! Я скоро извещу вас. А теперь, дорогая, до свидания.
— До свидания, — отозвалась Бетти, но не тронулась с места.
Поняв, что она ожидает еще чего-то, д'Агвилар собрался с силами и коснулся губами ее волос. В тот же момент он пожалел об этом — даже эта умеренная ласка вызвала в ней бурю страсти. Бетти обвила его шею руками и принялась целовать, пока он, наполовину задушенный, не вырвался из ее объятий и не спасся бегством.
«Матерь божья, — подумал он, — эта женщина похожа на вулкан во время извержения! Я буду теперь целую неделю ощущать ее поцелуи. — И он вытер лицо рукой. — Лучше было бы придумать другой план, но теперь уже поздно менять что-либо — она выдаст меня. Как-нибудь я от нее избавлюсь, хотя бы мне пришлось ее утопить. Тяжкая участь — любить госпожу и быть любимым служанкой».
ГЛАВА IX. ЛОВУШКА
На следующее утро, когда вернулся Кастелл, Маргарет рассказала ему о визите д'Агвилара и обо всем, что произошло между ними. Испанец сказал ей, что она наполовину еврейка, значит, он раскрыл тайну Кастелла.
— Я знаю об этом, знаю! — ответил ей взволнованный и рассерженный отец. — Вчера он угрожал мне. Будь что будет, я встречу мой жребий. А сейчас я хочу знать, кто впустил этого человека в мой дом в мое отсутствие и без моего разрешения.
— Бетти, — ответила Маргарет. — Она клянется, что не думала, что поступает дурно.
— Пошли за ней, — сказал Кастелл.
Бетти тут же явилась и в ответ на расспросы хозяина сочинила длинную историю. Вечером она вышла подышать воздухом, как вдруг подошел сеньор д'Агвилар, поздоровался с ней и прошел в дом, сказав, что у него назначено свидание с хозяином.
— Со мной? — прервал ее Кастелл. — Но меня ведь не было дома.
— Я не знала, что вы уехали. Меня не было дома, когда вы уезжали, и никто мне об этом не сказал. А я знаю, что сеньор д'Агвилар ваш друг. Я его впустила и потом выпустила. Вот и все, что я могу сказать.
— Тогда я должен сказать, что ты потаскушка и лгунья и что этот испанец каким-то путем подкупил тебя! — вспылил Кастелл. — Вот что, девчонка, хоть ты и родственница моей жены, но я решил выгнать тебя на улицу. Можешь умирать там с голоду.
Бетти сначала вспылила, потом принялась плакать. Маргарет начала упрашивать отца не делать этого, потому что он погубит Бетти и возьмет грех на душу. Кончилось все тем, что Кастелл, будучи человеком добрым, вспомнил, что покойная жена любила Бетти Дин, как родную дочь, и ограничился тем, что запретил Бетти выходить из дома без Маргарет и распорядился, чтобы дверь отпирал только слуга.
В тот же день Маргарет написала Питеру обо всем, что у них произошло, и о том, как испанец просил ее выйти за него замуж. Умолчала она только о словах, которые он ей говорил. В конце письма она запрещала Питеру ревновать ее к сеньору д'Агвилару или к какому-либо другому мужчине, так как Питер знает, кому принадлежит ее сердце.
Получив это письмо, Питер чрезвычайно взволновался. Что Кастелл и Маргарет навлекли на себя злобу д'Агвилара, в этом он не сомневался. Его возмутило, что д'Агвилар осмелился беспокоить Маргарет своими ухаживаниями. Все остальное его мало волновало, ибо он верил в нее, как в бога. Тем не менее Питеру захотелось как можно скорее вернуться в Лондон, пренебрегая опасностью. Однако не прошло и трех дней, как он получил письма сразу от Кастелла и Маргарет, которые успокоили его.
В письмах сообщалось, что д'Агвилар отплыл в Испанию. Во всяком случае, Кастелл видел его стоящим на корме корабля, плывшего вниз по Темзе, по направлению к морю. То был корабль испанского посла де Айалы. Кроме того, Маргарет получила от него прощальный привет. В записке было написано:
«Прощайте, прекрасная леди. До предопределенного часа, когда мы встретимся вновь. Я уезжаю, потому что должен ехать, но увожу с собой ваш образ. Любящий вас до самой смерти Морелла».
«Он может возить с собой ее образ, пока сама она со мной, но если он вернется со своей любовью, клянусь, что смерть и он недолго будут ходить порознь!» — таковы были мрачные мысли Питера. Затем он вернулся к письмам. Теперь, после отъезда испанцев, ему нечего бояться, а в Лондоне его уже ждут. Кастелл в своем письме назначил день приезда — 31 мая, ровно через неделю, с тем что на следующий день — 1 июня — состоится их свадьба. Устраивать свадьбу в мае нельзя — считалось, что это может принести несчастье. Эти же новости сообщала и Маргарет в таких нежных словах, что Питер поцеловал ее письмо и тут же написал ей ответ — краткий, по обыкновению. Он писал, что, если на то будет воля святых, он приедет к вечеру 31 мая и что во всей Англии нет человека счастливее, чем он.
Всю эту неделю Маргарет была совершенно поглощена приготовлением своего подвенечного платья. Кроме того, она занималась и другими туалетами, так как было решено, что на следующий день после свадьбы они уедут в Дедхэм, а отец вскоре последует туда за ними. Старый замок был еще не готов, для окончания работ требовалось еще немало времени, но Питер привел в порядок несколько комнат, в них они могли жить летом, а к зиме должен был быть готов весь дом.
Кастелл тоже был очень занят. «Маргарет» готовилась к новому плаванию, и трюмы ее принимали последние грузы. Кастелл надеялся отправить судно в тот же день — 31 мая — и таким образом покончить с этим последним своим делом. Ему оставалось только передать свои склады и лавки купцам, которые купили их. Дела держали его в Грейвсенде, где стояло судно, но он был спокоен, так как д'Агвилар и все остальные испанцы, в том числе и слуги де Айала, которые поклялись убить Питера, уехали.
О, как счастлива была Маргарет в эти прекрасные весенние дни! Сердце ее было спокойно, как безоблачное небо. Она была так счастлива, так поглощена приятными хлопотами, что не обращала внимания на свою кузину Бетти, которая помогала ей готовить свадебный наряд и все что нужно для отъезда. Если бы она присмотрелась, то заметила бы, что Бетти встревожена и словно чего-то ждет. Она боролась с овладевшим ею отчаянием. Но Маргарет ничего не замечала, ее сердце было слишком полно своим счастьем, она считала часы до возвращения Питера.
Время шло. Наконец наступил день, когда должен был вернуться Питер. На следующий день была назначена свадьба. К ней все было готово, включая прекрасный костюм для Питера. Таких нарядных костюмов он никогда раньше не носил. Соседнюю церковь, где должно было происходить венчание, уже убрали цветами.
Рано утром Кастелл уехал в Гройвсенд, захватив с собой большую часть слуг. «Маргарет» на рассвете следующего дня уходила в море. Кастелл обещал вернуться к ночи, чтобы встретить Питера, который собирался выехать из Дедхэма утром и не мог приехать раньше ночи.
К четырем часам дня в доме все было готово, и Маргарет пошла в свою комнату переодеться к приезду Питера. Бетти она не взяла с собой
— та была чем-то занята. Кроме того, сердце Маргарет было так переполнено радостью, что ей хотелось побыть немного одной.
Сердце Бетти тоже было переполнено, но отнюдь не радостью. Ее обманули. Красивый испанец, которого она так страстно полюбила, уехал и не прислал ей ни слова. Сомневаться в этом не приходилось — его видели на борту отплывавшего судна, — и ни единого слова! Это было жестоко, и теперь она, у которой украли надежду и любовь, должна была помогать другой женщине, которая собиралась стать счастливой женой. С сердцем, преисполненным горечью, Бетти, кусая губы и вытирая глаза рукавом платья, принялась за дела. Неожиданно открылась дверь, и слуга
— не их, а со стороны, приглашенный для помощи на завтрашний день, — сообщил, что ее хочет видеть какой-то матрос.
— Впусти его. У меня нет времени ходить и выслушивать всех! — вспылила Бетти.
Слуга ввел матроса и тут же оставил их одних. Посланец оказался смуглым малым с лукавыми черными глазами. Если бы он не говорил так хорошо по-английски, его можно было бы принять за испанца.
— Кто ты, и что у тебя за дело? — нетерпеливо спросила Бетти.
— Я плотник с «Маргарет», — объяснил он, — меня послали сказать, что с господином Кастеллом случилось несчастье и он просит, чтобы его дочь Маргарет немедленно приехала к нему.
— Какое несчастье? — вскрикнула Бетти.
— Он смотрел, как укладывают груз, поскользнулся и упал в трюм, повредил себе спину и сломал правую руку. Поэтому он не мог написать. Но доктор, которого мы вызвали, приказал мне передать мисс Маргарет, что в настоящий момент он не боится за его жизнь. Вы мисс Маргарет?
— Нет, — ответила Бетти, — но я сейчас же пойду за ней. Подожди здесь.
— Тогда, значит, вы ее кузина, мисс Бетти Дин? Если это так, то у меня есть кое-что и для вас.
— Да, это я.
— Вот, — сказал матрос, вытаскивая письмо и протягивая его Бетти.
— Кто дал тебе это? — подозрительно спросила Бетти.
— Я не знаю его имени, но по виду это очень благородный испанец. И очень щедрый. Он услышал про несчастье на «Маргарет» и о том, что я еду сюда, и попросил меня передать вам письмо. В награду он подарил мне золотой дукат и взял слово, что я передам это письмо только вам и никому не скажу о нем ни слова.
— Какой-нибудь неотесанный поклонник, — заявила Бетти, кивнув головой, — они вечно пишут мне. Жди здесь, я пойду за мисс Маргарет.
Как только Бетти очутилась за дверями, она быстро вскрыла письмо и впилась в него глазами.
Любимая! Вы думаете, что я обманул вас и уехал, но это неправда. Я хранил молчание только потому, что вам все равно не удалось бы выйти одной из дома, ведь вас так стерегут. Но теперь бог любви дарует нам эту возможность. Конечно, ваша кузина возьмет вас с собой к отцу, который лежит у себя на судне, тяжело раненный. Пока она будет с ним, я уведу вас, и тогда мы обвенчаемся и тут же уедем —
сегодня же или завтра. Зная, что вы хотите этого, я с огромными трудностями добился разрешения, и священник будет ждать нас, чтобы обвенчать. Не говорите никому ни слова и не высказывайте ни опасений, ни страха, что бы ни случилось, иначе мы будем разлучены навсегда. Уговорите вашу кузину поехать, чтобы вы могли сопровождать ее. Помните, что ваш возлюбленный ждет вас.
К. У А. Когда Бетти разобрала содержание этого любовного послания, ее сердце забилось от волнения, голова закружилась, и она чуть не упала. Потом она подумала, что это могла быть шутка. Нет, Бетти узнала почерк д'Агвилара, — он верен ей, он женится на ней, как обещал, и увезет ее в Испанию, чтобы сделать там знатной дамой. Если она будет медлить, она может потерять его навсегда; его, за кем она готова идти на край света. В ту же минуту решение было принято — Бетти была храброй девушкой. Она поедет, даже если ей придется бросить кузину, которую она так любит.
Спрятав письмо на груди, Бетти бросилась в комнату Маргарет и рассказала ей о посланце и ужасном известии. О письме она не сказала ни слова. Маргарет побледнела от волнения, однако, овладев собой, выговорила:
— Я пойду поговорю с ним.
Они вместе спустились по лестнице. Матрос повторил Маргарет всю историю. Он рассказал ей, как произошло несчастье — но его словам, это случилось у него на глазах, — и описал, какие раны получил ее отец. При этом он добавил, что, хотя врач и утверждает, что опасности для жизни нет, однако господин Кастелл думает иначе и все время просит, чтобы к нему немедленно привели дочь.
Несмотря на все, Маргарет сомневалась и медлила — она боялась, сама не понимая чего.
— Питер будет здесь самое большое через два часа, — обратилась она к Бетти. — Может быть, лучше дождаться его?
— О Маргарет, а что, если тем временем твой отец умрет? Уж наверно, он лучше знает, что с ним, чем тот коновал, которого к нему позвали. Ведь ты тогда потеряешь покой на всю жизнь! Конечно, тебе нужно ехать. Или, в крайнем случае, поеду я одна.
Маргарет все еще колебалась, пока матрос не вмешался:
— Миледи, если вы поедете, я могу проводить вас к тому месту, где вас ожидает шлюпка, чтобы переправить через реку. Если же нет, я должен вас оставить — судно уйдет с восходом луны, они ждут только вашего приезда, чтобы перенести хозяина, вашего отца, на берег. Они думают, что лучше это сделать при вас. Если же вы не приедете, они сделают это сами, как можно бережнее. Там вы завтра и найдете господина Кастелла, живого или мертвого. — С этими словами матрос взял свою шапку, собираясь уходить.
— Я еду с вами! — воскликнула Маргарет. — Ты права, Бетти. Прикажи оседлать двух лошадей, мою и грума. Пусть на его лошадь найдут второе седло, удобное для тебя. Поедем вместе. У матроса, очевидно, лошадь есть.
Матрос утвердительно кивнул и отправился вслед за Бетти в конюшню. Маргарет же схватила перо и принялась наспех писать записку Питеру. Она сообщала ему о несчастье, постигшем их, и умоляла немедленно ехать вслед за ной. «Я вынуждена ехать, — приписала она, — одна, с Бетти и незнакомым мужчиной. Однако я должна это сделать, ибо сердце мое разрывается от страха за отца. Любимый, скорее следуй за мной».
Маргарет передала записку слуге, который впустил матроса, и приказала вручить это письмо мистеру Питеру Бруму немедленно, как только он приедет. Слуга поклялся, что сделает это.
Затем Маргарет достала для себя и для Бетти простые черные плащи с капюшонами, которые должны были скрывать их лица, и вскоре они уже были на конях.
— Стой! — воскликнула Маргарет, обращаясь к матросу, когда они уже собирались выехать. — Почему отец не послал вместо тебя кого-нибудь из своих слуг и почему он не написал мне?
Матрос искренне удивился:
— Его слуги ухаживали за ним, и он приказал ехать мне, потому что я знаю дорогу и у меня на берегу хорошая лошадь, на которой я обычно езжу с поручениями в Лондон. А что касается письма, то врач начал писать, но он делал это так медленно, что господин Кастелл приказал мне тотчас ехать. Похоже, — добавил он с некоторым раздражением, обращаясь к Бетти, — что госпожа Маргарет не доверяет мне. Если так, пусть она ищет себе другого проводника или остается дома. Мне все равно. Я выполнил то, что мне приказано.
Этими словами хитрый малый рассеял страхи Маргарет, но Бетти, помня о письме д'Агвилара, была всетаки встревожена. Вся эта история выглядела несколько странной, но глупая и тщеславная девушка уверяла себя, что если здесь что-то и подстроено, то только для того, чтобы помочь ей. Ведь одну ее не отпустили бы. Бетти поистине обезумела и не очень задумывалась над тем, что делает. В ее оправдание нужно только сказать, что ей и в голову не приходило, что ее кузине Маргарет может грозить какая-нибудь неприятность или что вся эта история с Кастеллом и его ранением — ложь.
Вскоре они уже оказались за пределами Лондона и быстро ехали вдоль северного берега реки. Их проводник объяснил, что судно стоит не у самого берега и что лодка ждет их в Тильбюри. Туда было более двадцати миль, и как они ни спешили, ночь наступила раньше, чем они прибыли к месту. В конце концов, когда они были совершенно измучены тяжелой дорогой, матрос остановился у берега и объявил, что они приехали. Невдалеке виднелась маленькая пристань, но вокруг не было ни одного дома. Спешившись, матрос передал поводья своей лошади груму, спустился к пристани и громко спросил, здесь ли шлюпка с «Маргарет». Чейто голос ответил: «Да». Затем он с минуту поговорил с людьми в шлюпке — о чем, Маргарет и Бетти не слышали — и прибежал обратно. Матрос предложил им спешиться и сообщил, что они очень хорошо сделали, приехав, потому что господину Кастеллу стало хуже и он все время зовет дочь.
Груму матрос приказал отвести лошадей на постоялый двор и дождаться там их возвращения или новых распоряжений. Бетти матрос предложил поехать вместе с грумом, так как в шлюпке не было места. Бетти готова была согласиться, думая, что это часть плана ее похищения, но Маргарет заявила, что, если Бетти не будет вместе с ней, она не сделает ни шагу. Немного поворчав, матрос повел их по каким-то деревянным ступенькам к шлюпке, очертания которой едва были различимы в темноте.
Как только Маргарет и Бетти уселись рядышком на корме, шлюпка оттолкнулась от берега и понеслась вперед, в темноту. Один из матросов зажег фонарь и укрепил его на носу. Где-то далеко, как бы в ответ на этот сигнал, тоже вспыхнул огонек, и шлюпка направилась к нему. Теперь Маргарет решилась спросить у гребцов о состоянии ее отца, но матрос, их проводник, попросил ее не отвлекать их разговорами, так как течение здесь очень быстрое и шлюпка может перевернуться. Маргарет замолчала, терзаемая сомнениями и страхом, следя за огоньком, который все приближался, пока наконец не оказался над их головами.
— Это «Маргарет»? — крикнул проводник, и опять чей-то голос ответил утвердительно.
— Тогда доложите господину Кастеллу, что его дочь здесь! — прокричал проводник, и тут же с борта был сброшен канат и шлюпку накрепко привязали к трапу.
Бетти, оказавшаяся ближе всех к трапу, вступила на него. Впрочем, проводник опередил ее, быстро взбежав по деревянным ступеням.
Сильная и ловкая Бетти последовала за ним. Следующей стала подниматься Маргарет. Когда Бетти очутилась на палубе, ей показалось, что она слышит испанскую речь, и она разобрала одну фразу: «Дурак! Зачем ты привез обеих? «, но ответа она не расслышала. Она повернулась, подала руку Маргарет, и они вместе пошли к мачте.
— Проводите меня к моему отцу, — сказала Маргарет.
Проводник тут же отозвался:
— Да, да, госпожа, вот сюда. Только идите одна: появление вас обеих может разволновать его.
— Нет, — ответила Маргарет, — моя кузина пойдет со мной. — И она крепко схватила Бетти за руку.
Пожав плечами, матрос повел их вперед. Маргарет успела заметить, что одни матросы ставили парус, другие, распевая какую-то странную, дикую песню, начали вращать нечто похожее на ворот. Но в этот момент они добрались до каюты. Дверь за ними захлопнулась. За столом сидел мужчина, над его головой висела лампа. При их появлении мужчина встал, повернулся к ним и поклонился — это был д'Агвилар.
Бетти остановилась как вкопанная, она ожидала встречи с ним, но не здесь и не при таких обстоятельствах. Ее глупенькое сердце так заколотилось при виде д'Агвилара, что, казалось, она сейчас задохнется от волнения. Она только смутно догадывалась, что произошла какая-то ошибка, и думала, как он теперь объяснит все Маргарет, чтобы она уехала и оставила их — Бетти и д'Агвилара — вдвоем. Бетти даже быстро оглядела каюту, чтобы выяснить, где ожидает священник. Увидев сзади дверь, она решила, что, конечно, он спрятан там.
У Маргарет при виде д'Агвилара вырвался короткий, сдавленный крик, но уже в следующую секунду, как храбрая женщина — одна из тех натур, которые становятся крепче перед лицом испытаний, — она выпрямилась и спросила низким, гневным голосом:
— Что вы здесь делаете? Где мой отец?
— Сеньора, — покорно ответил он, — вы находитесь на борту моей каравеллы «Сан Антонио», а что касается вашего отца, то он либо на своем корабле «Маргарет», либо, что более вероятно, дома в Холборне.
При этих словах Маргарет отпрянула назад.
— Не упрекайте меня, — торопливо продолжал д'Агвилар, — я скажу вам всю правду. Во-первых, не волнуйтесь за своего отца: с ним не случилось никакого несчастья, он цел и невредим. Простите меня за причиненное вам волнение, у меня не было другого пути. Эта история — всего лишь ловушка, одна из хитростей, к которым прибегает любовь… — Он приостановился, потрясенный выражением лица Маргарет.
— Ловушка! Хитрость! — чуть слышно пробормотала она; глаза ее метали молнии. — Ну, я отплачу вам за вашу хитрость!
Д'Агвилар увидел, что Маргарет выхватила кинжал, спрятанный у нее на груди, и сейчас бросится на него. Он не мог сдвинуться с места: эти страшные глаза приковали его. Еще секунда — и стальное лезвие пронзило бы его сердце, но Бетти с криком бросилась к Маргарет и обхватила ее своими сильными руками.
— Послушай, ты не поняла его. Это меня он добивается, а не тебя. Он любит меня, а я люблю его и готова выйти за него замуж. Ты уедешь обратно домой.
— Отпусти меня, — сказала Маргарет таким тоном, что у Бетти руки сами опустились. Маргарет осталась стоять, сжимая в руке кинжал. — А теперь, — обратилась она к д'Агвилару, — говорите правду, и поскорее, Что означают ее слова?
— Ей лучше знать, — смущенно ответил д'Агвилар. — Ей нравится рядиться в эту паутину тщеславия.
— Которую вы, может быть, сами сплели. Говори, Бетти!
— Он ухаживал за мной, — всхлипнула Бетти, — и я влюбилась в него. Он обещал жениться на мне. Только сегодня он прислал мне письмо. Вот оно.
— Читай! — сказала Маргарет. И Бетти повиновалась.
— Значит, это ты предала меня, — произнесла Маргарет, — ты, моя кузина, которую я приютила и так любила!
— Нет! — закричала Бетти. — Я не думала предавать тебя, скорее я бы умерла! Я на самом деле поверила, что с твоим отцом несчастье и что, пока ты будешь с ним, этот человек сумеет похитить меня.
— Что вы на это скажете? — обратилась Маргарет к д'Агвилару все тем же ледяным голосом. — Вы предлагали и мне и ей вашу любовь и заманили сюда нас обеих. Что вы можете сказать?
— Только то, — ответил д'Агвилар, стараясь выглядеть мужественно,
— что эта женщина глупа, я играл на ее тщеславии ради того, чтобы быть рядом с вами.
— Ты слышишь, Бетти, ты слышишь? — вскричала Маргарет с коротким и страшным смехом.
Но Бетти только стонала…
— Я люблю вас и только вас одну, — продолжал д'Агвилар. — Вашу кузину я отправлю на берег. Я совершил этот грех, потому что не мог совладать с собой. Мысль, что завтра вы станете женой другого, сводила меня с ума, и я пошел на все, чтобы вырвать вас из его объятий. Разве я не поклялся вам, — добавил он, пытаясь перейти на свою обычную галантную манеру, — что ваш образ будет сопровождать меня в Испанию, куда мы и плывем сейчас?
Как раз когда он произнес эти слова, корабль слегка накренился под ветром. Маргарет ничего не ответила. Она играла маленьким кинжалом и наблюдала за д'Агвиларом. Глаза ее блестели холоднее стали.
— Убейте меня, если хотите, — вновь заговорил д'Агвилар, и в голосе его прозвучали любовь и стыд. — Тогда я освобожусь от страданий.
При этих словах Маргарет как будто проснулась. Теперь она заговорила с ним совершенно иным голосом — размеренным и ледяным.
— Нет, — сказала она, — я не оскверню своих рук вашей кровью. К чему мне лишать бога его мести? Но если вы попытаетесь дотронуться до меня или разлучить меня с этой бедной женщиной, которую вы обманули, тогда я убью, но не вас, а себя. И я клянусь вам, что мой призрак будет сопровождать вас в Испанию и из Испании дальше, в ад, который ожидает вас. Слушайте меня, Карлос д'Агвилар, маркиз Морелла, ведь я знаю, что вы верите в бога и боитесь его гнева. Так я призову на вас мщение всемогущего. Оно обрушится на вас, будете ли вы бодрствовать или спать, любить или ненавидеть, будете ли вы живы или умрете. Творите зло, но все равно это напрасно. Буду ли я жива или мертва, каждое унижение, какое вы заставите меня испытать, каждое несчастье, которое причинили или причините моему возлюбленному, моему отцу и этой женщине, возместится вам в миллион раз на этом свете и на том. Вы все еще хотите, чтобы я сопровождала вас в Испанию, или вы отпускаете меня?
— Я не могу, — хрипло ответил д'Агвилар, — слишком поздно.
— Ну что ж, я буду сопровождать вас в Испанию, я и Бетти Дин, и с нами вместе месть всемогущего бога, которая нависла над вами. В одном вы должны быть уверены: я ненавижу вас, я презираю вас, но я не боюсь вас. Уходите.
Д'Агвилар, спотыкаясь, вышел из каюты, и обе женщины услышали, как захлопнулась за ним дверь.
ГЛАВА X. ПОГОНЯ
Приблизительно в то самое время, когда Маргарет и Бетти поднялись на борт «Сан Антонио», Питер Брум со своими слугами подъехал к дому в Холборне. Питера на час с лишним задержала грязь на дороге. Целый месяц мечтал он об этой минуте, как может мечтать человек, уверенный, что его хорошо встретят. Ведь на следующий день состоится его свадьба с прекрасной и любимой женщиной. Он представлял себе, как Маргарет будет поджидать его у окна, как она бросится к двери, как он спрыгнет с коня и обнимет ее — на глазах у всех. Кого им теперь стыдиться, если завтра они станут мужем и женой!
Но Маргарет у окна не было; во всяком случае, он не увидел ее — было темно. В окнах даже не горел свет. Старый дом был мрачен. Тем не менее Питер действовал так, как представлял себе в мечтах. Он соскочил с коня, подбежал к двери и хотел распахнуть ее, но не смог — дверь была заперта. Тогда он принялся колотить в нее рукояткой меча, пока наконец кто-то не подошел и не отпер замок. Это оказался незнакомый ему слуга, недавно принятый в дом, тот самый, которому Маргарет оставила письмо. В руке он держал фонарь.
При виде его у Питера похолодело сердце.
— Кто ты? — спросил он и, не ожидая ответа, продолжал: — Где господин Кастелл и госпожа Маргарет?
Слуга сообщил, что хозяин еще не вернулся с корабля, а леди Маргарет около трех часов назад уехала вместе с Бетти и матросом — все верхом.
— Она, наверное, поехала встречать меня и мы разминулись в темноте, — предположил Питер.
Тогда слуга спросил его, не он ли Питер Брум, так как для него оставлено письмо.
— Да, да! — крикнул Питер и вырвал письмо из рук слуги. Он приказал ему закрыть дверь и держать фонарь так, чтобы можно было читать. Он сразу узнал почерк Маргарет.
— Странная история! — пробормотал он, дочитав письмо, — я должен ехать.
Питер уже направился к двери и протянул руку, чтобы открыть ее, как вдруг дверь распахнулась и вошел Кастелл, здоровый и невредимый.
— Здравствуй, Питер! — весело закричал он. — Я знал, что ты уже здесь, я увидел лошадей, но почему ты не с Маргарет?
— Потому что Маргарет уехала к вам. Вы ведь чуть ли не смертельно ранены — так, во всяком случае, говорится в этом письме.
— Уехала ко мне? Смертельно ранен? Дай-ка сюда письмо. Или нет, лучше прочитай сам, я ничего не вижу.
Питер прочитал вслух.
— Здесь какой-то заговор, — с трудом выговорил Кастелл, когда письмо было окончено, — и думаю, что это дело рук испанца, или Бетти, или их обоих. Ну-ка, парень, выкладывай нам все, что ты знаешь, да поскорее, если хочешь сохранить шкуру.
— Да я что! — торопливо ответил слуга и рассказал всю историю с приездом матроса.
— Беги скажи людям, чтобы привели обратно лошадей, — прервал его рассказ Кастелл. — А ты, Питер, приди в себя и выпей стакан вина. Нам обоим это не помешает. Эй, есть здесь кто-нибудь из моих слуг? — крикнул он.
Кастелл приказал прибежавшим слугам перекусить и выпить чего-нибудь для подкрепления и, пока они пили, рассказал им о том, что похищена их хозяйка Маргарет и что нужно отправиться в погоню. Послышался шум — это привели лошадей из конюшни. Все выбежали на улицу, вскочили в седла и помчались по дороге в Тильбюри. Они поскакали той же дорогой, какой ехала Маргарет, не потому, что они подозревали об этом, а потому, что она была самой короткой.
Однако лошади были усталые, ночь темная, шел дождь, и, когда они еще только подъезжали к Тильбюри, в какой-то церкви часы пробили три. Они как раз проезжали мимо той маленькой пристани, где Маргарет и Бетти садились в шлюпку. Питер и Кастелл скакали рядом, впереди всех, в полном молчании — говорить было не о чем, — как вдруг их окликнул знакомый голос. Это был голос грума Томаса.
— Я увидел головы ваших коней на фоне неба, — объяснил он, — и узнал их.
— Где твоя хозяйка? — в один голос спросили Питер и Кастелл.
— Уехала, уехала с Бетти Дин в шлюпке вон от той пристани. Они поплыли, мне кажется, к» Маргарет». Я отвел лошадей на постоялый двор, как мне приказали, и вернулся, чтобы подождать их. Это было несколько часов назад. С тех пор я не видел ни одной живой души и ничего не слышал, кроме шума ветра и воды, пока не услышал топот ваших коней.
— Надо ехать в Тильбюри и достать шлюпку, — сказал Кастелл. — Мы должны успеть на «Маргарет» раньше, чем она снимется с якоря. Может быть, женщины — на борту «Маргарет»?
— Если так, то я думаю, что их туда завлекли испанцы. Я уверен, что в этой шлюпке были по англичане, — сказал Томас.
Он бежал рядом с лошадью Кастелла, держась за стремя.
Кастелл ничего не ответил. Питер громко вздохнул — он тоже был уверен, что это дело рук испанцев.
Спустя час, когда уже брезжил рассвет, они поднимались на борт «Маргарет», как раз в тот момент, когда на ней выбирали якорь. Разговор с капитаном «Маргарет» Джокобом Смитом подтвердил их самые худшие опасения. Ни одна шлюпка не покидала судно, ни Маргарет, ни Бетти здесь не появлялись. Но часов шесть назад мимо них проплыла испанская каравелла «Сан Антонио», которая стояла выше их по течению. Более того: два лодочника, привозившие на «Маргарет» свежее мясо, рассказали, что, когда они привезли на «Сан Антонио» трех овец и домашнюю птицу, как раз перед отплытием, они видели, как две высокие женщины поднимались по трапу, и слышали, как одна из них сказала по-английски: «Проводите меня к моему отцу».
Теперь они знали всю правду и смотрели друг на друга, онемев от отчаяния. Первым нашел в себе силы заговорить Питер.
— Я должен ехать в Испанию — разыскать свою невесту, — медленно произнес он, — если она жива, и убить похитителя. Отправляйтесь домой, мистер Кастелл.
— Мои дом там, где моя дочь! — сердито отозвался Кастелл. — Я тоже еду.
— В Испании вам может угрожать опасность, если мы вообще туда доберемся, — многозначительно заметил Питер.
— Даже если бы там был вход в ад, я все равно поеду, — упрямо заявил Кастелл, — почему бы и мне не поохотиться за дьяволом?
— Мы сделаем это вдвоем, — сказал Питер и протянул Кастеллу руку.
Это была клятва отца и возлюбленного следовать за той, которая была всем для них, до тех пор, пока смерть не прервет их поиски.
Подумав немного, Кастелл приказал собрать всю команду на палубе. Когда матросы во главе с офицерами и слуги, окружавшие Питера, собрались, Кастелл обратился к ним. Речь его была краткой. Он рассказал о злодейском похищении и заявил, что намеревается вместе с Питером Брумом, у которого украли невесту, — сегодня она уже была бы его женой, — преследовать похитителей. С помощью господа бога они надеются спасти Маргарет и Бетти. Кастелл добавил, что он хорошо понимает, что это предприятие опасное, поскольку дело может дойти до сражения, а он не хочет требовать от кого бы то ни было, чтобы они рисковали своей жизнью против своего желания, тем более что они нанимались для торгового плавания, а не для сражений. Тем, кто согласится последовать за ним, он обещает в случае благополучного исхода двойное жалованье и подарок и готов дать им в этом расписку. Те, кто не хочет, должны сейчас же покинуть судно.
Когда Кастелл кончил, матросы — их было около тридцати человек — посоветовались между собой и с капитаном Джекобом Смитом, отважным человеком лет пятидесяти, и заявили, что они принимают предложение. Отказался только один — молодой парень, совсем недавно женившийся. Все остальные поклялись, что они доведут это дело до конца, хорошего или плохого, потому что все они англичане и не любят испанцев. А от дерзости д'Агвилара у них закипела кровь. Кроме того, из двенадцати слуг, прискакавших с Кастеллом из Лондона, шесть человек, хотя они почти все не были моряками, попросились, чтобы их тоже взяли, потому что они любят Маргарет, своего хозяина и Питера. Решено было взять их. Остальных шестерых слуг отправили на берег, приказав отвезти письма Кастелла к его друзьям, агентам и приказчикам. В этих письмах Кастелл поручал им заботу о своих делах, землях и домах на время его отсутствия. Кроме того, они увезли с собой краткое завещание, подписанное Кастеллом и должным образом засвидетельствованное, в котором он оставлял все свое имущество, включая и прибыли от незавершенных сделок, а также имущество, не включенное в завещание, Маргарет и Питеру, или тому из них, кто окажется жив, или их наследникам. Если же таковых не окажется, то все свое состояние он завещал на устройство больниц для бедных.
После этого остающиеся распрощались с товарищами и грустные отправились на берег. В ту же минуту якорь был поднят, и свежий утренний ветер наполнил паруса «Маргарет».
В десять часов они благополучно миновали НорБепк и встретили здесь рыбаков, которые рассказали им, что шесть с лишним часов назад они видели, как «Сап Антонио» прошла к выходу в Ламанш. При этом они заметили двух женщин, которые стояли на палубе, держась за руки, и не отрываясь смотрели в сторону берега. Теперь Кастелл и Питер Брум были уверены, что ошибки быть не могло. Изменить что-либо они были не в силах, и им, измученным горем и дорогой, не оставалось ничего другого, как поесть и отправиться в каюту спать.
Едва Питер улегся, как он вспомнил, что в этот час он должен был стоять в церкви рядом с Маргарет, которая теперь находилась во власти испанца, — и Питер поклялся страшной клятвой, что д'Агвилар заплатит ему за весь позор и страдания. И действительно, если бы его враг мог в эту минуту видеть лицо Питера, он бы, вероятно, содрогнулся — Питер был не из тех людей, которым можно безнаказанно причинять зло; он не умел прощать, да и оскорбление, нанесенное ему, было слишком жестоким.
В течение четырех дней держался попутный ветер, и «Маргарет» плыла по Ламаншу, надеясь нагнать испанца. Но «Сан-Антонио» была быстрая каравелла, водоизмещением в двести пятьдесят тонн, с большим количеством парусов — на ней было четыре мачты, — а «Маргарет», хотя и была хорошим судном, имела только две мачты и не могла соперничать с «Сан Антонио». А может быть, они просто потеряли «Сап Антонио» в море…
Па четвертый день, когда они миновали Лизард
[11] и ползли довольно медленно, подгоняемые легким бризом, сторожевой матрос крикнул, что видит впереди корабль, попавший в штиль. Питер, у которого были ястребиные глаза, вскарабкался на мачту, чтобы взглянуть на неизвестный корабль. Он сообщил, что, судя по очертаниям и оснастке, это каравелла. Но та ли это каравелла, которую они ищут, он не мог сказать, так как ни разу не видел «Сан Аитонио». Тогда уже поднялся наверх сам капитан Смит и через несколько минут, спустившись, заявил, что вне всякого сомнения это «Сан Антонио».
Это сообщение вызвало суматоху на борту «Маргарет». Матросы осматривали свои мечи, луки и арбалеты. Луков было много, но зато бомбарды и пушки отсутствовали. Они редко встречались на торговых судах. План был выработан такой: подойти к борту «Сан Антонио» и взять ее на абордаж. Так они надеялись отбить Маргарет. Конечно, они рисковали тем, что на их головы обрушится гнев короля, поскольку его весьма мало волнует похищение двух английских женщин, но это их не останавливало.
Менее чем в полчаса все было готово, и Питер, шагая по палубе, выглядел счастливым в первый раз с тех пор, как выехал из Дедхэма. Легкий ветерок продолжал подгонять их вперед. С помощью этого ветерка они постепенно подошли на расстояние полумили от «Сан Антонио». По тут ветер упал, и оба корабля замерли с обвисшими парусами. Однако сила прилива пли какого-нибудь течения сближала их, и к наступлению темноты между ними оставалось не более четырехсот футов. Англичане надеялись, что до рассвета они подойдут вплотную и смогут высадиться на «Сан Антонио» при свете луны.
Но этому не суждено было сбыться — около девяти часов тяжелые тучи обложили небо, с берега поднялся сильный ветер, и, когда наступил рассвет, с «Маргарет» были видны лишь верхушки мачт каравеллы, быстро уходившей на юг.
Прошли две долгие недели, прежде чем они опять увидели «Сан Антопио». В течение всего пути от Уэссана
[12] через Бискайский залив дули легкие и изменчивые ветры, но, когда они миновали мыс Финистер
[13], с северо-востока налетел шквал, который погнал «Маргарет» быстрее. На второй день этого шторма после захода солнца «Маргарет» вынырнула из тумана, смешанного с дождем, и в миле от нее матросы увидели «Сан Антонио». На «Маргарет» началось ликование — теперь англичане убедились, что «Сан Антонио» не зашла ни в один из портов севера Испании. Хотя порт назначения каравеллы был Кадикс, но на «Маргарет» опасались, что испанцы могут укрыться в одном из северных портов. Вскоре вновь хлынул ливень и скрыл от них «Сан Антонио».
Пока «Маргарет» шла вдоль берегов Португалии, погода становилась день ото дня все хуже и хуже, и, когда они миновали мыс Сан-Висенти
[14] и повернули к Кадиксу, начался сильный шторм. Во время этого шторма они в третий раз увидели «Сан Антонио», борющегося с волнами. Теперь уже до конца путешествия, за исключением часов ночной темноты, англичане не теряли из виду «Сан-Антонио». На следующий день «Маргарет» еще приблизилась к испанской каравелле, которая, лавируя, пыталась прорваться в Кадикс. Но в борьбе со штормом «Сан Антонио» потеряла одну из своих мачт. Кроме того, испанцы видели, что «Маргарет», которая лучше справлялась со штормом, вскоре нагонит их. Тогда они изменили свой план, и «Сан Антонио» направилась в Гибралтарский пролив.
Преследуя «Сан Антонио», «Маргарет» прошла мимо Тарифского мыса, африканский берег остался с правого борта, миновала Альхесирасскую бухту — «Сан Антонио» не пыталась зайти в нее, — прошла мимо древней серой скалы Гибралтара, на которой горели сигнальные огни, и под вечер оказалась в Средиземном море на расстоянии меньше мили от «Сан Антонио».
Здесь шторм был еще ужаснее, и матросы с трудом справлялись с обрывками парусов. К утру «Маргарет» потеряла одну из своих мачт. Это была кошмарная ночь — никто не знал, доживет ли он до утра. Сердца Кастелла и Питера разрывались к тому же еще от страха за испанскую каравеллу — ведь она могла пойти ко дну и унести с собой Маргарет. Однако, когда наступил рассвет, они увидели впереди по правому борту «Сан Антонио», правда, в очень тяжелом состоянии. К полудню англичане были уже в двухстах ярдах от «Сан Антонио», так что можно было различить испанских матросов, перебирающихся по ее высокому юту и по корме. Кроме того, они увидели нечто гораздо более важное — две женщины выбежали из каюты, и одна из них стала махать им белым платком. Женщин тут же затащили обратно, но Кастелл и Питер убедились теперь, что Маргарет и Бетти живы и знают, что их пытаются спасти.
Спустя некоторое время они увидели вспышку на борту «Сан Антонио», и, прежде чем до них долетел звук выстрела, большое чугунное ядро упало на палубу «Маргарет»; отскочив, оно ударило в грудь матроса, стоявшего рядом с Питером, и сбросило его в море. Это на «Сап Антонио» выстрелили из бомбарды, но так как больше выстрелов не последовало, англичане решили, что орудие при выстреле, наверно, разорвалось или поломало крепления.
Вскоре после этого «Сан Антонио», две мачты которой были сломаны, попыталась изменить курс и направилась было в Малагу, дома которой были видны у подножия снежных вершин Сиерры. Но сделать это испанцам не удалось: как только каравелла становилась под ветер, «Маргарет» оказывалась прямо перед ней, и, пока испанские матросы были заняты парусами, все свободные от работы англичане под командой Питера принимались обстреливать их из луков и арбалетов. Хотя вздымающаяся палуба «Маргарет» была отнюдь не лучшей площадкой для стрельбы, а ветер мешал правильному полету стрел, им удалось убить троих и ранить восемь или десять матросов из команды «Сан Антонио», заставив их выпустить из рук тросы; в результате этого каравеллу опять закружило ураганом.
На высокой площадке у кормовой мачты, обхватив ее рукой, стоял д'Агвилар, отдавая приказы своей команде. Питер приладил стрелу к тетиве лука, ожидая, пока «Маргарет» хоть на мгновенье задержится на гребне волны, прицелился и выстрелил.
Однако волна подняла «Маргарет» чуть выше, и, когда д'Агвилар отскочил от мачты, стрела Питера вонзилась в дерево и пригвоздила к нему его большую бархатную шляпу. Питер скрипнул зубами от гнева и разочарования, тем более что корабли опять отнесло друг от друга и удобный момент был упущен.
— Пять раз из семи попадал я стрелой в бычье кольцо с пятидесяти шагов, чтобы завоевать значок победителя деревни, — с огорчением пробормотал он, — а теперь не могу подстрелить негодяя, чтобы спасти мою любимую от позора! Поистине бог лишил меня своей милости!
Всю вторую половину дня они обстреливали испанцев, как только представлялась такая возможность. Испанцы отвечали тем же, по потери у обеих сторон были незначительны. Однако англичане заметили, что «Сан Антонио» получила течь, так как судно все глубже погружалось в воду.
Испанцы тоже заметили это и, понимая, что у них остается только два выхода — выброситься на берег или пойти ко дну, — во второй раз изменили курс и под градом английских стрел пошли в маленькую бухту Калахонда, в которой находился порт Мотриль, так как здесь до берега было совсем недалеко.
— В этой бухте расположен испанский город, — сказал капитан Джекоб Смит, стоя рядом с Кастеллом и Питером. — Я здесь когда-то бросал якорь. Если «Сап Антонио» доберется туда, прощай паша леди — они увезут ее в Гранаду. До Гранады всего тридцать миль через горы, а там маркиз Морелла всемогущ, в Гранаде его дворец. Что будем делать, хозяин? Через пять минут испанец опять будет против носа «Маргарет». Будем таранить и пытаться захватить женщин или допустим, чтобы их увезли в Гранаду и откажемся от погони?
— Пи за что! — воскликнул Питер. — Есть еще один путь: войти вслед за ними в бухту и напасть на них на берегу.
— Чтобы оказаться среди сотен испанцев и дать перерезать себе глотки? — хладнокровно добавил капитан.
— А если мы протараним их, — спросил Кастелл, все это время находившийся в глубокой задумчивости, — нам разве не грозит опасность утонуть вместе с ними?
— Возможно, — ответил Смит, — но паша «Маргарет» построена из английского дуба, и у нее крепкий нос. Думаю, что этого не случится. А «Сан Антонио» пойдет ко дну тут же, она и так уже близка к этому. Беда в том, что женщины, наверно, заперты в каюте, чтобы наши стрелы не могли поразить их, и они утонут вместе с судном.
— Есть другой план, — решительно сказал Питер: — взять их на абордаж и высадиться на каравеллу. Так я и сделаю.
Капитан, плотный мужчина с широким лицом, выражение которого никогда не менялось, поднял брони — это был единственный признак удивления.
— Как, — спросил он, — при такой волне? Я сражался в нескольких воинах, но такой штуки не видывал.
— Ну, так увидите ее сейчас, если я найду хоть дюжину человек, которые пойдут со мной, — заявил Литер с мрачной решимостью. — А что же? Неужели я буду смотреть, как мою невесту увозят у меня из-под носа, и не попытаюсь снасти ее? Лучше уж я доверюсь судьбе и пойду на риск. А если умру, значит, так суждено, и я умру как мужчина. Другого пути нет.
Он обернулся и громко позвал:
— Кто пойдет со мной на абордаж испанца? Тем, кто останется жив, я обещаю, что они проживут остаток своих дней в довольстве, а кто погибнет — завоюет славу и блаженство на небесах.
Матросы с сомнением посмотрели на высокие гребни волн, вздымавшихся вокруг, на медленно погружавшееся в воду испанское судно и ничего не ответили. Тогда Питер продолжал:
— У нас нет другого выхода. Если мы протараним этот корабль, он потонет. Тогда как мы спасем женщин? Если его не трогать — скорее всего, он сам пойдет ко дну, и тогда мы все равно не спасем женщин. Может быть, испанцы и сумеют высадиться на берег, но тогда они увезут женщин в Гранаду, и вряд ли мы сможем вырвать их из рук мавров или из-под власти испанского короля. Но если мы захватим каравеллу, мы можем спасти женщин прежде, чем она пойдет ко дну или достигнет берега. Кто пойдет со мной?
— Я, сынок, — сказал старик Кастелл. — Я пойду.
Питер с удивлением посмотрел на него:
— Вы? В ваши годы?
— Да, в мои годы. Почему бы и нет? Что мне терять?
Тогда, словно устыдившись своих колебаний, вперед вышел здоровенный матрос и сказал, что он готов резать испанских воров в дурную погоду так же, как и в хорошую. Вслед за ним вышли слуги Кастелла, потом еще матросы, пока наконец почти половина экипажа — человек двадцать — не заявила, что они готовы на это рискованное предприятие. Питер вынужден был крикнуть: «Довольно!» Капитан Смит тоже выразил желание присоединиться к группе смельчаков, но тут запротестовал Кастелл, заявив, что капитан не должен покидать свой корабль.
«Маргарет» готовилась пересечь путь «Can Антонио», медленно описывавшей круг и напоминавшей раненого лебедя. Участники абордажа готовили свои мечи и ножи — луки здесь были уже бесполезны. Кастелл тем временем отдавал распоряжения капитану. Он приказал ему, в случае если их убьют или захватят в плен, уходить в Севилью и там передать судно со всем товаром компаньонам Кастелла. При этом капитан должен просить их от имени Кастелла сделать все от них зависящее, чтобы добиться освобождения Маргарет и Бетти, если они будут живы, и наказания д'Агвилара — маркиза Морелла за его преступления. Если на все это потребуются деньги, то можно использовать сумму, вырученную от продажи судна и товаров.
Отдав эти распоряжения, Кастелл позвал одного из своих слуг и приказал принести легкий стальной панцирь. Питер решил не надевать никаких доспехов, так как они были слишком тяжелы; он облачился в куртку из буйволовой кожи, достаточно прочную, чтобы выдержать удар мечом. Другие надели такие же куртки и стальные шлемы, в изобилии имевшиеся на судне.
Между тем «Сан Антонио», совершив круг, приближалась ко входу в бухту, стараясь держаться от «Маргарет» не менее чем в пятидесяти ядрах. Приказав поднять небольшой парус, капитан Смит взялся за штурвал «Маргарет» и направил ее наперерез «Сан Антонио». Смельчаки во главе с Питером и Кастеллом собрались около бушнрита, укрылись там и стали ожидать.
ГЛАВА XI. ВСТРЕЧА В МОРЕ
Еще минуту или две «Сан Антонио» продолжала идти своим курсом, пока испанцы не догадались о замысле своих противников. Увидев, что нос «Маргарет» вотвот врежется в борт «Сан Антонио», они налегли на штурвал, и каравелла отклонилась в сторону. В результате «Маргарет», вместо того чтобы столкнуться с «Сан Антонио», пошла рядом, обдирая ей обшивку борта. Несколько секунд они плыли, сцепившись таким образом, и, прежде чем волны оторвали их друг от друга, с борта «Маргарет» полетели абордажные крючья, один из них зацепился, и оба судна сблизились носами. Бушприт
[15] «Маргарет» оказался нависшим над верхней палубой «Сан Антонио».
— А теперь вперед! — скомандовал Питер. — За мной!
Он подбежал к бушприту и полез по нему. Это было опасное предприятие. Огромная волна подняла Питера высоко в воздух, в следующий момент он уже падал вниз, пока массивный брус бушприта «Маргарет» не обрушился на палубу «Сан Антонио» с такой силон, что Питер чуть не вылетел, как камень из пращи. Однако ему удалось удержаться. Он схватился за обрывок снасти, болтавшейся на конце бушприта, подобно бичу, свисавшему с рукоятки, и соскользнул по нему вниз. Ветер швырял Питера из стороны в сторону: судно, вздымаясь на волнах, подкидывало его высоко в воздух. Палуба «Сан Антонио» вздымалась и опадала, как живое существо, она была совсем близко — не более дюжины футов под ним, — и Питер, выпустив конец снасти, упал на площадку у передней мачты. Он не разбился. Вскочив на ноги, Питер добежал до разбитой мачты, обхватил ее левой рукой, а другой выхватил меч.
В следующее мгновение — каким образом, он никогда не мог этого вспомнить, — рядом с ним оказался Кастелл, а затем еще двое людей с «Маргарет», однако один из них скатился с палубы в море. Как раз в эту минуту железная цепь абордажного крюка лопнула, и «Маргарет» швырнуло в сторону. Подойти к «СанАнтонио» она уже не могла. Они трое остались во власти споих врагов. Однако испанцев не было видно — никто из них не осмеливался стоять на этой высокой площадке — фальшборт
[16] был уничтожен, когда бушприт «Маргарет», словно дубинка какого-нибудь гиганта, ударил по каравелле и снес его.
Трое смельчаков стояли, цепляясь за мачту и ожидая своего конца, ибо теперь их друзья были в ста ядрах от них и они понимали, что попали в отчаянное положение. С разных концов каравеллы на них обрушился ливень стрел. Одна пронзила горло матросу, он упал, схватившись за нее руками, и тут же скатился в волны; другая стрела попала в руку Кастелла — его меч выпал и отлетел в сторону. Питер схватил стрелу за конец, сломал ее пополам и вытащил, но правая рука Кастелла была уже беспомощна, а левой рукой он цеплялся за обломок мачты.
— Мы сделали все, что могли, сынок, — крикнул Кастелл, — и проиграли.
Питер заскрипел зубами и бросил вокруг отчаянный взгляд — говорить он не мог. Что ему было делать? Оставить Кастелла, броситься к центру корабля и там погибнуть или остаться на месте и здесь умереть? Нет, он не даст прикончить себя, как птицу на ветке, он погибнет сражаясь.
— Прощайте! — крикнул он сквозь шум бури. — Боже, спаси наши души!
Дождавшись, когда корабль хоть на секунду принял устойчивое положение, Питер бросился к корме, добежал до трапа, ведущего на нижнюю палубу, спустился по нему и остановился, держась за перила.
Картина, которую он видел, была довольно странной. Вокруг, вдоль фальшбортов, стояли испанцы, с интересом наблюдая за ним. А в нескольких шагах от него, прислонившись к мачте, стоял д'Агвилар. Он поднял руку, в которой не было никакого оружия, и обратился к Питеру:
— Сеньор Брум! Не двигайтесь: еще один шаг, и вы будете мертвы. Выслушайте меня сначала, а потом поступайте, как вы решите. Пока я говорю, я могу не опасаться вашего меча?
Питер утвердительно кивнул, и д'Агвилар подошел ближе, потому что даже в этом, более закрытом месте трудно было расслышать что-либо из-за рева урагана.
— Сеньор, — сказал Питеру д'Агвилар, — вы очень храбрый человек и совершили такой подвиг, какого никто из нас никогда не видел. Я хочу спасти вас, если смогу. Я причинил вам зло — меня толкнули на это любовь и ревность, — и поэтому я опять-таки хочу пощадить вас. Нападать на вас сейчас будет не чем иным, как убийством, а я, кем бы я ни был, не убийца. Прежде всего успокойтесь. Властительница наших сердец находится здесь, на борту. Но не бойтесь, я не причинил ей никакого вреда и не причиню. Этого не сделает и никто другой, пока я жив. Не говоря уже об иных причинах, я не хочу оскорблять женщину, которая, я надеюсь, станет моей женой по своей собственной воле. Я увез ее в Испанию, чтобы она не могла стать вашей женой. Поверьте мне, сеньор, я так же не хочу насиловать волю женщины, как не хочу стать убийцей ее возлюбленного.
— А не так ли вы поступили, когда похитили ее из дома при помощи подлой выдумки? — с яростью закричал Питер.
— Сеньор, я поступил плохо по отношению к ней и к вам всем, но я возмещу вам это.
— Возместите? Каким образом? Вернете мне Маргарет?
— Нет, этого я сделать не могу. Даже если она сама захочет этого, в чем я сомневаюсь. Никогда, пока я жив!
— Приведите ее сюда, и пусть она при мне скажет, хочет она вернуться или нет! — закричал Питер в надежде, что Маргарет услышит его.
Однако д'Агвилар только улыбнулся и отрицательно покачал головой.
— Этого я тоже не могу сделать, — сказал он, — это причинило бы ей боль. Тем не менее, сеньор, я готов расплатиться с вами и с вами, сеньор, — и д'Агвилар поклонился Кастеллу, который, не замеченный Питером, сполз по трапу и теперь стоял позади него, глядя на д'Агвилара с холодной ненавистью. — Вы причинили нам огромные разрушения, так ведь? Вы охотились за нами на море и убили немало наших людей. А теперь вы пытались захватить наше судно и перерезать нас, но господь бог помешал вам. Так что ваши жизни уже принадлежат нам, и никто не осудит нас, если мы вас убьем. Однако я пощажу вас обоих. Если окажется возможным, я верну вас обратно на борт «Маргарет», если же нет, вас высадят на берег, и вы будете вольны идти куда вам угодно. Вот так я расплачусь с вами, и никто не сможет меня в чем-нибудь упрекнуть.
— Вы что же, считаете меня таким же негодяем, как вы сами? — с презрительным смехом спросил Питер. — Я не уйду живым с этого корабля, если моя невеста Маргарет не уйдет
отсюда вместе со мной.
— В таком случае, сеньор Брум, я боюсь, что вы уйдете отсюда мертвым, как, впрочем, возможно, и все мы, если нам не удастся быстро высадиться на берег. Судно полно воды. Однако, зная ваш характер, я ожидал от вас именно этих слов и готов сделать вам другое предложение, от которого, я уверен, вы не откажетесь. Сеньор, наши мечи одинаковой длины, не скрестить ли нам их? Я испанский гранд, маркиз Морелла, и для вас, надо думать, не будет бесчестьем сразиться со мной.
— Я в этом не уверен, — ответил Питер, — потому что я выше вас — я честный англичанин, не занимающийся кражей женщин. Тем не менее я с радостью буду сражаться с вами, на море или на суше, когда бы и где бы мы ни встретились, пока один из нас не отправится на тот свет. Однако какова будет ставка в этой игре и могу ли я быть уверен, что эти люди,
— и Питер указал на внимательно слушавших матросов, — не нанесут мне удар в спину?
— Я уже сказал вам, сеньор, что я не убийца, а это было бы предательским убийством. Что касается ставки, то победителю будет принадлежать Маргарет. Если вы убьете меня, то я от имени своих людей клянусь, что вы с ней и ее отцом уедете в полной безопасности. Если же я убью вас, вы оба должны сейчас поклясться, что она останется со мной и ко мне не будет больше никаких претензий. А женщине, сопровождающей ее, я дам свободу.
— Нет, — в первый раз заговорил Кастелл, — я настаиваю на своем праве драться также с вами, когда рука моя заживет.
— Я отказываюсь, — высокомерно ответил д'Агвилар, — я не могу поднять свой меч на старика, отца девушки, которая станет моей женой. Более того: я не могу сражаться с купцом и евреем. Пет, нет, не отвечайте мне, чтобы все здесь присутствующие не запомнили ваших враждебных слов. Я буду великодушен и освобожу вас от клятвы. Делайте все что хотите против меня и предоставьте мне после этого делать вам зло, господин Кастелл. Сеньор Брум, уже темнеет, и вода прибывает. Вы готовы?
Питер кивнул головой, и они шагнули навстречу ДРУГ Другу.
— Еще одно слово, — сказал д'Агвилар, опуская свой меч. — Друзья, вы слышали наш договор? Клянетесь ли вы во имя Испании и рыцарского долга выполнить этот договор и, если я умру, отпустить этих двух мужчин и обеих женщин беспрепятственно на их судно или на сушу?
Капитан «Сан Антонио» и его помощники поклялись от имени всей команды.
— Вы слышали, сеньор Брум. А теперь условия. Они будут такие: мы бьемся насмерть, но, если мы оба будем ранены так, что не сможем закончить поединок, никому из нас не будет причинено никакого вреда, и о нас будут заботиться до тех нор, пока мы не выздоровеем или не умрем по воле господа.
— Вы хотите сказать, что мы должны умереть только от меча друг друга и, если предательский случай даст одному из нас преимущество, противник не должен воспользоваться этим?
— Да, сеньор, потому что в пашем положении это может произойти, — и он кивнул на огромные волны, вздымающиеся вокруг и грозящие поглотить наполненный водой корабль. — Мы не воспользуемся таким преимуществом — ведь мы хотим решить наш спор своими руками.
— Пусть будет так, — ответил Питер. — Господин Кастелл будет свидетелем нашего договора.
Д'Агвилар кивнул в знак согласия, поцеловал крестообразную рукоятку своего меча в подтверждение клятвы, вежливо поклонился и встал в позицию.
Секунду они стояли друг против друга — великолепная пара противников. Ловкий, худощавый Питер с гневным лицом был страшен в багровом свете лучей, падавших на него из-за края черной тучи; испанец был тоже высок и строен, по но его виду можно было подумать, что это развлечение, а не смертельный поединок, в котором ставкой является судьба женщины. На даагвиларе был шлем и нагрудная кираса из черной стали, инкрустированная золотом. Питер же был защищен только курткой из бычьей кожи и шапкой с нашитыми на ней металлическими полосами. По зато его прямой, остро отточенный меч был тяжелее и, пожалуй, на полдюйма длиннее, чем у его противника.
Так они стояли друг против друга, а Кастелл и вся команда каравеллы, кроме рулевого, который вел ее ко входу в бухту, уцепились за фальшборт и такелаж
[17] и, забыв об опасности, угрожавшей им самим, в полной тишине наблюдали за противниками.
Первым сделал выпад Питер — удар был направлен прямо в горло, но Д'Агвилар ловко отпарировал его, так что острие меча скользнуло мимо его шеи, и, прежде чем Питер успел опомниться, Д'Агвилар нанес ему удар. Клинок ударил но стальным полоскам на шапке Питера, скользнул по левому плечу, но, так как удар был не сильный, никакого вреда он не причинил. Молниеносно последовал ответный удар, и он уже был отнюдь не легок — меч с такой силой обрушился на стальной панцирь д'Агвилара, что испанец пошатнулся. Питер прыгнул вперед, думая, что игра уже выиграна им, но в этот момент каравелла, проходившая мимо скал, окаймлявших вход в бухту, сильно накренилась, и оба противника оказались отброшенными к борту. За этим толчком последовали другие. Питер и Д'Агвилар, продолжая обмениваться ударами, метались от одного борта к другому, стараясь левой рукой схватиться за что-нибудь прочное, пока наконец, измученные и покрытые синяками, они не упали в стороне друг от друга.
— Неважная площадка для поединка, — задыхаясь, выговорил Д'Агвилар.
— Я думаю, что она сослужит свою службу, — с неумолимой решимостью ответил Питер и снова ринулся на д'Агвилара.
Как раз в этот момент гигантская волна обрушилась на корабль, перекатилась через палубу, сшибла обоих противников с ног и, как соломинки, смела их в углубление у борта. Питер поднялся первым, выплевывая соленую воду и протирая глаза. Он увидел д'Агвилара, лежащего на палубе, меч валялся рядом, левой рукой испанец сжимал правую.
— Вы ранены или ушиблись? — спросил Питер.
— Ушибся, — ответил Д'Агвилар. — Похоже, что сломана кисть. Но у меня есть левая рука. Помогите мне подняться, и мы закончим наш поединок.
При этих словах сильный порыв ветра, самый свирепый из всех, подобный вихрю в горном ущелье, швырнул каравеллу в самый вход в бухту и почти положил ее на бок.
Казалось, еще мгновение — и каравелла перевернется и пойдет ко дну, но тут грот-мачта неожиданно сломалась, подобно трости, и свалилась за борт. Освободившись от ее веса, каравелла медленно выпрямилась. Поперечная рея рухнула на палубу — один конец се проломил верх той каюты, в которой были заперты Маргарет и Бетти, расколов его надвое, а блок, висевший на другом конце, ударил Питера но голове, скользнул но шлему, задев шею и плечо. От этого удара Питер свалился без сознания на палубу и остался там лежать, продолжая сжимать в правой руке меч.
Из-под обломков каюты появилась Маргарет и Бетти. Маргарет была бледна и испугана, а Бетти шептала про себя молитвы, но обе, но счастливой случайности, остались невредимы. Цепляясь за перепутавшиеся снасти, они пробирались, ища спасения в центре корабля. Тяжелая рея вся еще висела над ними, упираясь одним концом в остатки каюты, а другим зацепившись за борт. Затем она соскользнула в море. Обломок грот-мачты загородил им путь. В эту минуту Маргарет увидела Питера с окровавленным лицом, лежащего на спине. Тело его перекатывалось взад и вперед от качки.
Маргарет не могла выговорить ни слова. Она только молча показала на Питера, затем обернулась к д'Агвилару, который стоял неподалеку. Держась за канат, д'Агвилар добрался до Маргарет и крикнул ей в ухо:
— Леди, это не моя вина. У нас была честная схватка. Мачта упала и убила его. Не вините меня в его смерти, а ищите утешения у бога.
Маргарет слушала, дико озираясь по сторонам, тут она увидела отца, пробирающегося к ней, и с криком упала без чувств на его грудь.
ГЛАВА XII. ОТЕЦ ЭНРИКЕ
Ночь наступила сразу — огромная грозовая туча, в гуще которой сверкали молнии, поглотила последние лучи заходящего солнца. И тут ураган обрушился на тонущее судно, раскаты грома сопровождались потоками дождя. Рулевой уже не видел, куда он ведет корабль, не было никакой возможности определить направление, в котором неслась каравелла. Только уменьшившиеся волны говорили о том, что они вошли в бухту. Вскоре «Сан Антонио» налетела на скалу, и этот толчок отбросил Кастелла, склонившегося над лежавшей без сознания Маргарет, к борту и оглушил его.
В темноте раздался крик: «Идем ко дну! «, и вода хлынула на палубу, но Кастелл не мог разобрать, были ли это волны или дождевые потоки. Он услышал новый крик: «Скорее в шлюпки, или мы погибли! «, и шум спускаемых шлюпок. Судно повернулось раз, другой и остановилось. В свете молнии Кастелл увидел Бетти, держащую бесчувственную Маргарет в своих сильных руках. Она также увидела его и крикнула, чтобы он спускался в шлюпку. Кастелл пошел за ней, но вспомнил о Питере. Ведь Питер мог быть еще жив! Что он скажет Маргарет, если позволит ему утонуть? Кастелл пробрался к тому месту, где лежал Питер, и позвал на помощь бежавшего мимо матроса. Тот выругался в ответ и исчез в темноте. Оставшись один, Кастелл пытался поднять тяжелое тело, но правая рука его была беспомощна, и он сумел только приподнять верхнюю часть туловища и постепенно подтаскивать Питера к тому месту, где, казалось ему, должна была находиться шлюпка.
Однако шлюпки здесь не оказалось, а голоса доносились с противоположного конца судна — нужно было тащить Питера туда. Пока он добрался до другого борта, все смолкло, и в свете молнии Кастелл увидел переполненную людьми шлюпку на гребне волны ярдах в пятидесяти от судна. Те, кто не попал в шлюпку, цеплялись за ее корму и борта. Кастелл закричал, по никто ему но ответил, потому ли, что на корабле не оставалось никого живых, пли потому, что в этой суматохе нельзя было услышать его.
Тогда Кастелл, понимая, что он сделал все, что мог, подтащил Питера под нависающую часть верхней палубы, которая хоть немного укрывала от дождя, положил его кровоточащую голову себе на колени так, чтобы она была выше уровня воды, и, усевшись таким образом, начал молиться, ожидая смерти.
Он ни минуты не сомневался, что ему суждено погибнуть — при свете молний он видел, что палуба корабля находится уже почти на уровне воды. Правда, здесь, в бухте, море стало значительно спокойнее. Он угадал это по тому, что, хотя дождь лил по-прежнему и ветер налетал с той же силой, брызги волн не обдавали его. Каравелла погружалась все глубже и глубже, пока наконец вода не покрыла ее палубу целиком. Кастеллу пришлось подняться на вторую ступеньку трапа, с которого Питер напал на испанца. Прошло некоторое время, и Кастелл почувствовал, что каравелла перестала погружаться. Он не мог понять, что это означало. Шторм прошел, видны стали звезды, ветер стих. Ночь стала теплее — это очень обрадовало его, иначе в промокшей одежде он бы совсем замерз. И все-таки это была длинная ночь, самая длинная в его жизни, — не было сна, чтобы успокоить его страдания или облегчить смерть.
Так он сидел, гадая, жива ли Маргарет, — Питер казался ему мертвым, — и думал, наблюдают ли их души за ним с высоты, ждут ли, когда он присоединится к ним. Он вспомнил о днях своего процветания до того момента, когда он увидел проклятое лицо д'Агвилара, о своем богатстве и о том, что с этим богатством случится. Он даже подумал, что лучше, если Маргарет умерла, — лучше смерть, чем жизнь в позоре.
Вскоре он впал в забытье, и последней мыслью его было, что корабль утонул и сам он погружается в пучину смерти.
… Чей-то голос звал его, и Кастелл проснулся. Светлело. Перед ним, держась за поручни трапа, стоял Питер — мертвенно бледный, перепачканный кровью, зубы у него стучали, а глаза были неестественно тусклыми.
— Вы живы, Джон Кастелл, — произнес этот голос, — или мы оба умерли и находимся в аду?
— Нет, — ответил Кастелл, — я еще жив, мы оба еще на этом свете.
— Что же случилось? — спросил Питер. — Я был в каком-то мраке.
Кастелл коротко рассказал ему все, что произошло. Питер выслушал его, потом, шатаясь, дошел до борта и, не говоря ни слова, стал смотреть вдаль.
— Я ничего не вижу, — наконец сказал он, — слишком густой туман, но я думаю, что мы где-то недалеко от берега. Помогите мне. Надо разыскать еду, я совсем ослабел.
Кастелл поднялся, размял свои затекшие ноги, добрался до Питера, обнял его здоровой рукой, и таким образом они добрались до кормы, где, как думал Кастелл, должна была находиться кают-компания. Они нашли ее и проникли внутрь. Это оказалось маленькое, но богато обставленное помещение, к задней стенке его было привинчено резное распятие. На полу валялись кусок солонины и несколько черствых пшеничных лепешек, которыми обычно питаются матросы. Очевидно, все это упало со стола. В сетке над столом висели бутыли с вином и водой. Кастелл разыскал кружку, наполнил ее вином и подал Питеру. Тот с жадностью выпил и вернул ее Кастеллу, который, в свою очередь, отпил глоток. После этого они отрезали с помощью своих ножей по куску мяса и съели, хотя Питеру было очень трудно жевать из-за ран на голове и шее. Затем они выпили еще вина и, несколько подкрепившись, покинули каюту.
Туман был все еще такой густой, что ничего не было видно, и они прошли в разбитую каюту, в которой жили Маргарет и Бетти, уселись на их койках и стали ждать. Питер обратил внимание на то, что каюта была роскошно обставлена, как будто в ней должна была обитать знатная дама. Даже посуда здесь была серебряная, а в приоткрывшемся шкафу виднелись роскошные платья. Были здесь и рукописные книги. В одной из них Маргарет сделала кое-какие пометки и написала молитву собственного сочинения, в которой она просила небо защитить се, молила, чтобы Питер и ее отец остались живы и узнали правду о том, что произошло. Маргарет молила святых помочь ей спастись и соединиться с отцом и Питером. Эту книгу Питер спрятал под куртку, чтобы на досуге просмотреть внимательно.
Из-за гор, окаймлявших бухту, взошло солнце. Оставив каюту, Питер и Кастелл влезли на полубак и огляделись. Они обнаружили, что находятся в закрытой со всех сторон бухте, не более чем в ста ярдах от берега. Привязав к веревке кусок железа, они опустили его за борт и убедились, что судно сидит на мели и что глубина воды под носом каравеллы не превышает четырех футов. Выяснив это, они решили добираться до берега.
Предварительно они вернулись в каюту и наполнили найденный там кожаный мешок сдой и вином. Затем им пришло в голову разыскать каюту д'Агвилара. Они нашли ее между палубами. В каюте обнаружили запертый ящик, крышку которого они взломали железной палкой. Здесь оказалось большое количество золота — по всей видимости, для выплаты команде — и драгоценности. Драгоценности они не тронули, а деньги разделили пополам и спрятали на себе, для того, чтобы воспользоваться ими, если удастся добраться до берега. Затем они промыли и перевязали друг другу раны, спустились по веревочному трапу того борта, где испанцы спасались с корабля, и распростились с «Сан Антонио».
Ветер к тому времени стих, и солнце ярко сияло, разогревая застывшую кровь. Море совершенно успокоилось, и вода доходила им только до пояса; дно было ровное, песчаное.
Когда Питер и Кастелл уже подходили к берегу, они увидели собравшихся там людей и решили, что это, наверно, жители маленького городка Мотриля, расположенного на берегу реки, впадающей в залив. Кроме того, они заметили на берегу шлюпку с «Сан Антонио» и обрадовались: шлюпка лежала на киле, и на дне ее было совсем немного воды, — значит, она благополучно добралась до берега. Поблизости лежало пять или шесть трупов, — по всей вероятности, это были матросы, поплывшие за шлюпкой или уцепившиеся за ее борта, но среди утонувших не было женщин.
Когда Питер и Кастелл выбрались на берег, здесь оставалось совсем мало людей; большинство отправилось грабить корабль, часть людей готовила лодки для той же цели. Их встретили лишь женщины, дети, трое стариков и священник. Этот последний, человек с жадным взглядом и хитрой, лицемерной физиономией, пошел им навстречу, вежливо поздоровался и сказал, что они должны благодарить бога за свое спасение.
— Это мы, конечно, сделаем, — ответил Кастелл, — но скажите нам, отец, где наши спутники?
— Вот некоторые из них, — сказал священник, указывая на трупы, — остальные вместе с двумя дамами два часа назад уехали в Гранаду. Маркиз Морелла, который дал мне этот приход, сказал нам, что корабль утонул и никого больше не осталось в живых, а так как в тумане ничего не было видно, мы поверили ему. Вот почему мы не пришли сюда раньше, ибо, — многозначительно добавил он, — мы люди бедные и святые редко посылают нам кораблекрушения.
— Как они отправились в Гранаду, отец? — перебил его Кастелл. — Пешком?
— Нет, сеньор, они силой забрали всех лошадей и мулов в деревне, хотя маркиз и обещал вернуть их и заплатить нам потом. Мы доверяем ему, потому что у нас нет другого выхода. Обе дамы плакали и умоляли нас приютить их, но маркиз не позволил, хотя они выглядели такими печальными и утомленными. Бог даст, нам вернут наших лошадей, — благочестиво закончил он.
— А для пас лошадей не найдется? У нас есть немного денег, и мы может заплатить, если это будет не очень дорого.
— Ни одной, сеньор, ни одной, забрали всех. К тому же вы сейчас вряд ли сумеете ехать — вы так много перенесли, — и он указал на раненую голову Питера и перевязанную руку Кастелла. — Почему бы вам не остаться здесь и не отдохнуть?
— Потому что я отец одной из этих дам, и она, конечно, уверена, что я утонул. А этот сеньор — ее жених.
— Ага, — произнес священник, с интересом разглядывая их, — тогда какое же отношение имеет к ней маркиз? Но я лучше не буду задавать вопросов, здесь не исповедь, не так ли? Я понимаю ваше беспокойство — ведь этот гранд пользуется репутацией весьма веселого мужчины. Прекрасный сын церкви, но, без сомнения, очень веселый. — И священник, улыбаясь, покачал своей бритой головой. — Однако, сеньоры, пройдемте в деревню, вы там сможете отдохнуть и перевязать свои раны. А потом мы поговорим.
— Нам лучше пойти, — обратился Кастелл поанглийски к Питеру, — здесь на берегу нет лошадей, а мы не можем в таком состоянии идти пешком в Гранаду.
Питер кивнул, и священник, которого, как они выяснили, звали отец Энрике, повел их.
На вершине холма, в нескольких сотнях шагов от берега, они обернулись и увидели, что теперь уже все здоровые жители деревни были заняты грабежом каравеллы.
— Они хотят вознаградить себя за своих лошадей и мулов, — пожав плечами, заметил отец Энрике.
— Это я вижу, — отозвался Кастелл, — но вы…
— О, за меня не бойтесь, — с хитрой улыбкой ответил священник: — церковь не занимается грабежом, но в конце концов она получает свою долю. Народ здесь благочестив. Я только боюсь, что, когда маркиз узнает, что корабль не утонул, он потребует с нас возмещения убытков.
Они перевалили через холм и увидели белые стены и красные крыши деревушки, раскинувшейся на берегу реки. Еще через пять минут их проводник остановился перед домом на грубо замощенной улочке и отпер дверь ключом.
— Вот мое убогое жилище, когда я нахожусь здесь, а не в Гранаде, — сказал он. — В нем я буду иметь честь принять вас. Видите, рядом церковь.
Они вошли во внутренний дворик, где вокруг фонтанчика росло несколько апельсиновых деревьев, у стены стояло распятие в человеческий рост. Проходя мимо распятия, Питер поклонился и перекрестился, но Кастелл не последовал его примеру. Священник быстро взглянул на него.
— Вам, сеньор, следовало бы поклониться изображению нашего спасителя, по милости которого вы избегли смерти; маркиз говорил мне, что вы оба погибли.
— Моя правая рука повреждена, — не растерялся Кастелл, — и я вознес молитву в моем сердце.
— Я понимаю, сеньор, но если вы в этой стране в первый раз, хотя на это не похоже — вы так хорошо говорите на здешнем языке, — то, с вашего разрешения, я хочу предупредить вас, что здесь разумнее совершать молитвы не только в сердце. За последнее время отцы инквизиции стали еще суровее — они придают очень большое значение внешним обрядам. Когда мне приходилось сталкиваться со святой инквизицией в Севилье, я видел, как сожгли одного человека за то, что он пренебрегал обрядами. У вас есть две руки и голова, сеньор, и к тому же еще колени, которые можно преклонить.
— Простите меня, — ответил Кастелл, — но я думал о другом. В частности, о том, что моя дочь увезена вашим патроном, маркизом Морелла.
Священник оставил эти слова без ответа и провел их через гостиную в спальню с высокими окнами, забранными решетками, так что, несмотря на то что комната была большая и высокая, она чем-то напоминала тюремную камеру. Здесь он оставил гостей, заявив, что пойдет искать местного лекаря, который к тому же и цирюльник, если только он не занят «облегчением корабля». Гостям своим он посоветовал снять мокрую одежду и прилечь отдохнуть.
Какая-то женщина принесла им горячей воды и одежду, чтобы они накинули ее на себя, пока их платье будет сушиться. Питер и Кастелл разделись, помылись и, совершенно измученные, свалились на кровати и заснули. Предварительно они вытащили деньги и засунули их в мешок для продуктов, который Питер спрятал к себе под подушку. Часа через два их разбудил приход отца Энрике с лекарем-цирюльником. Вместе с ними пришла служанка с высушенным и вычищенным платьем.
Когда лекарь увидел у Питера на левой стороне шеи и на плече раны, которые почернели и распухли, он покачал головой и заявил, что только время и покой излечат его и что Питер, должно быть, родился под счастливой звездой, так как, не будь на нем стального шлема и кожаной куртки, ему бы не миновать смерти. Поскольку все кости были целы, лекарю оставалось только помазать рану какой-то мазью, смягчающей боль, и перевязать ее чистым куском материи. Покончив с этим, лекарь занялся раной на правой руке Кастелла, промыл ее теплой водой и маслом и перевязал, заявив, что он будет здоров через неделю. При этом он заметил, что буря, очевидно, была сильнее, чем он предполагал, если она могла пронзить стрелой мужскую руку. При этих словах священник насторожился.
Кастелл не стал отвечать на это замечание, а вытащил золотой и предложил лекарю, попросив его достать им, если это возможно, мулов или лошадей. Цирюльник был чрезвычайно доволен столь крупным для Мотриля вознаграждением. Он обещал, что повидает их вечером и что если узнает о каких-нибудь лошадях или мулах, то сообщит. Кроме того, он обещал достать испанского покроя одежду и плащи, поскольку в их одежде ехать неудобно — она испачкана и окровавлена.
После этого он ушел, и священник последовал за ним, так как ему надо было проследить за дележом добычи с судна и обеспечить себе свою долю. Добрая служанка принесла Питеру и Кастеллу суп. Затем они улеглись опять на кроватях и принялись обсуждать, что им делать дальше.
Кастелл совсем упал духом. Он говорил, что они так же далеки от Маргарет, как и до сих пор, что она еще раз утеряна ими и находится в руках Морелла, из которых они вряд ли сумеют вырвать се. К тому же, как видно, ее повезли в Гранаду, город тавров, где христианские законы и правосудие бессильны.
Выслушав все это, Питер, чье сердце всегда оставалось твердым, заявил:
— Бог обладает такой же властью в Гранаде, как и в Лондоне или на море, где он спас нас. Я думаю, что у нас есть все основания благодарить его, потому что мы могли погибнуть, но остались в живых, и потому что Маргарет тоже жива и, можно надеяться, не пострадала. Кроме того, этот испанский вор, похититель женщин, по всей видимости, довольно странный человек. Судя по его словам, если в них есть доля правды, хотя он и украл Маргарет, он не может решиться на насилие над ней, а хочет завоевать ее любовь и согласие, которое, я думаю, он не скоро получит… К тому же он избегает убийства — ведь он не прикончил нас, хотя спокойно мог это сделать.
— Я знавал таких людей, которые считают одни грехи допустимыми, а другие смертельными. Это плоды суеверия.
— Тогда мы должны молить бога, чтобы Морелла и впредь оставался суеверен и чтобы мы как можно скорее оказались в Гранаде. Не забывайте, что там у нас есть друзья и среди евреев и среди мавров, с которыми вы торговали много лет. Они могут укрыть нас. Так что, хотя дела и плохи, они могли быть еще хуже.
— Пожалуй, это так, — уже более спокойно согласился Кастелл, — если ее действительно увезли в Гранаду. Постараемся узнать что-либо об этом у цирюльника и у отца Энрике.
— Я не верю этому священнику: он хитрец и служит маркизу, — отозвался Питер.
Они замолчали — слишком устали оба, да и говорить было больше не о чем, хотя о многом следовало подумать.
После захода солнца вновь пришел цирюльник и перевязал раны Питеру и Кастеллу. Он принес с собой испанские костюмы, шляпы и два тяжелых плаща, удобных для путешествия, — все это они купили у него за хорошую цену. Кроме того, он объявил, что во дворе стоят два прекрасных мула. Кастелл вышел посмотреть на них. Это оказались две жалкие клячи, истощенные и слабые, но так как других не было, не оставалось ничего иного, как вернуться в комнату и обсудить вопрос о цене. Торговались долго, потому что цирюльник запросил двойную цену. Кастелл заявил, что бедные люди, потерпевшие кораблекрушение, не могут заплатить такую сумму. В конце концов они договорились на том, что цирюльник заберет мулов на ночь к себе и накормит их, а утром приведет их вместе с проводником, который покажет им дорогу в Гранаду. Пока что они заплатили ему только за одежду.
Кастелл и Питер пытались выудить у цирюльника какие-нибудь сведения о маркизе Морелла, но, как и отец Энрике, он был хитрец и держал язык за зубами. Он заявил, что такому маленькому человеку, как он, вредно обсуждать дела больших людей; в Гранаде, дескать, они все узнают.
Цирюльник ушел, оставив им лекарства, и вскоре после этого явился священник. Он был в очень хорошем настроении, потому что в виде своей доли от грабежа судна получил драгоценности, оставленные Питером и Кастеллом в железном ящике. Заметив, как священник, доставая драгоценности, любовно перебирал их, Кастелл пришел к выводу, что отец Энрике человек в высшей степени жадный — из тех людей, которые ненавидят бедность и сделают все на свете ради денег. И когда священник со злобой заговорил о ворах, которые залезли в корабельный ящик и унесли оттуда почти все золото, Кастелл решил про себя, что отец Энрике никогда не должен узнать, кто были эти воры, иначе во время их путешествия с ними может произойти какой-нибудь несчастный случай.
Наконец драгоценности были спрятаны, и священник заявил, что они должны поужинать вместе с ним, но при этом он добавил, что не может предложить им вина, так как ему полагается пить только воду. Тогда Кастелл попросил его достать где-нибудь несколько фляг вина, лучшего, какое можно здесь найти, сказав, что он за него заплатит. Отец Энрике послал за вином служанку.
Переодевшись в испанское платье и спрятав деньги в два пояса, приобретенные тоже у цирюльника, они вышли к столу. Ужин состоял из испанского блюда, называемого «олла подрида» (нечто вроде жирного мяса), хлеба, сыра и фруктов. На столе было также купленное за их счет вино, очень хорошее и крепкое. Правда, Нитер и Кастелл почти не пили, опасаясь лихорадки от своих ран, но они усердно угощали отца Энрике. Кончилось тем, что к концу ужина он забыл о своей хитрости и начал разговаривать свободно. Заметив, что священник пришел в веселое настроение, Кастелл начал расспрашивать его о маркизе Морелла, почему у того дом в Гранаде, столице мавританского государства.
— Потому что он наполовину мавр, — ответил священник. — Его отец, говорят, был принцем Виана, а мать — мавританкой, в ее венах текла королевская кровь. От нее он и унаследовал свои богатства, земли и дворец в Гранаде. Он любит там жить. Хотя он и добрый христианин, однако у него вкусы еретика: подобно маврам, он завел у себя сераль прекрасных женщин. Я знаю это, потому что в Гранаде нет священников и мне приходится выполнять роль его капеллана. Но, кроме того, он живет в Гранаде еще по другой причине: он ведь наполовину мавр и является представителем Фердинанда и Изабеллы при дворе султана Гранады Боабдила. Вы, чужестранцы, должны знать, если еще не знаете, что их величества давно уже ведут войну с маврами и мечтают захватить остаток их государства так же, как они уже захватили Малагу, обратить его жителей в христианство и кровью и огнем очистить его от проклятой ереси.
— Да, — отозвался Кастелл, — мы слышали об этом в Англии. Я ведь купец и веду торговлю с Гранадой. Я еду туда но делам.
— А по каким делам едет туда сеньора, та, о которой вы говорите, что она ваша дочь? И что это за историю рассказывали матросы о сражении между «Сан Антонио» и английским кораблем, который мы видели вчера на взморье? И каким это образом ветер пробил стрелой вашу руку, друг мой купец? И почему так получилось, что вас обоих оставили на каравелле, в то время как маркиз и все его люди спаслись?
— Вы задаете много вопросов, святой отец. Питер, наполни стакан преподобного отца. Он ничего не пьет. Можно подумать, что здесь всегда пост. Ваше здоровье! О, вот хорошо! Палей, Питер, и передай мне флягу. Вот теперь я отвечу на все ваши вопросы и расскажу о кораблекрушении.
Тут Кастелл начал бесконечную историю о ветрах, парусах, скалах, падающих мачтах, об английском корабле, который пытался помочь испанской каравелле, и так продолжалось до тех пор, пока священник, чей стакан Питер наполнял каждый раз, когда тот отворачивался, не свалился, заснув.
— А теперь, — шепнул Питер по-английски Кастеллу, — я думаю, нам лучше всего лечь спать. Мы узнали многое от этого шпиона в рясе — по-моему, он таков — и почти ничего не рассказали.
Они тихо пробрались в свою комнату, выпили настой, оставленный цирюльником, помолились каждый по-своему, заперли дверь и прилегли отдохнуть, насколько раны и тяжелые думы могли позволить им.
ГЛАВА XIII. ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ
Питер спал плохо, рана, несмотря на перевязку, сделанную цирюльником, сильно болела. Кроме того, ему не давала покоя мысль, что Маргарет уверена в их гибели и страдает от этого. Как только Питер засыпал, он видел ее в слезах, слышал ее рыдания.
Как только первые лучи проникли сквозь высокие решетки окон, Питер вскочил и разбудил Кастелла: они оба не могли одеться без помощи друг друга. Услышав во дворе голоса людей и шум, они решили, что это явился цирюльник со своими мулами, отперли дверь и, встретив в коридорчике зевающую служанку, попросили ее выпустить их из дома.
Это действительно был цирюльник и с ним — одноглазый парень верхом на пони. Цирюльник объяснил, что этот парень будет их проводником до Гранады. Питер и Кастелл вернулись вместе с цирюльником в дом, он осмотрел их раны, покачал головой при взгляде на раны Питера и сказал, что ему не следовало бы так рано отправляться в путь. Потом снова началась торговля за мулов, упряжь, седельные сумки, в которые были уложены вещи, оплату проводнику и так далее, ибо Питер и Кастелл боялись показать, что у них есть деньги.
В конце концов все было улажено, и, так как их хозяин, отец Энрике, все еще не появлялся, они решили уехать, не простившись с ним, а просто оставить ему деньги в знак благодарности за его гостеприимство и в качестве подарка для его церкви. Однако как раз в тот момент, когда они передавали эти деньги служанке, появился священник. Он был небрит и держался рукой за голову. Он объяснил, что служил раннюю мессу в церкви, что было чистой ложью, и спросил, действительно ли они собираются уезжать.
Они подтвердили это и вручили ему свой подарок, который он принял не задумываясь, хотя похоже было, что щедрость гостей заставила его с еще большей настойчивостью уговаривать их остаться. Они, дескать, еще не в состоянии перенести трудный путь, дороги весьма небезопасны, они могут попасть в плен к маврам и окажутся в подземелье вместе с другими узникамихристианами, так как никто не может проникнуть в Гранаду без разрешения, и так далее. Но наши путешественники твердо стояли на своем.
Они заметили, что священник при этих словах заволновался и в конце концов заявил, что из-за них у него будут неприятности от маркиза Морелла. Как и почему, он не стал объяснять, но Питер решил, что он боится, как бы они не рассказали маркизу о том, что его капеллан участвовал в грабеже на судне, которое маркиз считал потонувшим, и завладел его драгоценностями. В конце концов они поняли, что отец Энрике способен на любую уловку, только бы задержать их, оттолкнули его, вскарабкались на мулов и вместе с проводником двинулись в путь.
Они долго еще слышали крики разъяренного священника, ругавшего цирюльника за то, что тот продал им мулов. До них доносились его выкрики: «Шпионы… «, «Английские дамы… «, «Приказ маркиза… «. Они очень обрадовались, выбравшись за пределы селения, на улицах которого было мало людей, и, никем не потревоженные, выехали на дорогу, ведущую к Гранаде.
Дорогу эту никак нельзя было назвать хорошей, к тому же она шла то вверх, то вниз. Да и мулы оказались гораздо хуже, чем они предполагали. Мул, на котором ехал Питер, все время спотыкался. Они поинтересовались у юноши, их проводника, сколько времени потребуется, чтобы доехать до Гранады, но в ответ услышали:
— Кто знает? Все зависит от воли бога.
Прошел час, и они опять задали ему тот же вопрос; и на этот раз последовал ответ:
— Может быть, сегодня вечером, может, завтра, а может, никогда. На дороге много разбойников, но если путешественникам повезет и они не попадутся в руки бандитам, то наверняка их захватят мавры.
— Я думаю, что один из разбойников здесь, рядом с нами, — заметил по-английски Питер, взглянув на отталкивающее лицо их проводника, и добавил на ломаном испанском языке: — Друг мой, если мы столкнемся с бандитами или маврами, то первым, кто отправится на тот свет, будешь ты. — И Питер похлопал по рукоятке своего меча.
Парень в ответ пробормотал какое-то испанское проклятие и повернул своего пони назад, якобы собираясь ехать обратно в Мотриль, но тут же передумал и ускакал далеко вперед. В течение нескольких часов они не могли догнать его.
Дорога была так тяжела, а мулы так слабы, что, несмотря на то что они решили не отдыхать днем, сумерки наступили прежде, чем они достигли вершины Сиерры. В последних лучах заходящего солнца они увидели далеко впереди минареты и дворцы Гранады. Питер и Кастелл хотели ехать дальше, но их проводник клялся, что в темноте они свалятся в пропасть раньше, чем достигнут равнины. Он заявил, что здесь неподалеку есть вента или, иначе говоря, постоялый двор, где они могут отдохнуть, а на рассвете продолжить свой путь.
Когда Кастелл заявил, что они не хотят ехать на постоялый двор, проводник объяснил, что у них нет другого выхода, так как еда уже кончилась и, кроме того, здесь, на дороге, нельзя достать корма для мулов. Делать было нечего, и путешественники с неохотой согласились, понимая, что, если мулов не накормить, они никогда не довезут их до Гранады. Между тем проводник указал на домик, стоящий одиноко в лощине ярдах в ста от дороги, и, заявив, что он должен предупредить об их приезде, поскакал вперед.
Когда Кастелл и Питер добрались до постоялого двора, окруженного большой стеной, очевидно в целях обороны, они увидели своего одноглазого проводника, о чем-то серьезно беседовавшего с толстым человеком отталкивающей внешности, у которого за пояс был заткнут большой нож. Толстяк, кланяясь, двинулся им навстречу и объявил, что он здесь хозяин. Он согласился накормить путешественников и дать им ночлег.
Кастелл и Питер въехали во двор, и хозяин тут же запер за ними ворота, объяснив, что это делается для безопасности от бандитов. Им повезло, добавил он, что они попали в такое место, где могут спокойно переночевать. Вслед за этим появился мавр; он увел мулов в конюшню, а хозяин провел путешественников в большую комнату с низким потолком, где стояли столы и сидело несколько человек с грубыми и жестокими лицами. Они пили вино. Тут хозяин неожиданно потребовал деньги вперед, заявив, что он не доверяет незнакомцам. Питер хотел было вступить с ним в спор, но Кастелл решил, что разумнее согласиться, и принялся расстегивать свою одежду, чтобы достать деньги. В карманах у него ничего не осталось, последние деньги, которые не были спрятаны, он истратил в Мотриле.
Правой рукой Кастелл по-прежнему не мог шевельнуть, и он начал доставать деньги левой, но так неловко, что маленький дублон, который он вытащил, выскользнул и упал на пол. Забыв, что он не завязал пояс, Кастелл нагнулся поднять дублон, и штук двадцать золотых монет покатились по полу. Питер заметил, как хозяин и сидящие в комнате мужчины обменялись быстрыми и многозначительными взглядами. Однако они поднялись и помогли собрать золотые. Хозяин вернул их Кастеллу, присовокупив с гнусной улыбкой, что, если бы он знал, что его гости так богаты, он запросил бы с них больше.
— О нет, это далеко не так, — ответил Кастелл, — это все, что мы имеем.
Как раз в тот момент, когда он произнес эти слова, еще один золотой, на этот раз уже большой дублон, застрявший у него в одежде, упал на пол.
— Конечно, сеньор, — заметил хозяин, поднимая монету и вежливо возвращая се, — однако потрясите себя, может, у вас в куртке застряли еще один-два золотых.
Кастелл так и сделал, и при этом золотые, спрятанные в поясе, так как их стало меньше, зазвенели. Присутствующие в комнате улыбнулись, а хозяин поздравил Кастелла с тем, что он находится в честном доме, а не путешествует но горам, служащим приютом для дурных люден.
Кастелл, делая вид, что ничего не произошло, запрятал свои деньги и затянул пояс. Затем он и Питер усолись в сторонке и попросили, чтобы им подали ужин. Хозяин приказал слуге принести еду, а сам подсел к ним и принялся расспрашивать. Из его вопросов стало ясно, что проводник уже успел рассказать ему всю их историю.
— Откуда вы узнали про кораблекрушение? — вместо ответа спросил Кастелл.
— Откуда? Да от людей маркиза, которые вчера останавливались здесь выпить по стакану вина, когда маркиз проезжал с двумя дамами в Гранаду. Он говорил, что «Сан Антонио» затонула, но ничего не сказал о том, что вы остались на борту.
— Тогда извините нас, дружище, если мы, чьи дела не должны интересовать вас, тоже ничего не скажем, поскольку мы устали и хотим отдохнуть.
— Конечно, сеньоры, конечно, — засуетился хозяин, — я пойду потороплю с ужином и велю принести вам флягу гранадского вина, подобающего вашему положению.
Он удалился, а через некоторое время принесли ужин — хорошее жаркое и к нему в глиняном кувшине вино. Наполняя их кружки, хозяин сказал, что он сам перелил его из фляги, чтобы не взболтать осадок.
Кастелл поблагодарил его и предложил выпить стакан вина за успех их путешествия, однако хозяин отказался, заявив, что у него сегодня постный день и что он поклялся пить в этот день одну только воду. Тогда Питер, который не произнес ни слова за все это время, но многое приметил, пригубил вино и, почмокав, как будто пробуя, шепнул по-английски Кастеллу:
— Не пейте — оно отравлено.
— Что сказал ваш сын? — спросил хозяин.
— Он говорит, что вино великолепно, но при этом он вдруг вспомнил, что доктор в Мотриле запретил нам прикасаться к вину, если мы не хотим ухудшить состояние наших ран, полученных при кораблекрушении. Но оно не должно пропасть. Поднесите его вашим друзьям. Мы удовольствуемся более слабым напитком.
С этими словами Кастелл взял кувшин с водой, стоявший на столе, наполнил кружку, выпил и передал ее Питеру. Хозяин посмотрел на них с явным неудовольствием.
Затем Кастелл поднялся и вежливо предложил кувшин с вином и две наполненные кружки мужчинам, сидевшим за соседним столом, добавив, что им очень жаль, что они не могут попробовать столь великолепное вино. Одним из этих людей случайно оказался их проводник; он пришел сюда, накормив мулов. И он и его сосед с готовностью взяли наполненные кружки и выпили их содержимое. Хозяин в это время с проклятием схватил кувшин и исчез.
Кастелл и Питер принялись за жаркое. Они видели, что их соседи едят то же самое, да и хозяин, вернувшийся в комнату, тоже принялся за такое же мясо. Питеру показалось, что хозяин с тревогой наблюдает за двумя мужчинами, выпившими вино. Вдруг один из них поднялся из-за стола и, пройдя несколько шагов до скамьи, стоявшей на другом конце комнаты, молча рухнул на нее. Между тем у одноглазого проводника бессильно опустились руки, и он, по-видимому без сознания, упал на стол, так что голова его уткнулась в пустое блюдо. Хозяин вскочил, но тут же остановился в нерешительности. Тогда поднялся Кастелл и заметил, что, очевидно, бедного парня сморил сон после долгой дороги и что они тоже устали и не будет ли хозяин так любезен проводить их в отведенную им комнату.
Хозяин охотно согласился — было ясно, что он хочет как можно скорее избавиться от них, тем более что остальные посетители разглядывали проводника и своего товарища и шептались между собой.
— Вот сюда, сеньоры, — указал он и повел их в конец комнаты, к лестнице.
Поднявшись по ней с лампой в руке, он поднял люк и предложил им следовать за ним. Кастелл так и сделал, а Питер обернулся и пожелал доброй ночи всей компании, наблюдавшей за ним. При этом, как бы случайно, он наполовину вытащил свои меч из ножен. Затем он вслед за хозяином и Кастеллом полез по лестнице и оказался на чердаке.
Это была пустая комнатушка, единственной мебелью которой были два стула и два грубых деревянных ложа без изголовий, стоявших на расстоянии трех футов друг от друга у дощатой перегородки, по-видимому отделявшей это помещение от соседнего. Под самой крышей была завешанная мешком дыра, которая служила окном.
— Мы люди бедные, — сказал хозяин, пока они оглядывали этот пустой чердак, — но многие знатные господа прекрасно спали здесь. Вам тоже будет здесь хорошо. — И он повернулся к лестнице.
— Это нам подойдет, — согласился Кастелл, — только скажите вашим людям, чтобы они не запирали конюшню, так как мы уедем на рассвете, и будьте добры оставить нам лампу.
— Лампу я оставить не могу, — сердито проворчал хозяин; одна нога его уже была на лестнице.
Питер шагнул к нему и схватил одной рукой за руку, а другой — лампу. Хозяин выругался и принялся шарить у себя за поясом, очевидно ища нож, но Питер с такой силой сжал его руку, что от боли тот выпустил лампу, и она осталась в руке у Питера. Хозяин попытался схватить ее, но потерял равновесие и скатился вниз но лестнице, тяжело рухнув на пол.
Сверху они видели, как он поднялся на ноги и принялся
поносить их, размахивая кулаками и клянясь, что отомстит за все. Питер захлопнул люк. Оказалось, что люк плохо пригнан к полу. К тому же засов, на который он должен был запираться, отсутствовал, хотя скобы имелись. Питер огляделся вокруг в поисках какой-нибудь палки или куска дерева, чтобы заложить в скобы, но ничего не нашел. Тут он вспомнил о веревке, предназначенной для крепления седельных сумок, которая была у него в кармане. Ею он связал скобы. Теперь люк нельзя было приподнять от пола более чем на один-два дюйма. По тут же Питер сообразил, что если приподнять люк, то можно сквозь эту щель перерезать ножом веревку, и поставил один из стульев так, что две его ножки оказались на люке. После этого он сказал Кастеллу:
— Мы, как птицы, попались в ловушку. По прежде чем свернуть нам шеи, они должны войти в клетку. Вино было отравлено. Если они сумеют, они убьют нас из-за наших денег, или потому, что им поручил это сделать проводник. Нам лучше не спать эту ночь.
— Я тоже так думаю — с тревогой в голосе подтвердил Кастелл. — Послушай, они там внизу разговаривают.
Снизу действительно доносились звуки голосов, похоже было, что идет спор, но спустя некоторое время шум затих. Когда все смолкло, Питер и Кастелл тщательно осмотрели чердак, но не обнаружили ничего подозрительного. Питер глянул на дыру, служившую окошком, и, решив, что она достаточно велика, чтобы в нее мог пролезть человек, попытался подтащить к ней кровать. Ему пришло в голову, что если кто-нибудь попробует влезть в окно, то попадет прямо к нему в руки. Однако он убедился, что кровати прибиты к полу и сдвинуть их с места невозможно. Делать больше было нечего, и оба они уселись на кроватях с обнаженными мечами в руках и принялись ждать. Время шло.
В конце концов лампа, которая уже давно мерцала, зачадила и совсем погасла. Кончилось масло. Они очутились в темноте. [Единственным источником света было окно, с которого они сняли мешковину.
Спустя некоторое время до них донесся стук конских копыт, они услышали, как открылась и опять захлопнулась дверь внизу и вновь раздались голоса. К голосам, которые они слышали раньше, присоединился еще один. Он показался Питеру знакомым.
— Я узнал его, — шепнул он Кастеллу. — Это отец Энрике. Он приехал узнать, как поживают его гости.
Прошло еще полчаса, и взошла бледная луна, послав в их комнату слабый луч света. Опять послышался стук копыт. Питер подошел к окну. Хозяин постоялого двора держал за поводья превосходного коня. Затем подошел человек и взобрался в седло. Хозяин что-то сказал ему, тот поднял голову. Питер узнал отца Энрике.
Священник и хозяин еще некоторое время шептались, потом отец Энрике благословил хозяина и уехал. До Питера и Кастелла опять донесся звук запираемой двери.
— Он поехал в Гранаду предупредить своего хозяина Морелла, что мы направляемся туда, — сказал Кастелл, после того как они опять уселись на своих кроватях.
— А может быть, сообщить маркизу, что мы никогда не приедем. Но все-таки ему нас не одолеть.
Время тянулось медленно, и Кастелл, который совсем ослабел, откинулся на подушку и задремал. Вдруг стул, стоявший на крышке люка, упал со страшным грохотом. Кастелл вскочил и уставился на Питера.
— Это всего-навсего крыса, — ответил Питер, не желая открывать ему правду.
Питер тихонько прокрался к люку, пощупал веревку — она была цела — и снова поставил стул на прежнее место. Проделав это, Питер вернулся к кровати и бросился на нее, как будто собираясь заснуть, хотя в действительности никогда еще он не был так настороже. Усталость между тем опять одолела Кастелла, и он задремал.
Было тихо, только один раз что-то заслонило лунный свет, и на мгновение Питеру показалось, что он видит в окне лицо, но оно исчезло и больше не появлялось. Но теперь какие-то слабые звуки, похожие на сдерживаемое дыхание и на шаги босых ног, стали раздаваться у кровати Кастелла. Затем послышался легкий скрип и царапанье у стены, как будто скреблась мышь, и вдруг, как раз в полосе лунного света, сквозь перегородку просунулась обнаженная рука с ножом.
Нож на мгновение повис над грудью спящего Кастелла, — это продолжалось только мгновение, потому что уже в следующую секунду Питер вскочил и ударом меча, который лежал наготове рядом с ним, отсек руку у плеча.
— Что случилось? — спросил Кастелл, — почувствовав, что что-то свалилось на него.
— Змея, — последовал ответ. — Ядовитая змея. Проснитесь и посмотрите.
Кастелл поднялся и молча глянул на ужасную руку, все еще сжимавшую нож. За перегородкой послышался подавленный стон и удаляющиеся тяжелые шаги.
— Ну что ж, — сказал Питер, — надо уходить, а то мы останемся здесь навсегда. Этот парень скоро вернется за своей рукой.
— Уходить! — отозвался Кастелл. — Но как?
— Похоже, что у нас есть только один путь и тот опасный: вот в это окошко и через стену, — ответил Питер. — Ага, они идут.
Не успел он это сказать, как они услышали, что кто-то поднимается по лестнице.
Под окном никто не сторожил, а до земли было не более двенадцати футов. Питер помог Кастеллу пролезть, держа его за здоровую руку, и опустил как можно ниже. Кастелл спрыгнул, не удержался и свалился на землю, но тут же поднялся. Питер собирался последовать за ним, но в это мгновение услышал звук падающего стула и, оглянувшись, увидел, что крышка откинута. Они перерезали веревку!
В слабом свете была видна фигура человека с ножом в руке. За ним виднелась еще одна. Теперь уже Питер не мог скрыться через чердачное окно: если бы он попытался сделать это, то получил бы удар в спину. Питер сжал обеими руками меч и прыгнул на противника. Меч, по-видимому, достиг цели: человек свалился на пол и остался недвижим. Второй уже опирался коленкой о край люка. Удар меча, и тот тоже свалился вниз, на головы стоявших ниже. Лестница рухнула. В результате нападавшие оказались в куче на полу. Только один удержался руками за край люка. Питер захлопнул крышку, и человек с диким криком полетел вниз. За неимением ничего другого Питер навалил на крышку люка труп убитого им человека.
Затем он побежал к окну, вложив на ходу меч в ножны, протиснулся сквозь отверстие и, повиснув на руках, спрыгнул. Он благополучно очутился на земле, так как был достаточно ловок и к тому же от возбуждения вообще забыл о своей раненой голове и плече.
— Куда теперь? — спросил его Кастелл, когда Питер, тяжело дыша, остановился перед ним.
— В конюшню за мулами… Нет, это бесполезно, у нас нет времени оседлать их. Да и наружные ворота закрыты. К стене! Мы должны перелезть через нее. Они будут здесь через минуту.
Питер и Кастелл бросились к стене и, к счастью своему, обнаружили, что хотя она достигала десяти футов высоты, но сложена была из крупных камней, по которым можно было вскарабкаться.
Питер взобрался первым, лег поперек стены, протянул Кастеллу руку и с трудом — так как старик был тяжел и к тому же ранен — подтянул его наверх. В этот момент они услышали, как кто-то кричал с чердака:
— Эти английские черти удрали! Бегите к воротам и ловите их!
Они спустились или, скорее, свалились со стены в колючий кустарник, который смягчил падение, но так поцарапал их, что они чуть не закричали от боли. Однако кое-как они выбрались из него, все окровавленные, вышли на дорогу и пустились бежать в сторону Гранады.
Не успели они отбежать и сотни ярдов, как услышали позади себя крики и поняли, что их преследуют. Как раз в этом месте дорога пересекала овраг, заросший густым кустарником и заваленный множеством валунов. За ним виднелось открытое пространство. Питер схватил Кастелла и потащил в овраг. Здесь они нашли укромное местечко за большим камнем — нечто вроде пещеры, заросшей кустами и высокой травой. Они пырнули туда и притаились.
— Вытаскивайте меч, — шепнул Питер Кастеллу. — Если они найдут нас, мы должны как можно дороже продать свою жизнь.
Кастелл повиновался и взял меч в левую руку. Они слышали, как грабители пробежали вперед по дороге, потом, обнаружив, что там никого не видно, вернулись обратно и принялись шарить по оврагу. Здесь было темно, потому что свет луны почти не проникал в него, и беглецы остались незамеченными. Двое преследователей остановились шагах в пяти от них, и один заявил, что, вероятно, те свиньи спрятались во дворе или побежали обратно в Мотриль.
— Я не знаю, где они спрятались, — ответил второй, — однако дело дрянь. У толстого Педро начисто отсекли руку, и он, пожалуй, истечет кровью. Двое других уже подохли или подыхают — этот длинноногий англичанин рубит крепко, — да еще те, что выпили отравленное вино. Похоже, что они уже никогда не проснутся. Да, и все это ради того, чтобы добыть несколько дублонов и ублаготворить иона! И все-таки, если бы я поймал этих свиней… — Он пробормотал страшную угрозу. — Я думаю, лучше всего залечь у выхода из оврага на тот случай, если они спрятались здесь.
Питер слышал весь этот разговор. Остальные бандиты убежали. Питер был взбешен, к тому же колючий кустарник причинял ему страшную боль. Не говоря ни слова, он выбрался из убежища, держа в руке свой страшный меч.
Бандиты увидели его и вскрикнули от ужаса. Для одного из них это был последний звук в его жизни. Другой пустился бежать.
Это был как раз тот, который грозил беглецам страшной расправой.
— Стой! — крикнул Питер, настигая его. — Стой и сделай то, что ты собирался!
Негодяй повернулся и принялся молить о пощаде, но Питер был неумолим…
— Это было необходимо, — сказал Питер Кастеллу, — вы слышали — они собирались сторожить нас.
— Я думаю, что у них вряд ли появится когда-либо желание напасть на англичанина на этом постоялом дворе, — задыхаясь, говорил Кастелл, стараясь не отстать от Питера.
ГЛАВА XIV.ИНЕССА И ЕЕ САД
Часа два пробирались Джон Кастелл и Питер по Гранадской дороге. Там, где дорога была ровной, они бежали и шли, когда она становилась трудной; время от времени останавливались, чтобы перевести дыхание и прислушаться. Однако ночь была безмолвна — по-видимому, никто их не преследовал. Очевидно, оставшиеся в живых бандиты направились другим путем или же решили, что с них достаточно этого приключения, и не желали больше иметь дело с мечом Питера.
Наконец над огромной равниной, окутанной туманом, забрезжил рассвет. Взошло солнце, разогнало туман, и милях в двенадцати путники увидели Гранаду, расположенную на холме. Они посмотрели друг на друга — печальное зрелище они представляли: исцарапанные колючками, перепачканные кровью. У Питера была обнажена голова — шляпу свою он потерял. Теперь, когда прошло возбуждение, он почувствовал себя чрезвычайно плохо от боли, усталости и желания спать. К тому же солнце начало припекать с такой силой, что Питер чуть не потерял сознание. Они соорудили из стеблей и травы нечто вроде шляпы. Этот головной убор придавал Питеру такой странный вид, что несколько встречных мавров решили, что он сумасшедший, и пустились бежать прочь.
Питер и Кастелл шли, делая не более мили в час, освежаясь водой из всех встречных капав. К полудню зной стал невыносим. Они вынуждены были прилечь отдохнуть под тенью какого-то дерева, похожего на пальму, и здесь, совершенно измученные, погрузились в сон, похожий на забытье.
Проснулись они от звуков голосов и вскочили па ноги, обнажив свои мечи. Они решили, что их догнали бандиты. Однако вместо гнусных убийц они увидели перед собой восемь мавров верхом на великолепных белых конях, в тюрбанах и развевающихся плащах, каких Питеру раньше никогда не приходилось видеть. Мавры спокойно и, по-видимому, не без жалости рассматривали путников.
— Спрячьте ваши мечи, сеньоры, — произнес предводитель на прекрасном испанском языке. Похоже было, что он испанец, одетый, по-восточному, — ведь нас много, а вас всего двое, да к тому же вы ранены.
Питеру и Кастеллу не оставалось ничего другого, как повиноваться.
— Скажите нам, хотя и нет большой нужды спрашивать, — продолжал предводитель, — вы и есть те двое англичан, которые оказались на «Сан Антонио» и спаслись, когда корабль утонул?
Кастелл кивнул:
— Мы оказались там, чтобы найти…
— Не важно, что вы искали, — перебил его предводитель. — Имена высокочтимых дам не должны упоминаться в присутствии неизвестных людей. Но вы после этого попали в беду на постоялом дворе, где этот высокий сеньор вел себя очень храбро. Мы уже слышали эту историю и свидетельствуем свое уважение человеку, который так владеет мечом.
— Мы благодарим вас, — ответил Кастелл, — но какое у вас дело к нам?
— Сеньор, нас послал наш господин, его светлость маркиз Морелла, чтобы мы разыскали вас и привезли в качестве его гостей в Гранаду.
— Значит, поп рассказал, — пробормотал Питер. — Я так и думал.
— Мы просим вас следовать за нами без сопротивления, потому что у нас нет желания применять силу по отношению к столь храбрым людям, — продолжал офицер. — Будьте так любезны сесть на этих лошадей.
— Я купец, — сказал Кастелл, — и у меня есть друзья в Гранаде. Можем ли мы поехать к ним, если мы не хотим воспользоваться гостеприимством маркиза?
— Нет, сеньор, у нас есть приказ, а слово маркиза, нашего господина, является здесь законом, который нельзя нарушать.
— Я думал, что королем Гранады является Боабдил, — заметил Кастелл.
— Без сомнения, он король и по воле аллаха и будет им, но маркиз — его родственник, и к тому же, пока продолжается перемирие, он является послом их величеств короля и королевы Испании в нашем городе.
По знаку офицера двое мавров спешились, подвели к Питеру и Кастеллу своих коней и предложили помочь сесть в седло.
— Делать нечего, — сказал Питер, — придется ехать.
Довольно неловко, ибо оба они были совершенно разбиты, Питер и Кастелл взобрались на коней и тронулись в сопровождении своих стражей.
Солнце уже склонялось к закату — они проспали довольно долго, — когда они достигли ворот Гранады. Муэдзины с минаретов мечетей уже выкрикивали вечерние молитвы.
У Питера осталось весьма смутное представление о столице мавров, пока он ехал через нее, окруженный эскортом. Узкие, извилистый улицы, белые дома, закрытые ставнями окна, толпы вежливых и молчаливых люден в белых развевающихся одеждах, резные и остроконечные арки и огромное сказочное здание на холме. От боли и усталости он с трудом воспринимал что-либо, пока ехал по этому удивительному и величественному городу. Вид у него был довольно странный — длинноногая фигура, вся окровавленная и увенчанная причудливой шляпой из травы.
Однако никто не смеялся над ним. Вероятно, потому, что его смешная внешность не мешала видеть в нем храброго воина. А может быть, сюда дошли слухи о том, как он работал мечом на постоялом дворе и на корабле. Во всяком случае, в отношении жителей чувствовалась сдержанная нелюбовь к христианам, смешанная с уважением к храброму человеку, попавшему в беду.
В конце концов после длительного подъема они оказались перед дворцом, напротив которого стояла огромная крепость с красными стенами, господствовавшая над городом. Позднее Питер узнал, что это Альгамбра. Между дворцом и крепостью была равнина. Дворец был колоссальным сооружением, расположенным по трем сторонам четырехугольника и окруженным садами, в которых высокие кипарисы устремлялись острыми вершинами в ясное небо. Всадники миновали многочисленные ворота, пока не оказались во дворе, где слуги с факелами в руках бросились им навстречу. Кто-то помог Питеру слезть с лошади, кто-то провел его по ступенькам мраморной лестницы, внизу которой бил фонтан, в большую прохладную комнату с резным потолком. После этого Питер уже ничего не помнил.
Прошло время, много-много времени — не меньше месяца, — прежде чем Питер открыл глаза и вновь увидел окружающий его мир. Нельзя сказать, что он все это время был без сознания — время от времени он узнавал большую прохладную комнату и людей, говоривших о нем, особенно легко двигавшуюся красивую черноглазую женщину в белом головном уборе. Похоже было, что она ухаживает за ним. Иногда ему казалось, что это Маргарет, и все-таки он знал, что это не может быть она, потому что женщина не была похожа на Маргарет. Питер припомнил, что раз или два он видел склонившееся над ним надменное и красивое лицо Морелла; тот как будто хотел узнать, останется ли Питер жив. Питер пытался подняться, чтобы сразиться с ним, но его укладывали обратно мягкие, белые, но удивительно сильные руки женщины.
Теперь же, когда Питер окончательно пришел в сознание, он увидел эту женщину, сидевшую рядом с его постелью; солнечный луч, проникавший сквозь верхнее окно, освещал ее лицо. Она сидела, подперев рукой подбородок, и с любопытством рассматривала его. Он заговорил с ней на ломаном испанском языке, потому что неизвестно откуда, но он знал, что она не понимает поанглийски.
— Вы не Маргарет, — сказал он.
Задумчивость мгновенно исчезла с ее лица, она оживилась и подошла к нему. У нее была очень грациозная фигура.
— Нет, нет, — сказала она, склоняясь над ним и касаясь его лба своими тонкими пальцами, — меня зовут Инесса. Вы все еще бредите, сеньор.
— Какая Инесса?
— Просто Инесса, — ответила она, — Инесса, женщина из Гранады, все остальное забыто. Инесса, сиделка, ухаживающая за больным.
— Тогда где же Маргарет, англичанка Маргарет?
Ему показалось, что тень тайны окутала лицо женщины и голос ее изменился, когда она отвечала — он уже не звучал правдиво. Или это почудилось его рассудку, ставшему острее от лихорадки?
— Я не знаю никакой англичанки Маргарет. А вы любите ее, англичанку Маргарет?
— Да, — ответил Питер. — Ее украли у меня. Она жива или умерла?
— Я уже сказала вам, сеньор, что я ничего не знаю, но, — опять ее голос стал естественным, — я поняла, что вы любите кого-то, судя по словам во время болезни.
Питер подумал немного. Он начал кое-что припоминать:
— А где Кастелл?
— Кастелл? Это ваш спутник, человек с поврежденной рукой, похожий на еврея? Я не знаю, где он. Наверно, в другой части города. Я думаю, что его отправили к его друзьям. Не спрашивайте меня об этом, я всего только ваша сиделка. Вы были очень больны, сеньор. Посмотрите. — И она подала ему маленькое зеркало, сделанное из полированного серебра, но, поняв, что он слишком слаб, чтобы взять его, подержала зеркало перед его лицом.
Питер увидел себя в зеркале и тяжело вздохнул — лицо его было мертвенно бледным и изможденным.
— Хорошо, что Маргарет не видит меня, — произнес он, пытаясь улыбнуться, — с бородой, да еще с какой! Как вы могли ухаживать за таким страшным мужчиной?
— Мне вы показались не страшным, — мягко ответила она. — Кроме того, это мое занятие. Но вам нельзя разговаривать, вы должны отдыхать. Выпейте вот это и отдыхайте.
Она подала ему суп в серебряной чашке. Питер с готовностью проглотил его и уснул.
Через несколько дней, когда Питер уже был на пути к выздоровлению, пришла его прелестная сиделка и села рядом с ним, с жалостью глядя на него своими нежными восточными глазами.
— Что случилось, Инесса? — спросил Питер, обратив внимание на ее грустное лицо.
— Сеньор Педро, когда вы в первый раз проснулись после долгого сна, вы говорили со мной о некоей Маргарет, не так ли? Я узнавала об этой донне Маргарет, и у меня для вас дурные новости.
Питер стиснул зубы и вымолвил:
— Говорите самое страшное.
— Эта Маргарет путешествовала с маркизом Морелла.
— Он украл ее, — вырвалось у Питера.
— Увы, может быть. Но в Испании, и особенно здесь, в Гранаде, это вряд ли спасет честь той, о которой известно, что она путешествовала с маркизом Морелла.
— Тем хуже будет для маркиза Морелла, когда я опять встречу его, — зло пробормотал Питер. — Что вы еще хотели рассказать мне, Инесса?
Она с интересом посмотрела не его исхудавшее, суровое лицо.
— Плохие новости. Я уже сказала вам, что плохие. Говорят, что эту сеньору однажды нашли мертвой у подножия самой высокой башни дворца маркиза. Упала ли она, или ее сбросили, никто не знает.
Питер задохнулся. Наступило молчание. Потом он спросил:
— Вы видели ее мертвой?
— Нет, сеньор, другие видели.
— И поручили вам сказать мне. Инесса, я не верю этому. Если бы донна Маргарет, моя невеста, умерла, я бы знал это. Но сердце мое говорит, что она жива.
— Вы так верите своему сердцу, сеньор? — отозвалась женщина с оттенком восхищения в голосе.
Питер заметил, что она не возразила ему.
— Да, я верю, — ответил он, — у меня не осталось ничего другого, а это не такая уж плохая поддержка.
Питер замолчал, только спустя некоторое время спросил:
— Скажите мне, где я нахожусь?
— В тюрьме, сеньор.
— Вот как? В тюрьме, с прекрасной женщиной в качестве тюремщика и с другими прекрасными женщинами, — он показал на красивую девушку, которая принесла что-то в комнату, — в качестве служанок. Да и сама тюрьма неплоха. — Он обвел взглядом мраморные своды, украшенные превосходной резьбой.
— Там, за дверьми, уже не женщины, а мужчины, — ответила она улыбаясь.
— Я полагаю. Пленников ведь можно связывать веревками и из шелка. Ну, а кому принадлежит эта тюрьма?
Инесса покачала головой:
— Я не знаю, сеньор. Наверно, королю мавров. Вы ведь сами сказали, что я только тюремщица.
— Тогда кто же платит вам?
— Может быть, мне вообще не платят. Может быть, я служу из любви,
— она быстро взглянула на него, — или из ненависти. — При этих словах лицо ее изменилось.
— Я надеюсь, не из ненависти ко мне, — сказал Питер.
— Нет, сеньор, не из ненависти к вам. За что я могу ненавидеть вас, такого беспомощного и такого славного?
— Действительно, за что? Тем более что я так благодарен вам — ведь вы выходили меня и вернули к жизни. Но тогда зачем скрывать правду от беспомощного человека?
Инесса огляделась вокруг. В комнате в эту минуту, кроме них, никого не было. Она нагнулась к Питеру и прошептала:
— Вас никогда не заставляли скрывать правду? Я вижу по вашему лицу, что нет. К тому же вы не женщина, не заблудшая женщина.
Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, потом Питер спросил:
— Донна Маргарет действительно умерла?
— Я не знаю, мне так сказали. — И, как бы испугавшись, что она выдаст себя, Инесса отвернулась и быстро вышла из комнаты.
Шли дни. Питер понемногу начал поправляться. Но ему так и не удалось выяснить, где он находится и почему. Все, что он знал, сводилось к тому, что он был пленником в роскошном дворце. Но и в этом он не был уверен — стрельчатые окна одной из стен были заделаны. К нему никто не приходил, за исключением прекрасной Инессы и мавра, который или был глух, или не понимал по-испански. Правда, были еще женщины, служанки, все как одна красивые, но им не разрешалось приближаться к нему. Питер видел их только издали.
Таким образом, единственной собеседницей Питера была Инесса, и отношения их становились все более дружескими. Только один раз она решилась приподнять краешек вуали, скрывавшей ее мысли. Прошло много времени, прежде чем Инесса стала более доверять Питеру. Каждый день он задавал ей вопросы, и каждый день она без тени раздражения или хотя бы досады уклонялась от прямого ответа. Оба отлично понимали, что каждый из них старается перехитрить другого, но пока что у Инессы было преимущество в этой игре, которая ей, пожалуй, нравилась. Питер расспрашивал ее о множестве вещей — об испанском королевстве, о мавританском дворе, об опасности, угрожающей Гранаде, которой предстояло пережить осаду. Все эти вопросы они обсуждали вместе, и Инесса проявляла при этом незаурядный ум. В результате Питер был осведомлен о политических событиях, происходящих в Кастилии и Гранаде, и довольно серьезно улучшил свои познания испанского языка.
Однако, когда он неожиданно — а он делал это при каждом удобном случае — снова спрашивал ее о маркизе Морелла, о Маргарет или о Кастелле, выражение ее лица менялось и печать молчания смыкала ее уста.
— Сеньор, — сказала однажды, смеясь, Инесса, — вы хотите узнать тайну, которую я, быть может, и раскрыла бы вам, если бы вы были моим мужем или любовником, но вы не можете рассчитывать узнать ее от сиделки, жизнь которой зависит от того, как она ее хранит. Это вовсе не означает, что я хочу, чтобы вы стали моим мужем или любовником, — добавила она с нервным смехом.
Питер серьезно посмотрел на нее.
— Я знаю, что вы не хотите этого, — сказал он: — чем бы я мог привлечь такую блестящую и красивую женщину, как вы?
— Однако вы, кажется, привлекаете англичанку Маргарет, — быстро и раздраженно ответила она.
— Привлекал, вы имеете в виду. Ведь вы говорили мне, что она умерла.
Поняв, что она совершила ошибку, Инесса прикусила губу.
— Однако, — продолжал Питер, — хотя это, вероятно, не столь важно для вас, я должен сказать, что вы сделали меня своим хорошим другом.
— Другом? — переспросила Инесса, широко открыв свои большие глаза.
— О чем вы говорите? Разве такая женщина, как я, может найти друга в мужчине моложе шестидесяти лет?
— Похоже на то, — улыбнулся Питер.
Легко поклонившись ему, Инесса вышла из комнаты. Через два дня она появилась вновь, по-видимому, очень озабоченная.
— Я уж думал, что вы совсем бросили меня, — встретил ее Питер. — Очень рад видеть вас. Я устал от этого глухого мавра и от этой великолепной комнаты. Мне хотелось бы подышать свежим воздухом.
— Я догадывалась об этом и пришла, чтобы проводить вас в сад.
Питер подпрыгнул от радости, схватил свой меч, который был ему оставлен, и стал пристегивать его.
— Вам он не понадобится, — заметила Инесса.
— Я полагал, что он мне не понадобится и на том постоялом дворе…
— буркнул Питер.
Инесса рассмеялась и положила руку ему на плечо.
— Слушайте, друг мой, — шепнула она, — вы хотите пройтись по свежему воздуху, не так ли? Кроме того, вас интересуют некоторые вещи. А я хочу рассказать вам о них. Но здесь я не смею делать этого — у этих стен есть уши. Ну, а когда мы будем гулять в саду, не будет ли для вас очень тяжелым наказанием обнять меня за талию? Вы ведь еще нуждаетесь в опоре.
— Уверяю вас, что это отнюдь не будет для меня наказанием, — улыбнулся Питер. В конце концов, он был мужчина, и к тому же молодой, а талия Инессы была так же прелестна, как и она сама. — Однако, — добавил он, — это могут неправильно истолковать.
— Совершенно верно, я и хочу, чтобы это было неправильно истолковано. Не мной, конечно. Я ведь знаю, что совершенно не интересую вас и что вы с таким же удовольствием обнимете эту мраморную колонну.
Питер открыл рот, чтобы возразить ей, но Инесса остановила его.
— О, не пытайтесь солгать мне, у вас это вряд ли получится! — сказала она с явным раздражением. — Если бы у вас были деньги, вы бы попытались заплатить мне за уход за вами, и кто знает, я, может быть, взяла бы их. Поймите, или вы должны сделать то, что я говорю, то есть изобразить влюбленного, или нам нельзя идти вместе в сад.
Питер все еще колебался, подозревая заговор, но Инесса наклонилась к нему так, что ее губы почти коснулись его уха, и прошептала:
— Я не могу сказать вам, каким образом, но может быть — я повторяю: может быть — вам удастся увидеть останки донны Маргарет. Ну вот, — добавила она, горько усмехнувшись, — теперь вы будете целовать меня всю дорогу, не так ли? Глупец, не сомневайтесь. Используйте эту возможность, быть может, она не повторится.
— Какую возможность? Поцеловать вас? Или чтолибо другое?
— Это вы увидите, — ответила она, пожав плечами. — Пошли.
Питер, все еще колеблясь, последовал за ней. Инесса провела его в конец комнаты к двери, вверху которой было потайное отверстие для наблюдения. За дверью с обнаженной кривой саблей в руке стоял высокий мавр. Инесса сказала ему что-то, и он, отсалютовав ей саблей, пропустил их к винтовой лестнице. Внизу оказалась другая дверь. Инесса постучала в нее четыре раза. Заскрипели засовы, повернулся ключ, и чернокожий страж распахнул ее. За дверью стоял другой мавр, тоже с обнаженной саблей в руке. Они миновали его, свернули направо по маленькому коридору, оканчивавшемуся несколькими ступеньками, и оказались перед третьей дверью. Здесь Инесса остановилась.
— А теперь, — сказала она, — приготовьтесь к испытанию.
— К какому испытанию? — спросил Питер, опираясь о стену: ноги его все еще были слабы.
— К этому, — ответила Инесса, показывая на свою талию, — и к этому, — и она коснулась кончиками тонких пальцев своих пухлых красных губ. — Может быть, вы хотите немного попрактиковаться, мой невинный английский рыцарь, прежде чем мы выйдем? Боюсь, что вы окажетесь неловким и не сумеете сыграть свою роль.
— Я думаю, — заметил Питер, ибо юмор всей ситуации становился ясен, — что такая практика несколько опасна для меня. Это может надоесть вам раньше времени. Я отложу это приятное занятие до того, как мы будем в саду.
— Я так и думала, — сказала Инесса. — Но смотрите, вы должны хорошо сыграть свою роль, иначе пострадаю я.
— Мне кажется, что я могу пострадать тоже, — пробормотал Питер, но не настолько тихо, чтобы Инесса не могла расслышать его слов.
— Нет, друг мой Педро, — обернулась она к Питеру, — в такого рода фарсах всегда страдает женщина. Она расплачивается, а мужчина исчезает, чтобы играть следующий фарс. — И, не говоря больше ни слова, Инесса толкнула дверь.
Стражи здесь уже не оказалось. Перед ними был великолепный сад. Кругом высились конусообразные кипарисы и апельсиновые деревья, а цветущие кусты наполняли мягкий южный воздух благоуханием. Из пастей каменных львов били фонтаны. В разных уголках сада были устроены беседки, на каменных скамьях лежали цветные подушки. Это был подлинно восточный уголок наслаждений. Питер никогда не видел ничего подобного. К тому же он не видел ни неба, ни цветов в течение долгих, томительных недель болезни. Сад был совершенно изолирован, его окружала высокая стена, и только в одном месте между двумя кипарисами возвышалась башня из красного камня, без окон, принадлежащая какому-то другому зданию.
— Это гаремный садик, — прошептала Инесса. — Много любимиц порхало здесь в счастливые летние дни, пока не приходила зима и бабочка не погибала.
Инесса опустила на лицо вуаль и начала спускаться вниз по ступенькам.
ГЛАВА XV. ПИТЕР ИГРАЕТ РОЛЬ
— Стойте, — попросил Питер, остановившись в тени двери, — я все еще ничего не понимаю, Инесса. Что вы задумали? Почему вы не можете здесь рассказать мне то, что вы собираетесь сказать?
— Вы сошли с ума! — почти с неистовством прошептала она. — Неужели вы думаете, что мне доставляет хоть какое-то удовольствие изображать себя влюбленной в камень, принявший образ мужчины, который для меня ровным счетом ничего не значит… разве только как друг, — добавила она быстро, — Я уже сказала вам, сеньор Питер, что, если вы не исполните то, что я приказала вам, вы никогда не услышите того, что я должна вам сказать. Будет решено, что я не справилась с этим делом, и через несколько минут я исчезну отсюда навсегда. Конечно, что это значит для вас? Выбирайте, и быстро, потому что я не могу долго стоять здесь.
— Я повинуюсь вам, пусть простит меня бог, — ответил в смятении Питер из темноты портала, — но я действительно должен…
— Да, да, вы должны! — яростно возразила Инесса. — И не всем это показалось бы столь тяжелым наказанием.
Затем она кокетливо приподняла край своей вуали и, выглядывая из-под псе, позвала мягким, ясным голосом.
— О, простите меня, дорогой друг, я шла слишком быстро, забыв, что вы все еще так слабы. Идите сюда, обопритесь на меня. Я слабая женщина, но вас я поддержу. — Инесса поднялась по ступенькам, чтобы в следующую минуту вновь появиться в полосе света.
Теперь рука Питера обнимала ее талию.
— Будьте осторожны на этих ступеньках, они такие скользкие! (При этих словах бледное лицо Питера неожиданно стало пунцовым.) Не бойся,
— продолжала она сладким голосом, — в этом саду никто не услышит твоих нежных слов и не увидит, как ты ласкаешь меня. Даже самая ревнивая женщина. В старину этот сад назывался спальней султанши — там, в конце, есть место, где она купалась летом… Что ты сказал о шпионах? О да, во дворце их много, но заглядывать сюда даже для евнухов было равносильно смерти. Здесь нот иных свидетелей, кроме цветов и птиц.
Они приблизились к главной дорожке и медленно пошли по ней. Питер все еще обнимал Инессу, а ее белая рука поддерживала его. При этом она смотрела ему в глаза.
— Наклонитесь ближе ко мне, — прошептала она, — а то у вас лицо, как у деревянного святого. — Питер повиновался. — Теперь слушайте. Ваша дама жива и здорова… Поцелуйте меня, пожалуйста, в губы, эта новость стоит того. Если вы закроете глаза, вы можете вообразить, что это она.
Питер опять повиновался, и с большей готовностью, чем можно было предполагать.
— Она пленница в этом замке, — продолжала Инесса. — Маркиз сходит с ума от любви к ней и любыми способами хочет заставить ее стать его женой.
— Будь он проклят! — воскликнул Питер, вновь обнимая Инессу.
— Все это время она была уверена, что вас нет в живых, но теперь она знает, что вы живы и выздоравливаете. Ее отцу удалось спастись и укрыться у своих друзей. Там его не сумеет разыскать даже Морелла. К тому же маркиз полагает, что старик бежал из города. Однако Кастелл здесь и, так как у него много золота, он установил связь со своей дочерью.
Инесса остановилась для того, чтобы с нежностью обнять Питера. Они прошли под деревьями и вышли к мраморным бассейнам, где, как говорили, купались летом жены султана. Этот дворец принадлежал раньше королям Гранады, до того как они поселились в Альгамбре. Инесса уселась на скамью и откинула шарф, окутывавший ее шею.
— Что вы делаете? — со страхом спросил Питер.
— Мне жарко, — ответила Инесса, — ваши руки слишком горячи. Здесь мы можем посидеть несколько минут.
— Тогда продолжайте свой рассказ.
— Мне не много осталось сказать, друг мой. Если вы хотите ей передать что-нибудь, я, возможно, сумею это сделать.
— Вы ангел! — воскликнул Питер.
— Это что — другое название для посланца? Продолжайте.
— Скажите ей… что если она что-либо узнает о нашей прогулке, то пусть не верит.
— По этому поводу она может составить собственное мнение, — возразила Инесса. — Если бы я была на ее месте, я знаю, какое у меня было бы мнение. Однако не теряйте времени, скоро нам нужно опять идти.
Питер уставился на нее — он ничего не мог понять в этом спектакле. Однако Инесса спокойно и серьезно сказала:
— Вас удивляет, что все это значит и почему я поступаю таким образом? Я объясню вам, сеньор, а вы можете мне верить или не верить, как хотите. Может быть, вы думаете, что я влюблена в вас? Это было бы не так уж удивительно. В старых сказках такие вещи часто случаются — дама лечит христианина-рыцаря, влюбляется в него, ну, и так далее.
— Я не предполагаю ничего подобного. Я не столь тщеславен.
— Я знаю это, сеньор, вы слишком хороший человек для того, чтобы быть тщеславным. Так вот, я делаю все это не из любви к вам или к кому-либо еще, а из ненависти. Да, из ненависти к Морелла. — И она сжала в кулак свою маленькую ручку.
— Я понимаю это, — сказал Питер. — Что он сделал вам?
— Не спрашивайте меня, сеньор. Достаточно того, что я любила его. Проклятый отец Энрике продал меня ему… это было давно, и Морелла погубил меня. Я родила ему сына… и сын умер. О матерь божья, мой мальчик умер, и с той поры я стала отверженной, рабой… У них здесь, в Гранаде, есть рабы… Я ем его хлеб, и я должна выполнять его приказания, должна служить другим женщинам, которых он любит, — я, которая была султаншей, я, которая надоела ему. Только сегодня… Но зачем я буду рассказывать вам об этом? Он заставил меня пойти и на это
— я должна целовать в саду чужестранца, который не любит меня! — Она громко зарыдала.
— Бедное дитя! Бедное дитя! — произнес Питер, гладя ее тонкие пальцы. — С этой минуты у меня еще один счет к Морелла, и я заставлю маркиза оплатить за все сполна.
— Вы сделаете это? — быстро спросила Инесса. — О, если так, я готова умереть за вас! Я ведь живу только для того, чтобы отомстить ему. И первая моя месть будет, когда я украду у него эту даму, которую он похитил у вас и полюбил так страстно. Ведь она первая женщина, которая сопротивляется ему, — а он считает себя непобедимым.
— У вас есть какой-нибудь план? — спросил Питер.
— Пока еще нет. Дело очень трудное. Я рискую жизнью. Если маркиз заподозрит, что я предала его, он, не задумываясь, убьет меня. Здесь, в Гранаде, это даже не считают преступлением. И никто не будет задавать никаких вопросов, особенно если жертвой была женщина из дома убийцы. Я уж говорила вам, что, если бы я отказалась сделать то, что мне приказали, от меня просто избавились бы тем или иным способом, а вас поручили бы другой. Нет, у меня пока еще нет никакого плана, но вы должны знать, что сеньор Кастелл поддерживает связь со своей дочерью через меня. Я увижу его и ее, и мы придумаем какой-нибудь план. Не благодарите меня. Морелла платит мне за услуги, и я с радостью принимаю эти деньги, потому что надеюсь бежать из этого ада, и тогда буду жить на них. И все-таки ни за какие деньги на свете я не пошла бы на тот риск, на который иду сейчас, хотя, честно говоря, для меня жизнь ничего не значит. Сеньор, я не буду скрывать от вас — вся эта сцена дойдет до ушей донны Маргарет, но я обещаю объяснить ей все.
— Умоляю вас, сделайте это, — серьезно сказал Питер.
— Сделаю, сделаю. Я буду помогать вам, ей и ее отцу. И если я перестану это делать, знайте, что я умерла или брошена в тюрьму, и заботьтесь о себе сами как можете. Одно только могу сказать вам для вашего успокоения: вашей даме не причинено никакого вреда. Морелла слишком любит ее. Он хочет сделать ее своей женой. А может быть, он дал какую-нибудь клятву. Я вот знаю, что он поклялся не убивать вас — ведь он легко мог бы сделать это, пока вы были больны и находились в его власти. Однажды, когда вы были еще без сознания, он пришел и стоял над вами с кинжалом в руке. Тогда он рассказал мне все. Я спросила: «Почему ты не убьешь его? „, зная, что, задавая такой вопрос, я наилучшим способом сохраню вашу жизнь. Он ответил: «Потому что я не хочу жениться на девушке, если у меня на руках будет кровь ее возлюбленного. Я могу убить его только в честном бою. Я поклялся в этом еще там, в Лондоне. Я обещал богу и моему святому, что я завоюю ее честным путем, и, если я нарушу эту клятву, бог покарает меня здесь и на небе. Делай то, что я тебе приказал, Инесса. Ухаживай за ним хорошо; если он умрет, то пусть уж не по моей вине“. Нет, он не убьет вас и не причинит ей никакого вреда. Он не посмеет это сделать, друг мой Педро.
— Так вы Ничего не можете сейчас придумать? — спросил Питер.
— Ничего. Пока ничего. Эти стены высоки, стража охраняет их день и ночь, а за стенами лежит большой город Гранада, в котором Морелла пользуется огромной властью и где ни один христианин не может скрыться. Но маркиз хочет жениться на Маргарет. Кроме того, есть красивая и глупая женщина, ее служанка, влюбленная в маркиза. Она рассказала мне все это на самом дурном испанском языке, который я когда-либо слышала. Но это слишком длинная история, чтобы пересказывать ее. И есть еще отец Энрике, по чьему приказу вас чуть не убили на постоялом дворе. Больше всего на свете он любит деньги… О, кажется, я кое-что начинаю придумывать!.. Но у нас нет больше времени для разговоров, а мне нужно как следует подумать. Друг мой, Педро, приготовьтесь целовать меня, мы должны продолжить нашу игру, а, честно говоря, вы играете довольно плохо. Давайте вашу руку. Там есть приготовленная для вас скамья. Улыбайтесь и старайтесь выглядеть влюбленным. У меня не хватает искусства на двоих. Пойдемте, пойдемте…
Они вышли из густой тени деревьев, миновали мраморные бассейны и оказались у скамьи. На ней были разбросаны подушки, и среди них лежала лютня.
— Сядьте у моих ног, — предложила Инесса, располагаясь на скамье.
— Вы умеете петь?
— Как петух, — ответил Питер.
— Тогда я буду петь для вас. Пожалуй, это будет лучше, чем изображать влюбленных.
Она принялась напевать своим прелестным голосом любовные мавританские песенки, аккомпанируя себе на лютне.
Питер, измученный физически и очень взволнованный, старался играть свою роль влюбленного как можно лучше. Постепенно наступили сумерки.
Наконец стало так темно, что уже не было видно другого конца сада. Инесса перестала петь и со вздохом поднялась.
— Пьеса окончена, и занавес опущен, — сказала она. — А вам пора уходить отсюда, здесь сыро. Сеньор Педро, я должна признаться, что вы очень плохой актер, но будем надеяться, что зрители были снисходительны и приняли желаемое за действительное.
— Я не видел зрителей, — заметил Питер.
— Но они видели нас, и я уверена, что вы скоро убедитесь в этом. А сейчас идемте в вашу комнату, потому что я должна покинуть вас. Хотите вы чтонибудь передать сеньору Кастеллу?
— Ничего, кроме моей любви и почтения. Скажите ему, что благодаря вам я хоть еще и слаб, но оправился от ран, полученных на корабле, и от лихорадки, и что, если он придумает какой-нибудь план, чтобы вытащить нас всех из этого города и из рук Морелла, я буду благословлять его и вас.
— Хорошо, я не забуду этого. А теперь молчите. Завтра мы опять будем гулять. Не пугайтесь: завтра уже не нужно будет играть в любовь.
Маргарет сидела у открытого окна в роскошной комнате во дворце Морелла. Она была облачена в богатое испанское платье с высоким воротником, украшенным жемчугом. Приходилось носить то, что нравилось человеку, похитившему ее. Длинные волосы Маргарет, схваченные обручем, усеянным драгоценными камнями, падали ей на плечи, руки лежали на коленях. Из окон своей тюрьмы она вглядывалась в расположенную напротив мрачную и величественную громаду Альгамбры и в десятки тысяч огней Гранады, сверкающих далеко внизу. Рядом с ней, под серебряной висячей лампой, сидела Бетти, тоже богато одетая.
— В чем дело, кузина? — допытывалась Бетти, с тревогой глядя на Маргарет. — В конце концов, ты должна чувствовать себя счастливее, чем раньше. Теперь ты знаешь, что Питер жив, почти поправился и находится в этом же дворце. Отец твой здоров, скрывается у друзей и думает о нашем спасении. Почему же ты так грустна? По-моему, ты должна быть веселее, чем обычно.
— Разве ты не знаешь, Бетти? Ну, так я расскажу тебе. Меня предали. Питер Брум, человек, на которого я смотрела уже почти как на мужа, обманул меня.
— Мастер Питер обманул? — с
удивлением воскликнула Бетти. — Нет, это невозможно! Я знаю его, он не мог этого сделать. Ведь он даже не смотрит на других женщин, если ты это имеешь в виду.
— Как ты можешь так говорить? Послушай и суди сама. Ты помнишь тот вечер, когда маркиз повел нас смотреть чудеса этого дворца? Я еще подумала, что, может быть, найду какой-нибудь путь, которым мы сможем бежать.
— Конечно, помню. Мы не так часто покидаем эту клетку, чтобы я могла забыть это.
— Ну, значит, ты помнишь тот сад, окруженный высокой стеной, в котором мы гуляли. Маркиз, этот ненавистный отец Энрике и я поднялись на башню посмотреть на окрестности с ее крыши. Я думала, что ты идешь вместе с нами.
— Служанки не пустили меня. Как только вы прошли, они закрыли дверь и сказали, чтобы я ждала, пока вы не вернетесь. Я уж хотела вцепиться в волосы одной из них, потому что я боялась оставить тебя одну с этими двумя мужчинами, но эта дрянь вытащила нож, и мне пришлось смириться.
— Ты должна быть осторожнее, Бетти, — заметила Маргарет, — иначе кто-нибудь из этих язычников убьет тебя.
— Только не они, — возразила Бетти — они боятся меня. Я уже спустила одну из них вниз головой с лестницы, когда застала ее подслушивающей под дверью. Она пожаловалась маркизу, а он только посмеялся над пей, и теперь она лежит в постели с пластырем на носу. Но продолжай свой рассказ.
— Мы поднялись на верх башни, — начала Маргарет, — и стали смотреть на горы и равнину, по которой они привезли нас из Мотриля. Вдруг священник, который ушел к северной стене, где нет окон, с дьявольской улыбкой на лице вернулся и шепнул что-то на ухо маркизу. Тот повернулся ко мне и сказал:
«Отец Энрике сообщил мне о гораздо более интересном зрелище, которое мы можем увидеть. Пойдемте посмотрим, сеньора».
Я пошла, потому что мне хотелось как можно больше разузнать об этом здании. Они провели меня в маленькую нишу, высеченную в толщине стены. Там в стене есть щели, похожие на амбразуры для стрельбы из лука, широкие изнутри, но очень узкие снаружи, так что их, наверно, нельзя увидеть снизу — ведь они скрыты между камнями стены.
«Здесь, — сказал маркиз, — обычно сидели в старину короли Гранады, а они всегда были ревнивы — и наблюдали отсюда за своими женами. Говорят, что один из них однажды увидел свою наложницу с астрологом и утопил их обоих в мраморном бассейне в конце сада. Посмотрите, перед нами пара, которая не подозревает, что мы являемся свидетелями их ласк».
Я нехотя посмотрела вниз, только чтобы занять время, и увидела высокого мужчину, который шел, обнявшись с женщиной. Я уже хотела отвернуться, чтобы не подсматривать, как вдруг женщина подняла лицо, чтобы поцеловать своего спутника, и я узнала красавицу Инессу. Она иногда посещала нас, вероятно затем, чтобы шпионить. В этот момент мужчина, ответив на ее поцелуй, виновато оглянулся, и я узнала его.
— Кто же это был? — воскликнула Бетти; этот рассказ о двух влюбленных заинтересовал ее.
— Не кто иной, как Питер Брум, — спокойно ответила Маргарет, но в голосе ее слышалось отчаяние. — Питер Брум, бледный после болезни, но это был он.
— Святые, спасите нас! Вот уж не думала, что он способен на это! — выпалила в изумлении Бетти.
— Маркиз и священник не позволили мне уйти, — продолжала Маргарет,
— и заставили смотреть. Питер и Инесса задержались на некоторое время под деревьями около бассейна, и их не было видно. Потом они появились опять и уселись на мраморной скамье. Женщина начала петь, а он обнимал ее. Это продолжалось до темноты, и мы ушли, оставив их там. Ну, — прибавила она, всхлипнув, — что ты на это скажешь?
— Скажу, что это был не мастер Питер, — ответила Бетти. — Он не любит незнакомых дам и потайных садиков.
— Это был он и не кто иной, Бетти.
— Тогда, значит, он был одурманен, пьян или околдован. Это был не тот Питер, которого мы знаем.
— Может быть, он околдован этой дурной женщиной? Но это не оправдывает его.
Бетти задумалась. У нее уже не было оснований сомневаться в рассказе Маргарет, но, видно, она не так осуждающе относилась к этому преступлению.
— Что ж, — сказала она, — мужчины, насколько я знаю, всегда остаются мужчинами. Он долгое время никого не видел, кроме этой кокетки, а она довольно хороша собой. К тому же вряд ли было честно следить за ним таким образом. Будь он моим возлюбленным, я бы не обратила на это внимания.
— Я и не скажу ему ничего ни об этом, ни о чемлибо другом, — твердо заявила Маргарет. — Между мной и Питером все кончено.
Бетти минуту подумала и вдруг произнесла:
— Мне кажется, я начинаю понимать, в чем здесь фокус. Маргарет, ведь они объявили тебе, что Питер умер. Потом мы узнали, что он жив и только болен и находится в этом дворце. Ложь обнаружилась. Теперь они хотят доказать его неверность. Не может ли вся эта сцена быть только спектаклем, который с определенной целью разыграла эта женщина?
— Для того чтобы сыграть такой спектакль, нужны были два актера, Ботти. Если бы ты видела…
— Если бы я видела, я бы уж рассмотрела, был ли это спектакль или настоящая любовь, а ты ведь слишком наивна, чтобы судить об этом. А о чем говорили маркиз и священник все это время?
— Очень мало, почти ни о чем. Они только обменивались улыбками, и, когда совсем стемнело и ничего не стало видно, они спросили, не думаю ли я, что пора возвращаться. Меня, которую они держали там все это время и заставили быть свидетельницей моего позора!
— Ну да, они удерживали тебя там, не так ли? И привели тебя туда как раз вовремя и не пустили меня в башню, чтобы я не могла быть с тобой. Если в тебе есть хоть капля справедливости, ты должна сначала выслушать Питера, что он скажет обо всей этой истории, а потом уже судить.
— Я уже осудила его, — холодно ответила Маргарет. — И вообще, я хотела бы умереть!..
Маргарет поднялась со своего кресла и подошла к окну. Башня стояла на гребне холма, и под ней с высоты двухсот футов слабо вырисовывалась в бледном свете белая лента дороги. Вид этот вызывал легкое головокружение.
— Это будет легко, не правда ли? — сказала Маргарет с принужденным смехом, — просто наклониться немного больше из окна, а потом одно движение — и тьма… или свет… навсегда… Что из двух?
— Свет, я думаю, — твердо произнесла Бетти, поворачиваясь спиной к окну, — свет адского огня и довольно сильный, потому что это не что иное, как самоубийство. А кроме того, ты представляешь, как ты будешь выглядеть там, на этой дороге? Кузина, не будь дурой. Если ты права, то вовсе не ты должна выпрыгивать из окна, а если ты ошибаешься, то тем более — ты только сделаешь еще хуже. Умереть ты всегда успеешь. И всетаки, если бы я была на твоем месте, я сначала попыталась бы поговорить с мастером Питером, хотя бы для того, чтобы сказать ему, что я о нем думаю.
— Может быть, — вздохнула Маргарет, бросаясь в кресло. — Но я страдаю! Ты даже не можешь понять, как я страдаю!
— Почему я не могу понять? — возмутилась Бетти. — Ты думаешь, ты единственная женщина в мире, которая оказалась достаточно глупой, чтобы влюбиться? Разве я не могу быть влюблена, как и ты? Ты улыбаешься и думаешь, что бедная Бетти не может испытывать те же чувства, что и ее богатая кузина! И все-таки это так — я влюблена. Я знаю, что он негодяй, и все-таки люблю маркиза так же, как ты его ненавидишь, так же, как ты любишь Питера, и я ничего не могу поделать с собой, такова уж моя судьба. Но я не собираюсь выбрасываться из окна. Я скорее выброшу его и тем самым сведу наши счеты. И клянусь, что я это сделаю так или иначе, даже если это будет стоить мне того, с чем мне не хочется расставаться, — моей жизни.
Бетти гордо выпрямилась. На ее красивом, полном решительности лице появилось такое выражение, что если бы маркиз видел его, то, наверное, пожалел бы, что избрал эту женщину в качестве своего орудия.
Маргарет с изумлением смотрела на Бетти. В эту минуту послышались шаги. Она подняла голову и увидела перед собой прекрасную испанку или мавританку, она не знала точно, — Инессу; ту самую женщину, которую она видела в саду вместе с Питером.
— Как вы попали сюда? — холодно спросила Маргарет.
— Через дверь, сеньора, которая была не заперта, что не совсем разумно для тех, кто хочет поговорить тайно в таком месте, как это, — ответила Инесса со скромным поклоном.
— Она все еще не заперта, — сказала Маргарет, показывая на дверь.
— Нет, сеньора, вы ошибаетесь, вот у меня в руке ключ. Я умоляю вас не приказывать вашей компаньонке выбрасывать меня отсюда — она достаточно сильна, чтобы сделать это, — мне нужно кое-что сказать вам, и, если вы разумны, вы выслушаете меня.
Маргарет помедлила, затем бросила:
— Говорите, но покороче.
ГЛАВА XVI. БЕТТИ ПОКАЗЫВАЕТ КОГОТКИ
— Сеньора, — начала Инесса, — мне кажется, что вы на меня сердитесь.
— Нет, — возразила Маргарет, — вы то, что вы есть; почему же я должна винить вас?
— Ну, тогда вы вините сеньора Брума.
— Может быть. Но это касается только его и меня. Я не собираюсь обсуждать это с вами.
— Сеньора, — продолжала Инесса с улыбкой, — мы оба не виноваты в том, что произошло.
— Неужели? А кто виноват?
— Маркиз Морелла.
Маргарет ничего не ответила, но глаза ее были достаточно красноречивы.
— Сеньора, вы мне не верите, и в этом нет ничего удивительного. И все-таки я говорю правду. То, что вы видели с башни, было спектаклем, в котором сеньор Брум играл свою роль. Причем, как вы, может быть, заметили, играл довольно скверно. Я предупредила его, что моя жизнь зависит от того, как он справится с этой ролью. Я выходила его от тяжелой болезни, а он человек благодарный.
— Я так и думала, но я не понимаю вас.
— Сеньора, я в этом доме рабыня, рабыня, которая больше никому не нужна. Остальное вы, пожалуй, можете предположить. Здесь это обычная история. Мне предложили свободу, если я завоюю сердце этого мужчины и сделаю его своим любовником. Если же я не сумею этого добиться, меня, вероятно, продадут другому хозяину, а может, поступят со мной еще хуже. Я согласилась — почему мне было не согласиться? Мне это ничего не стоило. Передо мной стоял выбор: с одной стороны — жизнь и свобода, а с другой — позор или смерть, которая, без сомнения, ожидает меня теперь, если меня разоблачат. Сеньора, я не имела успеха; правда, я не очень добивалась его. Он видел во мне только сиделку, не больше, а для меня он был только тяжелобольной. Тем не менее мы стали настоящими друзьями, и постепенно я узнала всю вашу историю. Я поняла, что вам была устроена ловушка, что, обманувшись, вы попали в еще более страшную западню. Сеньора, я не могла объяснить ему всего, особенно в той комнате, где за нами шпионили. К тому же мне было совершенно необходимо, чтобы его приняли за влюбленного. Я увела его в сад и, прекрасно зная, что вы наблюдаете за нами, заставила его сыграть роль. Очевидно, он все-таки провел ее достаточно хорошо, если вы обманулись.
— И все-таки я не понимаю вас, — сказала Маргарет уже более мягко.
— Вы говорите, что ваша жизнь и благополучие зависят от этого постыдного поступка. Почему же вы рассказываете мне все?
— Чтобы спасти вас от вас самой, сеньора. Чтобы спасти моего друга сеньора Брума и отплатить Морелла его же монетой.
— Так же вы сделаете это?
— Первые два дела, мне кажется, я уже сделала. По третье более трудное. Поэтому я и пришла к вам, несмотря на страшный риск. Если бы мой господин не был вызван ко двору короля мавров, я не сумела бы пробраться сюда. А он может в любую минуту вернуться.
— У вас есть какой-нибудь план? — спросила Маргарет, быстро наклоняясь к ней.
— Плана пока нет, есть только идея. — Инесса повернулась и, посмотрев на Бетти, продолжала: — Эта дама — ваша дальняя родственница, не так ли, только она занимает другое положение в обществе?
Маргарет кивнула головой.
— Вы довольно похожи, одного роста, у вас одинаковые фигуры, хотя сеньора Бетти гораздо крепче. У нее голубые глаза и золотые волосы, в то время как у вас глаза черные, а волосы каштановые. Однако под вуалью или ночью не так легко различить вас, если вы обе будете говорить шепотом.
— Да, — согласилась Маргарет, — но что из этого?
— Теперь в игру вступает сеньора Бетти, — ответила Инесса. — Сеньора Бетти, вы поняли наш разговор?
— Кое-что, но не все, — заявила Бетти.
— Тогда то, что вы не поняли, ваша хозяйка переведет вам. И, умоляю вас, не сердитесь на меня за то, что я знаю о вас и о ваших делах больше, чем вы рассказывали мне. Переведите, пожалуйста, мои слова, донна Маргарет.
Маргарет выполнила ее просьбу, и Инесса, подумав немного, медленно продолжала, а Маргарет переводила на английский в тех случаях, когда Бетти не понимала.
— Морелла ухаживал за вами в Англии, сеньора Бетти, не так ли? И покорил ваше сердце так же, как он покорял сердца многих других женщин. Вы поверили, что он хочет похитить вас для того, чтобы жениться на вас, а вовсе не на вашей кузине.
— Какое вам до этого дело? — вспылила Бетти.
— Никакого, не считая того, что, если бы вы захотели, я могла бы рассказать вам немало подобных историй. Но сначала выслушайте меня, а потом задавайте вопросы. Или лучше ответьте мне сначала на один вопрос: хотели бы вы отомстить этому высокорожденному негодяю?
— Отомстить? — переспросила Бетти, сжав руки. — Я готова рискнуть жизнью ради этого!
— Так же как и я… Значит, у нас общая цель. Тогда, мне кажется, я могу указать вам путь. Послушайте, ваша кузина видела кое-что такое, чего женщины не любят. Она ревнива, она сердита — или была такой до тех пор, пока я не открыла ей правду. Так вот, сегодня вечером или завтра Морелла придет к ней и спросит: «Вы удовлетворены? Вы все еще отказываете мне из-за человека, который отдал свое сердце первой же кокетке, соблазнившей его? Будете ли вы моей женой?» Что, если она ответит: «Да, буду»? Нет, нет, помолчите и выслушайте меня до конца. Что, если потом состоится тайная свадьба и сеньора Бетти случайно наденет фату невесты, в то время как донна Маргарет, переодетая в платье Бетти, получит разрешение уехать вместе с сеньором Брумом и ее отцом?
Инесса умолкла и, играя веером, наблюдала за ними обеими.
Маргарет перевела, и обе девушки в изумлении уставились сначала на Инессу, а затем друг на друга — дерзость и бесстрашие этого плана ошеломили их. Первой заговорила Маргарет.
— Ты не должна соглашаться на это, Бетти, — вырвалось у нее: — ведь когда он узнает, что это ты, он убьет тебя.
Но Бетти не обратила внимания на ее слова, она думала.
Затем она подняла голову и сказала:
— Кузина, мое глупое тщеславие вовлекло тебя в эту беду, значит, я в долгу перед тобой. Я не боюсь этого человека. Он боится меня. И если дело дойдет до убийства, пусть Инесса одолжит мне свой кинжал, и я уверена, что сумею нанести первый удар. И кроме того, я люблю его, хотя он и мерзавец. А может быть, мы потом и помиримся, кто знает? Если же не сделать этого… Но скажите мне, Инесса, буду ли я его законной женой по обычаям этой страны?
— Безусловно, — ответила Инесса, — если только священник обвенчает вас и если маркиз наденет кольцо вам на палец и назовет вас своей женой. И после того, как будут произнесены слова благословления, один только папа римский сможет развязать этот узел. Но на это Морелла не пойдет. Разве маркиз Морелла, верный слуга церкви, может обратиться с таким делом в Рим?
— Это будет обман, — не удержалась Маргарет, — отвратительный обман.
— А что он сделал со мной и с тобой? — воскликнула Бетти. — Нет, я пойду на это и не побоюсь его ярости, если только я буду уверена, что вы с Питером свободны и твой отец с вами.
— А что будет с Инессой? — в смущении спросила Маргарет.
— Я сама позабочусь о себе, — ответила Инесса. — Может быть, если все будет хорошо, вы увезете меня с собой. А теперь я не могу больше здесь оставаться. Я иду повидать вашего отца, сеньора Кастелла, и, если все будет улажено, мы еще встретимся с вами. Между прочим, донна Маргарет, ваш жених уже почти здоров и шлет вам свою любовь, а я советую вам, когда Морелла будет говорить с вами, выслушайте его благожелательно.
С тем же глубоким поклоном Инесса скользнула к двери, отперла ее и исчезла.
Через час старый еврей, одетый в мусульманскую одежду и тюрбан, вел Инессу по извилистым улочкам одного из самых населенных кварталов Гранады. Похоже было, что этого еврея здесь знают, потому что его появление вместе с женщиной в вуали не вызывало удивления у мавров, встречавшихся им на пути. Некоторые даже смиренно приветствовали его.
— Эти дети Магомета, кажется, любят вас, отец Израэль, — заметила Инесса.
— Да, да, моя дорогая, — отвечал старик с усмешкой, — многие из них брали у меня взаймы и должны вернуть свой долг прежде, чем начнется большая война с испанцами. Вот они и готовы подметать для меня улицу своими бородами. Все это очень полезно для осуществления планов нашего друга. О, тот, у кого есть в кармане кроны, может надеть на голову корону. Деньги все могут сделать в Гранаде. Дайте мне достаточно денег, и я куплю у короля его султаншу.
— У Кастелла много денег? — деловито осведомилась Инесса.
— Много. Он один из самых богатых людей в Англии. Но почему ты спрашиваешь об этом? Он не подумал о тебе, потому что он обеспокоен другими делами.
Инесса только громко рассмеялась, по не обиделась на эти слова.
— Я знаю, — ответила она, — но я думаю все же заработать кое-что, и я хочу быть уверена, что там хватит на всех нас.
— Хватит, хватит. Я ведь сказал, что там хватит и еще останется, — ответил Израэль, стучась в дверь, прорубленную в грязной стене.
Дверь открылась, как по волшебству. Они пересекли мощеный дворик и подошли к полуразрушенному дому мавританской архитектуры.
— Наш друг Кастелл, поскольку он сейчас скрывается, снял себе погреб, — с усмешкой сказал Израэль Инессе, — так что следуй за мной. Остерегайся крыс и береги голову.
Они спустились по шатающейся лестнице, ведущей со двора прямо в подвал, где стояли чаны с вином. Старик зажег маленькую свечку и повел Инессу вглубь, запирая за собой многочисленные двери. Наконец они оказались перед сырой стеной в темпом углу винного погреба.
Здесь старик остановился и опять постучал особым образом.
Часть стены повернулась на невидимом стержне, открыв узкий проход.
— Неплохо устроено, не правда ли? — ухмыльнулся Израэль. — Кому придет в голову искать здесь вход, особенно если ты должен деньги старому еврею! Проходи, красотка, проходи.
Инесса пробралась вслед за ним в темную дыру, и стена закрылась за ними. Взяв ее за руку, старик повернул сначала направо, потом налево, открыл ключом еще одну дверь, и они оказались в роскошно обставленной комнате, хорошо освещенной лампами. Окон в ней не было.
— Подожди здесь, — приказал старик Инессе, указывая на кушетку, на которую она и уселась, — пока я приведу моего жильца. — И он исчез за занавесями в конце комнаты.
Вскоре занавеси опять раздвинулись, и появился Израэль в сопровождении Кастелла, одетого в мавританскую одежду и выглядевшего несколько бледным от пребывания под землей, но совершенно здоровым. Инесса поднялась и стала перед ним, откинув с лица вуаль, чтобы он мог рассмотреть ее. Кастелл некоторое время пристально разглядывал ее и затем произнес:
— Вы и есть та женщина, с которой я установил связь через своих друзей? Докажите это, повторив содержание моих посланий.
Инесса повиновалась и рассказала ему все.
— Это правильно, — сказал Кастелл, — но как я могу быть уверен, что вам можно довериться? Насколько я знаю, вы любовница маркиза Морелла или были ею. Он мог с успехом использовать вас в качестве шпионки, чтобы погубить нас всех.
— Не слишком ли поздно задавать подобные вопросы, сеньор? Если я и не заслуживаю доверия, то все равно вы и ваши друзья целиком в моих руках.
— Не совсем, дорогая моя, не совсем, — вмешался Израэль. — Если у нас будет хоть малейший повод сомневаться в вас, то здесь есть немало больших чанов, один из которых на крайний случай может послужить вам гробом, хоть и будет очень жаль портить хорошее вино.
Инесса засмеялась:
— Не тратьте на меня ваше вино и ваше время. Морелла бросил меня, и я ненавижу этого человека. Я хочу спастись от него и украсть его добычу. Кроме того, мне нужны деньги. И вы должны дать их мне, или я не пошевельну пальцем. Впрочем, вы можете пообещать мне, я знаю, вы держите свое слово. Я не возьму с вас ни гроша, пока не сделаю то, что нужно.
— А сколько мараведи вы потребуете с нас тогда?
Инесса назвала сумму, услышав которую оба старика широко открыли глаза.
— Если я останусь в живых, то я хочу жить в довольстве.
— Конечно, — пробормотал Кастелл, — мы понимаем. А теперь скажите нам, что вы предлагаете сделать за эти деньги.
— Я предлагаю вывести вас, вашу дочь, донну Маргарет, и ее возлюбленного, сеньора Брума, за стены Гранады и предоставить маркизу Морелла жениться на другой женщине.
— На какой женщине? На вас? — заинтересовался Кастелл, обратив внимание на этот последний пункт.
— Нет, сеньор, ни за какие деньги я не сделаю этого. На вашей родственнице, красавице Бетти.
— Каким образом вы это сделаете? — с изумлением воскликнул Кастелл.
— Между кузинами есть сходство, сеньор, хотя родство их довольно далекое. Сейчас я вам все расскажу. — И Инесса изложила свой план.
— Смелый план, — заметил Кастелл, когда Инесса закончила, — но если даже он удастся, будет ли этот брак законным?
— Я думаю, что да, — ответила Инесса, — если священник будет предупрежден, — а его можно подкупить, — да и невеста тоже. Это даже не имеет большого значения, потому что только один Рим может объявить этот брак недействительным, а до тех пор наша судьба будет решена.
— Рим или смерть, — прошептал Кастелл.
И Инесса прочла в его глазах то, чего он боялся.
— Ваша Бетти решила испытать свою судьбу, — медленно продолжала Инесса, — ведь многим это удавалось до нее с гораздо меньшими основаниями. Она женщина крепкая, с сильным характером. Морелла заставил ее влюбиться и обещал жениться на ней. Потом он использовал ее, чтобы похитить вашу дочь, и Бетти поняла, что она была всего лишь приманкой, пользуясь которой он стремился поймать белого лебедя. Она хочет отплатить ему — ведь из-за нее Маргарет постигли все эти неприятности. Если Бетти удастся выиграть, она станет женой испанского гранда, маркизой; если же она проиграет, ну что ж, она играла ради высокой ставки, и у нее останется месть. Наконец, она сама хочет испытать судьбу. А самое главное — вы все сможете уехать.
Кастелл с сомнением посмотрел на Израэля, который, поглаживая свою бороду, сказал:
— Пусть эта женщина осуществляет свой план. Во всяком случае, она не глупа и все, что она предлагает, стоило выслушать, хотя я и опасаюсь, что это будет стоить нам очень дорого.
— Я могу заплатить, — прервал его Кастелл и жестом попросил Инессу продолжать.
Но ей почти нечего было добавить, она только хотела предупредить, чтобы у них наготове были хорошие лошади. Нужно также послать человека в Севилью и передать капитану «Маргарет», что корабль должен быть готов выйти в море, как только они попадут на него.
Они обо всем договорились, и, когда Инесса с Израэлем уходили, она уносила с собой мешочек с золотом.
В тот же вечер Инесса разыскала отца Энрике в том зале дворца Морелла, который использовался как молельня. Инесса сказала, что она хочет поговорить с ним и исповедаться. Они ведь были старыми друзьями или, скорее, старыми врагами.
Случилось так, что она застала служителя церкви в весьма дурном настроении. Оказалось, что Морелла был чрезвычайно недоволен отцом Энрике. Маркизу донесли, что его драгоценности, находившиеся в ящике на «Сап Антонио», попали в руки священнику. Морелла потребовал от отца Энрике вернуть драгоценности, и более того: маркиз поклялся взыскать с священника за все, что жители Мотриля украли с корабля. А истинная причина заключалась в том, что маркиз не мог простить отцу Энрике, что по его вине Питер Брум спасся и добрался до Гранады.
— Итак, святой отец, — начала Инесса, выслушав жалобы священника,
— вы считали себя богатым и опять оказались бедняком?
— Да, дочь моя. Так бывает с теми, кто возлагает свои надежды на принцев. Я служил маркизу много лет, боюсь даже, что в ущерб своей душе. Я все надеялся, что он, пользуясь таким уважением церкви, выдвинет меня на какое-нибудь хорошее место. А вместо этого что он делает? Он хочет отнять у меня несколько безделушек. Если бы я их не нашел, они все равно пропали бы в море или кто-нибудь украл их. А он еще заявляет, что я должен ему за все остальное имущество, о котором я понятия не имею.
— О каком же месте вы мечтаете, святой отец? Я думаю, у вас есть что-то на примете.
— Дочь моя, я получил письмо от друга из Севильи. Он пишет, что, если у меня найдется сто золотых дублонов, чтобы заплатить за место, он может устроить меня на должность секретаря святейшей инквизиции. Я ведь служил в инквизиции раньше, до тех пор, пока маркиз не сделал меня своим капелланом и не дал мне в Мотриле приход, который, как оказалось, ничего не стоит, и множество обещаний, которые стоят еще меньше. За те безделушки я выручил дублонов тридцать, и еще двадцать я скопил. Я приехал сюда, чтобы запять у маркиза остальные пятьдесят. Ведь я оказывал ему столько услуг, ты об этом хорошо знаешь, Инесса. И видишь, чем это кончилось?
— Очень жаль, — задумчиво сказала Инесса. — Ведь те, кто служат инквизиции, спасают много душ, в том числе и свои собственные. Я, например, помню, — добавила она, и священник вздрогнул при этих словах, — как они спасли душу моей родной сестры и спасли бы мою тоже, если бы я не оказалась… как бы это сказать… с меньшими… с меньшими предрассудками. Кроме того, служители инквизиции получают часть имущества проклятых еретиков и таким образом богатеют и получают возможность продвигаться дальше по службе.
— Все это так, Инесса. Такой случай представляется один раз в жизни, особенно для такого человека, как я. Ведь я ненавижу еретиков. Но что говорить попусту, когда этот проклятый беспутный маркиз… — Священник спохватился и замолк.
Инесса взглянула на него.
— Отец мой, — сказала она, — если бы я смогла найти для вас эти сто золотых дублонов, смогли бы вы сделать кое-что и для меня?
Хитрое лицо священника оживилось:
— Я готов на все, дочь моя.
— Даже если это поссорило бы вас с маркизом?
— Если я буду секретарем инквизиции Севильи, у него будет больше оснований бояться меня, чем мне его. А он должен меня бояться! — В голосе священника звучала ненависть.
— Тогда выслушайте меня, святой отец. Я еще не исповедовалась, — я, например, еще не сказала вам, что тоже ненавижу маркиза. Причины для этого у меня есть, да вы, наверно, сами знаете их. Но помните: если вы предадите меня, вы никогда не увидите ста золотых дублонов и секретарем в Севилье будет назначен какойнибудь другой священник. Кроме того, с вами могут случиться и худшие вещи.
— Продолжай, дочь моя, — елейным голосом сказал священник, — разве мы не в исповедальне или, по крайней мере, не рядом с ней?
Инесса сообщила отцу Энрике весь план заговора, — она рассчитывала на его жадность. Она смертельно ненавидела священника и знала ему цену. Единственное, что она утаила от него, это откуда появятся деньги.
— Не такое уж это трудное дело, — произнес отец Энрике, когда Инесса кончила. — Если мужчина и женщина, не состоящие в браке, приходят ко мне для того, чтобы обвенчаться, я венчаю их, а когда надето кольцо и обряд произведен, они женаты, пока смерть или папа римский не разъединят их.
— А если мужчина во время свадебного обряда полагает, что он женится на другой женщине?
Отец Энрике пожал плечами.
— Он должен знать, на ком жениться. Это его дело, а не мое, и не церкви. Имена не должны произноситься слишком громко, дочь моя.
— Но вы дадите мне свидетельство о браке, в котором имена будут написаны четко?
— Конечно. Я отдам тебе или кому угодно, — почему мне этого не сделать, — разумеется, если я буду уверен в оплате.
Инесса разжала кулак и показала десять дублонов, лежащих у нее на ладони.
— Возьмите их, отец, — предложила она, — они идут сверх обещанной суммы. Там, откуда берутся эти деньги, есть еще дублоны. Двадцать дублонов вы получите перед венчанием, а восемьдесят — в Севилье, когда я получу брачное свидетельство.
Священник сгреб монеты и спрятал в карман, говоря:
— Я доверяю тебе, Инесса.
— Конечно, — ответила Инесса, уходя, — теперь мы должны доверять друг другу: вы получили деньги и оба мы сунули голову в одну и ту же петлю. Завтра, отец, будьте здесь в это же время на тот случай, если мне потребуется опять исповедаться, потому что, увы, мы живем в грешном мире, вы ведь об этом хорошо знаете.
ГЛАВА XVII. ЗАГОВОР
На следующее утро, сразу после того, как Маргарет и Бетти позавтракали, появилась Инесса и, как и в прошлый раз, заперла за собой дверь.
— Сеньоры, — спокойно сказала она, — я уже устроила то маленькое дельце, о котором мы вчера толковали, или, по крайней мере, подготовила первый акт пьесы. От вас зависит хорошо сыграть остальное. А сейчас меня прислали передать вам, что благородный маркиз Морелла просит разрешения видеть вас, донна Маргарет, в течение часа. Так что терять время нельзя.
— Расскажите нам, что вы успели сделать, Инесса, — попросила Маргарет.
— Я видела вашего уважаемого отца, донна Маргарет. И вот свидетельство, которое вы, прочитав, лучше уничтожьте.
И Инесса вручила Маргарет листок бумаги, на котором рукой ее отца по-английски было написано следующее:
Любимая дочка, женщина, которая вручит тебе это письмо и которой, я полагаю, можно доверять, договорилась со мной о плане действий. Я одобряю его, хотя риск велик. Твоя кузина храбрая девушка, но поймите, что я не толкаю ее на это опасное предприятие. Она должна сама решить. Я только обещаю, что, если она останется жива, а мы спасемся, я никогда не забуду того, что она сделала. Женщина принесет мне твой ответ. Да будет с вами бог. Прощайте.
Д. К. Маргарет прочитала это письмо сначала про себя, а затем вслух для Бетти и после этого разорвала его на мельчайшие кусочки и выбросила в окно.
— А теперь рассказывайте, — обратилась она к Инессе.
Та сообщила ей все.
— Можете вы довериться священнику? — спросила Маргарет, когда Инесса кончила.
— Он страшный мерзавец, я это очень хорошо знаю, и все-таки думаю, что можно, — отвечала Инесса. — Но все это только до тех пор, пока капуста будет у осла перед носом. Я имею в виду, пока он не получит все деньги. Кроме того, он совершил ошибку, взяв часть денег заранее. Но прежде чем говорить дальше, я хочу спросить: готова ли эта дама продолжать игру? — И она указала на Бетти.
— Да, я играю, — ответила Бетти, когда поняла, о чем идет речь, — я не откажусь от своего слова. Ставка слишком велика. Мне грозит большая опасность, но, — медленно добавила она, сжав губы, — я должна отомстить. Я ведь сделана не из испанской глины, вроде некоторых, из которых можно лепить все что хочешь, — и она посмотрела на скромную Инессу. — Однако и маркизу будет не сладко.
Когда Инесса уяснила себе смысл этой речи, она с восхищением подняла свои кроткие глаза и вспомнила испанскую пословицу о сатане, повстречавшемся с Вельзевулом на узкой дорожке.
После того как все подробности заговора были окончательно обсуждены, хотя и без одобрения Маргарет, которая волновалась за судьбу Бетти, Инесса, будучи женщиной находчивой и опытной, стала инструктировать их по части всевозможных практических уловок, при помощи которых можно было усилить сходство обеих кузин. Она пообещала достать им краску для волос и соответствующую одежду.
— От этого мало толку, — заявила Бетти, посмотрев на себя и на Маргарет: — даже если мы изменим внешность, разве можно теленка выдать за молодого оленя, хоть они и выросли на одном лугу! Но вы все-таки принесите это, я сделаю все, что смогу. Я думаю, однако, что густая вуаль и молчание помогут мне гораздо больше, чем любая краска. Да, еще нужно длинное платье, которое скрывало бы мои ноги.
— Конечно, у вас прелестные ноги, — вежливо заметила Инесса, а про себя добавила: «Они донесут вас туда, куда вы хотите дойти».
Затем Инесса обратилась к Маргарет и напомнила, что маркиз хочет видеть ее и ждет ответа.
— Я не хочу встречаться с ним наедине, — решительно заявила Маргарет.
— Это неудобно, — возразила Инесса. — Насколько я понимаю, он собирается сказать вам нечто такое, что, по его мнению, не следует слышать другим, особенно этой сеньоре. — Инесса кивнула в сторону Бетти.
— Я не хочу встречаться с ним наедине! — повторила Маргарет.
— Однако, если вы хотите, чтобы все было так, как мы договорились, вы должны принять его, донна Маргарет, и дать ему тот ответ, которого он жаждет. Но, я думаю, это можно устроить. Внизу есть большой двор. Пока вы с маркизом будете разговаривать в одном конце двора, мы с сеньорой Бетти можем прогуливаться в другом, где ничего не будет слышно. К тому же сеньоре Бетти нужно заняться испанским языком, и это будет прекрасным случаем начать паши уроки.
— Но что я должна сказать ему? — волнуясь, спросила Маргарет.
— Я думаю, — продолжала Инесса, — что вы должны последовать примеру изумительного актера, сеньора Питера, и сыграть свою роль так же хорошо, как сыграл ее он, или даже лучше, если сумеете.
— Моя роль будет совершенно иной, — произнесла Маргарет, заметно мрачнея при этом напоминании.
Деликатная Инесса, улыбаясь, заметила:
— Конечно, вы можете выглядеть ревнивой, ведь это так естественно для нас, женщин, можете постепенно уступать и наконец заключить с ним сделку.
— Какую сделку я должна заключить?
— Я полагаю, что вы должны поставить условием, что вы будете тайно обвенчаны христианским священником и бумаги, подписанные этим священником, будут переданы архиепископу Севильи и их величествам королю Фердинанду и королеве Изабелле. Кроме того, вы, конечно, должны обусловить, что сеньор Брум, ваш отец — сеньор Кастелл и ваша кузина Бетти в безопасности выедут из Гранады до вашего венчания. Вы должны видеть из вашего окна, как они выезжают из ворот. А вы поклянетесь, что согласитесь, чтобы в тот же день вечером священник совершил обряд и объявил вас женой маркиза Морелла. К этому времени вы уже будете далеко, а после того, как обряд будет совершен, я получу от священника документы и последую за вами, предоставив сеньоре Бетти сыграть свою роль возможно лучше.
Маргарет колебалась. Ей казалось, что этот план слишком сложен и опасен. Но пока она раздумывала, в дверь постучали.
— Это напоминание мне. Морелла ожидает вашего ответа, — заторопилась Инесса. — Ну, так что будем делать? Помните, что другой возможности для вас и для всех остальных спастись из этого города нет. Во всяком случае, я ее не вижу.
— Я согласна, — торопливо сказала Маргарет, — и пусть нам поможет бог, ибо мы нуждаемся в его помощи.
— А вы, сеньора Бетти?
— О, я решила уже давно. Мы можем только провалиться, но и тогда нам не будет хуже, чем сейчас.
— Хорошо. Но играйте свои роли как следует. Это будет не так уж трудно, так как священник не опасен, а маркиз никогда не заподозрит подобной проделки. Назначайте свадьбу через неделю, потому что мне нужно многое придумать и приготовить. — С этими словами Инесса вышла.
Через полчаса Маргарет сидела под прохладными сводами галереи мраморного двора. Морелла был рядом с ней, а по другую сторону плещущего фонтана, на почтительном расстоянии от них, прогуливались Бетти и Инесса.
— Вы посылали за мной, маркиз, — начала Маргарет, — и я, будучи вашей пленницей, должна была прийти. Что вам угодно от меня?
— Донна Маргарет, — ответил он серьезно, — разве вы не догадываетесь? Ну что ж, я скажу вам, чтобы вы не поняли меня неправильно. Прежде всего я хочу просить у вас прощения, как делал уже не раз, за те преступления, на которые толкнула меня моя любовь к вам. Еще совсем недавно я отлично знал, что мне нечего ожидать. Сегодня я таю надежду, что кое-что переменилось.
— Почему, маркиз?
— На этих днях вы видели некий садик. В нем гуляли мужчина и женщина. Вон та женщина, — и он кивнул в сторону Инессы. — Должен ли я продолжать?
— Нет, не надо, — глухо ответила Маргарет и закрыла лицо руками. — Кто эта женщина? — И она в свою очередь посмотрела в сторону Инессы.
— Зачем вам знать это? Ну что ж, хорошо, если вы желаете, я вам скажу. Она испанка, хорошего происхождения, вместе с сестрой она была захвачена маврами. Один священник, заинтересовавшийся сестрой, обратил мое внимание на Инессу, и я выкупил ее. Родители ее умерли, ей некуда было деваться, и она осталась жить в моем доме. Вы не должны слишком строго судить меня, здесь это обычное дело. К тому же она была мне очень полезна, так как весьма умна, и благодаря ей я о многом узнаю. Однако последнее время ей надоела такая жизнь, и она хочет получить свободу, которую я обещал вернуть ей в награду за некоторые услуги, и уехать из Гранады.
— Скажите, маркиз, а то, что она выхаживала моего жениха, тоже было одной из услуг?
Морелла пожал плечами:
— Думайте как хотите, сеньора. Конечно, я простил ей эту нескромность, поскольку в конце концов это раскрыло вам правду о человеке, ради которого вы вынесли так много испытаний. Скажите, Маргарет, теперь, когда вы знаете, что представляет собой этот человек, вы все еще остаетесь верны ему?
Маргарет встала и сделала несколько шагов по галерее, затем вернулась и спросила:
— А вы лучше этого падшего человека?
— Думаю, что да, Маргарет. Ведь с тех пор, как я узнал вас, я стал другим человеком; все старое осталось позади, я грешу ради вас, а не против вас. Умоляю, выслушайте меня. Я похитил вас, это правда, но я не причинил и никогда не причиню вам никакого вреда. Ради вас я пощадил вашего отца, хотя мне достаточно было подать знак, чтобы убрать его с моего пути. Я допустил, чтобы он бежал из тюрьмы, но я знаю место, где он прячется у евреев в Гранаде и чувствует себя в безопасности. Я вернул к жизни Питера Брума, хотя в любую минуту я мог допустить его смерть. И все это ради того, чтобы потом меня не терзала совесть при мысли, что только моя любовь к вам была причиной его смерти. Но теперь вы убедились в его измене и все-таки по-прежнему отказываете мне? Посмотрите на меня, — Морелла встал во весь рост, — и скажите, неужели я тот мужчина, которого женщине стыдно иметь своим мужем? Не забывайте, что я могу многое предложить вам здесь, в Испании: вы станете одной из самых знатных дам страны, а в будущем, — многозначительно добавил он, — быть может, и больше. Надвигается война, Маргарет, этот город и все богатые земли перейдут в руки Испании, и после этого я буду здесь губернатором, почти королем.
— А если я откажусь? — поинтересовалась Маргарет.
— Тогда, — сурово ответил Морелла, — вы останетесь здесь, и ваш лживый возлюбленный и ваш отец останутся здесь, чтобы испытать все тяготы войны вместе с тысячами других христианских пленников, томящихся в темницах Альгамбры. Моя миссия будет закончена, и я уеду отсюда, чтобы занять свое место в бою среди грандов Испании как один из первых военачальников их католических величеств. Но я не хочу запугивать вас, я хочу найти путь к вашему сердцу, потому что я ищу вашей любви и вашей дружбы на всю жизнь и, если это в моих силах, не хочу причинять вреда ни вам, ни вашим близким.
— Вы не хотите причинять им вреда? Но тогда, если я соглашусь, вы отпустите их всех? Я имею в виду моего отца, сеньора Брума и мою кузину Бетти. Ведь это ее, а не меня вы должны были бы просить остаться с вами в качестве вашей жены, будь вы честным человеком, за которого вы себя выдаете.
— Вот этого я не могу сделать! — вспыхнул Морелла. — Видит бог, я не хотел причинить ей зло. Я только использовал ее для того, чтобы быть ближе к вам и знать все. Должен признаться, что я несколько ошибался в ней.
— Разве здесь, в Испании, маркиз, не встречаются честные девушки?
— Редко, очень редко, донна Маргарет. Но я ошибся в Бетти, приняв ее за простую служанку, и я готов сделать все, чтобы исправить это.
— Все, за исключением того, на что вправе претендовать девушка, которую вы просили стать вашей женой. У нас в Англии она могла бы потребовать от вас выполнения вашего обещания или заклеймила бы вас позором. Но вы не ответили на мой вопрос. Будут ли они свободны?
— Как ветер… Особенно сеньора Бетти, — с легкой улыбкой добавил Морелла. — Честно говоря, в глазах у этой женщины есть что-то пугающее меня. Мне кажется, она очень злопамятна. Ровно через час после нашей свадьбы вы выглянете в окно и увидите их всех, отправляющихся под охраной туда, куда они пожелают.
— Нет, — возразила Маргарет, — на это я не согласна. Я хочу сперва видеть их отъезд, а затем уж заплачу за них выкуп, обвенчавшись с вами. Но не раньше, чем скроется солнце.
— Значит, вы согласны? — быстро спросил Морелла.
— Кажется, я должна это сделать, маркиз. Мой возлюбленный обманул меня. Уже более месяца я пленница в вашем дворце, о котором, насколько мне известно, ходят дурные слухи. Кроме того, если я откажусь, то вы обещали, что всех нас бросят в темницу и затем продадут как рабов. Или же мы умрем пленниками мавров. Маркиз, судьба и вы не оставили мне другого выбора. Через неделю в этот день я выйду за вас замуж, но не обвиняйте меня, если вы найдете меня иной, чем вы представляете, так же как вы нашли иной мою кузину, которую вы обманули. А до тех пор я требую, чтобы вы не беспокоили меня. Если вам нужно будет договориться о чем-нибудь или передать какое-либо поручение, пусть уж эта женщина Инесса будет вашим посланцем. Ведь о ней я знаю только самое плохое.
— Я буду повиноваться вам во всем, донна Маргарет, — покорно ответил Морелла. — Может быть, вы хотите видеть вашего отца или… — он остановился.
— Никого из них. Я напишу им и пошлю письма через Инессу. К чему мне видеть их? — взволнованно добавила она. — Ведь с прошлым, когда я была свободна и счастлива, покончено навсегда, и вскоре я стану женой благородного маркиза Морелла, одного из знатнейших грандов Испании, который обманул бедную девушку лживыми обещаниями жениться и воспользовался ее влюбленностью и безрассудством для того, чтобы украсть меня из моего дома. Милорд, я прощаюсь с вами на неделю. — С этими словами она прошла но галерее к фонтану и громко окликнула Бетти, приказав ей сопровождать себя в комнату.
Неделя, которую выторговала
Маргарет, прошла. Все было готово. Инесса показала Морелла письма его невесты к отцу и Питеру Бруму и их ответы, взволнованные и умоляющие. Однако были и другие письма и другие ответы, о которых Морелла и не подозревал.
Настал наконец день, когда отличные лошади стояли наготове во дворе, там же находилась охрана. Кастелл и Питер, переодетые в мавританские одежды, ожидали под стражей в одной из комнат неподалеку. Бетти, тоже одетая как мавританка, под густой вуалью, стояла перед маркизом, к которому ее привела Инесса.
— Я пришла сообщить вам, — произнесла она, — что через три часа после того, как сядет солнце и мы проедем под окном моей кузины и хозяйки, она будет готова стать вашей женой. Но если вы побеспокоите ее до этого, она никогда уже не будет вашей женой.
— Я повинуюсь, — ответил Морелла. — Сеньора Бетти, я прошу у вас прощения и надеюсь, что вы примете от меня этот подарок в знак того, что вы простили меня.
С низким поклоном он вручил ей великолепное ожерелье из жемчуга.
— Я возьму его, — горько усмехнулась Бетти. — Может быть, оно пригодится мне для возвращения в Англию. Но простить вас, маркиз Морелла, я не могу. И предупреждаю вас, что у меня есть к вам счет, который я еще предъявлю. Пока что победа на вашей стороне, но бог на небесах ведет счет людской жестокости, и тем или другим путем, но он всегда требует расплаты. Теперь я пойду попрощаться со своей кузиной Маргарет, но с вами я не прощаюсь, потому что надеюсь еще с вами встретиться.
С рыданием она опустила вуаль, которую чуть-чуть приподняла во время разговора, и вышла вместе с Инессой. Ей она шепнула:
— Он не захочет еще раз прощаться с Бетти Дин.
Они вошли в комнату Маргарет и заперли за собой дверь. Маргарет сидела на низком диване. Рядом с ней, сверкая серебром и драгоценными камнями, лежали ее свадебная фата и платье.
— Скорее, — обратилась Инесса к Бетти.
Та сбросила свое мавританское платье и длинную вуаль, окутывавшую ее голову. При этом обнаружилось, что цвет ее волос совершенно изменился — из золотых они стали темно-каштановыми. Глаза Бетти, обведенные краской, тоже казались уже не голубыми, а черными, как у Маргарет. И, что самое удивительное, на правой стороне подбородка и сзади на шее появились родинки, совершенно такие же, как у Маргарет. Короче говоря, учитывая, что фигуры у них были похожи — разве что Бетти была чуть-чуть полнее, — различить их даже без вуали было чрезвычайно трудно. В искусстве изменять внешность Инесса была мастерицей, а тут она особенно постаралась.
Маргарет надела на себя белое платье и плотную чадру, совершенно скрывавшую ее лицо, а Бетти с помощью Инессы облачилась в великолепный свадебный наряд, украшенный драгоценными камнями, которые преподнес Морелла в качестве свадебного подарка, и скрыла свои перекрашенные волосы под вуалью, усыпанной жемчугом. Через десять минут все было готово. Бетти успела спрятать под платьем кинжал, и две преображенные женщины стояли, разглядывая друг друга.
— Время идти, — произнесла Инесса.
Тогда Маргарет неожиданно дала волю своим чувствам:
— Мне не нравится эта затея! Никогда не нравилась! Когда Морелла все узнает, гнев его будет ужасен, он убьет Бетти. Я жалею, что согласилась на это.
— Теперь слишком поздно жалеть, сеньора, — заметила Инесса.
— А нельзя сделать так, чтобы Бетти тоже уехала? — в отчаянии спросила Маргарет.
— Можно попытаться, — ответила Инесса, — перед бракосочетанием, согласно старинному обычаю, я поднесу две чаши вина жениху и невесте. В чашу маркиза будет кое-что подмешано, ибо он не должен сегодня вечером слишком ясно видеть все происходящее. Я могу приготовить это вино покрепче, так, чтобы через полчаса он вообще не знал, женат он или холост. И тогда Бетти, возможно, сумеет бежать вместе со мной и присоединиться к вам. Но это очень рискованно, и если наш замысел будет раскрыт, то дело, вероятно, не обойдется без крови.
Тут вмешалась Бетти:
— Спасай себя, кузина. Если чья-нибудь кровь должна пролиться, то все равно ничего не поделаешь. Во всяком случае, не тебе придется расхлебывать это дело. Я не собираюсь бежать от этого человека, скорее он убежит от меня. Я отлично выгляжу в твоем великолепном платье, и я намереваюсь долго носить его. А теперь уходите, уходите поскорее, пока кто-нибудь не пришел звать меня. Не печальтесь обо мне — я ложусь в постель, которую сама себе приготовила, а если дело дойдет до самого худшего, у меня в кармане есть деньги или то, что их заменит, и тогда мы встретимся в Англии. Передай мою любовь и уважение мастеру Питеру и твоему отцу, и, если я их больше не увижу, скажи им, чтобы добром вспоминали Бетти Дин, которая причинила им столько горя.
Обняв Маргарет своими сильными руками, она несколько раз поцеловала ее и вытолкнула из комнаты.
Однако, когда они ушли, бедная Бетти села и поплакала, пока не вспомнила, что слезы могут смыть краску с лица. Тогда она вытерла глаза, подошла к окну и стала ждать.
Через некоторое время она увидела шесть мавров, ехавших верхом по дороге к укрепленным воротам. Вслед за ними на прекрасных конях выехали двое мужчин и женщина, также в мавританских одеждах. За ними следовало еще шесть всадников. Кавалькада проехала сквозь ворота и начала взбираться по склону холма. На вершине его всадница остановилась и помахала платком. Бетти ответила на это приветствие, и в следующую минуту всадники скрылись. Бетти осталась одна.
Никогда еще ей не приходилось проводить такого тягостного вечера. Часа через два, все еще стоя у окна, она увидела возвращающуюся мавританскую охрану и поняла, что все в порядке и что теперь Маргарет, ее возлюбленный и ее отец в безопасности начали свое путешествие, Значит, она рисковала своей жизнью не напрасно.
ГЛАВА XVIII. СВЯТАЯ ЭРМАНДАДА[18]
Длинными коридорами, через огромные пышные залы, через прохладные мраморные дворики лежал путь Инессы и Маргарет. Это было похоже на сон. Они прошли через комнату, в которой женщины, бездельничавшие или работавшие над гобеленами, с любопытством рассматривали их. Маргарет слышала, как одна из них сказала:
— Почему кузина донны Маргарет покидает ее?
И ответ:
— Потому что она сама влюблена в маркиза и не в силах оставаться здесь.
— Ну и дура, — заметила первая женщина. — Она красива, и ей нужно всего только подождать несколько недель.
Они прошли мимо открытой двери. Эта дверь вела в личные покои Морелла. Он сам стоял в дверях и наблюдал за тем, как они проходили. Когда Инесса и Маргарет поравнялись с ним, казалось, какое-то сомнение зародилось у маркиза, потому что он внимательно посмотрел на них и шагнул вперед. Но затем, видимо передумав или вспомнив острый язычок Бетти, остановился и отвернулся. Опасность миновала.
В конце концов, никем не потревоженные, они добрались до двора, где их ожидала охрана и лошади. Здесь же, в сводчатом проходе под аркой, стояли Кастелл и Питер. Кастелл поздоровался с Маргарет и поцеловал ее через вуаль. А Питер, не видевший ее вблизи уже много месяцев, с того самого дня, как он уехал в Дедхэм, смотрел на нее не отрывая глаз. Он хотел прикоснуться к ней, чтобы выяснить, действительно ли это Маргарет. Угадав его мысли и понимая, что он может всех выдать, Инесса, у которой в руке была длинная булавка для вуали, сделала вид, что наткнулась на него, и при этом вонзила ему в руку булавку, пробормотав: «Дурак». Питер с проклятьем отскочил назад, стража рассмеялась, а Инесса принялась рассыпаться в извинениях.
Кастелл помог Маргарет сесть в седло, потом сел сам, его примеру последовал Питер, потирая уколотую руку. Он все еще не осмеливался смотреть в сторону Маргарет. Инесса на прощанье пожала Маргарет руку, словно была равной ей по положению, и сказала несколько ласковых слов, какие обычно в ходу у испанских женщин. Испанский офицер из стражи, охранявшей дворец Морелла, подошел и пересчитал всех:
— Двое мужчин и одна женщина. Все правильно, только я не вижу лица женщины.
Еще мгновение — и он, наверно, приказал бы Маргарет поднять вуаль, но Инесса крикнула ему, что это неприлично делать в присутствии мавров. Офицер кивнул и приказал двигаться.
Они проехали под дворцовой аркой, выехали на дорогу и вскоре оказались под большими воротами. Стража принялась расспрашивать эскорт и рассматривать их. Это продолжалось до тех пор, пока Кастелл не сунул им несколько монет, и стража пропустила путешественников, сказав им на прощанье, что они счастливые христиане, раз живыми уезжают из Гранады. Такими они себя и чувствовали.
На вершине холма Маргарет обернулась и махнула платком, вглядываясь в высокое окно, которое она так хорошо знала. В ответ там тоже взмахнули платком, и Маргарет, думая об одинокой Бетти, которая смотрит им в след в ожидании конца своей отчаянной авантюры, поехала дальше. Вуаль скрывала слезы, катившиеся из ее глаз. Около часа они ехали, обменявшись всего несколькими словами друг с другом, пока не оказались на перекрестке двух дорог, из которых одна вела в Малагу, другая — в Севилью.
Здесь эскорт остановился. Старший заявил, что им приказано сопровождать их только до этого места, и спросил, куда они дальше поедут. Кастелл ответил, что они направятся в Малагу. На это старший заметил, что они мудро поступают, как на этой дороге они меньше рискуют натолкнуться на банды мародеров и воров, которые называют себя христианскими солдатами и убивают или грабят всех путешественников, попадающих в их руки. Кастелл предложил старшему подарок, тот принял его с важностью, как будто делал большое одолжение, и после поклонов и прощальных слов эскорт отправился обратно.
Трое путешественников поехали по дороге на Малагу, но, как только они убедились, что никто их не видит, они свернули и выехали на дорогу, ведущую в Севилью. Наконец-то они были одни! Остановив лошадей под стеной дома, сожженного во время какого-то налета христиан, они впервые смогли свободно поговорить. Что это была за минута!
Питер повернул свою лошадь к Маргарет:
— Скажи, любимая, это действительно ты?
Однако Маргарет, не обращая на него никакого внимания, наклонилась к отцу, обвила его шею руками и принялась целовать его сквозь вуаль, благословляя бога, что они дожили до этой встречи. Питер тоже пытался поцеловать ее, но Маргарет тронула свою лошадь, и он чуть не вылетел из седла.
— Будь осторожнее, Питер, — бросила она ему, — а то твоя любовь к поцелуям доведет тебя до новых неприятностей.
Поняв, что она имеет в виду, Питер покраснел и принялся подробно объяснять ей все.
— Прекрати, — прервала она его, — прекрати. Я знаю все, потому что сама видела вас.
Смягчившись, она нежно поздоровалась с ним и протянула ему руку для поцелуя.
— Нам надо спешить, — спохватился Кастелл, — ведь нужно проехать еще двадцать миль, пока мы доберемся до постоялого двора, где Израэль подготовил нам ночлег. Мы будем разговаривать по дороге.
Путешественники спешили изо всех сил и как раз к наступлению темноты подъехали к постоялому двору. При виде его они поблагодарили бога, ибо эта гостиница была уже по ту сторону границы и здесь они были вне досягаемости мавров.
Хозяин постоялого двора, наполовину испанец, ожидал их. Он уже получил письмо от Израэля, с которым у него были дела. Хозяин предоставил путешественникам две довольно бедно обставленные комнаты, но зато предложил хороший ужин и вино, отвел в конюшню лошадей и задал им ячменя. После этого он пожелал путникам спокойной ночи, сказав, чтобы они ничего не боялись, так как он и его люди будут сторожить и предупредят их в случае какой-либо опасности.
Однако заснули они не скоро. Им так много нужно было сказать друг другу, особенно Питеру и Маргарет. Они были так счастливы, что им удалось спастись! Но радость их, подобно звону погребального колокола на веселом пиршестве, омрачала мыль о Бетти и ее роковой свадьбе, в которой она, очевидно, уже сыграла роль Маргарет. В конце концов Маргарет упала на колени и принялась молиться святым, чтобы они защитили ее кузину от страшной опасности, которой она подвергается ради них, и Питер присоединился к ее молитве. После этого они крепко обнялись, а затем все отправились спать — Кастелл с дочерью в одну комнату, Питер — в другую.
За полчаса до рассвета Питер уже был на ногах, чтобы присмотреть за лошадьми. Маргарет и Кастелл позавтракали и собирались в дорогу, упаковывая еду, которую им приготовил хозяин. Питер тоже проглотил немного мяса и вина, и при первых проблесках дня, расплатившись с хозяином и взяв у него письма к хозяевам других постоялых дворов, где им предстояло останавливаться, они двинулись по дороге на Севилью, очень довольные, что, по-видимому, их никто не преследует.
Весь этот день, делая остановки только для того, чтобы передохнуть самим и дать отдых лошадям, Маргарет, ее отец и Питер ехали без всяких приключений по плодородной равнине, орошаемой несколькими реками, через которые они переправлялись вброд или по мостам. К ночи они добрались до Осуны. Этот старинный город расположен на высоком холме, и наши путники увидели его издалека. Было уже темно, и это позволило беглецам проехать так, что никто не обратил внимания на их мавританскую одежду.
Наконец они добрались до постоялого двора, который им рекомендовали. Хозяин изумленно посмотрел на их одежду, но, сообразив, что у путешественников много денег, принял их хорошо, и им удалось получить комнаты.
В Осуне Кастелл собирался купить испанскую одежду, но оказалось, что они попали в праздник и все лавки заперты. Однако ждать до утра беглецы не хотели — они стремились доехать до Севильи к вечеру следующего дня, надеясь, что под покровом темноты им удастся пробраться на борт «Маргарет». Они знали, что капитан предупрежден о предполагаемом путешествии и ждет их. Необходимо было покинуть Осуну до рассвета. Таким образом, к несчастью, как это потом выяснилось, они не имели возможности снять с себя мавританскую одежду и сменить ее на христианскую.
Маргарет, Питер и Кастелл надеялись, что в Осуне к ним присоединится Инесса — она обещала сделать это, если удастся, — и расскажет им все, что произошло после их отъезда из Гранады. Но Инессы не было. Утешая себя тем, что, как бы ни торопилась Инесса, ей трудно было нагнать их, так как они выехали на несколько часов раньше, беглецы покинули Осуну затемно, когда все еще спали.
Проехав несколько миль по равнине, они выехали через оливковую рощу к холмам, где росли пробковые деревья, и остановились, чтобы перекурить самим и покормить лошадей. Как раз в ту минуту, когда они собирались ехать дальше, Питер увидел группу всадников весьма угрожающей внешности, скачущих с явной целью отрезать их от дороги.
— Бандиты! — лаконично бросил Питер. — Вперед!
Они пустили лошадей в галоп и промчались перед бандитами раньше, чем последние успели достигнуть дороги. Разбойники что-то кричали, вслед полетело несколько стрел, и вся банда бросилась в погоню. Питер, Кастелл и Маргарет скакали вниз по склону холма к лощине, отделявшей их от следующей гряды холмов, тоже покрытых пробковыми деревьями. Это была болотистая лощина шириной примерно в три мили. Питер надеялся, что бандиты откажутся от погони или ему с его спутниками удастся скрыться от преследователей среди деревьев. Однако, когда цель была уже близка, Питер, к своему ужасу, увидел прямо впереди на дороге другую группу людей такого же разбойничьего вида. Их было человек двенадцать.
— Ловушка! — воскликнул Питер. — Мы должны прорваться, в этом наше единственное спасение. — Он пришпорил лошадь и обнажил меч.
Выбрав место, где линия противников была слабее, Питер довольно легко пробился, но в следующее мгновение он услышал позади себя крик Маргарет и, повернув лошадь, увидел Маргарет и Кастелла в руках бандитов. Эти негодяи держали Маргарет, а один из них пытался сорвать с ее лица вуаль. С яростным криком Питер бросился на него и нанес ему удар такой силы, что меч рассек шлем и череп бандита, и тот свалился замертво, продолжая сжимать в руке вуаль Маргарет.
Пять или шесть человек бросились на Питера, и, хотя ему удалось ранить еще одного противника, они стащили его с лошади. Питер упал навзничь, и бандиты навалились на него, чтобы прикончить, пока он не встал. Их мечи и ножи уже были занесены и Питер прощался с жизнью, когда вдруг он услышал голос, приказывающий остановиться и связать ему руки. Это было быстро сделано, и Питер поднялся с земли. Он увидел перед собой не маркиза Морелла, как ожидал, а человека, облаченного в прекрасные доспехи под грубым плащом, по-видимому, офицера.
— Как ты, мавр, осмелился убить солдата Святой эрмандады в сердце королевских владений? — спросил он, указывая на убитого человека.
— Я не мавр, — возразил Питер на плохом испанском языке, — я христианин, бежавший из Гранады. Я зарубил этого человека потому, что он пытался оскорбить мою невесту. Вы сами на моем месте поступили бы так же, сеньор. Я не знал, что это солдат эрмандады, я думал, что он просто бандит, каких здесь немало в горах.
Эта речь, во всяком случае настолько, насколько тот понял ее, понравилась офицеру. Но прежде чем он успел что-либо сказать, вмешался Кастелл:
— Господин офицер, этот сеньор — англичанин и плохо говорит по-испански…
— Зато он хорошо владеет мечом, — перебил его офицер, взглянув на разрубленный шлем и голову мертвого солдата.
— Да, господин, он человек вашей профессии и, как показывает шрам на его лице, сражался во многих войнах. Он говорит правду. Мы христианские пленники, бежавшие из Гранады, и направляемся в Севилью вместе с моей дочерью, которой, я надеюсь, вы не причините вреда, чтобы просить защиты у их милостивых величеств и найти возможность уехать в Англию.
— Вы не похожи на англичанина, — заметил офицер, — вы смахиваете на марана.
— Я купец из Лондона, мое имя Кастелл. Оно хорошо известно в Севилье, да и повсюду в этой стране, потому что у меня здесь крупные дела, и, если только я смогу увидеть вашего короля, он сам подтвердит это. Пусть вас не смущает наша одежда — мы должны были облачиться в нее только для того, чтобы спастись из Гранады. И я умоляю вас отпустить нас в Севилью.
— Сеньор Кастелл, — ответил офицер, — я капитан Аррано Пуэбло. Поскольку вы не остановились, когда мы требовали этого, и убили одного из моих лучших солдат, вы, конечно, поедете в Севилью, но не один, а со мной. Вы мои пленники, но не бойтесь этого. Никакого насилия в отношении вас или вашей дамы не будет допущено. Вы должны держать ответ за все совершенное перед королевским судом, и там вы все расскажете, будь то правда или ложь.
У Питера и Кастелла отобрали их мечи, им всем разрешили сесть на своих лошадей, и они тронулись по дороге на Севилью.
— В конце концов, — шепнула Питеру Маргарет, — нам нечего больше бояться бандитов.
— Так-то так, — вздохнул Питер, — но я надеялся, что сегодня мы будем ночевать на борту «Маргарет» в то время, как она будет идти вниз по реке, к открытому морю, а не в испанской тюрьме. Ну и судьба! Второй раз я убиваю человека из-за тебя и вся история начинается сначала. Вот уж не везет.
— Могло быть еще хуже, — ответила Маргарет, вспоминая грубые руки убитого солдата.
Весь остаток этого дня они ехали под палящим солнцем по направлению к Севилье, над которой на несколько сот футов возвышалась башня Жиральда. Когда-то она была минаретом мавританской мечети. В конце концов, под вечер, путешественники оказались в восточном предместье этого огромного города, миновали его, въехали в большие ворота и стали пробираться по извилистым улочкам.
— Куда мы направляемся, капитан Аррано? — поинтересовался Кастелл.
— В тюрьму Святой эрмандады, где вы будете ожидать суда за убийство одного из ее солдат, — ответил офицер.
— Я уже молю бога, чтобы мы скорее туда попали, — заметил Питер, глядя на Маргарет, которая от усталости качалась в седле, как цветок от ветра.
— Я тоже, — пробормотал Кастелл, поглядывая по сторонам на мрачные лица прохожих, которые, узнав, что пленники убили испанского солдата и принимая их за мавров, целыми толпами сопровождали их, выкрикивая угрозы. Когда они пересекали какую-то площадь, священник в толпе крикнул: «Убейте их!» — и толпа бросилась стаскивать их с коней. Солдаты с трудом оттеснили ее.
Тогда толпа принялась забрасывать их грязью, и вскоре белые одежды путешественников покрылись пятнами. Какой-то парень бросил камень и попал Маргарет в руку, она вскрикнула и выпустила поводья. Этого оказалось достаточно для вспыльчивого Питора — прежде чем солдаты успели вмешаться, он пришпорил лошадь, вырвался вперед и нанес оскорбителю такой удар в лицо, что тот свалился на землю. Кастелл решил, что теперь их уж наверняка убьют; однако, к его изумлению, в толпе вместо этого поднялся хохот, и кто-то крикнул:
— Хороший удар, мавр! У этого неверного тяжелая рука!
Офицер тоже как будто не рассердился. Когда парень поднялся с земли и в руке у него оказался нож, офицер обнажил меч и свалил его одним ударом. Затем офицер обратился к Питеру:
— Не марайте рук об эту уличную свинью, сеньор.
Он обернулся и приказал солдатам разогнать зевак. Наконец путники выбрались из толпы и после длительной езды по боковым улицам, чтобы избежать главных, оказались перед большим мрачным зданием. Ворота здания распахнулись перед ними и опять захлопнулись. Они очутились во внутреннем дворе. Здесь им приказали спешиться, а лошадей увели. Капитан Аррано вступил в переговоры с комендантом тюрьмы, человеком с суровым, но не злым лицом, который с любопытством рассматривал их. Наконец он подошел и осведомился, есть ли у них деньги, чтобы заплатить за хорошие комнаты, так как он не хочет помещать их в общей камере. Кастелл вместо ответа вытащил пять золотых и, передавая их капитану Аррано, попросил его раздать солдатам в благодарность за то, что они охраняли путешественников во время пути. При этом он добавил — достаточно громко, чтобы все слышали, — что он хотел бы возместить убытки родственникам солдата, которого случайно убил Питер. Это заявление произвело благоприятное впечатление. Один из товарищей убитого заявил, что он сообщит об этом вдове, и от имени всех поблагодарил Кастелла. Они попрощались с офицером, который сказал, что они еще встретятся в суде. Затем их повели всевозможными тюремными переходами в отведенные им комнаты — одну маленькую, а вторую большую, с решетчатыми окнами, дали воды помыться и обещали принести еду.
Через некоторое время тюремщики принесли им мясо, яйца и вино, чему заключенные были весьма рады. Пока они ели, в камеру пришли комендант и нотариус и, дождавшись окончания трапезы, принялись допрашивать заключенных.
— Наша история довольно длинная, — начал Кастелл, — но, с вашего разрешения, я расскажу ее вам. Только прошу вас позволить моей дочери, донне Маргарет, пойти отдыхать, она совершенно измучена. Если возможно, допросите ее завтра.
Комендант согласился. Маргарет откинула вуаль, чтобы обнять отца. Комендант и нотариус были поражены ее красотой и в изумлении уставились на нее. Маргарет протянула руку Питеру для поцелуя, поклонилась присутствующим и ушла прилечь в соседнюю комнату.
После ее ухода Кастелл рассказал всю историю о похищении его дочери маркизом Морелла, чье имя заставило коменданта широко раскрыть глаза, о том, как она была увезена из Лондона в Гранаду, как они, отец и жених, последовали за ней и как им всем удалось бежать. Однако о Бетти и о заговоре с подменой невесты Кастелл не сказал ни слова. Кастелл назвал свою фамилию, сообщил, чем он занимается, а также назвал своих партнеров и компаньонов в Севилье — фирму Бернальдеса. Оказалось, что комендант знает эту фирму, и Кастелл попросил его разрешения связаться с главой фирмы, сеньором Хуаном Бернальдесом. Кастелл подчеркнул, что он и его спутники не воры и не искатели приключений, а просто английские подданные, попавшие в беду, и еще раз намекнул, что они могут и готовы заплатить за все услуги, которые им будут оказаны. Эти слова не остались незамеченными комендантом.
Комендант обещал связаться со своим начальством и, если не последует никаких возражений, послать человека к сеньору Бернальдесу с просьбой завтра посетить тюрьму.
Наконец комендант и нотариус ушли, тюремщики убрали со стола, заперли дверь, и Кастелл с Питером улеглись в своих постелях, довольные, что они уже в Севилье, хотя и в тюрьме. Эту ночь они спали спокойно.
Утром они проснулись отдохнувшие. После завтрака появился комендант в сопровождении сеньора Хуана Бернальдеса. Это был не кто иной, как испанский компаньон Кастелла, писавший ему известные читателю тайные письма. Бернальдес был плотный мужчина со спокойным и умным лицом, не слишком многословный.
Приветствовав Кастелла с почтением, которое не укрылось от коменданта, Бернальдес попросил разрешения поговорить с заключенным наедине. Комендант удалился, сказав, что вернется через час. Как только дверь за ним закрылась, Бернальдес обратился к Кастеллу:
— В довольно страшном месте пришлось нам встретиться, Джон Кастелл. Правда, меня это не так уж удивляет: некоторые ваши письма дошли до меня. Ваше судно «Маргарет» отремонтировано и ждет вас; чтобы избежать подозрений, я начал понемногу грузить его товарами для Англии. Только я представить себе не могу, как вы попадете туда. Однако нам нельзя терять время. Рассказывайте мне все по порядку, ничего не упуская.
Кастелл и Питер рассказали ему все как можно короче. Бернальдес слушал молча. Когда они кончили, он обратился к Питеру:
— Очень жаль, молодой человек, что вы не сумели сдержать свой гнев и убили этого солдата. Неприятности, которые уже почти кончались, теперь начинаются вновь, и в еще худшем виде. Маркиз Морелла весьма могущественный человек в этой стране. Вы могли это заключить даже из того, что их величества послали его в Лондон вести переговоры с вашим английским королем Генрихом в отношении евреев и их судеб в том случае, если кто-нибудь из них после изгнания из Испании будет искать убежища в Англии. Именно об этом все говорят. И я должен предупредить вас, что их величества ненавидят евреев, в особенности маранов. Здесь, в Севилье, их дюжинами сжигают на кострах. — При этом Бернальдес многозначительно посмотрел на Кастелла.
— Я сам сожалею, — вздохнул Питер, — но этот парень так грубо схватил Маргарет, что я совершенно потерял голову и не мог сдержаться. Уже второй раз я попадаю в неприятности по точно такому же поводу. К тому же я думал, что он просто бандит.
— Любовь — плохой дипломат, — слегка улыбаясь, заметил Бернальдес,
— и стоит ли считать прошлогодние облака. Что сделано, того не вернешь. Я постараюсь устроить так, чтобы вы все были вызваны к их величествам послезавтра, когда они будут слушать судебные дела. Лучше вам иметь дело с самой королевой, чем просто с кем-нибудь из судей. У королевы доброе сердце, если к нему найти путь, но только не тогда, когда дело касается евреев или маранов, — и он опять посмотрел на Кастелла. — Однако денег у вас много, а у нас в Испании мы въезжаем на небо на золотых, — добавил он, намекая на деньги и продажность.
Больше они ни о чем не смогли поговорить, — вернулся комендант, который заявил, что время сеньора Бернальдеса истекло, и спросил, кончили ли они свою беседу.
— Не совсем, уважаемый комендант, — сказала Маргарет, — я хотела бы получить ваше разрешение и попросить сеньора Бернальдеса прислать мне христианское платье. Я не хочу предстать перед вашими судьями в одежде неверных. Да и мой отец и сеньор Брум тоже присоединятся к моей просьбе.
Комендант рассмеялся, пообещал им все устроить и даже разрешил поговорить еще пять минут, которые они использовали для того, чтобы обсудить, какую одежду нужно принести. Затем комендант удалился вместе с сеньором Бернальдесом, оставив их одних.
Тут только они вспомнили, что не спросили у Бернальдеса, не слышал ли он что-либо об Инессе, которой они дали его адрес. Но, поскольку он сам ничего не сказал о ней, они решили, что Инесса еще не приехала в Севилью, и опять со страхом задумались о том, что могло случиться после их отъезда из Гранады.
В эту ночь, к их огорчению и тревоге, на них обрушилась новая неприятность. После ужина пришел комендант и объявил, что, согласно распоряжению суда, перед которым они должны предстать, сеньор Брум, обвиняемый в убийстве, должен быть помещен отдельно от них. И, несмотря на все уговоры и просьбы, Питера увели в отдельную камеру. Маргарет провожала его со слезами.
ГЛАВА XIX. БЕТТИ ПЛАТИТ СВОИ ДОЛГИ
Бетти Дин не была подвержена страхам и предчувствиям. Рожденная в хорошей, но бедной семье, она в свои двадцать шесть лет сама прокладывала себе дорогу в этом жестоком мире и умела использовать любые обстоятельства. Здоровая, сильная, упорная, любящая, романтичная и по-своему честная, она была приспособлена к тому, чтобы встречать взлеты и падения судьбы, бороться с трудностями в этот беспокойный век, и никогда не оставалась в долгу.
Однако те долгие часы, которые она провела одна в высокой башне, ожидая, пока ее позовут, чтобы сыграть роль подложной невесты, были самыми тяжелыми часами в ее жизни. Она понимала, что ее положение, по существу, позорно и может кончиться трагически. Теперь, хладнокровно обдумывая все, она сама удивлялась, почему решила выбрать этот путь. Она влюбилась в маркиза почти с первого взгляда, хотя нечто подобное бывало с ней в отношении других мужчин. Он играл роль влюбленного, пока она, обманутая, всерьез не отдала ему свое сердце, уверенная в своем ослеплении, что, несмотря на разницу в их положении, он любит ее и хочет сделать своей женой.
Потом пришел мучительный день разочарования, когда она узнала, что была всего-навсего, как сказала Инесса Кастеллу, простой приманкой, чтобы поймать белого лебедя — ее кузину и хозяйку. Это случилось в тот день, когда она была обманута письмом, которое она до сих пор прячет на груди, и когда, к ужасу, услышала, как ее в лицо назвали дурой. Тогда она поклялась в душе, что отомстит Морелла за все. И вот теперь пришел час выполнить свою клятву и отплатить ему обманом за обман.
Продолжала ли она любить этого человека? Она не могла ответить на этот вопрос. Он нравился ей, как и раньше, а в таких случаях женщины прощают многое. Однако одно можно было сказать наверняка: в эту ночь ею руководила не любовь. Была ли это жажда мести? Может быть. Во всяком случае, она страстно хотела получить возможность бросить ему в лицо: «Вот на какую хитрость способна обманутая дура!»
И все-таки она не стала бы делать это только во имя мести, или скорее, она отомстила бы каким-нибудь другим способом. Нет, истинной причиной было ее желание заплатить долг Маргарет, Питеру и Кастеллу. Ведь это она навлекла на них все несчастья, и именно она должна была вызволить их хотя бы ценой своей жизни и женского достоинства. А может быть, ею руководили и любовь к Морелла, если она еще сохранилась, и желание отомстить ему и вырвать добычу у него из рук. В конце концов, она затеяла эту игру, и она доведет ее до конца, как бы ужасен он ни был.
Солнце село, и темнота обступила Бетти. Она подумала, придется ли ей еще когда-нибудь увидеть рассвет. Ее храброе сердце дрогнуло, и она сжала кинжал, спрятанный под великолепным чужим платьем. Ей пришло в голову, что, может быть, разумнее самой вонзить его себе в грудь, а не ждать, пока обманутый безумец сделает это. Но нет, кому суждено умереть, всегда успеет это сделать.
Раздался стук в дверь, и храбрость Бетти, почти утраченная, вернулась к ней. О, она покажет этому испанцу, что англичанка, которую он заставил поверить, что она его желанная возлюбленная, может оказаться его повелительницей! Во всяком случае, прежде чем все это кончится, он услышит правду.
Бетти открыла дверь. Вошла Инесса с лампой в руках. Она спокойно и внимательно осмотрела Бетти.
— Жених готов, — произнесла она медленно, чтобы Бетти могла разобрать, — и прислал меня за вами. Вы не боитесь?
— Нет, — ответила Бетти. — Скажите мне только, как все это будет устроено.
— Маркиз ожидает вас в комнате перед залой, используемой в качестве капеллы. Там я, как старшая здесь, подам вам обоим по чаше вина. Пейте обязательно из той, которую я буду держать в левой руке, поднесите чашу ко рту под вуалью так, чтобы не открывать лицо, и не произносите ни слова, иначе он узнает ваш голос. Затем мы пройдем в капеллу, где нас будет ждать отец Энрике и все домочадцы. Зала эта большая, а лампы будут слабые, так что никто не узнает вас. К тому времени вино с подмешанным в него наркотиком начнет действовать на Морелла. И тогда при условии, что вы будете говорить очень тихо, вы спокойно можете сказать: «Я, Бетти, вступаю в брак с тобою, Карлос», а не: «я, Маргарет… «. Когда с этим будет покончено, он отведет вас в покои, приготовленные для вас, и там, если в моем вине есть какая-нибудь сила, он будет крепко спать всю ночь. А за это время священник передаст мне брачные документы, один экземпляр которых я отдам вам, а второй спрячу. Ну, а потом… — Инесса пожала плечами.
— Что будет с вами? — спросила Бетти, внимательно выслушав Инессу.
— О, я вместе со святым отцом сегодня же ночью выеду в Севилью, где его ожидают деньги. Это дурной компаньон для женщины, которая отныне собирается стать честной и богатой, но лучше такой, чем никакого. Быть может, мы еще встретимся с вами, а может, и нет. Во всяком случае, вы знаете, где искать меня и всех остальных: в доме сеньора Бернальдеса. А теперь пора. Готовы ли вы стать испанской маркизой?
— Конечно, — невозмутимо ответила Бетти.
И они направились к выходу. Они шли через пустые залы и коридоры. Пожалуй, ни один восточный заговор, задуманный в этих стенах, не был таким смелым и отчаянным. Наконец они добрались до комнаты перед залой и остановились так, чтобы свет от висящей лампы не падал на них. Вскоре дверь раскрылась и вошел Морелла в сопровождении двух секретарей. Как всегда, он был роскошно одет в платье из черного бархата, на шее у него висела золотая цепь, украшенная драгоценными камнями, а на груди блистали звезды и ордена, указывавшие на его звание. Никогда, во всяком случае так показалось Бетти, Морелла не выглядел столь величественным и красивым. Он был счастлив, готовясь испить чашу радости, которой он так добивался. Да, его лицо говорило, что он счастлив, и Бетти, заметив это, почувствовала, как угрызения совести закрадываются в ее душу. Морелла низко поклонился ей, она ответила ему глубоким реверансом. Ее высокая, изящная фигура склонилась так низко, что колени почти коснулись пола. После этого он подошел к ней и шепнул на ухо:
— Самая красивая, самая любимая! Я благодарю небеса, которые привели меня к этому счастливому часу сквозь много жестоких и опасных дорог. Дорогая моя, я снова прошу вас простить меня за причиненное вам горе. Ведь все это я делал только ради вас, которую я обожаю. Я люблю вас так, как редко любят женщину, и вам, вам одной, я буду верен до последнего дня своей жизни. О, не трепещите, я клянусь, что ни одна женщина в Испании не будет иметь лучшего и более верного мужа! Вас одну я буду лелеять, я буду бороться днем и ночью, чтобы вознести вас до самого высокого положения и удовлетворять каждое ваше желание. Много блаженных лет проживем мы вместе, пока не настанет мирный конец и мы не ляжем рядом, чтобы уснуть ненадолго и проснуться на небесах. Помня прошлое, я не прошу у вас многого, и все-таки, если вы хотите сделать мне свадебный подарок, который для меня ценнее корон или царств, скажите, что вы простили меня за все, что я сделал худого, и в знак этого поднимите свою вуаль и поцелуйте меня в губы.
Бетти с трепетом слушала эти слова, из которых она полностью поняла только конец. Этого испытания она не предвидела. Однако нужно было пройти и через это, ибо произносить что-либо она не смела. Собрав все свое мужество и помня, что свет не падает ей в лицо, Бетти после небольшой паузы, как бы вызванной скромностью, приподняла свою украшенную жемчугом вуаль и дала Морелла поцеловать себя в губы.
Вуаль упала опять, и Морелла ничего не заподозрил.
«Я хорошая актриса, — подумала про себя Инесса, — но эта женщина играет лучше деревянного Питера. Даже я вряд ли сумела бы сделать это так хорошо».
Однако в глазах ее сверкнула ревность и ненависть, которые она не могла скрыть, — ведь она тоже любила этого человека. Инесса подняла приготовленные золотые чаши с вином и, выйдя вперед, прекрасная в своем вышитом восточном платье, опустилась на колено и протянула чаши жениху и невесте. Морелла взял чашу, которую она держала в правой руке, а Бетти взяла из левой. Опьяненный уже первым поцелуем любви, Морелла не заметил злого выражения, промелькнувшего на лице его отвергнутой рабыни. Бетти, приподняв вуаль, поднесла чашу ко рту, коснулась ее губами и вернула Инессе, а Морелла, воскликнув: «Я пью за вас, дорогая моя невеста, самая красивая и самая обожаемая из женщин!»
— выпил чашу до дна и бросил ее в качестве подарка Инессе так, что капли красного вина обрызгали ее белую одежду подобно каплям крови.
Инесса смиренно склонилась в поклоне, смиренно подняла с пола драгоценный сосуд, и, когда она выпрямилась, в глазах ее вместо ненависти сверкало торжество.
Морелла взял руку своей невесты и, сопровождаемый секретарями и Инессой, направился в большую залу, где выстроилось множество домочадцев. Величественная пара прошла между двумя кланяющимися шеренгами дальше к алтарю, где их ожидал священник. Они опустились на колени на расшитые золотом подушки, и церковный обряд начался. Кольцо было надето Бетти на палец, — казалось, что жених с трудом нашел ее палец, — мужчина брал женщину в жены, женщина брала мужчину в мужья. Голос Морелла звучал хрипло, голос Бетти тихо — из всей слушавшей толпы никто не расслышал, какие имена были названы.
Все было кончено. Священник поклонился и благословил их. При свете свечей на алтаре они подписали какие-то бумаги. Отец Энрике вписал туда имена и тоже подписался. Затем он присыпал бумаги песком и вложил их в протянутую руку Инессы. Морелла, по-видимому, не заметил, что она передала одну бумагу невесте, а другие две спрятала у себя на груди. Инесса и священник поцеловали руки у маркиза и его супруги и попросили разрешения удалиться. Морелла кивнул головой, и через десять минут, если бы кто-нибудь прислушался, то уловил бы топот двух коней, мчащихся по дороге на Севилью.
Новобрачные, сопровождаемые пажами и слугами, несущими светильники, миновали величественные и мрачные залы. Невеста шла покрытая вуалью, с видом обреченной, у жениха были такие глаза, как у человека, идущего во сне. Так они дошли до своей комнаты, и резные двери закрылись за ними.
На следующее утро служанок, ожидавших в соседней со спальней комнате, вызвал звук серебряного колокольчика. Когда две из них вошли туда, их встретила Бетти, теперь уже без вуали, одетая в свободное платье, и сказала:
— Мой муж маркиз еще спит. Помогите мне одеться и приготовьте ему ванну и завтрак.
Служанки в удивлении раскрыли рты. Она смыла с лица краску, и они убедились, что это сеньора Бетти, а вовсе не сеньора Маргарет, на которой, как они слышали, женится маркиз. Однако Бетти резко прикрикнула на них и, плохо произнося испанские слова, приказала им быстрее поворачиваться, чтобы она была одета прежде, чем проснется ее муж. Они повиновались, и, когда Бетти была готова, она вышла с ними в большую залу, где собралось множество слуг, чтобы приветствовать новобрачных. Бетти поздоровалась со всеми и, краснея и улыбаясь, сказала, что маркиз скоро выйдет, и приказала заниматься своими делами.
Бетти так хорошо сыграла свою роль, что хотя слуги были смущены, однако никому не пришло в голову усомниться в ее положении или власти, тем более что они помнили, что маркиз никому из них не говорил, на которой из двух английских леди он собирается жениться. К тому же Бетти раздала им от имени своего мужа и себя денежные подарки, а затем села завтракать в их присутствии, выпила немножко вина, выслушивая их поздравления и добрые пожелания.
Затем, все так же улыбаясь, Бетти вернулась в спальню, закрыла за собой дверь, уселась в кресло рядом с кроватью и стала ожидать главного сражения — сражения, от которого зависела ее жизнь.
Но вот Морелла пошевелился. Он сел на кровати, осматриваясь и потирая лоб. Наконец его глаза остановились на Бетти, которая, выпрямившись, сидела в кресле. Она поднялась, подошла к нему, поцеловала, назвав мужем, и он, полусонный, ответил на поцелуй. Затем она опять уселась в кресло и стала наблюдать за его лицом.
Оно все изменялось и изменялось. Удивление, страх, изумление, замешательство сменялись на его лице, пока наконец он не обратился к ней по-английски:
— Бетти, где моя жена?
— Здесь, — ответила Бетти.
Он непонимающе посмотрел на нее:
— Нет, я имею в виду донну Маргарет, вашу кузину и мою госпожу, с которой я обвенчался прошлой ночью. И как вы сюда попали? Я был уверен, что вы покинули Гранаду.
Бетти сделала удивленные глаза.
— Я не понимаю вас, — сказала она. — Это моя кузина Маргарет покинула Гранаду, а я осталась здесь, чтобы стать вашей женой, как вы договорились со мной через Инессу.
У Морелла глаза полезли на лоб.
— Договорился с вами через Инессу? Матерь божья! Что вы имеете в виду?
— Что я имею в виду? — переспросила Бетти. — Я имею в виду то, что я сказала. Конечно, — и она в негодовании встала, — если вы не упустили случая сыграть со мной какую-нибудь новую шутку.
— Шутку? — пробормотал Морелла. — О чем говорит эта женщина? Что это, сон или я сошел с ума?
— Я думаю, что сон. Конечно, это сон: ведь я уверена, что человек, с которым я обвенчалась вчера вечером, не был сумасшедшим. Смотрите! — И она развернула перед ним брачный документ, подписанный священником, им и ею, в котором было записано, что Карлос, маркиз Морелла, такого-то числа в Гранаде обвенчался с сеньорой Элизабет Дин из Лондона, Англия.
Морелла дважды прочитал бумагу и, задыхаясь, откинулся на подушки. Между тем Бетти спрятала документ у себя на груди.
И тут маркиз действительно будто сошел с ума. Он неистовствовал, ругался, скрежетал зубами, искал меч, чтобы убить ее или себя, но не мог найти. Все это время Бетти спокойно сидела и пристально смотрела на него. Она была похожа на воплощение судьбы.
Наконец он устал, и тогда настала ее очередь.
— Выслушайте меня, — начала она. — Тогда в Лондоне вы обещали жениться на мне. У меня спрятано ваше письмо. Вы
уговорили меня бежать с вами в Испанию. Через вашу посланницу и бывшую любовницу мы договорились о свадьбе. Я получала от вас письма и отвечала вам, поскольку вы объяснили, что по некоторым соображениям не хотите говорить об этом при моей кузине Маргарет и не можете жениться на мне, пока она, ее отец и возлюбленный не покинут Гранаду. Тогда я попрощалась с ними и осталась здесь одна из любви к вам, так же как я бежала из Лондона по той же причине. Вчера вечером мы были соединены. Об этом знают все ваши слуги, тем более что я только что завтракала в их присутствии и принимала их поздравления. И вы теперь осмеливаетесь говорить мне, пожертвовавшей для вас всем, что я, ваша жена, маркиза Морелла, не являюсь вашей женой? Ну что ж, выйдите из этой комнаты, и вы услышите, как ваши же слуги будут стыдить вас. Пойдите расскажите обо всем вашему королю и вашим епископам, да и самому его святейшеству папе римскому и послушайте, что они вам ответят. Как бы вы ни были знатны и богаты, они запрут вас в сумасшедший дом или в тюрьму.
Морелла слушал, покачиваясь из стороны в сторону, затем вскочил и с проклятьями бросился на Бетти, однако перед его глазами блеснуло острие кинжала.
— Выслушайте меня, — продолжала Бетти, когда он отпрянул назад. — Я не рабыня и не принадлежу к числу слабых женщин. Вы не убьете меня и даже не выбросите вон. Я ваша жена и во всем равна вам. Я крепче вас телом и разумом, и я отстою свои права перед богом и перед людьми.
— Конечно! — воскликнул Морелла почти с восхищением. — Конечно, вы не слабая женщина! И вы отплатили мне за все с лихвой. А впрочем, вы, может быть, не так уж умны, просто упрямая дура, и это все месть проклятой Инессы. О, подумать только, — он взмахнул кулаком, — подумать только — я считал, что женился на донне Маргарет, а вместо нее нашел вас!
— Помолчите! — сказала она. — Вы бесстыжий человек. Сначала вы бросаетесь с кулаками на вашу жену, с которой только что обвенчались, а затем оскорбляете ее, говоря, что хотели бы жениться на другой женщине. Помолчите, или я открою дверь, позову сюда ваших людей и повторю им ваши чудовищные слова.
Бетти стояла выпрямившись над лежащим на кровати маркизом.
Морелла, первый гнев которого прошел, посмотрел на нее в раздумье и даже с некоторым уважением.
— Я думаю, — сказал он, — что вы, моя добрая Бетти, оказались бы очень хорошей женой для любого человека, который захотел бы добиться успеха в жизни, если бы он только не был влюблен в другую и не был бы уверен, что женат на ней. Я знаю — дверь заперта и, насколько я могу предполагать, вы держите ключ при себе, так же как и кинжал. Мне душно в этом помещении, и я хотел бы выйти отсюда.
— Куда? — спросила Бетти.
— Допустим, повидать Инессу.
— Как, — спросила она, — вы опять собираетесь ухаживать за этой женщиной? Вы уже забыли, что вы женаты!
— Похоже, что мне не дадут забыть об этом. Давайте заключим сделку. Я хочу на некоторое время и без скандала оставить Гранаду. Каковы ваши условия? Помните, что есть два условия, на которые я не соглашусь: я не останусь здесь с вами, и вы не поедете со мной. Запомните также, что, хотя сейчас у вас есть кинжал, с вашей стороны неразумно продолжать эту шутку.
— Как и с вашей, когда вы заманили меня на борт «Сан Антонио», — заметила Бетти. — Ну что ж, наш медовый месяц начался не слишком приятно. Я не возражаю, если вы на некоторое время уедете… искать Инессу. Поклянитесь, что вы не замыслили причинить мне зло, что вы не будете покушаться на мою жизнь или честь и не будете покушаться на мою свободу или положение здесь, в Гранаде. Клянитесь на распятии.
Она сорвала со стены висевший над кроватью серебряный крест и протянула ему. Бетти знала, что Морелла суеверен, и была уверена, что, если он поклянется на распятии, он не посмеет нарушить клятву.
— А если я не сделаю этого? — мрачно спросил он.
— Тогда вы останетесь здесь, пока не выполните мое желание. А ведь вам так хочется уехать! К тому же я сегодня завтракала, а вы пет. У меня есть кинжал, а у вас его нет. И я уверена, что никто не отважится потревожить нас. А пока что Инесса и ее друг священник уедут так далеко, что вы не сможете догнать их.
— Хорошо, я поклянусь, — согласился Морелла; он поцеловал крест и отбросил его прочь. — Вы можете оставаться здесь и управлять моим домом в Гранаде. Я не причиню вам никакого зла и никак не потревожу вас. Но если вы покинете Гранаду, тогда мы скрестим мечи.
— Вы хотите сказать, что сами покидаете этот город. Тогда вот здесь бумага и чернила. Будьте добры, подпишите приказ управляющим вашими имениями на территории мавританского королевства, чтобы они в ваше отсутствие присылали мне все доходы, а также распоряжение вашим слугам во всем повиноваться мне.
— Сразу видно, что вы выросли в доме купца! — произнес Морелла, кусая перо. — Хорошо, если я соглашусь на это, вы оставите меня в покое и не будете предъявлять других требований?
Бетти подумала о бумагах, которые увезла с собой Инесса, и решила, что Кастелл и Маргарет будут знать, что делать с этими бумагами в случае необходимости. Она подумала также, что, если слишком прижмет Морелла с самого начала, ее могут однажды найти мертвой, как это часто бывает в Гранаде, и ответила:
— Вы многого хотите от обманутой женщины, но у меня осталась еще гордость, и я не буду соваться туда, куда не следует. Пусть будет так. До тех пор, пока вы не пожелаете меня видеть и не пошлете за мной, я не буду разыскивать вас, если вы сами не нарушите нашего договора. А теперь напишите бумаги, подпишите их и позовите сюда ваших секретарей засвидетельствовать вашу подпись.
— На чье имя я должен писать бумаги? — спросил Морелла.
— На имя маркизы Морелла, — отвечала она.
И он, заметив в этих словах лазейку, повиновался. Маркиз подумал, что если она не является его женой, то документ этот не будет иметь никакой силы.
Каким угодно путем, но он должен избавиться от этой женщины. Конечно, он мог устроить так, чтобы ее убили, но даже в Гранаде нельзя убить женщину, на которой ты только что женился. Это может вызвать нежелательные вопросы. Кроме того, у Бетти есть друзья, а у него есть враги, которые наверняка справятся о ней в случае ее исчезновения. Нет, он подпишет эту бумагу, а потом будет бороться. Сейчас он не может терять время. Маргарет ускользнула от него, и, если ей удастся бежать из Испании, он знал, что никогда больше не увидит ее. Она могла уже покинуть пределы Испании и выйти замуж за Питера Брума. Одна мысль об этом сводила его с ума. Против него был устроен заговор, его перехитрили, обворовали, обманули. Ну что ж, у него остается надежда и… месть. Он еще может сразиться с Питером и убить его. Он может предать еврея Кастелла в руки инквизиции. Он найдет средство договориться с отцом Энрике и с Инессой, и, если счастье улыбнется ему, он может заполучить Маргарет обратно.
Да, конечно, он подпишет все что угодно, если только это освободит его на время от этой служанки, которая называет себя его женой, от этой упрямой, сильной и умной англичанки, которую он хотел сделать своим орудием, а вместо этого сам стал орудием в ее руках.
Итак, Бетти диктовала, а он писал — да, он дошел до этого, — а затем еще и подписал написанное. Распоряжение было исчерпывающим. Оно предоставляло высокочтимой маркизе Морелла право действовать от имени своего мужа во время его отсутствия. Приказ обязывал, чтобы все доходы поступали в ее распоряжение, а слуги и подчиненные выполняли ее приказания, как его собственные. Ее подпись получала такую же силу, как и его.
Когда бумага была готова, Бетти внимательно прочитала ее, следя за тем, нет ли пропусков или ошибок, отперла дверь, ударила в гонг и вызвала секретарей, чтобы они засвидетельствовали подпись своего господина. Они тут же явились, кланяясь и желая им счастья. Про себя Морелла решил, что припомнит им это.
— Я должен уехать, — заявил он. — Засвидетельствуйте мою подпись на этом документе, предоставляющем право управлять моим домом и распоряжаться моим имуществом в мое отсутствие.
Они удивленно посмотрели на него и склонились в поклоне.
— Прочтите эту бумагу вслух, — распорядилась Бетти, — чтобы мой господин и муж мог быть уверен, что тут нет никакой ошибки.
Один из секретарей повиновался, но, прежде чем он кончил читать, разъяренный Морелла закричал ему с кровати:
— Кончайте скорее и скрепите подпись! А теперь идите и прикажите немедленно готовить лошадей и эскорт. Я сейчас же еду.
Они торопливо покинули комнату. Бетти вышла за ними следом с бумагой в руке. В большой зале, где собрались все слуги, чтобы приветствовать своего господина, она приказала секретарям огласить этот документ и перевести его на арабский язык, чтобы он всем был понятен. Затем она спрятала бумагу и брачное свидетельство и приказала слугам приготовиться к встрече благородного маркиза.
Им недолго пришлось ждать, потому что он тут же появился из спальни, как разъяренный бык на арене. Бетти встала и склонилась перед ним. Следуя ее примеру, по восточному обычаю, упали на колени и все слуги. На мгновение Морелла остановился, похожий на быка, когда тот видит пикадора и готов напасть на него. Затем он взял себя в руки и, выругавшись шепотом, прошел между ними.
Через десять минут, в третий раз за эти сутки, лошади вылетели из ворот дворца по направлению к севильской дороге.
— Друзья, — сказала Бетти на своем ужасном испанском языке, когда ей доложили, что Морелла покинул дворец, — с моим мужем, маркизом, случилась печальная история. Женщина, по имени Инесса, которой он так доверял, бежала, похитив у него сокровище, которое он ценил больше всего на свете, и вот я, только что выйдя замуж, осталась безутешной, пока он будет искать ее.
ГЛАВА XX. ИЗАБЕЛЛА ИСПАНСКАЯ
На следующий день Бернальдес, компаньон Кастелла, опять появился в тюрьме. Вместе с ним пришли портной и женщина с ящиком, полным женской одежды. Комендант приказал им подождать, пока одежду проверят в его присутствии, а Бернальдесу разрешил тут же пройти к арестованным. Как только тот оказался в камере Кастелла, первыми его словами были:
— Ваш маркиз уже женился.
— Откуда вы знаете об этом? — воскликнул Кастелл.
— От женщины по имени Инесса, которая приехала вместе со священником вчера вечером. Она передала мне документ о его браке с Бетти Дин, подписанный самим Морелла. Я не принес его с собой, потому что боялся обыска. Но сюда пришла сама Инесса, переодетая портнихой, так что вы не выказывайте удивления, если ее допустят к вам. Вероятно, она сумеет рассказать донне Маргарет кое-что, если ей разрешат примерить платья без свидетелей. А потом ее необходимо спрятать понадежнее, ибо она боится мести Морелла. Но я буду знать, где разыскать ее в случае необходимости. Завтра вы все предстанете перед королевой, я тоже буду там и предъявлю документы.
Едва он успел сказать все это, как в комнату вошел комендант в сопровождении портного и Инессы. Инесса присела в реверансе, взглянув на Маргарет уголком глаз. Она с любопытством рассматривала людей, которых как будто видела впервые.
Когда платья были показаны, Маргарет попросила коменданта разрешить ей примерить их в своей комнате с помощью этой женщины. Комендант согласился, заявив, что и платья и портниха обысканы и у него нет никаких возражений. Маргарет с Инессой удалились в соседнюю комнату.
— Расскажите мне все, — прошептала Маргарет, как только дверь за ними закрылась. — Я умираю от желания услышать ваш рассказ.
Они не могли быть уверенными, что здесь за ними никто не наблюдает сквозь какое-нибудь потайное отверстие, и поэтому Инесса принялась примерять на Маргарет платье. И хотя рот ее был полон колючками алоэ, которые в то время употреблялись в качестве булавок, она рассказала Маргарет все, вплоть до момента своего бегства из Гранады. Когда она дошла до того места, когда мнимая невеста приподняла вуаль и поцеловала жениха, Маргарет чуть не задохнулась от изумления.
— Боже, как она сумела сделать это? — прошептала она. — Я бы упала в обморок.
— У нее есть мужество, у этой Бетти… повернитесь, пожалуйста, к свету, сеньора… я сама не смогла бы сыграть лучше… мне кажется, что левое плечо чуть выше. Он ничего не заподозрил, безмозглый дурак, даже до того, как я подала ему вино, а после он вообще вряд ли мог что-нибудь соображать… Сеньора говорит, что ей жмет под мышкой? Может быть, немного, но это растянется… Хотелось бы мне знать, что произошло потом. Ваша кузина — тот бык, на которого я сделала ставку, и я верю, что она очистит арену. Она женщина со стальными нервами. Если бы у меня были такие, я давно уже была бы маркизой Морелла или другой человек был бы маркизом… Юбка сидит великолепно. Прекрасная фигура! Сеньора выглядит в ней еще лучше… Кстати сказать, Бернальдес дал мне денег, довольно большую сумму, так что вам не нужно благодарить меня. Я сделала это ради денег и… из ненависти. Теперь я скроюсь, так как не хочу, чтобы мне перерезали горло, но Бернальдес сможет меня найти, если я понадоблюсь. Что со священником? О, он не представляет опасности. Мы заставили его написать расписку в получении денег. Я думаю, что он уже занял свой пост секретаря инквизиции и тут же приступил к исполнению своих обязанностей. Ведь у них не хватает рук, чтобы пытать евреев и еретиков и грабить их. Оба эти занятия ему по нраву. Я ехала с ним всю дорогу до Севильи, и этот грязный негодяй пытался ухаживать за мной, но я дала ему отпор. — Инесса улыбнулась при этом воспоминании. — Правда, я с ним не совсем поссорилась — он еще может пригодиться. Кто знает! Однако пора, комендант зовет меня. Одну минуту! Да, сеньора, с этими небольшими переделками платье будет превосходным. Вы обязательно получите его сегодня вечером, я приготовлю и остальные, которые вам угодно было заказать по этому же образцу. Благодарю вас, сеньора, вы слишком добры к бедной девушке, — и шепотом: — Матерь божья да хранит вас.
Почти скрытая ворохом платьев, Инесса с поклоном переступила порог двери, которую уже открывал комендант.
Около девяти часов на следующее утро явился один из тюремщиков, чтобы вызвать Маргарет и ее отца в суд. Маргарет осведомилась, вызывают ли вместе с ними и сеньора Брума, но тюремщик ответил, что он ничего не знает о сеньоре Бруме, так как тот находится в камере для опасных преступников, а эту камеру тюремщик не обслуживает.
Маргарет с отцом отправились в суд. Одеты они были в дорогие платья, сшитые по последней севильской моде, лучшие, какие можно было найти за деньги. Во дворе, к своей радости, Маргарет увидела Питера, который под стражей ожидал их, тоже одетый в христианское платье, которое они просили доставить ему за их счет. Маргарет, забыв о своей застенчивости, бросилась к нему, позволила ему обнять ее при всех и начала расспрашивать, как он себя чувствовал, с тех пор как они расстались.
— Не очень хорошо, — мрачно ответил Питер, — я не знал, увидимся ли мы когда-нибудь. К тому моя камера находится под землей и в нее сквозь решетку почти не проникает свет. Кроме того, там крысы, которые не дают спать. Поэтому я большую часть ночи не спал и думал о тебе. Куда нас теперь ведут?
— Мы должны предстать перед судом королевы. Возьми меня за руку и иди рядом, но не смотри на меня так пристально. Что-нибудь не в порядке у меня с платьем?
— Нет, — пробормотал Питер, — я смотрю на тебя, потому что ты в нем прекрасна. Почему ты не накинула вуаль? Ведь здесь, при дворе, наверняка есть еще маркизы.
— Только мавританки носят вуали, Питер, а мы теперь опять христиане. Слушай, я думаю, что никто из них не понимает по-английски. Я видела Инессу, которая очень нежно справлялась о тебе. Не красней, это не подобает мужчине. Разве ты тоже ее видел? Она бежала из Гранады, как и хотела, а Бетти вышла замуж за маркиза.
— Этот брак не будет иметь силы, — покачал головой Питер, — ведь это обман. И я боюсь, что бедняжке придется расплачиваться за него. Однако она дала нам возможность бежать, хотя если говорить о тюрьмах, то мне было гораздо лучше в Гранаде, чем в этой крысоловке.
— Конечно, — невинно заметила Маргарет, — у тебя там был садик для прогулок, не так ли? Ну ладно, не сердись на меня. Ты знаешь, что сделала Бетти? — И Маргарет рассказала Питеру, как Бетти подняла вуаль и поцеловала Морелла, оставшись неузнанной.
— Это не так уж удивительно, — заметил Питер, — ведь женщины, когда они загримированы, очень похожи друг на друга, особенно в полутемной комнате…
— … или в саду, — добавила Маргарет.
— Удивительно то, — продолжал Питер, предпочитая не обращать внимания на эти слова, — что она вообще согласилась поцеловать этого человека. Он же мерзавец. Рассказывала тебе Инесса, как он обращался с ней? При одной мысли об этом я прихожу в бешенство.
— Ну ладно, Питер, тебя ведь он не просил целовать его. А что касается зла, причиненного им Инессе, то хотя ты, конечно, больше знаешь об этом, чем я, но думаю, что она расплатилась с маркизом. Смотри, вон там впереди Алькасар. Замечательный замок, не правда ли? Ты знаешь, его построили мавры.
— Меня мало интересует, кто его построил, — мрачно заметил Питер.
— По-моему, он выглядит не хуже других замков, только побольше. Все, что я знаю о нем, это то, что меня будут там судить за удар по голове тому грубияну, и что, может быть, мы в последний раз видим друг друга. Скорее всего они пошлют меня на галеры, если не куда-нибудь похуже.
— О, не говори так! Мне это и в голову не приходило! Ведь это невозможно! — воскликнула Маргарет, и ее темные глаза наполнились слезами.
— Подожди, вот объявится твой маркиз и предъявит нам обвинение, и ты узнаешь, что возможно и что невозможно, — убежденно произнес Питер.
— Но мы уже прошли через кое-какие испытания, будем и теперь надеяться на лучшее.
В эту минуту они оказались перед воротами Алькасара. Путь от тюрьмы до дворца они прошли по саду апельсиновых деревьев. Здесь солдаты разлучили их.
Их провели через двор, где множество людей бегало взад и вперед, и наконец они очутились в огромном зале с мраморными колоннами, сверкавшем золотом. Это был так называемый Зал правосудия. В конце его на троне, установленном на богато украшенном возвышении, вокруг которого стояли гранды и советники, сидела пышно одетая женщина средних лет. У нее были голубые глаза и рыжие волосы, доброжелательное и открытое лицо, но очень сдержанные и спокойные манеры.
— Королева, — прошептал страж, отдавая честь.
Кастелл и Питер поклонились, а Маргарет присела в реверансе.
Только что закончилось разбирательство какого-то дела, и королева Изабелла, посоветовавшись со своими приближенными, в нескольких словах вынесла решение. Пока она говорила, ее нежные голубые глаза остановились на Маргарет, красота которой поразила ее, потом ее взгляд скользнул по высокой фигуре Питера, и, когда дошел до похожего на еврея Кастелла, королева нахмурилась.
Дело было закончено, поднялись следующие просители, но в этот момент королева махнула рукой и, продолжая смотреть на Маргарет, нагнулась вперед, спросила о чем-то придворного офицера и дала ему какое-то распоряжение. Тот поднялся и вызвал Джона Кастелла, Маргарет Кастелл и Питера Брума, из Англии. Он приказал им приблизиться и отвечать на обвинение в убийстве Луиса База, солдата Святой эрмандады.
Их тут же вывели вперед, и они остановились перед возвышением. Офицер вслух начал читать обвинение.
— Остановитесь, друг мой, — прервала его королева. — Эти люди являются подданными нашего доброго брата, Генриха Английского, и могут не понимать нашего языка, хотя один из них, мне думается, — и она посмотрела на Кастелла, — родился не в Англии, или, во всяком случае, не англичанин по происхождению. Спросите их, нужен ли им переводчик.
Вопрос был задан, и все они ответили, что могут говорить по-испански, хотя Питер добавил, что говорит довольно плохо.
— Вы тот рыцарь, которого обвиняют в совершении преступления? — спросила королева, глядя в упор на него.
— Ваше величество, я не рыцарь, а простой эсквайр, Питер Брум из Дедхэма, в Англии. Мой отец, сэр Питер Брум, был рыцарем, но он погиб рядом со мной, сражаясь за Ричарда на Босвортском поле, где я получил эту рану, — Питер показал шрам на своем лице. — Я не был посвящен в рыцари.
Изабелла слегка улыбнулась:
— А как вы попали в Испанию, сеньор Питер Брум?
— Ваше величество, — отвечал Питер, а Маргарет время от времени помогала ему, когда он не мог найти подходящего испанского слова, — эта дама, — и он указал на Маргарет, — моя невеста. Она дочь купца Джона Кастелла, стоящего рядом со мной…
— Вы завоевали любовь очень красивой девушки, сеньор, — прервала его королева. — Но продолжайте.
— Она и ее кузина, сеньора Дин, были похищены и Лондоне человеком, который, насколько я понимаю, является племянником его величества короля Фердинанда. Он был послом при английском дворе, где именовал себя сеньором д'Агвиларом. В Испании он носит имя маркиза Морелла.
— Похищены? Маркизом Морелла? — воскликнула королева.
— Да, ваше величество. Их заманили на борт его корабля и похитили. Сеньор Кастелл и я последовали за ними, мы высадились на борт их корабля и пытались спасти женщин, но корабль потерпел крушение около Мотриля. Маркиз увез их в Гранаду, мы последовали за ним, хотя я был тяжело ранен при крушении. Там, во дворце маркиза, мы были пленниками в течение многих недель, но в конце концов нам удалось бежать. Мы надеялись добраться до Севильи и просить защиты ваших величеств. По дороге — а мы ехали в мавританской одежде, потому что в ней мы бежали,
— на нас напали люди, которых мы приняли за бандитов. Нас предупреждали о таких злых людях. Один их них грубо схватил донну Маргарет, я ударил его и, к несчастью, убил, за что я сегодня и стою перед вами. Ваше величество, я не знал, что он солдат Святой эрмандады, и я умоляю вас простить меня.
При этом кто-то из придворных воскликнул:
— Хорошо сказано, англичанин!
Королева заметила:
— Если все, что вы рассказали, — правда, то я полагаю, что мы не должны слишком строго судить вас, сеньор Брум. Но как мы можем проверить все это? Вы, например, говорите, что благородный маркиз Морелла похитил двух дам, на что, я думаю, он вряд ли способен. Где же тогда другая дама?
— Я полагаю, — ответил Питер, — что она теперь является женой маркиза Морелла.
— Женой? Кто может это подтвердить? Насколько мне известно, маркиз не спрашивал нашего разрешения на женитьбу, как это принято.
Тут вперед вышел Бернальдес, назвал себя и свое занятие, сообщил, что он является компаньоном английского купца Джона Кастелла, и предъявил документ о браке, подписанный самим Морелла, Бетти и священником Энрике. Бернальдес добавил, что он получил копии этого документа с гонцом из Гранады и вручил другую копию архиепископу Севильи.
Королева, взглянув на бумагу, передала ее приближенным. Те внимательнейшим образом принялись рассматривать документ. Один из них заявил, что форма документа необычная и, может быть, документ подложный.
Королева подумала немного и затем сказала:
— Есть только один путь узнать правду. Мы приказываем вызвать сюда нашего племянника, благородного маркиза Морелла, сеньору Дин, о которой говорят, что она является его женой, и священника Энрике из Мотриля, который, по-видимому, обвенчал их. Когда все они прибудут сюда, король — мой муж и я разберемся в этом деле. До тех пор я не хочу ничего больше слушать.
Комендант тюрьмы обратился к королеве с вопросом, как поступать с заключенными до прибытия свидетелей из Гранады. Королева ответила, что они остаются под его надзором, и велела хорошо с ними обращаться. Питер попросил, чтобы его перевели в более удобную камеру, где будет меньше крыс и больше света. Королева милостиво согласилась, однако добавила, что будет правильнее поместить его отдельно от его невесты, которая может жить со своим отцом. Однако, заметив огорчение на их лицах, улыбнулась:
— Я думаю, они могут встречаться днем в тюремном саду.
Маргарет поблагодарила, и королева сказала ей:
— Подойдите сюда, сеньора, и посидите немного со мной. — Она указала на скамеечку для ног рядом с собой. — Когда я покончу с этими делами, я хочу поговорить с вами.
Маргарет провели к возвышению, и она присела по левую руку от ее величества, на скамеечке. Она была прекрасна в этот миг. Ее красота и осанка были поистине королевскими. Между тем Кастелла и Питера повели обратно в тюрьму, причем последний, видя вокруг столько галантных грандов, уходил весьма неохотно.
Спустя некоторое время, покончив с делами, королева распустила суд, попросив остаться нескольких офицеров, и обратилась к Маргарет:
— А теперь, прекрасная девушка, расскажите мне все как женщина женщине и не бойтесь, что это будет использовано при судебном разбирательстве над вашим возлюбленным. Ведь вас, по крайней мере сейчас, не в чем обвинять. Прежде всего, скажите мне, действительно ли вы обручены с этим высоким кавалером и правда ли, что вы любите его?
— Да, ваше величество, — ответила Маргарет, — и мы претерпели много страданий за это время. — Маргарет рассказала всю их историю, которую королева выслушала с большим вниманием.
— Очень странная история, если все это правда, и весьма позорная,
— произнесла королева, когда Маргарет кончила. — Но как могло случиться, что Морелла, который хотел заставить вас выйти за него замуж, женился теперь на вашей кузине? Вы что-то скрываете от меня? — И она проницательно посмотрела на Маргарет.
— Ваше величество, — ответила Маргарет, — мне было стыдно рассказывать остальное, однако я верю вам и решусь на это. Прошу только вашего высочайшего снисхождения, если вы посчитаете, что мы, находясь в очень затруднительном положении, поступили плохо. Моя кузина, Бетти Дин, отплатила Морелла его же монетой. Он завоевал ее сердце и обещал жениться на ней, и она с риском для жизни заняла мое место у алтаря, тем самым дав нам возможность бежать.
— Храбрый поступок, хотя и не совсем честный, — заметила королева.
— Я только не знаю, будет ли такой брак считаться действительным, но об этом должна судить церковь. Конечно, на вас всех трудно сердиться. Что вам обещал Морелла, когда просил вас выйти за него замуж в Лондоне?
— Ваше величество, он обещал мне, что вознесет меня высоко, может быть, даже, — и она помедлила, — на то место, которое занимаете вы.
Изабелла нахмурилась, потом рассмеялась и, окинув взглядом Маргарет с ног до головы, сказала:
— Вы достойны этого места, может быть, даже больше, чем я. А что он еще говорил?
— Ваше величество, он уверял меня, что далеко не все любят короля, его дядю; что у него, маркиза Морелла, есть много друзей, которые помнят, как его отец был отравлен отцом короля, и что его мать была мавританской принцессой. Он говорил также, что может прибегнуть к помощи мавров или воспользоваться другими путями для достижения своей цели.
— Ну что ж, — заключила королева, — хотя маркиз и верный сын церкви и мой муж так любит его, я никогда не питала добрых чувств к Морелла и очень благодарна вам за предупреждение. Хотите ли вы попросить меня о чем-нибудь, прекрасная Маргарет?
— Да, ваше величество. Я осмеливаюсь просить вас быть снисходительной к моему возлюбленному, когда он предстанет перед вами на суде. Поверьте, у него горячая голова и тяжелая рука. Рыцари, подобные ему, — а он рыцарь по крови, — не могут спокойно смотреть, когда их дам оскорбляют грубияны и срывают с них одежду. И еще я прошу вас защитить меня от маркиза Морелла и не разрешить ему не только дотронуться до меня, но и говорить со мной. Несмотря на его звание и великолепие, я ненавижу его.
— Я уже обещала, что у меня не будет предубеждения при разборе вашего дела, моя прекрасная англичанка Маргарет, — улыбаясь, ответила королева, — и я думаю, что если я выполню вашу просьбу, то это не заставит правосудие снять повязку, закрывающую его глаза. Идите и будьте спокойны. Если вы рассказали мне правду, в чем я не сомневаюсь, и если это будет зависеть от Изабеллы Испанской, наказание, которое получит сеньор Брум, не будет слишком тяжелым. Во всяком случае, тень маркиза Морелла, этого незаконнорожденного сына христианского принца и какой-то принцессы из неверных, — эти слова королева произнесла с ожесточением, — не упадет на вас. Но я должна предупредить вас, что король, мой муж, любит этого человека — это естественно — и судить маркиза ему будет нелегко. Скажите мне, ваш возлюбленный человек храбрый?
— Очень храбрый, — ответила Маргарет с улыбкой.
— И он может сидеть верхом и держать копье, не так ли? Хотя бы ради вас?
— Да, ваше величество, и владеть мечом тоже не хуже других рыцарей, хотя он совсем недавно оправился после тяжелой болезни. Кое-кто мог убедиться в этом на Босвортском поле.
— Хорошо. А теперь прощайте. — Королева протянула Маргарет руку для поцелуя и, подозвав двух офицеров, приказала им проводить Маргарет обратно в тюрьму и добавила, что она может свободно писать королеве, если понадобится.
В тот же день вечером в Севилью прискакал Морелла. Он был бы здесь гораздо раньше, но его спутал рассказ мавров, сопровождавших Питера, Маргарет и ее отца из Гранады, которые видели, как они направились по дороге на Малагу. Он поскакал по этой дороге, но, не обнаружив никаких следов, вернулся и поехал в Севилью. Здесь он вскоре узнал обо всем, и среди прочих новостей также о том, что за десять часов до его приезда были посланы гонцы в Гранаду с приказанием явиться ему и Бетти, с которой он был обвенчан.
На следующее утро Морелла попросил аудиенцию у королевы, но ему было отказано, а король, его дядя, находился в отъезде. Тогда он попытался получить разрешение проникнуть в тюрьму, чтобы увидеть Маргарет. Однако он убедился, что ни его высокое звание, ни власть, ни деньги даже не могут открыть ему двери тюрьмы. Это был приказ королевы, и Морелла понял, что ему в этом деле придется столкнуться с Изабеллой как с врагом. Мысль о мести не покидала его, и он начал поиски Инессы и отца Энрике из Мотриля. Но в результате он выяснил, что Инесса исчезла — никто ничего не знал о ней, — а святой отец был в безопасности в стенах инквизиции, откуда он со свойственной ему осторожностью предпочитал не выходить и куда ни один мирянин, какое бы высокое положение он ни занимал, не мог проникнуть, чтобы наложить руку на служителя инквизиции. Итак, исполненный гнева и разочарования, Морелла созвал адвокатов и друзей на совет и стал готовиться к защите против обвинения, которое, он понимал, будет ему предъявлено, все еще надеясь, что случай вернет ему Маргарет. У него оставалась одна карта, которую он решил пустить в ход. Он знал, что Кастелл еврей, в течение многих лет маскировавшийся под христианина, а для таких в Севилье снисхождения не было. Быть может, ценой спасения ее отца он сумеет завоевать Маргарет, которую он теперь желал еще более страстно, чем когда бы то ни было.
Он был готов сейчас воспользоваться любым способом, лишь бы не допустить, чтобы Маргарет вышла замуж за его соперника Питера Брума. К тому же оставалась еще надежда, что Питер будет приговорен к тюремному заключению, а может быть, и к смерти за убийство солдата эрмандады.
Итак, Морелла приготовился к серьезной борьбе и стал ожидать прибытия в Севилью Бетти, поскольку он не мог предотвратить ее приезд.
ГЛАВА XXI. БЕТТИ ИЗЛАГАЕТ ДЕЛО
Прошло семь дней, в течение которых Маргарет и ее отец спокойно пребывали в тюрьме, где, по правде говоря, они чувствовали себя скорее гостями, нежели заключенными. Им разрешено было принимать посетителей. Среди этих посетителей был и Хуан Бернальдес, который сообщал им обо всем, что происходило за стенами тюрьмы. Через него они послали гонцов встретить и предупредить Бетти о суде, где будет решаться ее дело.
Вскоре гонцы вернулись с сообщением, что маркиза Морелла едет в Севилью с большой пышностью, сопровождаемая огромной свитой, что она благодарит за сообщение и надеется защитить себя.
При этом известии Кастелл раскрыл глаза от изумления, а Маргарет расхохоталась. Хотя она и не знала всего, но была уверена, что каким-то образом Бетти удалось подчинить себе Морелла и тому не так-то легко будет расправиться с нею. Тем не менее Маргарет не могла представить себе, откуда у Бетти взялась такая свита. Она все время опасалась, что на Бетти могут напасть или обидеть ее, и написала королеве письмо, умоляя ее защитить Бетти.
Не прошло и часа, как Маргарет получила ответ, в котором сообщалось, что ее кузина находится под королевским покровительством и что послан эскорт для ее сопровождения и охраны от каких-либо покушений. Королева также сообщала, что для удобства этой дамы ей приготовлено помещение в крепости вне Севильи, которое будет охраняться и днем и ночью и откуда ее привезут на суд.
Питера все еще держали отдельно от Маргарет и Кастелла, но ежедневно в полдень им разрешали встречаться в окруженном стенами саду при тюрьме, где они могли разговаривать сколько угодно. Здесь же он ежедневно упражнялся в бое на мечах с другими заключенными, используя вместо мечей палки. Кроме того, ему разрешили пользоваться конем, на котором он приехал из Гранады. Питер устраивал турнирные бои с комендантом и другими офицерами и доказал, что он в этом деле сильнее их всех. Он занимался всем этим с увлечением и жаром — Маргарет рассказала ему о намеке, который бросила королева, и Питер хотел вернуть себе былую силу и усовершенствоваться во владении любым оружием, употребляемым в Испании.
Так шло время, пока однажды комендант не объявил им, что суд над Питером назначен на завтра и что они должны будут сопровождать его ко двору, чтобы дать показания. Бернальдес в записке предупредил их, что король вернулся и будет присутствовать на суде вместе с королевой и что их дело вызвало много толков в Севилье. Все интересуются историей женитьбы Морелла, о которой ходят различные слухи.
Бернальдес писал также, что он почти не сомневается, что Маргарет и Кастелл будут освобождены, что корабль готов и ждет их приказаний, что же касается шансов Питера, то он ничего не может сказать определенного, поскольку все будет зависеть от того, как посмотрит король на его преступление — ведь Морелла является хоть и непризнанным, но все же племянником короля и тот к нему благосклонно расположен.
Маргарет и Кастелл спустились в сад. Питер только что вернулся после конных состязаний и, раскрасневшийся от быстрой езды, выглядел очень мужественным и красивым. Маргарет взяла его за руку и, гуляя с ним рядом, сообщила новости.
— Я рад! — воскликнул Питер. — Чем скорее это дело начнется, тем скорее оно кончится. Но вот что, дорогая, — при этих словах лицо Питера стало серьезным, — Морелла имеет большое влияние в Испании, а я нарушил закон этой страны, так что никто не знает, чем все это кончится. Меня могут приговорить к смерти, или к заключению, или, может быть, если мне дадут возможность, я погибну в бою. В любом случае мы будем разлучены на время или навсегда. Если это случится, я умоляю тебя не оставаться здесь ни ради попыток спасти меня, ни по какой-либо другой причине. Ведь пока ты в Испании, Морелла никогда не прекратит своих попыток овладеть тобой. В Англии же ты будешь в безопасности.
Услышав эти слова, Маргарет зарыдала — мысль о том, что может случиться с Питером, приводила ее в отчаяние.
— Я во всем буду повиноваться тебе, — прошептала она, — но как я могу оставить тебя, дорогой мой, пока ты жив! А если, по злому случаю, ты умрешь, чего бог не допустит, разве смогу я жить без тебя? Тогда я последую за тобой.
— Я не хочу этого, — ответил Питер, — я хочу, чтобы ты прожила всю жизнь и пришла ко мне туда в назначенный срок, но не раньше. А еще я хочу сказать тебе, что, если ты встретишь достойного человека и захочешь выйти за него замуж, ты должна сделать это, потому что я хорошо знаю, что ты никогда не забудешь меня, свою первую любовь. Ведь за этой жизнью есть другая, где нет ни замужества, ни женитьбы. Пусть моя мертвая рука не остановит тебя, Маргарет.
— И все-таки, — произнесла мягко, но с возмущением Маргарет, — будь уверен в одном, Питер: если с тобой случится страшная беда, я останусь верна тебе — живая или мертвая.
— Да будет так, — вздохнул с явным облегчением Питер, потому что он не мог допустить мысли о том, что Маргарет станет женой другого даже после его смерти, хотя его честная, простая душа и страх, что весь остаток ее жизни будет лишен всякой радости, заставили его говорить все то, что он перед этим сказал.
Укрывшись за цветущим кустом, они обнялись так, как обнимаются люди, не знающие, смогут ли они когдалибо еще поцеловать друг друга. Пришел час заката и разлучил их.
На следующее утро Кастелла и Маргарет опять повели в Зал правосудия Алькасара. Но на этот раз Питер не был вместе с ними. Огромный зал был полон советниками, офицерами, грандами и дамами. Всех их привело сюда любопытство. Однако среди них Маргарет не обнаружила ни Морелла, ни Бетти. Король и королева еще не заняли своих мест на троне. Питер уже стоял на отведенном ему месте, по обе стороны от него стояла стража. Он приветствовал их улыбкой и кивнул головой, когда они заняли свои места неподалеку от него. Когда Кастелл и Маргарет приблизились к своим стульям, загремели трубы, и в конце зала появились рука об руку их величества Фердинанд и Изабелла. Все присутствующие встали и склонились в низком поклоне в ожидании, пока король и королева сядут.
Король, которого наши герои увидели в первый раз, оказался коренастым подвижным человеком с красивыми глазами и широким лбом. Однако Маргарет, глядя на него, подумала, что у него хитрое лицо — лицо человека, никогда не забывающего своих собственных интересов. Как и королева, он был одет в роскошный костюм, расшитый золотом и украшенный гербами Арагона, в руке он держал золотой скипетр, усеянный драгоценными камнями, а у пояса, чтобы показать, что он король-воин, висел длинный меч с крестообразной рукояткой. Улыбаясь, он ответил на приветствия своих подданных, приложив руку к шляпе и поклонившись. Затем взгляд его остановился на Маргарет, и, обернувшись, он звонким голосом спросил у королевы, та ли это дама, на которой женился Морелла, и, если это она, то почему же он хочет освободиться от нее.
Изабелла ответила, что, насколько она знает, на этой сеньоре он только хотел жениться, а женился на другой, но, как он утверждает, по ошибке. А эта дама обручена с обвиняемым, стоящим перед ними. Все слышавшие этот ответ рассмеялись.
В эту минуту в зал вошел маркиз Морелла, одетый, как обычно, в черный бархат и украшенный орденами. Его сопровождали друзья и адвокаты, облаченные в длинные мантии. На голове у Морелла была черная шляпа, с которой свешивалась жемчужина. Он не снял шляпу даже тогда, когда кланялся королю и королеве, потому что был одним из тех немногих грандов Испании, которые имели право не снимать головного убора перед их величествами. Король и королева ответили на его приветствие — король дружеским кивком, а королева холодным поклоном, — и Морелла занял приготовленное для него место. Как раз в этот момент в дальнем конце зала началось движение и послышался голос офицера, кричавшего: «Дорогу! Дорогу маркизе Морелла!» При этом маркиз, чей взгляд был прикован к Маргарет, нахмурился и поднялся со своего места, как будто собираясь протестовать, но адвокат, стоявший позади него, шепнул ему что-то, и маркиз снова сел.
Толпа расступилась, и Маргарет, обернувшись, увидела двигавшуюся к ним процессию. Часть людей была в доспехах, часть — в белых мавританских одеждах, украшенных алым орлом — гербом маркиза Морелла. В центре процессии шла высокая красивая дама. Ее шлейф несли две мавританки, на ее светлых распущенных волосах сияла диадема, пурпурный плащ ниспадал с плеч, наполовину прикрывая великолепное платье, украшенное жемчугом, который Морелла подарил Маргарет, а на груди красовалась нитка жемчуга, подаренная маркизом Бетти в виде компенсации за доставленные ей неприятности.
Маргарет смотрела на нее во все глаза, а Кастелл, стоя рядом, бормотал:
— Это наша Бетти! Вот уж воистину одежда красит человека!
Да, это, без сомнения, была Бетти, хотя вспоминая ее в простом шерстяном платье в старом доме в Холборне, трудно было признать бедную компаньонку в этой гордой и величественной даме, выглядевшей так, будто она всю жизнь ходила по мраморным полам дворцов и общалась с вельможами и королевами. Она шла через огромный зал, статная, невозмутимая, не глядя по сторонам, не обращая внимания на шепот. Она не взглянула ни на Морелла, ни на Маргарет, пока не дошла до открытого пространства перед перегородкой, за которой находился Питер, и стража, глазевшая на нее, поторопилась освободить ей место. Тогда она трижды присела — дважды перед королевой и один раз перед королем. Затем, обернувшись, поклонилась маркизу, который, уставив глаза в пол, не ответил ей, поклонилась Кастеллу и Питеру и наконец, подойдя к Маргарет, подставила ей щеку для поцелуя. Маргарет смиренно поцеловала ее, шепнув на ухо:
— Как поживает ваша светлость?
— Лучше, чем ты, если бы ты была на моем месте, — шепнула в ответ Бетти, незаметно подмигнув ей.
В это время Маргарет услышала, как король сказал королеве:
— Великолепная женщина! Посмотрите на ее фигуру и на эти огромные глаза. Морелла трудно угодить.
— Очевидно, он предпочитает павлинам лебедя, — ответила королева, взглянув на Маргарет, чья более спокойная и утонченная красота выигрывала рядом с ослепительной красотой ее кузины.
Королева указала Бетти на приготовленное для нее место. Бетти заняла его, свита расположилась позади, переводчик — рядом.
— Я несколько поставлен в тупик, — произнес король, переводя взгляд с Морелла на Бетти и с Маргарет на Питера; по-видимому, комичность положения не укрылась от него. — Какое же дело мы должны разбирать?
Тогда один из советников встал и заявил, что дело, которое представлено на рассмотрение их величествам, заключается в обвинении англичанина, находящегося здесь под стражей, в убийстве солдата Святой эрмандады, но, очевидно, есть и другие обстоятельства, связанные с этим.
— Насколько я понимаю, — заявил король, — нам предстоит рассмотреть обвинение в похищении подданных дружественного нам государства с территории этого государства, ходатайство о признании брака недействительным и встречный иск о признании действительности этого брака и бог знает что еще. Ну, всему свое время. Давайте начнем с этого
высокого англичанина.
Суд начался с выступления прокурора, изложившего обвинение против Питера так же, как оно было изложено раньше королеве. Капитан Аррано дал свои показания об убийстве солдата, но, когда адвокат Питера стал задавать ему вопросы, Аррано признал — по-видимому, он не питал злобы к обвиняемому, — что упомянутый солдат грубо оскорбил донну Маргарет и что обвиняемый Питер, будучи иностранцем, мог свободно принять их за шайку бандитов или даже за мавров. Он добавил также, что не может утверждать, что англичанин намеренно хотел убить солдата.
После этого дали показания Кастелл и Маргарет, последняя — с прелестной скромностью. Действительно, когда она рассказала, что Питер
— ее нареченный, с которым она должна была обвенчаться, если бы ее не похитили из Англии, и что она позвала его на помощь, когда солдат схватил ее и сорвал с нее вуаль, в зале раздался шепот сочувствия, а король и королева заговорили между собой, не обращая внимания на ее дальнейшие слова.
Затем король переговорил с двумя судьями, после чего поднял руку и объявил, что они приняли решение. Совершенно очевидно, при выяснившихся обстоятельствах, что англичанин не виновен в намеренном убийстве солдата. Вообще нет никаких свидетельств, что он знал, что тот принадлежит к Святой эрмандаде. Таким образом, он будет освобожден при условии выплаты вдове убитого компенсации, что уже сделано, и небольшой суммы — для мессы за поминание души убитого.
Питер принялся благодарить короля, но его величество, не дослушав его, спросил, хочет ли кто-либо из присутствующих выступить по существу следующих дел. Поднялась Бетти и заявила, что она желает говорить. Через переводчика она объяснила, что получила королевский приказ явиться ко двору и что она готова отвечать на любые вопросы или обвинения, которые могут быть выдвинуты против нее.
— Как ваше имя, сеньора? — осведомился король.
— Элизабет, маркиза Морелла, урожденная Элизабет Дин, из древнего и благородного рода Динов, жителей Англии, — отчеканила Бетти ясным и решительным голосом.
Король кивнул и продолжал:
— Кто-нибудь оспаривает этот титул и происхождение этой дамы?
— Я, — впервые за все это время произнес маркиз Морелла.
— На каком основании?
— На многих основаниях, — ответил Морелла. — Она не маркиза Морелла, поскольку я венчался с ней, будучи уверенным, что это другая женщина. Она не происходит из древнего и благородного рода, так как она была служанкой в доме купца Кастелла в Лондоне.
— Это ничего не доказывает, маркиз, — прервал его король. — Мой род, я думаю, можно назвать древним и благородным, вы этого не станете отрицать, однако я играл роль слуги в обстоятельствах, о которых королева помнит… — намек, при котором все присутствующие, знавшие, о чем идет речь, громко рассмеялись, а вместе с ними и королева. — Если оспаривать подлинность брака или благородство происхождения, то это требует доказательств, — продолжал король. — Разве эту даму обвиняют в таких преступлениях, что она не может оправдываться?
— Нет, — быстро ответила Бетти. — Единственное мое преступление — бедность и брак с маркизом Морелла.
При этом присутствующие опять рассмеялись.
— Однако, сеньора, сейчас вы никак не выглядите бедной, — заметил король, глядя на ее ослепительный, украшенный драгоценностями наряд, — а что касается женитьбы, то мы здесь склонны рассматривать ее скорее как опрометчивость, нежели преступление. — При этих легкомысленных словах королева слегка нахмурилась, — Однако, сеньора, — быстро добавил король, — предъявите ваши доказательства и простите меня за то, что я пока не называю вас маркизой.
— Вот мои доказательства, сэр, — и Бетти протянула документы о браке.
Судьи и король с королевой прочитали документ, причем королева заметила, что копию этого документа она уже видела.
— Здесь ли находится священник, совершавший брачный обряд? — спросил король.
Встал Бернальдес и заявил, что священник присутствует. Правда, он при этом умолчал о том, что за это ему пришлось уплатить немалую сумму.
Один из судей приказал вызвать священника, и в зал, кланяясь, вошел отец Энрике. Маркиз со злобой посмотрел в его сторону. Принеся присягу, отец Энрике сообщил, что он был священником в Мотриле и капелланом маркиза Морелла, а теперь является секретарем святейшей инквизиции в Севилье. В ответ на другие вопросы он заявил, что по желанию жениха и с его полного согласия такого-то числа в Гранаде он обвенчал маркиза с дамой, которая стоит сейчас перед ним и которую, насколько ему известно, зовут Бетти Дин; затем по ее просьбе, поскольку она желала, чтобы соответствующая запись об их браке была сделана тут же, он составил документ, с которым суд уже ознакомился, а маркиз и все остальные подписали его там же после венчания, в капелле замка маркиза в Гранаде. Затем отец Энрике добавил, что после этого он покинул Гранаду, чтобы занять место секретаря инквизиции в Севилье, которое было предложено ему святейшими властями в качестве награды за трактат, который он написал против ереси. Вот все, что он знает об этом деле.
После этого поднялся адвокат маркиза и спросил отца Энрике, кто готовил венчание. Священник отвечал, что маркиз никогда прямо с ним об этом не говорил; во всяком случае, маркиз ни разу не назвал имя невесты. Все устраивала сеньора Инесса.
Вмешалась королева и спросила, где находится сейчас сеньора Инесса и кто она такая. Священник ответил, что сеньора Инесса испанка, одна из приближенных маркиза в Гранаде, которую тот обычно использовал для всевозможных конфиденциальных дел. Она молода и красива, но больше он ничего прибавить не может. Где она сейчас, он не знает, хотя они вместе ехали в Севилью. Вероятно, это известно маркизу.
Священник сел, а Бетти в качестве свидетельницы стала рассказывать через переводчика всю историю своих отношений с маркизом Морелла. Она рассказала, как встретила его в Лондоне, в доме сеньора Кастелла, где она жила, и что он сразу начал ухаживать за ней и покорил ее сердце. После этого он предложил ей бежать вместе с ним в Испанию, обещая жениться. В доказательство этого она показала письмо, написанное им. Письмо это было переведено и вручено суду для изучения — весьма компрометирующее его письмо, хотя оно и не было подписано подлинным именем автора. Затем Бетти рассказала, как обманом ее и Маргарет завлекли на борт испанского корабля и как маркиз отказался жениться на ней, утверждая, что он любит не ее, а ее кузину. Тогда она расценила это заявление как попытку уклониться от выполнения его обещания. Она не знала, почему он увез и ее кузину Маргарет, но предполагала, что он сделал это потому, что раз уж Маргарет оказалась на борту его корабля, он не имел возможности освободиться от нее.
Потом Бетти описала их путешествие в Испанию, сказав, что все это время она держала маркиза в отдалении, так как на корабле не было священника, который мог бы обвенчать их, к тому же она очень плохо себя чувствовала и ей было стыдно, что она вовлекла свою кузину и хозяйку в такие неприятности. Бетти рассказала, что Кастелл и Брум последовали за ними на другом судне и высадились на их каравеллу во время шторма. Потом она изложила историю кораблекрушения, их путешествие в Гранаду в качестве пленниц и последующую жизнь там. Наконец, она рассказала, как к ней пришла Инесса с предложением маркиза обвенчаться и как Бетти поставила условием, чтобы ее кузина, сеньор Кастелл и сеньор Брум были освобождены. Они уехали, и венчание, как и было условлено, состоялось. Маркиз обнял ее в присутствии нескольких людей — а именно Инессы и двух своих секретарей, которые, за исключением Инессы, присутствуют здесь и могут подтвердить, что она говорит правду.
После венчания и подписания документа она вместе с маркизом прошла в его личные апартаменты, где до тех пор никогда не бывала, и после этого утром, к ее изумлению, он заявил, что должен уехать путешествовать по делам их величеств. Прежде чем уехать, однако, он дал ей письменное распоряжение, которое она предъявляет, получать его доходы и вести его дела в Гранаде во время его отсутствия. Этот документ Бетти прочитала вслух всем его домочадцам, прежде чем он уехал. Она выполняла его поручения, получала деньги, давала расписки и вообще занимала место хозяйки его дома, пока не получила королевский приказ.
— В это мы можем поверить, — сухо произнес король. — А теперь, маркиз, что вы можете сказать в ответ?
— Я отвечу, — ответил маркиз, весь трепетавший от ярости, — но прежде разрешите моему адвокату задать этой женщине ряд вопросов.
Адвокат принялся допрашивать Бетти, хотя нельзя сказать, чтобы ему удалось взять верх над ней. Прежде всего он начал расспрашивать ее по поводу ее заявления о древнем и благородном роде, из которого она происходит. Но тут Бетти ошеломила суд перечнем своих предков, первый из которых, некий сэр Дин де Дин высадился в Англии вместе с нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем. Его потомки, клялась она, указанные Дины де Дин, достигли высоких званий и власти, будучи любимцами английских королей и сражаясь за них из поколения в поколение.
Постепенно она дошла до войны Алой и Белой розы, во время которой ее дед был изгнан и лишен земель и титулов, так что ее отец, единственным ребенком которого и, следовательно, представительницей благородного рода Динов де Дин она является, оказался в бедности. Однако он женился на даме из еще более выдающегося рода, чем его собственный: она была прямым потомком знатной саксонской фамилии, гораздо более древней, чем выскочки-норманны.
Маргарет и Питер слушали Бетти с изумлением. Но в этом месте по знаку королевы сбитый с толку суд через главного алькальда попросил Бетти закончить изложение истории ее предков, которых суд уже считает не менее знатными, чем любой другой древний род в Англии.
После этого Бетти спросили о ее отношениях с Морелла в Лондоне, и она рассказала историю его ухаживаний с такими подробностями и с такой силой воображения, что в конце концов и эта история осталась неоконченной. Так было и с последующими вопросами. Не менее умная, чем адвокат Морелла, отвечая иногда по-английски, Бетти подавила его обилием слов и находчивыми ответами, пока наконец бедняга, не в силах ничего поделать с нею, сел на место, вытирая лоб и проклиная ее про себя.
Затем приносили присягу секретари Морелла и вслед за ними его слуги. Все они, хотя и без особого желания, подтвердили все, что говорила Бетти: как маркиз поцеловал ее, приподняв вуаль, и все остальное. Так Бетти закончила свое выступление, оставив за собой право обратиться к суду после того, как выслушает выступление маркиза.
Король, королева и советники в течение нескольких минут совещались. По-видимому, мнения разделились — некоторые считали, что слушание дела нужно немедленно прекратить и передать его в иной трибунал, другие предлагали продолжить. Наконец королева сказала, что надо дать возможность маркизу Морелла выступить — быть может, он сумеет доказать, что вся эта история сфабрикована и что он даже не был в Гранаде в то время, когда состоялась его женитьба.
Король и алькальды согласились. Маркиз принес присягу и рассказал свою историю, заметив, что она не принадлежит к числу тех, которые он с гордостью будет повторять в обществе. Он рассказал, как он впервые встретил Маргарет, Бетти и Питера на публичной церемонии в Лондоне, влюбился в Маргарет и сопровождал ее в дом ее отца, купца Джона Кастелла.
Впоследствии он узнал, что Кастелл, бежавший еще в детстве со своим отцом из Испании, оказался некрещеным евреем, делавшим вид, что он христианин. Это заявление произвело в суде сенсацию, а лицо королевы стало каменным. Впрочем, женился он на христианке, и дочь его была крещена и выросла христианкой, оставшись преданной этой вере. Она даже не знала — он уверен в этом, — что отец ее придерживается еврейской веры, иначе, конечно, он, Морелла, не добивался бы ее руки. Их величества могут быть уверены, продолжал маркиз, что по причинам, которые им известны, он стремился узнать всю правду о евреях в Англии, о чем он уже писал им, хотя из-за кораблекрушения и домашних дел не успел лично доложить им о своей миссии.
Продолжая свой рассказ, Морелла признал, что ухаживал за служанкой Бетти для того, чтобы иметь доступ к Маргарет, чей отец не доверял ему, зная коечто о его миссии. Что же касается благородного происхождения Бетти, то он сильно в нем сомневается.
Тут встала Бетти и громко заявила:
— Я объявляю маркиза Морелла негодяем и лжецом! В моем мизинце больше благородной крови, чем во всем его теле и, — добавила она, — чем в теле его матери.
При этом намеке маркиз вспыхнул, а Бетти, удовлетворенная своим выпадом, села на место.
Маркиз продолжал рассказывать, как он сделал предложение Маргарет, но она отказалась выйти за него замуж. Он понял, что ее отказ был вызван тем, что она обручена со своим родственником, сеньором Питером Брумом, головорезом, который и в Лондоне попал в неприятную историю за убийство человека, а здесь, в Испании, убил солдата Святой эрмандады. Будучи влюблен в нее и зная, что он может предложить ей высокое положение и богатство, маркиз пришел к мысли похитить Маргарет. А чтобы осуществить это, ему пришлось, вопреки своему желанию, похитить и Бетти.
После многих приключений они приехали в Гранаду, где он сумел продемонстрировать донне Маргарет, что сеньор Брум воспользовался своим заключением, чтобы завести роман с живущей у него в доме женщиной по имени Инесса, о которой здесь упоминали.
На этот раз не выдержал Питер. Он встал и назвал маркиза в лицо лжецом, прибавив, что, если бы у него была возможность, он бы доказал ему это. Однако король приказал Питеру сесть и замолчать.
Убедившись в неверности своего возлюбленного, продолжал маркиз, донна Маргарет в конце концов согласилась стать его женой при условии, что ее отцу сеньору Бруму и ее служанке Бетти Дин будет позволено уехать из Гранады…
— … где, — заметила королева, — вы не имели никакого права удерживать их, маркиз. За исключением, пожалуй, отца — Джона Кастелла,
— многозначительно добавила она.
— Да, с сожалением должен признаться, я действительно не имел права держать их.
— Следовательно, — резко продолжала королева, — не было ни законных, ни моральных оснований для этого брака.
При этих словах адвокаты одобрительно закивали головами.
Маркиз осмелился утверждать, что основание было, так как донна Маргарет, во всяком случае, сама захотела этого. В день, назначенный для свадьбы, пленники были отпущены, но теперь он понял, что благодаря хитрости Инессы, подкупленной Кастеллом и его друзьями евреями, донна Маргарет бежала вместо своей служанки Бетти, с которой он после этого прошел через процедуру бракосочетания, будучи уверенным, что это Маргарет.
Что касается поцелуя перед церемонией, то это произошло в темной комнате, и он думает, что лицо Бетти и ее волосы были подкрашены, чтобы больше походить на Маргарет. В отношении всего последующего, то он уверен, что чаша вина, которую он выпил, перед тем как вести невесту к алтарю, была отравлена — он только смутно помнит церемонию, а после нее не помнит уже ничего до тех пор, пока не проснулся на следующее утро с головной болью и не увидел сидящую рядом с ним Бетти.
Что касается доверенности, которую она показывала, то, будучи в тот момент вне себя от гнева и разочарования и чувствуя, что если он останется там, то совершит преступление, убив эту женщину, столь жестоко обманувшую его, он дал ей эту доверенность, только чтобы бежать от нее. Их величества обратят внимание на то, что эта доверенность выдана маркизе Морелла. Поскольку этот брак недействителен, маркизы Морелла не существует. Следовательно, и документ этот недействителен. Такова правда, к ней больше нечего добавить.
ГЛАВА XXII. ОСУЖДЕНИЕ ДЖОНА КАСТЕЛЛА
Закончив свои показания, маркиз Морелла сел, а король и королева начали шептаться между собой. В это время главный алькальд спросил Бетти, есть ли у нее вопросы к маркизу Морелла. Бетти с большим достоинством встала и через переводчика спокойно заявила, что есть и очень много. Однако она не намерена унижать себя ни одним вопросом, пока грязь, которую он вылил на нее, не будет смыта, а смыта она может быть только кровью. Маркиз заявил, что она женщина без роду и племени, и сказал, что их брак недействителен. Так как она женщина и не может потребовать от него, чтобы он подтвердил свои обвинения с помощью меча, она полагает, что имеет право поступать согласно законам чести и просить разрешения искать себе защитника — если одинокая женщина может найти такого в чужой стране, — чтобы защитить ее доброе имя и наказать этого низкого и подлого клеветника.
Среди тишины, наступившей после слов Бетти, поднялся Питер.
— Я прошу разрешения ваших величеств быть этим защитником, — сказал он. — Ваши величества заметили, что, даже по собственным словам маркиза, он причинил мне больше зла, чем может причинить один человек другому. К тому же он солгал, сказав, что я был неверен моей нареченной, донне Маргарет, и, конечно, я имею право отомстить ему за эту ложь. Наконец, я заявляю, что считаю сеньору Бетти хорошей и честной женщиной, которой никогда не касалась тень позора, и, как ее земляк и родственник, я хочу защитить ее доброе имя перед всем миром. Я чужестранец, и у меня здесь мало друзей, а может быть, и вовсе их нет, но все-таки я не могу поверить, что ваши величества откажут мне в праве на удовлетворение, которое во всем мире в подобном случае один дворянин может потребовать от другого. Я вызываю маркиза Морелла на смертельный бой без пощады для побежденного. И вот доказательство этого.
С этими словами Питер пересек открытое пространство перед барьером, сорвал с руки кожаную перчатку и бросил ее прямо в лицо Морелла, считая, что после такого оскорбления тот не может не принять вызов.
Морелла с проклятием схватился за меч, но, прежде чем он успел выхватить его, офицеры бросились к нему, и суровый голос короля приказал им прекратить эту ссору в присутствии королевской четы.
— Я прошу у вас прощения, ваше величество, — задыхаясь, произнес Морелла, — но вы видели, как этот англичанин поступил со мной, с испанским грандом.
— Да, — промолвила королева, — но мы также слышали, как вы, испанский гранд, поступили с этим английским джентльменом и какое бросили ему обвинение, в которое вряд ли верит донна Маргарет.
— Конечно, нет, ваше величество, — сказала Маргарет. — Пусть меня тоже приведут к присяге, и я объясню многое из того, о чем говорил вам маркиз. Я никогда не хотела выходить замуж ни за него, ни за кого-либо другого, кроме этого человека, — и она дотронулась до руки Питера, — и все, что он или я сделали, мы сделали для того, чтобы спастись из коварной ловушки, в которой оказались.
— Мы верим этому, — с улыбкой ответила королева и отвернулась, чтобы посоветоваться с королем и алькальдами.
Долгое время они говорили так тихо, что никто не мог расслышать ни единого слова, при этом они посматривали то на одну, то на другую сторону в этой странной тяжбе. Какой-то священник был приглашен ими для участия в обсуждении, и Маргарет подумала, что это дурной признак. В конце концов решение было принято, и ее величество официально, как королева Кастилии, тихим, спокойным голосом огласила приговор. Обратившись прежде всего к Морелла, она сказала:
— Маркиз, вы предъявили очень серьезные обвинения даме, которая утверждает, что она ваша жена, и англичанину, чью невесту вы, по вашему собственному признанию, увезли обманом и силой. Этот джентльмен от своего имени и от имени этих дам бросил вам вызов. Принимаете ли вы его?
— Я с готовностью бы принял его, ваше величество, — ответил Морелла мрачно, — до сих пор никто не имел оснований сомневаться в моей храбрости, но я должен напомнить, что я… — Он приостановился, затем продолжал: — Ваши величества знают, что я не только испанский гранд… поэтому вряд ли мне пристало скрестить меч с клерком купца еврея, потому что таково было звание и положение этого человека в Англии.
— Вы могли снизойти и сражаться со мной на борту вашего судна «Сан Антонио», — с ненавистью воскликнул Питер, — почему же вы теперь стыдитесь закончить то, что вы не постыдились начать? Кроме того, я представитель рода, уважаемого в моей стране, и заявляю вам, что в любви и в бою я считаю себя равным любому из похитителей женщин и незаконнорожденных негодяев, живущих в этом королевстве.
Опять король и королева посовещались между собой по вопросу о благородном происхождении противников, который в те времена играл весьма важную роль, особенно в Испании. Наконец Изабелла сказала:
— По законам нашей страны испанский гранд не имеет права встречаться в поединке с простым иностранным джентльменом. Раз маркиз посчитал удобным выдвинуть это соображение, мы поддерживаем его и считаем, что он не обязан принять этот вызов для сохранения своей чести. Однако мы видели, что маркиз Морелла готов принять этот вызов, и решили сделать все, что в наших силах, чтобы никто не мог сказать, что испанец, причинивший зло англичанину и открыто вызванный на бой в присутствии своих суверенных властителей, отказался от этого по причине своего звания. Сеньор Брум, если вы согласны получить из наших рук то, что с гордостью принимали другие ваши соотечественники, мы намерены, считая вас храбрым и честным человеком благородного происхождения, посвятить вас в рыцари ордена Сант-Яго, а следовательно, дать вам право обращаться или сражаться как с равным с любым испанским дворянином, если только он не прямой потомок королей, на что, как мы думаем, могущественный и блестящий маркиз Морелла не претендует.
— Я благодарю ваши величества, — ответил изумленный Питер, — за честь, которую вы мне оказываете и в которой я бы не нуждался, если бы мой отец встал не на ту сторону в битве на Босвортском поле. Еще раз приношу вам свою благодарность и полагаю, что теперь маркиз не будет считать для себя унизительным решить наш долгий спор так, как ему хочется.
— Подойдите сюда, сеньор Питер Брум, и преклоните колено, — приказала королева, когда Питер перестал говорить.
Он повиновался, и Изабелла, взяв меч у короля, посвятила его в рыцари, трижды ударив по правому плечу и произнеся при этом традиционные слова:
— Встаньте, сэр Питер Брум, рыцарь благороднейшего ордена Сант-Яго.
Питер повиновался, поклонился, отступая назад, как полагалось по обычаю, и, споткнувшись, чуть не упал с возвышения. Некоторые приняли это за хорошее предзнаменование для Морелла. Король сказал:
— Сэр Питер, наш церемониймейстер назначит время вашего поединка с маркизом, наиболее удобное для вас обоих. Пока что мы приказываем вам обоим, чтобы никаких неподобающих слов или действий не было между вами
— ведь вы скоро встретитесь лицом к лицу в смертном бою, чтобы узнать суд господа бога.
Присутствующие решили, что суд окончен, и многие собрались уже уходить, но королева подняла руку и сказала:
— Остаются еще вопросы, по которым мы должны вынести решение. Вот эта сеньора, — она указала на Бетти, — просит, чтобы ее брак с маркизом Морелла был признан действительным, а сам маркиз Морелла настаивает на обратном. Так мы его, кажется, поняли? Мы не властны решить этот вопрос, поскольку он связан с таинствами церкви. Мы предоставляем решение этого вопроса его святейшеству папе римскому или его легату, надеясь, что он разберется во всем со свойственной ему мудростью и так, как сочтет нужным, если, конечно, заинтересованные стороны пожелают перенести свой спор на его суд. Пока что мы постановили и объявляем, что сеньора, урожденная Бетти Дин, должна повсюду в наших владениях, если его святейшество папа римский не решит иначе, именоваться маркизой Морелла и маркиз, ее муж, должен в течение всей своей жизни предоставлять ей подобающее содержание. После же его смерти, если не будет другого постановления святого престола, она должна унаследовать ту часть его земель и имущества, которая, согласно закону нашей страны, принадлежит жене, и владеть ею.
Пока Бетти благодарила их величества с таким усердием, что драгоценности на ее груди дребезжали, а Морелла хмурился и лицо его стало темным, как грозовая туча, присутствующие, перешептываясь, опять поднялись, чтобы разойтись. Однако королева снова подняла руку:
— Мы хотим спросить сэра Питера Брума и его нареченную, донну Маргарет, по-прежнему ли они желают вступить в брак?
Питер посмотрел на Маргарет, Маргарет — на Питера, и он ответил громко и ясно:
— Ваше величество, это самое заветное наше желание.
Королева слегка улыбнулась:
— А вы, сеньор Кастелл, согласны выдать свою дочь за этого рыцаря?
— Да, конечно, — с достоинством ответил Кастелл. — Если бы не этот человек, — и он с ненавистью посмотрел в сторону Морелла, — они давно бы уже соединились, а поэтому, — добавил он многозначительно, — то небольшое состояние, которым я располагаю, уже передано через доверенных лиц в Англии в их владение. Так что теперь я завишу от их милосердия.
— Хорошо, — сказала королева. — Остается решить еще один вопрос. Хотите ли вы оба обвенчаться накануне поединка между маркизом Морелла и сэром Питером Брумом? Подумайте, донна Маргарет, прежде чем ответить, потому что, согласившись, вы можете очень скоро оказаться вдовой, а если вы отложите эту церемонию, то можете никогда уже не стать его женой.
Маргарет и Питер обменялись несколькими словами, и Маргарет ответила за них обоих:
— Если мой возлюбленный погибнет, — ее нежный голос задрожал при этих словах, — все равно мое сердце будет разбито. Пусть я проживу остаток моих дней, нося его имя, чтобы, зная о моем безысходном горе, никто не тревожил меня своей любовью. Я хочу остаться его супругой на небесах.
— Хорошо сказано! — заметила королева. — Мы объявляем, что вы будете обвенчаны в нашем соборе в Севилье накануне того дня, когда маркиз Морелла и сэр Питер Брум встретятся в поединке. Кроме того, чтобы не было никаких попыток причинить вам зло, — королева посмотрела в сторону Морелла, — вы, сеньора Маргарет, будете моей гостьей до того момента, когда покинете нас, чтобы обвенчаться. Вы же, сэр Питер, вернетесь в тюрьму, но вы будете пользоваться полной свободой видеть кого пожелаете и ходить когда и куда захотите, но под нашей защитой, поскольку и на вас может быть совершено покушение.
Королева умолкла, но неожиданно заговорил король своим резким тонким голосом:
— Решив вопросы рыцарства и брака, нам остается решить еще один вопрос, который я не хотел предоставлять нежным устам нашей королевы. Дело это касается вечной жизни человеческой души и христианской церкви на земле. Нам было заявлено, что этот человек, Джон Кастелл, купец из Лондона, — еврей; ради выгоды он всю свою жизнь притворялся христианином и в качестве такового женился на христианке. Более того: он является нашим подданным, так как он родился в Испании, и, следовательно, подсуден гражданским и церковным законам нашего государства.
Король остановился. Маргарет и Питер со страхом смотрели друг на друга. Один только Кастелл стоял неподвижно, хотя он знал лучше, чем кто-либо из них, что должно последовать за этими словами.
— Мы не судим его, — продолжал король, — у нас нет власти в столь высоких вопросах, но мы обязаны передать его в руки святейшей инквизиции, чтобы его судили там.
Маргарет громко вскрикнула. Питер оглядывался по сторонам, словно ища помощи. Никогда в своей жизни он не был так потрясен. Маркиз Морелла улыбнулся в первый раз за весь день. По крайней мере от одного врага он освободится. Кастелл же подошел к Маргарет и нежно обнял ее. Затем он пожал руку Питеру и сказал ему:
— Убей этого вора, — он кивнул в сторону Морелла, — я знаю, что ты это сделаешь и сделал бы, даже если бы таких, как он, было десять. Будь хорошим мужем моей девочке, а я знаю, что ты будешь таким, иначе я спрошу с тебя там, где нет ни евреев, ни христиан, ни священников, ни королей. А теперь помолчи и смирись с тем, с чем необходимо смириться, как делаю это я. Я хочу еще кое-что сказать, прежде чем оставлю вас и этот мир. Ваши величества, я не оправдываюсь, и, когда меня будет допрашивать судья инквизиции, их задача будет легка, потому что я не собираюсь ничего скрывать и буду говорить только правду, хотя я буду делать это не из страха и не из боязни боли. Ваши величества, вы обещали, что эти двое, достаточно хорошие христиане от рождения, будут обвенчаны. Я хотел бы спросить вас, может ли мое преступление против религии, в котором меня обвиняют, разъединить их или нанести им какой-либо ущерб?
— Даю вам слово, — поспешно ответила королева, словно желая опередить короля, — даю вам слово, Джон Кастелл, что ваше дело, к чему бы вас ни приговорили, не коснется ни их самих, ни их собственности, — медленно добавила она.
— Серьезное обещание, — пробормотал король.
— Это мое обещание, — решительно заявила королева, — и я сдержу его во что бы то ни стало. Эти двое будут обвенчаны, и, если сэр Питер останется жив, они уедут из Испании в полной безопасности, и никакое новое обвинение не будет предъявлено им ни одним судом королевства; их также не будут преследовать или возбуждать против них дела ни в каком другом государстве ни от нашего имени, ни от имени наших должностных лиц. Пусть мои слова будут записаны, один экземпляр пусть будет подписан и сохранен в архивах, а второй передан донне Маргарет.
— Ваше величество, — сказал Кастелл, — я благодарю вас. Теперь, если я умру, я умру счастливым. Я дерзну сообщить вам, что, если бы вы не сказали этого, я убил бы себя здесь, на ваших глазах. И еще я хочу вам сказать, что инквизиция, которую вы учредили, уничтожит Испанию и превратит ее в прах и тлен.
Он кончил говорить, и, когда смысл его смелых слов дошел до сознания собравшихся, по толпе придворных пробежал вздох, похожий на испуг. Тем временем толпа позади Кастелла расступилась, и появились шедшие двумя рядами монахи с лицами, закрытыми капюшонами, и стража из солдат, — все они, без сомнения, ожидали здесь заранее. Они подошли к Джону Кастеллу, дотронулись до его плеча, сомкнулись вокруг него, словно скрыв его от всего земного, и, окруженный ими, он исчез.
Воспоминания Питера об этом странном дне в Алькасаре навсегда остались несколько туманными. Это было неудивительно. На протяжении всего нескольких часов его судили, жизнь его висела на волоске и вдруг его оправдали. Он увидел Бетти, превратившуюся из скромной компаньонки в блистательную и великолепную маркизу, подобно тому как личинка превращается в бабочку; был свидетелем того, как она выступала против своего супруга, который обманул ее и которого она обманула в свою очередь, и как она выиграла свое дело благодаря находчивости и силе характера.
В качестве ее защитника и защитника Маргарет он вызвал Морелла на поединок, и, когда его противник отказался под предлогом различия в звании, по воле королевы Изабеллы, которой Маргарет рассказала о тайных притязаниях Морелла, он был неожиданно награжден высоким званием рыцаря испанского ордена Сант-Яго.
Более того: самое страстное его желание было удовлетворено — он получил возможность встретиться в честном и равном бою со своим врагом, которого он справедливо ненавидел, и биться с ним насмерть. Ему было также обещано, что через несколько дней Маргарет станет его женой, хотя могло случиться, что она будет носить это имя не больше часа. До тех пор им обещали безопасность и защиту от предательства и происков Морелла. Им было также обещано, что в любом случае им нигде и никогда не будет больше предъявлено никаких обвинений.
И, наконец, когда уже все, казалось, кончилось благополучно, не считая предстоящего поединка, о котором он, привыкший к подобным вещам, меньше всего думал, когда в конце концов его чаша, очищенная от грязи и песка, наполнилась красным вином битвы и любви, когда она была уже почти у его уст, судьба подменила ее и наполнила отравой и желчью. Кастелл, отец его невесты, человек, которого он любил, был брошен в подвалы инквизиции, откуда — Питер хорошо это знал — он мог выйти только в желтом балахоне, «переданным в руки светской власти», чтобы погибнуть медленной и мучительной смертью на костре в Квемадеро, где сжигали еретиков.
Что принесет ему победа над Морелла, если даже небеса дадут ему силу, чтобы сокрушить своего врага? Что это будет за свадьба, которая окажется скрепленной и освященной смертью отца невесты на мучительном костре инквизиции? Разве смогут они когда-нибудь забыть запах дыма этого костра? Кастелл — храбрый человек, и никакие мучения не заставят его отречься от своей веры. Сомнительно даже, станет ли он под пытками отрицать ее, он, который был крещен своим отцом из соображений безопасности и продолжал поддерживать этот обман ради своего дела и ради того, чтобы иметь жену-христианку. Нет, Кастелл был обречен, и Питер мог спасти его от инквизиции и короля не больше, чем голубь может защитить свое гнездо от голодных ястребов.
О, эта последняя сцена! Никогда в жизни Питер не забудет ее! Огромный зал с разрисованными арками и мраморными колоннами; лучи полуденного солнца, падающие сквозь окна и, подобно крови, льющиеся на черные одежды монахов; душераздирающий крик Маргарет и ее помертвевшее лицо, когда отца оторвали от нее и она в обмороке упала на украшенную драгоценностями грудь Бетти; жестокая усмешка на губах Морелла; страшная улыбка короля; жалость в глазах королевы; взволнованный шепот толпы; быстрые, короткие реплики адвокатов; скрип пера писца, безразличного ко всему, за исключением своей работы, когда он записывал решения; и над всем этим — прямой, вызывающий, неподвижный Кастелл, окруженный служителями смерти, удаляющийся в темноту галереи, уходящий в могильный мрак.
ГЛАВА XXIII. ОТЕЦ ЭНРИКЕ И ПЕЧЬ БУЛОЧНИКА
Прошла неделя. Маргарет жила во дворце, Питер дважды был у нее и нашел ее в полном отчаянии. Даже то, что они должны быть обвенчаны в следующую субботу, — день, на который назначен был также поединок между Питером и Морелла, не доставлял ей ни радости, ни утешения. Ведь на следующий день, на воскресенье, в Севилье был назначен «акт веры» — аутодафе, на котором еретики — евреи, мавры и люди, занимавшиеся богохульством, — должны ответить за свои преступления: одни будут сожжены на костре в Квемадеро, другие — публично признаются в своих вопиющих грехах перед тем, как их заточат на пожизненное одиночное заключение, а кое-кого задушат, прежде чем их тела будут преданы огню. Было известно, что Джону Кастеллу предназначена главная роль в этой церемонии.
Маргарет на коленях, в слезах умоляла королеву о милосердии. Но слезы действовали на сердце королевы не больше, чем вода, капающая на бриллиант. Мягкая в других вопросах, в делах, касающихся религии, она становилась хитрой, как лиса, и жестокой, как тигр. Она была даже возмущена поведением Маргарет. Разве мало для нее было сделано? — спросила королева. Разве она не дала своего королевского слова не предпринимать никаких шагов, чтобы лишить обвиняемого собственности, которая есть у него в Испании, если он будет признан виновным; разве она не обещала, что никакие наказания, которые по закону и обычаю падают на детей этих людей, преданных позору, не коснутся Маргарет? Разве Маргарет не будет обвенчана со своим возлюбленным и, если он останется в живых после поединка, ей не дадут возможность с почетом уехать вместе с ним и даже не заставят смотреть, как ее отец искупит свои преступления? Ведь как хорошая христианка она должна радоваться, что он получил возможность примирить свою душу с богом и его судьба станет уроком для других приверженцев его религии. Может быть, она тоже еретичка?
Королева неистовствовала до тех пор, пока Маргарет, совершенно измученная, не ушла от нее, задавая себе вопрос, может ли быть справедливой религия, которая требует от детей, чтобы они доносили на своих родителей и обрекали их на муки. Где об этом сказано у спасителя или его апостолов? А если об этом не сказано там, то кто это придумал?
— Спаси его! Спаси его! — в отчаянии рыдала Маргарет перед Питером. — Спаси его или, клянусь тебе, как бы я ни любила тебя и сколько бы ни считалось, что мы обвенчаны, ты никогда не будешь моим мужем.
— Это несправедливо, — мрачно покачал головой Питер, — ведь не я передал его в руки этих дьяволов. Скорее всего, это кончится тем, что я разделю его участь. И все-таки я попытаюсь сделать все, что в человеческих силах.
— Нет, нет! — закричала она в отчаянии. — Не делай ничего, что может навлечь на тебя опасность!
Но Питер вышел, не ожидая ее ответа. Ночью Питер сидел в потайной комнатке одной из булочных Севильи. Кроме него, там было несколько человек — отец Энрике, ныне секретарь святейшей инквизиции, одетый как мирянин, Инесса, Бернальдес и старый еврей Израэль из Гранады.
— Я привела его сюда, — сказала Инесса, указывая на отца Энрике. — Не важно, как мне удалось это сделать. Но поверьте, это было довольно рискованно и неприятно. А какая от этого польза?
— Никакой пользы, — нагло заявил отец Энрике, — кроме той, что я положил в карман десять золотых.
— Тысяча дублонов, если наш друг будет спасен целым и невредимым,
— промолвил Израэль. — О бог мой! Подумай об этом — тысяча дублонов!
Глаза секретаря инквизиции загорелись.
— Они бы мне весьма пригодились, — сказал он, — и ад еще лет десять свободно может обойтись без одного грязного еврея, но я не знаю, как это сделать. Я знаю другое: что вас всех ждет его участь. Это страшное преступление — пытаться подкупить служителя святейшей инквизиции.
Бернальдес побледнел, Израэль стал кусать ногти, но Инесса похлопала священника по плечу.
— Уж не думаешь ли ты предать нас? — спросила она своим нежным голоском. — Послушай меня, я коечто понимаю в ядах и клянусь тебе, если ты замыслишь дурное, то не пройдет и недели, как ты в судорогах отправишься на тот свет и никто не узнает, откуда попал к тебе яд. Или я околдую тебя — ведь я недаром прожила дюжину лет среди мавров, — у тебя распухнет голова, иссохнет тело и ты станешь богохульствовать, не понимая, что говоришь, пока тебя с позором не поджарят на костре.
— Околдуешь меня? — отозвался отец Энрике с дрожью. — Ты уже сделала это, иначе я не был бы здесь.
— Тогда, если ты не хочешь очутиться на том свете раньше срока, — продолжала Инесса, похлопывая его нежно по плечу, — думай, думай, ищи выход, верный слуга святейшей инквизиции.
— Тысяча золотых дублонов! Тысяча дублонов! — прокаркал старый Израэль. — Но если ты не сумеешь ничего сделать, то рано или поздно, теперь или через месяц, — смерть, смерть медленная и жестокая.
Теперь отец Энрике совсем перепугался.
— Вам нечего бояться меня, — хрипло произнес он.
— Я рада, что ты наконец нас понял, друг мой, — прозвучал мягкий, насмешливый голос Инессы, которая, подобно злому духу, все время стояла позади монаха. Она опять нежно похлопала его по плечу, на этот раз обнаженным лезвием кинжала. — А теперь быстро выкладывай свой план. Становится поздно, и всем святым людям пора уже спать.
— У меня нет никакого плана. Придумай сама! — сердито ответил священник.
— Хорошо, друг мой, очень хорошо. Тогда я попрощаюсь с тобой, потому что вряд ли мы встретимся в этом мире.
— Куда ты идешь? — с беспокойством спросил он.
— Во дворец, к Морелла и к одному его другу и родственнику. Выслушай, что я тебе скажу. Я могу заслужить прощение за мое участие в свадьбе, если я смогу доказать, что некий подлый священник знал, что совершает обман. Ну, а я могу доказать это — ты, надеюсь, помнишь, что дал мне расписку, — а если я сделаю это, что произойдет со священником, который вызвал ненависть испанского гранда и его знатного родственника?
— Я служитель святейшей инквизиции, никто не посмеет тронуть меня!
— выкрикнул отец Энрике.
— Я думаю, что найдутся люди, которые пойдут на риск. Король, например.
Отец Энрике бессильно откинулся на спинку стула. Теперь он догадался, кого подразумевала Инесса, говоря о знатном родственнике Морелла, и понял, что попал в ловушку.
— В воскресенье утром, — заговорил он глухим шепотом, — процессия направляется по улицам к театру, где будет прочитана проповедь тем, кто должен будет идти в Квемадеро. Около восьми часов процессия ненадолго вступит на набережную, где будет мало зрителей и потому дорога там не охраняется. Если дюжина смелых молодцов, переодетых крестьянами, будет ждать там с лодкой наготове, то, может быть, они сумеют… — И отец Энрике замолк.
Тут в первый раз заговорил Питер, который до тех пор сидел молча, наблюдая за этой сценой.
— В таком случае, преподобный отец, как эти смелые парни сумеют узнать жертву, которую они ищут?
— Еретик Джон Кастел, — ответил священник, — будет сидеть на осле, одетый в замарру
[19] из овчины, с нарисованными на ней чертями и подобием пылающей головы. Все это очень хорошо нарисовано, я умею рисовать и сам делал это. Кроме того, у него у одного будет на шее веревка, по которой его можно будет узнать.
— Почему он будет сидеть на осле? — с яростью спросил Питер. — Потому, что вы пытали его так, что он не может ходить?
— Нет, нет! — возразил доминиканец, съежившись под этим яростным взглядом. — Его ни разу не допрашивали, ни одного поворота манкуэдры, клянусь вам, сэр рыцарь! Зачем это — ведь он открыто признал себя презренным евреем!
— Будь осторожнее в выражениях, друг мой, — прервала его Инесса, фамильярно похлопывая его по плечу: — здесь есть люди, которые придерживаются другого мнения, чем вы в вашем святом доме, но которые умеют применять манкуэдру и могут устроить неплохую дыбу при помощи доски и одного или двух воротов, какие есть в соседней комнате. Воспитывайте в себе учтивость, высокоученый священник, иначе, прежде чем покинуть это место, вы станете длиннее на целый локоть.
— Говори дальше, — приказал ему Питер.
— Кроме того, — продолжал дрожащим голосом отец Энрике, — был приказ не пытать его. Инквизиторы полагали — это было, конечно, неправильно с их стороны, — что у него есть соучастники, чьи имена он выдаст, но в приказе было сказано, что так как он долго жил в Англии и только недавно прибыл в Испанию, то у него не может быть сообщников. Так что он цел и невредим. Я слышал, что никогда ни один нераскаявшийся еврей не шел на костер в таком отличном
состоянии, как бы богат и уважаем он ни был.
— Тем лучше для тебя, если ты не врешь, — заметил Питер, — Продолжай.
— Больше нечего рассказывать. Могу еще добавить, что я буду идти рядом с ним вместе с двумя стражами, и, конечно, если его вырвут у нас и под руками не окажется лодки для преследования, мы ничего не сможем сделать. Ведь мы, священники, люди мирные и можем даже разбежаться при виде грубого насилия.
— Я советую вам бежать быстро и как можно дальше, — проронил Питер. — Однако, Инесса, где гарантия, что ваш друг нас не обманет? Ведь он может провести кого угодно.
— Тысяча дублонов, тысяча дублонов, — пробормотал старик Израэль подобно сонному попугаю.
— Он, может быть, надеется выжать еще больше из наших трупов, старик. Что вы скажете, Инесса? Вы лучше разбираетесь в этой игре. Как мы можем заставить его сдержать слово?
— Я думаю, смертью, — сказал Бернальдес, понимая, какой опасности он подвергается как компаньон и родственник Кастелла и номинальный владелец судна «Маргарет», на котором тот должен был бежать. — Мы знаем все, что он может рассказать, и, если мы отпустим его, он рано или поздно предаст нас. Убейте его, чтобы он не смог мешать нам, и сожгите его труп в печи.
Тут отец Энрике упал на колени и со слезами и стонами начал умолять о милосердии.
— Чего ты так хнычешь? — спросила Инесса, глядя на него задумчивым взглядом. — Ведь твоя смерть будет гораздо легче, чем та, на которую ваши праведники обрекают многих гораздо более честных мужчин… женщин. Что касается меня, то я думаю, что сеньор Бернальдес дал правильный совет. Лучше умереть одному, чем всем нам. Ведь ты понимаешь, что мы не можем довериться тебе. Есть ли у кого-нибудь веревка?
Отец Энрике пополз к ней на коленях и начал целовать подол ее платья, умоляя во имя всех святых пожалеть его. Ведь он попал в эту ловушку из-за любви к ней.
— К деньгам, ты хочешь сказать, гадина, — поправила Инесса, отталкивая его туфлей. — Я вынуждена была слушать твои любовные бредни, когда мы ехали вместе, и еще раньше, но здесь мне это ни к чему. И если ты заговоришь опять о любви, ты живым отправишься в печь булочника. О, ты забыл об этом, но у меня к тебе большой счет. Ты ведь был связан с инквизицией здесь, в Севилье, — не так ли, — еще до того, как Морелла дал тебе за твое рвение приход в Мотриле и сделал одним из своих капелланов. У меня была сестра… — Она наклонилась и шепнула ему на ухо имя.
Он издал звук — это был скорее вопль.
— Я не имел никакого отношения к ее смерти! — запротестовал он. — Ее предал в руки инквизиции кто-то другой, давший против нее ложные показания.
— Да, я знаю. Это был ты. Ты, мерзавец с душой змеи, ты был зол на нее, и ты дал ложные показания. Ты добровольно, сам донес на Кастелла, заявив, что в твоем доме в Мотриле он прошел мимо распятия, не поклонившись. Это ты уговаривал учинить ему допрос, уверяя их, что он богат и у него достаточно богатые друзья, чтобы и из них выжать немало денег. Ты ведь рассчитывал получить свою долю, не так ли? Я неплохо осведомлена. Даже то, что происходит в темницах святейшей инквизиции, доходит до ушей Инессы. Ну что ж, ты все еще считаешь, что печь булочника слишком горяча для тебя?
Теперь отец Энрике от ужаса вообще лишился языка. Он лежал на полу, глядя на эту безжалостную женщину с нежным голосом. Она обманула его и превратила в свое орудие, она завлекла его сюда сегодня, она ненавидит его, и ненавидит по заслугам.
— Пожалуй, лучше будет не марать нам руки, — сказал Питер. — Душить крыс — маленькое удовольствие, а его могли выследить. Пет ли какого-нибудь другого пути, Инесса?
Она подумала немного, затем ткнула отца Энрике ногой:
— Вставай, святой секретарь святейшей инквизиции, и садись писать. Это будет нетрудно для тебя. Вот здесь есть перья и бумага. А я буду диктовать:
«Обожаемая Инесса!
Твое долгожданное письмо благополучно дошло до меня в этом проклятом святом доме, где мы избавляем еретиков от их грехов для пользы их душ и от их богатств — для нашей собственной пользы…»
— Я не могу писать это, — простонал отец Энрике, — это страшная ересь.
— Нет, это только правда, — возразила Инесса.
— Ересь и правда — это часто одно и то же. Они сожгут меня за это.
— Это как раз то, что утверждают многие еретики. Они умирают за то, что считают правдой, почему бы и тебе этого не сделать? Слушай, — еще более сурово сказала она, — что ты предпочитаешь: быть сожженным на костре в Квемадеро, а это случится не раньше, чем ты предашь нас, или сгореть более скромно — в печи булочника в ближайшие полчаса? Продолжай свое письмо, ученый грамотей! Написал то, что я сказала? А теперь пиши:
Я понял все, что ты мне говорила о суде в Алькасаре в присутствии их величеств. Я надеюсь, что англичанка выиграла свое дело. Это была прелестная шутка, которую я сыграл с благородным маркизом в Гранаде. Такой ловкой шутки не бывало даже у нас здесь, в инквизиции. Ну что ж, у меня к маркизу был большой счет, и он заплатил мне сполна. Мне бы хотелось видеть выражение его лица, когда он узнал в своей новобрачной служанку и понял, что хозяйка бежала с другим. Племянник короля, мечтающий сам стать королем, женился на английской служанке! Хорошо, очень хорошо, дорогая Инесса. Что касается этого еврея, Джона Кастелла, я думаю, что все можно устроить, если есть деньги, потому что, ты знаешь, даром я ничего не делаю. Таким образом…
И дальше Инесса с удивительной ясностью продиктовала его предложение, как спасти Кастелла, с которым читатель уже знаком, и закончила письмо так:
Эти инквизиторы — жестокие звери, хотя они еще больше любят деньги, чем кровь; все их разговоры о борьбе за чистоту веры — все равно что ветер в горах: они столько же думают о вере, сколько горы о ветре. Они хотели пытать этого беднягу, думая, что из него посыпаются мараведи, но я намекнул там, где надо, и их фокус не удался. Дорогая, я должен кончать, время идти по делам, но я надеюсь увидеть тебя, как мы условились, и мы проведем веселый вечерок. Мой привет новобрачному маркизу, если ты его встретишь.
Твой Энрике.
Р.S. Моя служба вряд ли будет такой выгодной, как я надеялся, так что я очень рад заработать что-нибудь на стороне, чтобы купить тебе подарок, от которого заблестят твои прелестные глазки.
— Вот так, — тихо сказала Инесса. — Я думаю, что этого достаточно, чтобы тебя сожгли три или четыре раза. Дай-ка мне прочитать: хочу проверить, все ли здесь правильно написано и подписано, а то в подобном деле очень многое зависит от почерка. Ну, так будет хорошо. Теперь ты понимаешь, что, если не выполнишь обещания, другими словами, если Джон Кастелл не будет спасен или если кому-нибудь станет известно о нашем маленьком заговоре, это письмо немедленно попадет куда следует и некий секретарь инквизиции пожалеет, что он вообще родился на свет. Ты будешь умирать, — прибавила она свистящим шепотом, — медленно, как умирала моя сестра.
— Тысяча дублонов, если дело удастся и ты будешь жив, чтобы потребовать их, — проговорил Израэль. — Я не откажусь от своего слова. Смерть, позор и пытки или тысяча дублонов. Теперь ему известны наши условия. Завяжите ему глаза, сеньор Бернальдес и уведите его отсюда, а то он отравляет здесь воздух. Но прежде, Инесса, пойди и спрячь письмо. Ты знаешь где.
Той же ночью две фигуры, закутанные в плащи, плыли в маленькой лодке по направлению к «Маргарет». Это были Питер и Бернальдес. Привязав лодку, они поднялись на борт корабля и прошли в каюту. Здесь их ожидал капитан Смит. Честный моряк был так рад увидеть Питера, что крепко сжал его в своих объятиях. Они ведь не виделись после той отчаянной попытки взять на абордаж «Сан Антонио».
— Судно готово к выходу в море? — спросил Питер.
— Оно никогда не было более готово, — ответил капитан. — Когда я получу приказ поднимать паруса?
— Когда хозяин судна будет на борту, — сказал Питер.
— Тогда мы сгнием здесь. Его ведь схватила инквизиция. Что вы задумали, Питер Брум? Что вы задумали? Есть какой-нибудь шанс?
— Да, капитан, я надеюсь, если здесь найдется дюжина крепких английских парней.
— Найдется, и даже больше. Но каков ваш план?
Питер рассказал ему все.
— Не так плохо, — произнес Смит, стукнув тяжелым кулаком себя по колену, — но рискованно, очень рискованно. Эта Инесса, должно быть, хорошая девушка. Я не прочь был бы жениться на ней, несмотря на ее прошлое.
Питер рассмеялся, представив себе, какую странную пару они составили бы.
— Выслушайте до конца, — попросил он. — В эту субботу госпожа Маргарет и я будем обвенчаны, затем перед заходом солнца я встречусь с маркизом Морелла на большой арене, где происходит обычно бой быков. Вы с пятью — шестью матросами будете при этом присутствовать. Я могу победить, могу и погибнуть…
— Никогда! Никогда! — воскликнул капитан. — Я не поставлю и пары старых башмаков за этого великолепного испанца. Вы разделаете его, как треску.
— Бог знает! — отозвался Питер, — Если я одержу победу, я и моя жена простимся с их величествами и направимся к набережной, где нас должна ожидать лодка, и вы переправите нас на борт «Маргарет». Если же я погибну, вы заберете мое тело и перевезете его таким же образом на борт «Маргарет». Я хочу, чтобы меня забальзамировали в вине, отвезли в Англию и там похоронили. В любом случае вы уйдете на корабле вниз по течению, за излучину реки, чтобы думали, что вы уплыли совсем. Вместе с приливом в темноте вы подниметесь обратно и станете позади этих старых, брошенных судов. Если кто-нибудь спросит вас, почему вы вернулись, скажете, что троих или четверых ваших людей не оказалось на борту и вы вынуждены были вернуться за ними, или придумайте еще что-нибудь. Затем в том случае, если я буду убит, вы с десятком ваших лучших матросов высадитесь на берег. Место вам укажет вот этот джентльмен. Пусть все наденут испанскую одежду, чтобы не привлекать внимания, и пусть будут хорошо вооружены. Вы должны походить на зевак с какого-нибудь корабля, высадившихся на берег посмотреть на представление. Я уже объяснил вам, каким образом вы узнаете Кастелла. Как только увидите его, бросайтесь к нему, рубите каждого, кто попробует остановить вас, тащите Кастелла в лодку и гребите изо всех сил к судну. На корабле должны выбрать якоря и поднять паруса, как только увидят ваше приближение. Таков план, и один бог знает, чем это кончится. Все зависит от удачи и от матросов. Войдете вы в эту игру ради любви к хорошему человеку и ко всем нам? В случае успеха вы все станете богатыми на всю жизнь.
— Да, — ответил капитан, — и вот вам моя рука. Мы вырвем его из этого ада, если это только в человеческих силах. Это так же верно, как то, что меня зовут Смит. И я сделаю это не ради денег. Мы так долго бездельничали здесь, дожидаясь вас и нашу госпожу, что будем рады поразмяться. Во всяком случае, раньше чем это дело будет кончено, там останется несколько мертвых испанцев. А если мы будем побеждены, я оставлю помощника и достаточное количество людей, чтобы довести судно до Тильбюри. Но мы победим, я не сомневаюсь в этом. Через неделю в этот день мы будем плыть через Бискайский залив, и ни одного испанца не будет на расстоянии трех сотен миль от нас, — вы, ваша жена и господин Кастелл. Раз я говорю так, значит, знаю.
— Откуда вы знаете? — с любопытством спросил Питер.
— Потому что мне приснилось все это вчера ночью. Я видел вас и госпожу Маргарет, сидящих рядышком, как голубки, и обнимающих друг друга. А я в это время разговаривал с хозяином. Солнце садилось, дул ветер с юго-юго-запада, и надвигалась буря. Говорю вам, что я видел это во сне, а мне редко снятся сны.
ГЛАВА XXIV. СОКОЛ НАПАДАЕТ
Наступил день свадьбы Маргарет и Питера. Питер выехал из ворот тюрьмы и остановился у ворот дворца, как ему было приказано. Он был одет в белые доспехи, присланные ему в подарок королевой в знак ее добрых пожеланий в предстоящем поединке с Морелла. На шее у него висел на ленте рыцарский орден Сант-Яго, на щите был изображен герб Питера — устремляющийся вниз сокол. Это изображение повторялось и на белом плаще. Позади него ехал знатный дворянин, державший в руках его шлем с перьями и копье. Сопровождал их эскорт королевской стражи.
Ворота дворца раскрылись, и из них на коне выехала Маргарет в великолепном белом с серебром наряде. Вуаль была приподнята так, что было видно лицо. Ее сопровождали дамы, все на белых лошадях, а рядом с Маргарет, почти затмевая ее роскошью своей одежды, ехала вместе со своей свитой Бетти, маркиза Морелла, — по крайней мере, пока.
Хотя Маргарет никогда нельзя было назвать иначе, как прекрасной, сегодня она выглядела утомленной и бледной, когда приветствовала своего жениха у ворот дворца. В этом не было ничего удивительного — ведь она знала, что через несколько часов его жизнь будет поставлена на карту в смертельном поединке, а завтра отец ее будет заживо сожжен в Квемадеро.
Они встретились, приветствовали друг друга; запели серебряные трубы, и сверкающая процессия двинулась по узким улицам Севильи. Питер и Маргарет не обменялись и несколькими словами — сердца их были слишком полны, они уже сказали друг другу все, что можно было сказать, и теперь ждали исхода событий. Однако Бетти, которую многие в толпе принимали за невесту, потому что она выглядела гораздо более счастливой, чем они оба, не могла молчать. Она упрекнула Маргарет за то, что та не радуется в такой день.
— О, Бетти, Бетти, — ответила Маргарет, — как я могу быть веселой, когда на сердце у меня лежит тяжесть завтрашнего дня!
— Пусть она провалится, тяжесть завтрашнего дня! — воскликнула Бетти. — С меня хватает тяжестей сегодняшнего дня, однако я не унываю. Никогда в жизни мы не будем ехать так, как сейчас, когда все смотрят на нас и каждая женщина в Севилье завидует нам и милости к нам королевы.
— Я думаю, что это на тебя они смотрят и тебе завидуют, — сказала Маргарет, бросив взгляд на эту блистательную женщину, едущую рядом с ней.
Она понимала, что красота Бетти затмевает ее собственную, во всяком случае в глазах уличной толпы, подобно тому как роза, сверкающая на солнце, затмевает лилию.
— Может быть, — улыбнулась Бетти. — Но если это так, то только потому, что я легче смотрю на вещи и смеюсь даже тогда, когда мое сердце истекает кровью. В конце концов, твое положение гораздо более прочное, чем мое. Если твой муж должен сейчас сразиться насмерть, то же самое должен делать и мой муж, а, между нами говоря, я больше уверена в победе Питера. Он ведь очень упорный боец и удивительно сильный — слишком упорный и слишком сильный для любого испанца.
— Да, это так, — слабо улыбаясь, произнесла Маргарет. — Питер — твой защитник, и, если он проиграет, на тебе навсегда останется печать служанки и безродной женщины.
— Служанкой я была или, во всяком случае, чем-то вроде этого, — заметила Бетти задумчиво, — а что касается моего происхождения, то это уж что есть. Зато я могу выдержать там, где другие не выдержат. Так что это все меня не очень волнует. Меня беспокоит другое: что, если мой защитник убьет моего мужа?
— Ты не хочешь, чтобы он был убит? — Маргарет посмотрела на Бетти.
— Пожалуй, нет, — ответила Бетти слегка дрогнувшим голосом и на мгновение отвернула лицо. — Я знаю, что он мерзавец, но ты понимаешь, я всегда любила этого мерзавца, так же как ты всегда ненавидела его. Поэтому я ничего не могу с собой поделать, но я бы предпочла, чтобы он встречался с кем-нибудь другим, у кого удар не так силен, как у Питера. Кроме того, если он погибнет, его наследники обязательно начнут судиться со мной.
— Во всяком случае, твоего отца не собираются сжечь завтра, — сказала Маргарет, чтобы переменить тему разговора, которая, по правде говоря, была не из приятных.
— Нет, кузина. Если мой отец получил по заслугам, то его безусловно сожгли и он все еще продолжает гореть — в чистилище, — но, видит бог, я никогда не брошу вязанку дров в его костер. Однако твоему отцу не грозит такая опасность, так зачем терзаться по этому поводу?
— Почему ты так говоришь? — удивилась Маргарет, которая не посвящала Бетти в детали заговора.
— Я не знаю, но я уверена, что Питер вызволит его из беды. Питер — это посох, на который можно опереться, хотя и выглядит он таким черствым и молчаливым, — в конце концов, это свойства посоха… Смотри, вон собор: разве он не красив? И огромная толпа народа ожидает у дверей. Теперь надо улыбаться, кузина. Кланяйся и улыбайся, как это делаю я.
Они подъехали к собору, и Питер, соскочив с коня, помог сойти своей невесте. Процессия выстроилась в должном порядке, и они проследовали в собор, сопровождаемые церковными служителями с жезлами.
Маргарет никогда раньше не была в этом соборе и никогда больше не видела его, но память о нем осталась у нее на всю жизнь. Прохлада и полумрак после ослепительного блеска солнца, семь огромных приделов храма, тянущихся без конца направо и налево, мрачные своды, колонны, уходящие ввысь, подобно тому как большие деревья в лесу стремятся к небу, торжественный полумрак, пронизанный лучами света, льющимися из высоких окон, сверкающее золото алтаря, звуки пения, гробницы — все это захватило ее, подавило и навсегда запечатлелось в ее памяти.
Медленно приблизились они к ступенькам огромного алтаря. Здесь стояли многочисленные прихожане, и здесь же, направо, сидели на троне король и королева Испании, решившие почтить эту свадьбу своим присутствием. Более того: когда подошла невеста, королева Изабелла в знак особой милости встала и, наклонившись, поцеловала ее в щеку. Пел хор, играла музыка. Это было превосходное зрелище — свадьба Маргарет, устроенная в одном из самых знаменитых соборов Европы. Однако, глядя на облаченных в сверкающие одеяния епископов и священников, созванных сюда для того, чтобы оказать ей честь, на то, как они двигаются взад и вперед, совершая таинственный обряд, Маргарет думала о другом обряде, столь же торжественном, который состоится завтра на самой большой площади Севильи, где эти же самые церковные служители будут приговаривать людей — возможно, среди них и ее отца — на обручение с огнем.
Рука об руку преклонили Маргарет и Питер колена перед огромным алтарем. Облака благовоний поднимались от качающихся кадил, теряясь во мраке. Точно так же завтра дым костров будет подниматься к небу. Они стояли, она и ее муж, завоеванный наконец ею, завоеванный после стольких страданий и которого она, возможно, потеряет прежде, чем ночь спустится на землю. Священники пели, епископ в роскошном облачении наклонился над ними и прошептал слова брачного обряда, на палец ей надели кольцо, слова обещания были произнесены, было дано благословение, и они стали мужем и женой. Разлучить их могла только смерть, — она стояла так близко от них в этот час.
Все было кончено. Маргарет и Питер поднялись, повернулись и на какое-то мгновение остановились. Маргарет обвела взглядом присутствующих и неожиданно увидела темное лицо Морелла, стоящего несколько в стороне и окруженного своими приближенными. Он смотрел на нее. Он подошел к ней и, низко поклонившись, прошептал:
— Мы участвуем в странной игре, леди Маргарет. Хотел бы я знать, чем она кончится. Буду ли я мертв сегодня вечером, или вы станете вдовой? И где начало этой игры? Не здесь, я думаю. И где дадут плоды те семена, что мы посеяли? Не думайте обо мне плохо, потому что я любил вас, а вы меня нет.
Он опять поклонился, сначала Маргарет, потом Питеру, и прошел, не обратив внимания на Бетти, которая стояла рядом, глядя на него своими большими глазами, словно тоже раздумывая, чем кончится эта игра.
Король и королева, окруженные придворными, вышли из собора, вслед за ними двинулись новобрачные. Они вновь сели на своих коней и в сиянии южного солнца, под приветственные крики толпы направились ко дворцу, где их ждал свадебный пир. Там для них был приготовлен стол, поставленный только чуть ниже королевского стола. Свадебный пир был великолепен и тянулся очень долго, но Маргарет и Питер почти ничего не ели и, не считая церемониальной чаши, ни одна капля вина не коснулась их губ. Наконец запели трубы, король и королева поднялись, и король своим тонким голосом объявил, что он не прощается с гостями, так как весьма скоро они все встретятся в другом месте, где храбрый новобрачный — английский джентльмен — будет защищать честь своей родственницы и соотечественницы в поединке с одним из первых грандов Испании, которого она обвиняет в причинении ей зла. Этот поединок, увы, не будет развлекательным турниром, он будет битвой насмерть, таковы его условия. Он не может пожелать успеха ни одному из противников, но он уверен, что во всей Севилье нет ни одного сердца, которое не отнеслось бы с должным уважением и к победителю и к побежденному, он уверен также, что оба противника будут доблестными, как подобает храбрым рыцарям Испании и Англии.
Вновь запели трубы, и придворные, назначенные сопровождать Питера, подошли к нему и объявили, что ему пора надеть доспехи. Новобрачные поднялись, окружающие отошли в сторону, чтобы не слышать их разговора, но с любопытством смотрели на них. Питер и Маргарет обменялись несколькими словами.
— Мы расстаемся, — произнес Питер, — и я не знаю, что сказать.
— Не говори ничего, муж мой, — ответила Маргарет. — Твои слова сделают меня слабой. Иди и будь храбр — сражайся за свою честь, за честь Англии и мою. Живой или мертвый — ты мой любимый, и живые или мертвые — мы встретимся. Мои молитвы будут с тобой, сэр Питер, мои молитвы и моя вечная любовь. Может быть, они дадут силу твоим рукам и уверенность твоему сердцу.
Затем Маргарет, не желая обнимать его на глазах у всех, присела перед ним в таком низком поклоне, что ее колено почти коснулось земли, он же низко склонился перед ней. Странное и величавое расставание — так, по крайней мере, подумали все собравшиеся. Взяв Бетти за руку, Маргарет покинула Питера.
Прошло два часа. Пласа де Торос, где должен был происходить поединок, — потому что на большой площади, на которой обычно устраивались турниры, готовили завтрашнее аутодафе, — была переполнена народом. Это был огромный амфитеатр, — возможно, построенный еще римлянами, — где устраивались всевозможные игры, в том числе и бои быков. Двенадцать тысяч зрителей могли разместиться на скамейках, поднимавшихся ярусами вокруг огромной арены, и вряд ли в этот день там можно было найти хоть одно свободное место. Арена, достаточно большая, чтобы кони, взяв разбег с любого конца ее, могли набрать полную скорость, была посыпана белым песком, так же как это, вероятно, делалось и в те времена, когда на ней сражались гладиаторы. Над главным входом, как раз против центра арены, сидели король и королева со своими приближенными, и между ними, но чуть позади, прямая и молчаливая, как статуя, — Маргарет. Лицо ее было закрыто подвенечной вуалью. Напротив них, по другую сторону арены, в беседке, окруженная свитой, сидела Бетти, сверкая золотом и драгоценностями, поскольку она была дамой, за чье доброе имя, по крайней мере формально, происходил этот поединок. Она сидела тоже совершенно неподвижно, привлекая взоры всех собравшихся. В ожидании поединка все разговоры вертелись вокруг нее, — это создавало рокот, подобный рокоту волн, бьющихся ночью о берег.
Загремели трубы, затем наступила тишина. Предшествуемый герольдами в золотых одеждах, через главный вход на арену выехал маркиз Морелла в сопровождении свиты. Под ним был великолепный черный конь, и сам он был одет в черные доспехи, над шлемом развевался черный плюмаж из страусовых перьев. На его алом щите был изображен орел с короной, указывавший на его звание, и под ним гордый девиз: «То, что я беру, я уничтожаю». Маркиз остановил своего коня в центре арены, поднял его на дыбы и заставил сделать круг на задних ногах. Он отсалютовал королевской чете длинным копьем со стальным наконечником. Толпа приветствовала его криками. После этого Морелла со своими людьми отъехали к северному концу арены.
Вновь зазвучали трубы, и появился герольд, а за ним верхом на белом коне, одетый в белые доспехи, сверкавшие на солнце, с белым плюмажем на шлеме, выехал высокий и суровый сэр Питер Брум. На его щите был изображен золотой, устремляющийся вниз сокол с девизом: «За любовь и честь». Он так же выехал на середину арены и сделал круг совершенно спокойно, словно ехал по дороге, при этом он тоже поднял свое копье в знак приветствия. На этот раз толпа молчала — рыцарь был иностранец. Однако солдаты, бывшие в толпе, говорили друг другу, что вид у него бравый и победить его будет нелегко.
В третий раз зазвучали трубы, и оба рыцаря двинулись навстречу друг другу и остановились перед королевскими величествами. Главный герольд громко возвестил условия поединка. Они были краткими: поединок должен продолжаться до смертельного исхода, если только король и королева не пожелают прекратить его раньше, а победитель согласится с их пожеланиями; рыцари будут биться на конях или пешими, копьями, мечами или кинжалами, но сломанное оружие не может быть заменено, нельзя заменять также коней и доспехи; победителя с почетом проводят с поля боя, и ему разрешено будет уехать, куда он пожелает, в королевстве или за его пределы, ему не будет предъявлено никакого обвинения, и его не должна преследовать кровавая месть; тело побежденного будет отдано его друзьям для похорон также с подобающими почестями; исход поединка не должен ни в какой мере влиять на решение церковного или гражданского суда по иску дамы, утверждающей, что она маркиза Морелла, или со стороны благородного маркиза Морелла, который, как она утверждает, является ее мужем.
Условия поединка были оглашены, противников спросили, согласны ли они с этими условиями, на что оба четко и ясно ответили: «Да». Тогда герольд от имени сэра Питера Брума, рыцаря ордена Сант-Яго, вызвал благородного маркиза Морелла на смертельный поединок, поскольку названный маркиз оскорбил его родственницу, английскую леди Элизабет Дин, которая утверждает, что она жена маркиза, должным образом обвенчанная с ним, и нанес многие другие оскорбления сэру Питеру Бруму и его жене, донне Маргарет Брум, в знак чего герольд бросил перчатку, которую маркиз Морелла поднял острием своего копья и перебросил через плечо, приняв таким образом вызов.
Соперники опустили забрала, их оруженосцы подошли проверить, хорошо ли укреплены доспехи, оружие, подпруги и поводья у коней. Все было в полном порядке, помощники герольдов взяли коней под уздцы и развели их в противоположные концы арены. По сигналу короля раздался звук трубы, и оруженосцы, бросив поводья, отскочили назад. Вторично зазвучала труба, и рыцари подобрали поводья, наклонились над гривами лошадей, прикрылись щитами и подняли копья, выставив их вперед.
Зрители застыли в напряженном молчании, и среди этой тишины пронесся звук третьей трубы — для Маргарет он прозвучал как глас судьбы. Из двенадцати тысяч глоток вырвался вздох, подобный порыву ветра на море, и замер вдали. Подобно стрелам, выпущенным навстречу друг другу, их кони с каждым шагом увеличивали скорость. Вот они встретились. Оба копья ударились о щиты, и оба противника покачнулись. Острия копей сверкнули, отклонившись в сторону или вверх, и рыцари, удержавшись в седлах, проскакали мимо, задев друг друга, но не ранив. В конце арены оруженосцы поймали коней за поводья и повернули их. Первая схватка закончилась.
Вновь запели трубы, и опять противники помчались навстречу друг другу и встретились в центре арены. Как и в первый раз, копья ударили по щитам, но столкновение было столь сильным, что копье Питера разлетелось на куски, а копье Морелла, скользнув по щиту противника, застряло в его забрале. Питер пошатнулся в седле и стал падать назад. Когда казалось, что он вот-вот должен упасть с коня, завязки его шлема лопнули. Шлем был сорван с его головы, и Морелла проскакал мимо со шлемом на острие копья.
— Сокол падает! — закричали зрители. — Сейчас он свалится с коня!
Но Питер не свалился. Он отбросил разбитое копье и, ухватившись за ремень седла, подтянулся обратно в седло. Морелла пытался остановить коня, чтобы повернуть обратно и напасть на англичанина раньше, чем он оправится, но его конь стремительно мчался, остановить его было невозможно, пока он не увидит перед глазами стену. Наконец противники вновь повернулись друг к другу. Но у Питера не было копья и шлема, а на острие копья Морелла висел шлем его противника, от которого он тщетно пытался освободиться.
— Вытаскивай меч! — кричали Питеру.
Это были голоса капитана Смита и его матросов. Питер опустил руку, чтобы взяться за меч. Но он не сделал этого и, оставив меч в ножнах, пришпорил коня и вихрем понесся на Морелла.
— Сокола сейчас проткнут! — закричали кругом. — Орел побеждает! Орел побеждает!
Действительно, казалось, что этим все кончится. Копье Морелла было направлено на незащищенное лицо Питера, но, когда копье было совсем близко, Питер бросил поводья и ударил своим щитом по белому плюмажу, развевавшемуся на конце копья Морелла, тому самому, что перед этим был сорван с головы Питера. Он рассчитал правильно: белые перья качнулись очень невысоко, однако достаточно для того, чтобы, пригнувшись в седле, Питер мог проскользнуть под смертоносным копьем. А когда противники поравнялись, Питер выбросил свою длинную правую руку и, обхватив Морелла, словно стальным крюком, вырвал его из седла. Черный конь помчался вперед без всадника, а белый — с двойной ношей.
Морелла обхватил Питера за шею, и тела их переплелись, черные доспехи перемешались с белыми, противники раскачивались в седле, а испуганный конь мчался по арене, пока наконец не свернул резко в сторону. Противники упали на песок и некоторое время лежали, оглушенные падением.
— Кто победил? — кричали в толпе.
Им отвечали:
— Оба готовы!
Наклонившись вперед в своем кресле, Маргарет сорвала вуаль и смотрела на арену. Лицо ее было мертвенно бледным.
— Глядите, они упали вместе, вместе и зашевелились и теперь поднялись невредимыми.
Питер и Морелла отскочили друг от друга и выхватили длинные мечи. И пока оруженосцы ловили коней и подбирали сломанные копья, они уже стояли лицом к лицу. Питер, у которого не было шлема, держал высоко свой щит, чтобы защитить голову, и спокойно ожидал атаки.
Морелла первым нанес удар, и его меч со скрежетом столкнулся со сталью. Прежде чем Морелла успел вновь стать в позицию, Питер нанес ему ответный удар, однако Морелла успел пригнуться, и меч только срезал черные перья с его шлема. С быстротой молнии устремилось острие меча Морелла прямо в лицо Питера, но англичанин успел чуть отклониться, и удар миновал его. Вновь атаковал Морелла и нанес удар такой силы, что, хотя Питер успел подставить свой щит, меч испанца скользнул по нему и пришелся по незащищенной шее и плечу. Кровь окрасила белые доспехи, и Питер зашатался.
— Орел побеждает! Орел побеждает! Испания и орел! — вопили десять тысяч глоток.
Вслед за этим наступило минутное молчание, и в этой тишине в толпе раздался женский голос, в котором Маргарет узнала голос Инессы:
— Нет, сокол нападает!
Не успел замереть звук ее голоса, как Питер, видимо разъяренный болью от раны и страхом поражения, с боевым кличем: «Да здравствуют Брумы!» — собрал все силы и ринулся прямо на Морелла — зрители увидели, что половина шлема испанца валялась на песке. На этот раз пришла очередь Морелла покачнуться. Более того — он выронил свой щит.
— Вот это удар! Хороший удар! — раздались голоса в толпе. — Сокол! Сокол!
Питер, увидел, что противник потерял щит, и то ли из рыцарства, как подумала толпа, приветствовавшая этот жест, то ли потому, что он хотел освободить свою левую руку, но он отшвырнул свой щит и, схватив меч обеими руками, бросился на испанца. С этого момента, хотя он был без шлема, исход поединка уже не вызывал сомнения. Бетти говорила о Питере как об упорном бойце с тяжелым ударом. На этот раз Питер доказал, что она была права. Свежий, будто он только что вышел на арену, Питер наносил удар за ударом злополучному испанцу, пока удары его меча по толедской стали доспехов противника не стали напоминать удары молота по наковальне. Это были страшные удары, но сталь еще выдерживала, и Морелла, сопротивляясь изо всех сил, отступал, пока наконец не оказался перед трибуной, где сидели их величества и Маргарет.
Краем глаза Питер увидел, где они находятся, и в душе решил, что именно сейчас и здесь он закончит бой. Отпарировав выпад отчаявшегося испанца, Питер нанес ему сокрушительный удар, меч его блеснул подобно радуге, и, хотя черная сталь выдержала, Морелла почти был сбит с ног. Воспользовавшись этим, Питер высоко поднял меч и с криком «Маргарет!» опустил его со всей силой, на какую был способен. Меч сверкнул подобно молнии, быстрый, ослепивший всех, кто смотрел на него. Морелла пытался отвести меч противника. Напрасно. Его собственный меч разлетелся, шлем был рассечен, и, широко раскинув руки, он тяжело рухнул на землю.
Наступило минутное молчание, и среди этого молчания раздался пронзительный женский голос:
— Сокол победил! Английский сокол победил!
Вслед за этим поднялся неистовый шум: «Он мертв! „, «Нет, он двигается! «, «Убей его! «, «Пощади его, он хорошо сражался!“
Питер оперся о свой меч, глядя на поверженного противника. Затем он взглянул на короля и королеву, но они сидели молча, не подавая никакого знака. Он видел Маргарет, которая пыталась встать и крикнуть что-то, но женщины, стоявшие рядом, усадили ее обратно. Глубокая тишина воцарилась вокруг, тысячи людей напряженно ждали конца. Питер посмотрел на Морелла. Увы, тот еще был жив, его меч и прочный шлем смягчили силу мощного удара. Морелла был только ранен и оглушен.
— Что я должен делать? — обратился Питер к королевской чете.
Король, казалось, был взволнован, он хотел сказать что-то, но королева наклонилась к нему, шепнула несколько слов, и он остался сидеть неподвижно. Оба молчали. Молчала и внимательно наблюдавшая за всем этим толпа. Понимая, что означает это ужасающее молчание, Питер бросил меч и вытащил кинжал, чтобы разрезать ремни шлема Морелла и нанести последний удар.
В эту секунду он услышал шум, донесшийся с другого конца арены, и, взглянув в ту сторону, увидел самую странную картину, какую ему когда-либо приходилось наблюдать. С перил павильона напротив него, легко, как кошка, спускалась женщина. С кошачьей ловкостью она спрыгнула с высоты десяти футов и, подобрав свои юбки, бросилась к нему. Это была Бетти. Без сомнения, это была Бетти. Бетти в ее роскошном наряде, с развевающимися волосами. Питер в изумлении смотрел на нее. Все кругом замерли пораженные. Через полминуты она уже была рядом с ним и, став над телом Морелла, закричала:
— Оставь его! Говорю тебе, оставь его!
Питер не знал, что делать и что сказать, и двинулся было, чтобы поговорить с ней, но она стремительно бросилась к мечу Питера, лежавшему на песке, подняла его и, отскочив назад к Морелла, крикнула:
— Тебе придется сначала сразиться со мной, Питер!
И она действительно так стремительно стала наступать на него с его собственным мечом в руках, что он вынужден был отступить, чтобы избежать удара. По скамьям прокатилась волна хохота. Засмеялся даже Питер. Ничего подобного никогда еще не было видано в Испании. Смех замер, и Бетти, у которой был отнюдь не тихий голос, опять закричала на ужасном испанском языке:
— Пусть он убьет сначала меня, прежде чем убить моего мужа! Отдайте мне моего мужа!
— Бери его, если тебе хочется, — ответил Питер.
И Бетти, бросив меч, подняла лежащего без сознания испанца своими крепкими руками, как будто это был ребенок; его кровоточащая голова легла ей на плечо. Бетти пыталась унести его, но не смогла.
Присутствующие громко приветствовали ее, а Питер с жестом отчаяния отбросил свой кинжал и опять обратился к их величествам. Король встал и поднял руку, дав знак оруженосцам Морелла взять его тело. Бетти помогала им.
— Маркиза Морелла, — произнес король, в первый раз обращаясь к ней с этим титулом, — ваша честь восстановлена, ваш защитник победил. Что вы хотите сказать?
— Ничего, — ответила Бетти, — кроме того, что я люблю этого человека, хотя он дурно обращался со мной и с другими. Я знала, что, если он скрестит меч с Питером, он искупит свои грехи. Я повторяю, что люблю его, и, если Питер хочет убить его, он должен сначала убить меня.
— Сэр Питер Брум, — сказал король, — решение в ваших руках. Мы отдаем вам жизнь этого человека — вы можете подарить ее ему или поступить по своему усмотрению.
Питер немного подумал и затем произнес:
— Я дарую ему жизнь, если он признает эту даму своей законной женой и будет всегда жить с ней, прекратив против нее все судебные дела.
— Дурак, как он может это сделать, — воскликнула Бетти, — когда ты своим здоровенным мечом выбил из него всякое соображение!
— Тогда, — смиренно предложил Питер, — может быть, кто-нибудь сделает это за него?
— Я, — сказала Изабелла, в первый раз нарушив молчание. — Я это сделаю. От имени маркиза Морелла я обещаю вам это, дон Питер Брум, перед лицом всех собравшихся здесь. Я еще добавлю: если он выживет и если он захочет нарушить это обязательство, данное от его имени для того, чтобы спасти его от смерти, имя его будет предано позору. Объявите об этом, герольды!
Герольды затрубили в трубы, и один из них объявил громогласно решение королевы. Толпа громко приветствовала это решение.
После этого оруженосцы унесли Морелла, все еще остававшегося без сознания; Бетти в перепачканном кровью платье шла рядом с ним. Питеру подвели его коня, и он, невзирая на раны, сел на него и объехал арену. Его встречали такими овациями, каких эта площадь никогда не слышала. Отсалютовав мечом, Питер и его оруженосцы исчезли в воротах, через которые они выехали.
Так необычно закончился этот поединок, который впоследствии получил название «Боя испанского орла с английским соколом».
ГЛАВА XXV. «МАРГАРЕТ» УХОДИТ В МОРЕ
Наступила ночь. Питер, ослабевший от потери крови и с трудом двигавшийся из-за полученных ран, попрощался с королем и королевой Испании, которые наговорили ему массу приятных слов. Они назвали его украшением рыцарства и предлагали ему высокое положение и звание, если он согласится поступить к ним на службу. Однако Питер поблагодарил их и отказался, сказав, что он слишком много перестрадал в Испании, чтобы жить здесь. Король и королева поцеловали его жену, прекрасную Маргарет, которая прильнула к своему раненому мужу, как плющ обвивает дуб, и не отходила от него ни на шаг. Ведь еще недавно она почти не надеялась обнять его живого. Итак, король и королева поцеловали ее, а Изабелла, сняв с себя драгоценную цепь, повесила ее на шею Маргарет в качестве прощального подарка и пожелала ей счастья с таким мужем.
— Увы, ваше величество, — ответила Маргарет, и ее темные глаза наполнились слезами, — как я могу быть счастливой, думая о завтрашнем дне?
Изабелла покраснела и ответила:
— Донна Маргарет Брум, будьте благодарны за то, что вам принес сегодняшний день, и забудьте о завтрашнем и о том, что он должен унести. Идите, и пусть бог будет с вами обоими!
Они удалились, и маленькая кучка английских матросов в испанских плащах, которые сидели в амфитеатре и ахали, когда наносил удары орел, но ликовали, когда побеждал сокол, повели или, скорее, понесли Питера под покровом темноты к лодке, стоявшей неподалеку от места поединка. Они отплыли, никем не замеченные, ни толпой, ни даже оруженосцами Питера, уверенными, что он, как и предупредил их, вернулся со своей женой во дворец. Так они доплыли до «Маргарет», судно снялось с якоря и, спустившись вниз по течению, стало за излучиной реки.
Это была тяжелая ночь — в ней не было места для любви и нежности. Разве могли думать об этом Маргарет и Питер, измученные сомнениями и страхом, пережившие сегодня такой ужас и такую радость! Рана Питера была глубокой и тяжелой, хотя его щит и умерил силу удара меча Морелла и острие меча пришлось, по счастливой случайности, по плечу так, что не задело артерии и не тронуло кости. Однако он потерял много крови, и капитан Смит, который был гораздо более умелым хирургом, чем это можно было предполагать, счел необходимым промыть рану спиртом, причинившим Питеру сильную боль, и зашить ее шелковой ниткой. На руках и на бедрах у Питера были страшные кровоподтеки, а спина была разбита во время падения с коня вместе с Морелла.
Большую часть ночи Питер пролежал в полузабытье. И когда наступил рассвет, он смог только подняться со своей койки, чтобы вместе с Маргарет опуститься на колени и молиться о спасении ее отца из рук жестоких испанских священников.
Ночью Смит, воспользовавшись приливом, повел судно опять вверх по течению и бросил якорь под прикрытием старых, разбитых кораблей, о которых говорил ему Питер. Перед этим он закрасил старое название судна и на его месте написал «Санта Мария» — название корабля такой же постройки и тоннажа, как и «Маргарет», который, по слухам, ожидался в порту. Поэтому ли, или потому, что на реке было в то время много судов, но случилось так, что никто из властей не обратил внимания на их возвращение, а если и заметил, то не стал сообщать, не придав этому особого значения. Во всяком случае, пока все шло хорошо.
По сведениям отца Энрике, подтвержденным другими источниками, процессия «Акта веры» должна была выйти на набережную около восьми часов, пройти но ней всего ярдов сто и свернуть на улицу, ведущую к площади, где было все приготовлено для совершения мессы. «Очищенные» должны будут здесь быть посажены в клетки и отвезены на Квемадеро.
В шесть часов утра Смит собрал в каюте двенадцать матросов, которых он выбрал в помощь себе для предстоящего предприятия. Питер, стоя рядом с Маргарет, сообщил им весь план в подробностях и умолял их во имя их хозяина и ради его дочери сделать все, что возможно, чтобы спасти хозяина от страшной смерти.
Матросы поклялись; у них кипела кровь, не говоря уже о том, что им была обещана большая награда, а тем, кто погибнет, — вознаграждение их семьям. Затем они позавтракали, разобрали мечи и ножи и укутались в испанские плащи, хотя, говоря по правде, этих парней из Эссекса и Лондона с трудом можно было принять за испанцев. Лодка была готова, и тут Питер, хотя он едва мог стоять, заявил, что поедет с ними. Однако капитан Смит, с которым, вероятно, уже раньше переговорила Маргарет, топнул ногой по палубе и заявил, что здесь командует он и он не допустит этого. Раненый человек, заявил Смит, будет им только обузой, он займет лишь место в
маленькой шлюпке, а помочь им не сможет ни на суше, ни на воде. Кроме того, Питера узнают в лицо тысячи людей, видевшие его вчера, и наверняка узнают, тогда как никто не обратит внимания на дюжину матросов, высадившихся с какого-то судна, чтобы покутить и посмотреть на представление. И, наконец, ему лучше остаться на борту «Маргарет», ибо, если дело обернется плохо, здесь будет слишком мало людей, чтобы быстро вывести корабль в открытое море и доплыть до Англии.
Питер все-таки настаивал на своем, пока Маргарет, обняв его, не спросила, не думает ли он, что ей будет лучше, если она потеряет сразу и отца и мужа. А ведь если они потерпят неудачу, это может случиться. Только тогда Питер, страдающий от боли и очень слабый, уступил, и капитан Смит, отдав последние распоряжения своему помощнику и пожав руки Питеру и Маргарет, спустился со своими двенадцатью матросами в шлюпку. Укрываясь за старыми судами, шлюпка направилась к берегу.
«Маргарет» находилась на расстоянии выстрела из лука от берега, и с палубы между кормой одного старого судна и носом другого открывался вид на набережную. Здесь и расположились Питер и Маргарет. Один из матросов взобрался на мачту, откуда был виден почти весь город и даже старый мавританский замок, где теперь помещалась инквизиция. Наконец этот матрос крикнул, что процессия вышла — он увидел знамена, людей у окон и на крышах; к тому же колокол собора медленным звоном возвестил о том же. Затем потянулось длительное ожидание. Они видели, как группа матросов в испанских плащах показалась на набережной и смешалась с немногочисленной толпой, собравшейся там, — основная масса народа толпилась на площади и на прилегающих улицах.
В конце концов, как раз когда часы на соборе пробили восемь, «триумфальное» шествие, как оно именовалось, вступило на набережную. Первым появился отряд солдат, вооруженных копьями, затем распятие, задрапированное черным крепом, которое нес священник, за ним следовали другие служители церкви, в белоснежных одеждах, символизировавших чистоту. Затем появились люди, тащившие деревянные или сделанные из кожи изображения каких-то мужчин и женщин, которые благодаря бегству в другие страны или в царство смерти избежали лап инквизиции. Следом за ними несли гробы, по четыре человека каждый, — в этих гробах были тела или кости умерших еретиков, которые ввиду смерти тех, кому они принадлежали, должны были быть тоже сожжены в знак того, что сделала бы с ними инквизиция, если бы могла, — это давало ей право конфисковать оставшееся от человека имущество.
Затем шли раскаявшиеся. Головы их были обриты, ноги босы, одни были одеты в темные одежды, другие — в желтые балахоны с красным крестом, называемые санбенито. После них появилась группа еретиков, осужденных на сожжение. Они были облачены в замарры из овечьих шкур, разрисованные дьявольскими рожами, их собственными портретами, окруженными пламенем. На этих несчастных были также высокие, похожие на епископские митры шапки, так называемые «короза», разрисованные изображениями пламени. Рты у них были заткнуты кусками дерева, иначе они могли бы осквернять и заражать окружающих еретическими речами, в руках они несли свечки, которые сопровождающие их монахи время от времени зажигали, если те гасли.
Сердца Питера и Маргарет дрогнули, когда в конце этой ужасной процессии появился человек верхом на осле, одетый в замарру и корозу, но с петлей на шее. Отец Энрике сказал правду — это, без сомнения, был Джон Кастелл. Как во сне, смотрели Питер и Маргарет на его позорный наряд.
Следом за ним шли роскошно одетые чиновники, инквизиторы, знатные люди, члены Совета инквизиции; впереди них развевалось знамя, именуемое Святым знаменем веры.
Кастелл поравнялся с маленькой группой моряков, и казалось, что-то произошло с упряжью осла, на котором он сидел, потому что тот остановился и человек в одежде секретаря подошел к нему, по-видимому для того, чтобы поправить упряжь, заставив тем самым остановиться всю процессию, следующую за ним. Идущие впереди уже миновали набережную и завернули за угол. Непонятно, что там случилось, но еретика потребовалось снять с осла; его грубо стащили с ослиной спины, а животное, словно обрадовавшись освобождению от ноши, задрало голову вверх и громко стало орать.
Люди из немногочисленной толпы, стоявшей вдоль набережной, двинулись к ним, как будто для того, чтобы помочь, и среди них — несколько человек в таких накидках, какие были на матросах с «Маргарет».
Офицеры и гранды позади начали кричать: «Вперед! Вперед! «, но люди, окружившие осла, вместо этого начали подталкивать его вместе с седоком ближе к воде. В это время прискакала стража узнать, что случилось.
И тут неожиданно возникло замешательство, причину которого было невозможно разгадать, — в следующее мгновение Маргарет и Питер, схватившие друг друга за руки, увидели, что человека, который до этого ехал на осле, быстро тащат вниз по ступенькам набережной туда, где находилась шлюпка с «Маргарет».
Помощник капитана, стоявший у штурвала, тоже видел все это. Он свистнул, и по этому сигналу якорный канат был обрублен — времени для подъема якоря не было, — а матросы, стоявшие на реях, распустили паруса, и судно тут же начало двигаться.
Между тем на набережной шла битва. Еретик был уже в шлюпке вместе с частью матросов, но остальные сдерживали толпу священников и вооруженных служителей, пытавшихся схватить его. Один из священников с мечом в руке проскользнул между матросами и тоже свалился в шлюпку. Наконец все уже были в шлюпке, за исключением одного человека — капитана Джона Смита, которого атаковали трое противников. Весла были подняты, но матросы ждали. Капитан взмахнул мечом, и один из нападающих рухнул. Остальные двое бросились на капитана, один прыгнул ему на спину, другой повис на шее. С отчаянным усилием капитан бросился в воду, увлекая за собой обоих нападающих. Одного из них больше уже не увидели, так как Смит заколол его, а второй вынырнул рядом с шлюпкой, которая была уже на расстоянии нескольких ярдов от набережной; один из матросов ударил его веслом по голове, и тот пошел ко дну.
Однако Смита не было видно, и Питер и Маргарет решили, что он утонул. Матросы тоже, по-видимому, решили так, потому что они начали грести, но неожиданно большая загорелая рука появилась над водой и схватилась за корму шлюпки, а гулкий голос пророкотал:
— Гребите, ребята, я здесь!
Матросы налегли с такой силой, что ясеневые весла гнулись, как луки. В это время двое моряков схватили священника, прыгнувшего в шлюпку, и выбросили его за борт; он некоторое время барахтался, не умея плавать и хватаясь за воздух руками, а потом исчез. Шлюпку подхватило течением, вот она уже обогнула нос первого из старых кораблей, за которым виднелась «Маргарет». Ветер посвежел, и судно набирало скорость.
— Спустите трап и приготовьте канаты! — закричал Питер.
Это было сделано, но недостаточно быстро, потому что в следующий момент шлюпка ударилась о борт корабля. Матросы успели ухватиться за канаты и удерживали шлюпку, в то время как капитан Смит, наполовину захлебнувшийся, цеплялся за кормовую доску; вода почти покрывала его с головой.
— Спасайте сначала его! — закричал Питер.
Один из матросов сбежал по трапу и бросил капитану петлю. Смит поймал ее одной рукой и постепенно надел на себя. Тогда матросы схватились за веревку и вытащили его на палубу, где он лег, тяжело дыша и выплевывая воду. Судно двигалось все быстрее, настолько быстро, что Маргарет умирала от страха, как бы шлюпку не затянуло под корпус и не утопило.
Но матросы знали свое дело. Они постепенно отвели шлюпку назад, пока ее нос не оказался на уровне трапа. Первым они помогли вылезти Кастеллу. Он схватился за перекладину трапа, и сильные руки подхватили его. Он полз, шаг за шагом, пока наконец его ужасная, дьявольски разукрашенная шапка, лицо с белым пятном там, где была сбрита борода, раскрытый рот, в котором до сих пор торчал деревянный кляп, не показал не над бортом, как сказал потом помощник капитана, подобно лику сатаны, бежавшего из ада. Матросы подняли его, и он без чувств упал на руки дочери. Один за другим поднимались вслед за ним матросы — все были живы, хотя двое были ранены и покрыты кровью. Да, никто не погиб
— все до одного были в безопасности на палубе «Маргарет».
Капитан Смит выплюнул последние остатки речной воды, приказал принести ему чарку вина и тут же выпил ее. Питер и Маргарет в это время вытащили проклятый кляп изо рта Кастелла и дали ему глоток спирта. Смит, словно большая собака, стряхнул с себя воду и, ни слова не говоря, подошел к штурвалу и взял его из рук помощника. Плыть по реке было делом трудным, и никто не знал реку так хорошо, как капитан Смит. «Маргарет» как раз поравнялась со знаменитой Золотой башней, и вдруг по ним выстрелила пушка, но ядро пролетело далеко от судна.
— Смотрите! — воскликнула Маргарет, указывая на всадников, скачущих на юг вдоль берега реки.
— Они хотят предупредить форты, — отозвался Питер, — Бог послал нам этот ветер, мы должны успеть прорваться к морю.
Ветер крепчал, он дул с севера, но какой это был длинный и тяжелый день! Час за часом плыли они вниз по реке, которая становилась все шире. Они плыли то мимо деревень, где кучки людей, завидев их, размахивали оружием, то мимо пустынных болот и равнин, покрытых соснами.
Когда они были уже у Бонанцы, солнце стояло довольно низко, а когда миновали Сан-Лукар, оно уже садилось. В широком устье реки, где белые волны бились об узкий мол, к ним спешили на веслах две большие галеры, чтобы захватить их. Галеры были очень ходкими, и спастись, казалось, не было никакой возможности.
Маргарет и Кастелла отправили вниз, матросы заняли свои места. Питер решительно направился на корму, где упорный капитан Смит стоял у штурвала, не разрешая никому дотронуться до него. Смит посмотрел на небо, на берег и на спасительное открытое море впереди. Затем он приказал поднять все паруса и мрачно посмотрел на галеры, подстерегавшие их, подобно борзым, у выхода в море. Галеры держались на веслах посередине канала. По обе стороны кипели буруны, через которые не мог пройти ни один корабль.
— Что вы хотите делать? — спросил Питер.
— Мастер Питер, — сквозь зубы процедил Смит, — когда вы вчера дрались с испанцем, я не спрашивал вас, что вы собираетесь делать. Придержите ваш язык и предоставьте все мне.
«Маргарет» была быстроходным судном, но никогда еще она не развивала такой скорости. Позади нее свистел ветер. Ее крепкие мачты согнулись, как удочки, а спасти скрипели и стонали под тяжестью наполненных ветром парусов, ее левый борт лежал почти на уровне воды, так что Питер должен был лежать на палубе — стоять было невозможно — и видел, как вода бежала в трех футах от него.
Галеры выстроились, преграждая путь «Маргарет». В полумиле от нее они встали нос к носу, отлично зная, что никакое судно не может проскользнуть по пенящемуся мелководью. Они ждали, что «Маргарет» должна будет замедлить ход — это было неизбежно, — и тогда они возьмут ее на абордаж и перебьют малочисленную команду. Смит что-то приказал помощнику, и неожиданно в лучах заходящего солнца на грот-мачте взвился английский флаг, при виде которого матросы разразились восторженными криками. Смит отдал новый приказ, и был поднят последний кливер. Теперь время от времени левый борт погружался в воду, и Питер чувствовал, как соленая вода обжигает его израненную спину.
Испанские капитаны держали галеры на прежнем месте. Они не могли понять, что этот иностранец — сумасшедший или не знает речного фарватера? Ведь он пойдет ко дну со всеми, кто у него на борту. Они стояли, ожидая, когда этот леопардовый флаг и надувшиеся паруса будут спущены, но «Маргарет» прямо, словно бык, мчалась на них. Она была на расстоянии не более четверти мили и шла прямо по курсу, когда наконец на галерах поняли, что она пойдет ко дну не одна.
На испанских судах началось смятение, заливались свистки, кричали люди, надсмотрщики бросились вниз подстегивать рабов, поднятые весла казались красными в свете заходящего солнца, когда они с силой били по воде. Бушприты галер стали раздвигаться — пять футов, десять футов, может быть, двенадцать футов. И прямо в эту полоску открытой воды, словно камень, пущенный из пращи, словно стрела из лука, ринулась несущаяся по ветру «Маргарет».
Что же случилось? Спросите об этом у рыбаков Сан-Лукара и у пиратов Бонанцы, где история эта передается из поколения в поколение. Огромные весла треснули, как тростник, верхняя палуба левой галеры была разорвана, словно бумага, крепкими реями летящей «Маргарет», борт правой галеры завернулся, как стружка под рубанком, и «Маргарет» прорвалась.
Капитан Смит оглянулся — два больших испанских судна тонули. Словно раненые лебеди, они кружились и трепетали у пенящегося мола. Затем он повернул судно на другой галс, крикнул плотника и спросил у него, дал ли корабль течь.
— Никакой, сэр, — ответил тот, — но его потребуется заново смолить. Это был дуб против яичной скорлупы, и у нас была скорость!
— Хорошо, — сказал Смит. — С двух сторон находились мели, выбор оставался один — жизнь или смерть, но я был уверен, что они дадут нам пройти. Пришлите сюда помощника взять штурвал. Я должен поспать.
Солнце опустилось в бурлящее море, и ускользнувшая от власти Испании «Маргарет» повернула свой разбитый бушприт к Уэссану, к Англии.
ЭПИЛОГ
Прошло десять лет с тех пор, как капитан Смит провел «Маргарет» через мель Гвадалквивира столь замечательным образом. Был конец мая. В Эссексе леса стояли зеленые, птицы пели, луга пестрели цветами. В чудесной долине Дедхэма можно было видеть длинный низкий дом со многими остроконечными крышами — прелестный старый дом из красного кирпича и почерневшего от времени дерева. Дом этот стоял на небольшом холме. Сзади к нему примыкал лес, а впереди тянулась длинная аллея из дубов, которая шла через парк к дороге, ведущей к Колчестеру и Лондону. По этой аллее майским днем шел старый седой человек с быстрыми черными глазами. С ним было трое детей — мальчик лет десяти и две маленькие девочки, которые цеплялись за руки старика и за его одежду и засыпали его вопросами.
— Куда мы идем, дедушка? — спросила одна из девочек.
— Навестить капитана Смита, дорогая моя, — ответил старик.
— Я не люблю капитана Смита, — заявила другая девочка, — он толстый и всегда молчит!
— А я люблю, — прервал ее мальчик, — он дал мне замечательный нож, который мне нужен, когда я играю в моряка. И мама его любит, и папа, и дедушка, потому что он спас его, когда жестокие испанцы хотели его сжечь. Правда, дедушка?
— Правда, дорогой мой, — ответил старик. — Смотрите, вон белка пробежала по траве. Может, вы ее поймаете раньше, чем она добежит до дерева?
Дети бросились со всех ног и, так как дерево оказалось невысоким, начали карабкаться на него вслед за белкой. Между тем Джон Кастелл, ибо это был он, вышел через ворота парка и направился к маленькому домику у дороги. У дома на скамье сидел полный мужчина. Очевидно, он поджидал гостя, потому что указал ему на место рядом с собой и, когда Кастелл сел, спросил:
— Почему вы не пришли вчера, хозяин?
— Из-за ревматизма, друг мой, — ответил Кастелл. — Я получил его в подвалах этой проклятой инквизиции в Севилье. Они были очень сырые и холодные, эти подвалы, — задумчиво добавил он.
— Многим они казались довольно жаркими, — проворчал Смит, — к тому же пребывание в них обычно оканчивалось большим костром. Странно, что мы никогда больше ничего не слышали об этом деле. Я думаю, все это потому, что королева Изабелла хорошо относилась к нашей Маргарет и не хотела поднимать этого вопроса перед Англией и мутить воду.
— Может быть, — заметил Кастелл. — А вода ведь была мутная.
— Мутная? Как на отмели Темзы при отливе. Умная женщина эта Изабелла. Никто другой не додумался бы так выставить человека на посмешище, как она поступила с Морелла, когда отдала его жизнь Бетти и обещала от его имени, что он признает ее своей женой. После этого он уже не представлял никакой опасности в смысле заговоров против короны. Да, он должен был сделаться посмешищем всей страны, а таким людям никогда ничего не удается. Вы помните испанскую пословицу: «Королевский меч рубит, костры, зажженные попами, сжигают, но уличные песенки убивают быстрее». Хотелось бы мне знать, что случилось с ними со всеми. А вам, хозяин? Не говоря, конечно, о Бернальдесе — он ведь уже много лет в Париже и, говорят, живет там неплохо.
— Да, — улыбнулся Кастелл, — конечно, хотелось бы узнать, если только для этого не потребовалось бы ехать в Испанию.
В этот момент прибежали дети, ворвавшись одновременно в калитку.
— Не помните мою клумбу, маленькие разбойники! — закричал капитан Смит, замахнувшись на них тростью, в то время как они спрятались за его спину и стали корчить гримасы.
— Где белка, Питер? — спросил Кастелл.
— Мы согнали ее с дерева, дедушка, и окружили на берегу ручья, и там…
— Что — там? Поймали вы ее?
— Нет, дедушка. Когда нам казалось, что мы уже поймали ее, она прыгнула в воду и уплыла.
— Некоторые люди в трудном положении поступали так же, — смеясь, заметил Кастелл, припоминая одну речную набережную.
— Это было нечестно! — с негодованием закричал мальчик. — Белки не должны плавать, и, если я поймаю ее, я посажу ее в клетку.
— Я думаю, что эта белка останется в лесу до конца своей жизни.
— Дедушка! Дедушка! — закричала младшая девочка, просунув голову в калитку. — Много народу едет сюда на лошадях. Такие красивые! Иди сюда, посмотри!
Эта новость возбудила любопытство старых джентльменов, поскольку не так много людей приезжало в Дедхэм. Во всяком случае, они оба поднялись, правда с некоторым трудом, и направились к калитке. Да, ребенок был прав: в двухстах ярдах от них двигалась внушительная кавалькада. Впереди на великолепном коне ехала высокая, красивая дама, одетая в черный шелк, лицо ее было прикрыто черной вуалью. Рядом с ней ехала другая дама, закутанная так, будто здешний климат был для нее слишком холодным. Между ними на пони ехал маленький красивый мальчик. Слуги и служанки, человек шесть или восемь, огромная повозка, нагруженная багажом, которую тянули четыре крупные фламандские лошади, замыкали эту процессию.
— Кто же это? — воскликнул, вглядываясь, Кастелл.
Капитан Смит тоже посмотрел и втянул носом воздух, как он часто делал на палубе в туманное утро.
— По-моему, пахнет испанцами, — заявил он, — а я не люблю этого запаха. Посмотрите на их такелаж. Скажите, хозяин: кого вам напоминает это трехмачтовое судно со всеми его парусами?
Кастелл с сомнением покачал головой.
— Я припоминаю, — продолжал Смит, — высокую девушку, разукрашенную, как майское дерево, которая бежала по белому песку во время поединка в Севилье… Да, я забыл, что вас там не было.
До них донесся громкий, звонкий голос, приказавший по-испански кому-то пойти к дому и узнать, где здесь ворота. Тут Кастелл сразу узнал всадницу.
— Это Бетти! — воскликнул он. — Клянусь бородой Авраама, это Бетти!
— Я тоже так думаю, только не упоминайте Авраама, хозяин. Он очень опасный человек, этот Авраам, в христианских странах. Говорите — «клянусь ключами святого Петра» или «болезнями святого Павла».
— Дитя, — обратился Кастелл к одной из своих внучек, — беги в дом и скажи папе и маме, что приехала Бетти и привезла с собой половину Испании. Ну, быстро! И запомни имя: Бетти.
Удивленная девочка побежала, а Кастелл и Смит пошли навстречу путникам.
— Не можем ли мы быть полезны вам, сеньора? — спросил Кастелл по-испански.
— Маркиза Морелла, если вам угодно… — начала она тоже по-испански, затем неожиданно продолжала по-английски: — Боже мой! Да ведь это мой старый хозяин, Джон Кастелл, с белой бородой вместо черной!
— Она стала белой после того, как меня побрил святой цирюльник в святейшей инквизиции, — сказал Кастелл. — Ну, слезай же с этого коня, Бетти, дорогая… прошу прощения — благороднейшая и высокорожденная маркиза Морелла, — и поцелуй меня.
— Хоть двадцать раз, если пожелаете! — воскликнула Бетти, с такой стремительностью падая с высоты в его объятия, что, если бы не мощная поддержка Смита, они оба свалились бы на траву.
— Чьи это дети? — спросила Бетти, расцеловав Кастелла и пожав руку Смиту. — Впрочем, нечего спрашивать: у них глаза моей кузины и длинные носы, как у Питера. Как они? — озабоченно добавила она.
— Ты сама увидишь через одну — две минуты.
Пошли своих людей и багаж к дому, хотя я не знаю, где они там все разместятся, и пойдем с нами.
Бетти помедлила, так как она рассчитывала произвести эффект своим триумфальным въездом в полном параде. Но в эту минуту появились Маргарет и Питер — Маргарет с ребенком на руках, и Питер, выглядевший так же, как и всегда, худощавый, с длинными руками и ногами, суровый на вид, но с добрыми глазами. Вслед за ним появились слуги и маленькая Маргарет.
Поднялось настоящее столпотворение, прерываемое объятиями, но в конце концов свита была отправлена в дом, и багаж был разгружен. За ними ушли дети вместе с маленьким мальчиком испанского типа, с которым они уже успели подружиться; остались Бетти и ее закутанная спутница. Эту даму Питер некоторое время рассматривал, словно знакомую.
По-видимому, она заметила его интерес, потому что, как бы случайно, откинула один из платков, закрывавших ее лицо, показав один нежный и блестящий глаз и кусочек щеки оливкового цвета. Тут Питер сразу же узнал ее.
— Как вы поживаете, Инесса? — сказал он, протягивая ей с улыбкой руку, ибо он действительно был рад видеть ее.
— Так, как может чувствовать себя бедный путник в чужой и очень сырой стране, дон Питер, — ответила она томным голосом. — Но меня утешает, что я вижу перед собой старого друга, которого последний раз я видела в лавке одного булочника. Вы помните?
— Помню! — воскликнул Питер. — Это не такая вещь, которую можно забыть. Инесса, что стало с отцом Энрике? Я слушал несколько разных версий.
— Трудно сказать что-либо определенное, — ответила Инесса, открывая свои смеющиеся красные губы. — В старом мавританском замке, где помещается святая инквизиция, так много темниц, что невозможно сосчитать арестантов, как бы хороша ни была информация. Все, что я знаю, это то, что у этого бедняги начались неприятности из-за нас. Возникли подозрения по поводу его поведения во время процессии, которую капитан, может быть, помнит, — и она кивнула в сторону Смита.
— Кроме того, человеку в его положении было очень опасно посещать еврейские кварталы и писать неосторожные письма — нет, не то, о котором вы думаете, я держу слово, — другие, в которых он просил вернуть то письмо. Некоторые из них пропали.
— Он умер? — спросил Питер.
— Хуже, я думаю, — ответила Инесса, — заживо погребен — «наказание стеной».
— Бедняга! — вздрогнул Питер.
— Да, — задумчиво заметила Инесса, — докторам не нравятся их собственные лекарства.
— Я вижу, Инесса, — сказал Питер, взглянув в сторону Бетти, — что маркиз не последовал за вами.
— Только дух его, дон Питер, не иначе.
— Значит, он умер? Что убило его?
— Смех, я думаю, или, вернее, то, что он был предметом этого смеха. Он совершенно выздоровел от ран, которые вы ему нанесли, и потом, конечно, он должен был сдержать обещание, данное королевой, и признать благородную леди, в прошлом Бетти, своей маркизой. Он не мог этого не сделать после того, как она отбила его у вас с помощью вашего же меча и выходила его. Но конца этому не было. О нем пели песенки на улицах и спрашивали, как поживает его крестная мать Изабелла, потому что это она дала за него обещание и поклялась от его имени; потом его еще спрашивали, ломала ли маркиза еще копья ради него, и так далее.
— Бедняга! — сказал Питер с выражением глубокого сочувствия. — Жестокая судьба! Лучше бы я убил его.
— Конечно. Но не говорите этого при благородной Бетти — она уверена, что он был очень счастлив в семейной жизни под ее защитой. Он молча страдал, и даже я, которая так ненавидела его, стала жалеть его. Подумайте: один из самых гордых людей Испании, блестящий гранд, племянник короля, опора церкви, посол их величеств к маврам сделался предметом шуток простонародья, да и знати тоже.
— Знати? Кого же?
— Почти всех, потому что королева подавала пример. Я не знаю, за что она так ненавидела его, — добавила Инесса, проницательно взглянув на Питера, но, не дождавшись ответа, продолжала: — Она делала это очень умно, всегда оказывая высокочтимой Бетти самый любезный прием, подзывая ее к себе, восхищаясь ее английской красотой и тому подобное. А то, что делала королева, повторяли все, пока моя легко возбуждающаяся хозяйка чуть не потеряла голову. А маркиз почувствовал себя плохо и после взятия Гранады уехал туда, чтобы жить спокойно. Бетти уехала вместе с ним. Она была ему хорошей женой и сэкономила много денег. Она похоронила его год назад — он умер тихо — и поставила ему один из лучших памятников в Испании — он еще не закончен. Вот и вся история. Теперь она привезла сына, юного маркиза, сюда, в Англию, на год или два, потому что у нее очень любящее сердце и ей очень хотелось видеть вас всех. К тому же она решила, что для сына будет лучше уехать на время из Испании. Что касается меня, то теперь, после смерти Морелла, я первое лицо в доме — секретарь, главный поставщик сведений и все что угодно.
— Вы не замужем, я полагаю? — спросил Питер.
— Нет, — ответила Инесса. — Я видела так много мужчин, когда была молода, что, мне кажется, этого вполне достаточно. Или, может быть, — продолжала она, устремив свои нежные блестящие глаза на него, — был один, который мне слишком нравился, чтобы хотеть…
Она остановилась. Они как раз шли по подъемному мосту напротив Старого замка. Роскошная Бетти и прекрасная Маргарет в окружении остальных, разговаривая, прошли через широкие двери в просторный вестибюль. Инесса посмотрела им вслед и заметила стоящие, подобно стражу, у подножия широкой лестницы покрытые вмятинами белые доспехи и расколотый щит с золотым соколом — подарок Изабеллы, — в которых Питер сражался с маркизом Морелла и победил его. Затем она сделала шаг назад и критически осмотрела здание.
Над каждым крылом здания возвышалась каменная башня, построенная с целью обороны; вокруг замка тянулся глубокий ров. Внутри круга, образуемого рвом и окруженного тополями и древними тисовыми деревьями, в южном углу замка, находился отгороженный садик с дорожками, с цветущим боярышником и другими кустами. В самом конце его, почти скрытый ивами, был каменный бассейн. Глядя на все это, Инесса сразу заметила: насколько позволяли обстоятельства и климат, Питер, устраивая этот сад, скопировал другой, в далеком южном городе Гранаде, скопировал вплоть до ступенек и скамей. Она повернулась к нему и с невинным видом сказала:
— Сэр Питер, вы не возражаете погулять со мной в атом саду сегодня вечером? В этой башне, кажется, нет никаких окон.
Питер стал красным, как шрам на его лице, и, смеясь ответил:
— А вдруг одно найдется? Пойдемте в дом, Инесса. Никого здесь не встретят с большим удовольствием, чем вас, но я никогда не буду больше гулять с вами наедине в саду.
Падение Иерусалима
Предисловие
Английский писатель Генри Райдер Хаггард (1856—1925) прежде всего известен своими историко-приключенческими романами «Копи царя Соломона» и «Дочь Монтесумы». Его всегда интересовали экзотические страны и динамичные сюжеты. В некоторых своих книгах («Дитя бури») он поэтизировал «сильную личность», образ покорителя и завоевателя, что было актуально для общественной атмосферы Британской империи того времени. Но был и другой Хаггард.
В романе «Падение Иерусалима» мы тоже найдём и экзотические страны, и увлечёмся динамичным сюжетом, но не это здесь главное. Действие книги происходит на древнем Ближнем Востоке, в период так называемой Иудейской войны (66—73 гг.). Иудея в этот период являлась одной из многочисленных провинций огромной Римской империи, не самой богатой, но самой неспокойной. Война носила остро-религиозный характер. Евреи ждали прихода Мессии, который по их представлениям должен был победить всех врагов еврейского народа и отдать ему в подчинение все народы мира, а Иерусалим сделать всемирной столицей. Они не признали Мессией Иисуса Христа, в частности, и потому, что он сказал, что царство его не от мира сего.
У римлян был несколько другой взгляд на природу устройства современного им политического мира. Столицей его они почитали Рим, на что у них были известные основания, евреев считали особо вредными мятежниками. Идейным и духовным центром сопротивления евреев стал Иерусалимский Храм, громадное, единственное в своём роде святилище единобожной иудейской веры. Император Флавий Веспасиан быстро это понял, и решил, что победить евреев он сможет, только разрушив их Храм. Он не успел сделать это. Дело отца продолжил его сын Тит...
История Иудейской войны — это целая цепь неслыханных по ожесточению столкновений, часто это были сражения в полном смысле слова до последнего человека. Восставшие проявляли чудеса храбрости, но против них действовала огромная и, главное, превосходно устроенная военная машина. Когда же армия императора Тита взяла Иерусалим и осадила непосредственно Храм, отличавшийся громадными размерами, внутри которого уместилась целая обороняющаяся армия, то полились без преувеличения реки крови. Оборонявшимся много раз предлагали сдаться, обещая жизнь, они отказывались.
Генри Хаггард рисует впечатляющие, яркие картины боев и храмовой обороны, но в центре конкретно его романа судьба, так сказать, «третьей силы», не иудеев, и не римлян. Судьба одной ещё не слишком большой, но неуклонно растущей секты последователей распятого Иисуса занимает писателя. Главное действующее лицо — девушка по имени Мириам, происходящая из очень знатной иудейской семьи. Достаточно сказать, что её дед Бенони — член Синедриона, высшего религиозного совета, управляющего еврейским народом. Между тем Мириам истинная христианка, любовь к Богу для неё важнее и выше семейных заповедей. Само собой разумеется, что человек с такими убеждениями, обречён на самые удивительные приключения в стране, охваченной жесточайшей религиозной войной. К тому же надо учесть, что Мириам молода и красива. Влюбляется она, влюбляются в неё. Здесь и сотник иудейского ополчения Халев, и римский офицер, аристократ Марк. Но не будем дальше приоткрывать канву сюжета, чтобы не лишать читателя удовольствия сделать это собственноручно. Иудейская война закончилась в 73 году взятием последней крепости восставших, называлась она — Масада. Чем закончилась история еврейки-христианки, полюбившей римлянина, вы узнаете, дочитав до конца лежащий перед вами роман.
В отличие от Генри Хаггарда другой, менее известный, но не менее талантливый писатель Леонард Грен в своём романе делает упор на внутренние переживания героев — простых жителей Иерусалима, ощутивших на себе весь ужас поражения в войне за независимость. Автору удалось создать яркую и невероятную по силе воздействия на читателя панораму гибели великого города и великой культуры.
Михаил Попов
Генри Р. Хаггард
ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
Часть первая
Глава I
ТЮРЬМА В КЕСАРИИ[20]
Два часа пополуночи, но в городе Кесарии, раскинувшемся на сирийском побережье, почти никто не сомкнул глаз. Ирод Агриппа
[21], милостью римлян возведённый на трон всей Палестины, в ту пору в самом зените своего могущества, давал пышное празднество в честь императора Клавдия
[22]. Народу сошлось и съехалось великое множество: тут и самая родовитая знать, и богачи, и десятки тысяч бедных простолюдинов. Город забит людьми; и в его окрестностях, и на морском побережье на многие мили разбиты бесчисленные шатры; мест нет не только в караван-сараях, но и в частных домах; и пришлые люди ночуют на плоских крышах, на диванах и на полу в комнатах и даже в садах. Большой город гудит, как растревоженный в вечерних сумерках улей, и, хотя уже отзвучали громкие приветственные клики, толпы горожан и пришлых людей, псе ещё украшенных поблекшими розами, с криками и песнями расходятся по домам. Те, кто достаточно трезв, обсуждают состоявшиеся в цирке игры и спорят о том, кто будет победителем ещё более захватывающих игр, которые должны происходить днём; делаются денежные ставки.
На небольшом холме стоит мрачное бурое здание с многочисленными, примыкающими к нему дворами, обнесённое высокой стеной и рвом. Томящиеся в нём пленники слышат, как внизу, в амфитеатре, переговариваются рабочие, занятые приготовлениями к предстоящим играм. Они внимательно ловят доносящиеся к ним обрывки разговоров, ибо многие из них обречены играть главные роли в дневном действе. Во внешнем дворе находится около сотни людей, по большей части евреев, объявленных государственными преступниками. Им предстоит сразиться со вдвое большим числом диких обитателей пустыни — арабов, захваченных в приграничных стычках (теперь мы называем их бедуинами); эти будут восседать на конях, вооружённые мечами и копьями, но без доспехов. Зато евреи будут сражаться в тяжёлых доспехах и с большими щитами. На бой отводится двадцать минут по песочным часам, после чего оставшиеся в живых, за исключением проявивших трусость, обретут свободу. По милостивому соизволению царя Агриппы во избежание излишнего кровопролития будут пощажены даже раненые, если кто-нибудь изъявит желание взять их под свою заботу. Поэтому всякий, кто дорожит жизнью, готовится явить всю свою отвагу.
В другом дворе собраны пленники, которым предъявлено иное обвинение. Их не больше пятидесяти — шестидесяти; воздвигнутые там аркады не только служат для них прибежищем, но и позволяют чувствовать себя в уединении. Помимо восьми — десяти мужчин, пожилых и дряхлых стариков, ибо всех крепких молодых людей отобрали для участия в гладиаторских боях, эта небольшая группа состоит из женщин и нескольких детей.
Все они принадлежат к новой тогда секте христиан и считают себя последователями некоего Иисуса, распятого по обвинению в подстрекательстве к бунту римским прокуратором Понтием Пилатом, впоследствии сосланным в Галлию, где он, по слухам, покончил с собой. Этого Пилата ненавидели в Иудее за то, что он наложил руки на сокровища Иерусалимского храма, чтобы на вырученные за них деньги соорудить водопровод. Это вызвало восстание, сурово подавленное. Память о прокураторе почти изгладилась из сердец, но по странной прихоти судьбы слава распятого демагога Иисуса растёт и растёт, многие обожествляют его, проповедуют его учение, отвергаемое всеми сектами евреев.
В его обличении объединились все: фарисеи, саддукеи, зелоты, левиты
[23]. Они умоляют Агриппу очистить страну от этих, как они считают, отщепенцев, оскверняющих самое для них святое: весь народ с нетерпением ожидает прихода Мессии, Царя Небесного: он сокрушит римское иго и сделает Иерусалим столицей всего мира, но христиане утверждают, будто Мессия уже посетил мир в облике странствующего проповедника и погиб позорной смертью вместе с самыми заурядными преступниками.
И в конце концов Ирод уступил их настояниям. У него, как и у тех просвещённых римлян, с которыми он общался, не было истинной религиозности. В Иерусалиме он украшал Храм и приносил жертвы Яхве, в Берите он тоже украшал храм и приносил жертвы Юпитеру. Он стремился угодить всем и в первую очередь, разумеется, самому себе, вкушая все жизненные наслаждения. Судьба христиан его, естественно, ничуть не заботила. С какой стати? В этой малочисленной, незначительной секте нет ни одного человека именитого либо богатого. Преследовать их — дело нетрудное, да ещё и доставляет радость евреям. Вот он их и преследовал. Некоего Иакова, ученика Христа, неизменно ему сопутствовавшего, пока его не распяли, по его повелению схватили и обезглавили в Иерусалиме. Златоречивого проповедника Петра он приказал заключить в тюрьму, а многих его последователей казнил. Кое-кого забросали камнями евреи, но самых сильных и ловких принудили участвовать в гладиаторских боях в Берите и других местах. Красивых молодых девушек продавали в рабство, а пожилых матрон бросали на растерзание диким зверям на арене цирка.
Подобная же участь ожидала и бедных узников тюрьмы в тот самый день, с которого начинается это повествование. Закончатся бои гладиаторов, состоятся другие игры, и на арену выпустят семьдесят христиан — беспомощных стариков, женщин и детей, которых никто не пожелал купить. Затем на них натравят тридцать голодных, нарочно раздразнённых запахом крови львов и других хищников. Однако, и творя правосудие, Агриппа не преминул явить своё милосердие: он объявил, что всем, пощажённым львами, дадут одежду, немного денег и отпустят их на все четыре стороны, и пусть уж они изволят сами улаживать свои разногласия с евреями. Столь жестоки были нравы тогдашней Римской империи, что всем обитателям Кесарии, как и пришлым гостям, не терпелось увидеть, как голодные звери будут пожирать живых женщин и детей, чьё единственное преступление состоит в том, что они почитают распятого Христа и отказываются возлагать жертвы на алтари других богов. Заключались сделки, которые сегодня мы назвали бы пари; условие одно: приз достанется тому, кто вытащит билет с указанием точного числа пленников, не съеденных львами. Кое-какие ушлые игроки, которым достались билеты с небольшими номерами, подкупали воинов и сторожей, чтобы те обрызгали волосы и одежды христиан валериановым настоем, привлекающим этих больших кошек. Получившие же билеты с большими номерами выкладывали крупные суммы денег, чтобы с помощью различных уловок те постарались внушить львам отвращение к добыче. О женщинах и детях, которые должны были стать жертвой всех этих исхищрений, все они думали так же мало, как рыболов о висящей на его крючке наживке, будь то мидия или червь.
Под аркадой около больших ворот, где с пиками в руках расхаживали взад и вперёд тюремщики, сидели две — разительно несхожие — женщины: одна — еврейка, чуть более двадцати, со слишком, может быть, худым лицом, но прекрасными тёмными глазами, с печатью благородного происхождения во всём облике. Это Рахиль, вдова сирийского грека Демаса, единственная дочь высокородного еврея Бенони, одного из богатейших тирских торговцев; вторая — довольно примечательной наружности, лет около сорока, — уроженка Ливии, откуда её ещё в детстве похитили еврейские купцы, затем её перекупили финикийцы и продали на невольничьем рынке в Тире. По происхождению она знатная аравитянка, без малейшей примеси негритянской крови, что убедительно подтверждается её медноцветной кожей, выступающими скулами, прямыми пышными чёрными волосами и неукротимо гордыми сверкающими глазами. Ливийка — высокая, худощавая, удивительно быстрая и ловкая в движениях. Лицо суровое, даже яростное. При всём том, что их положение поистине ужасно, она не выказывает никаких признаков страха, и только когда взглядывает на свою госпожу, сидящую рядом, её глаза наполняются беспокойством и нежностью. Зовут её Нехушта — это имя придумал Бенони, когда много лет назад купил её на невольничьем рынке. «Нехушта» — по-еврейски «медь». У неё на родине, однако, её звали Ну; этим-то именем и пользовались, обращаясь к ней, покойная жена Бенони и её дочь Рахиль, которую она нянчила с младенческих лет.
В ясном небе ярко сверкала луна, и при её свете любой из узников, отвлёкшись от своих собственных тревог, мог бы видеть каждое движение и выражение лица обеих женщин. Рахиль сидела на земле, раскачиваясь взад и вперёд, и, закрыв лицо руками, истово молилась. Нехушта стояла возле неё на коленях, откинувшись по восточному обычаю на пятки, и угрюмо смотрела в пустоту.
Наконец, опустив руки, Рахиль посмотрела на прозрачное небо и вздохнула.
— Это наша последняя ночь на земле, Ну, — сказала она. — Не странно ли, что мы никогда больше не увидим плывущую над нами луну?
— Почему, госпожа? Если всё, что нам проповедовали, святая истина, мы будем видеть и луну, и другие светила, если же это ложь, ни свет, ни тьма не потревожат наш покой. Но я уверена, что никто из нас двух завтра не умрёт.
— Не в наших силах предотвратить смерть, — слабо улыбнулась Рахиль. — Львы никого не щадят.
— А вот я надеюсь, госпожа, что они пощадят меня, а ради меня и тебя.
— Что ты хочешь сказать, Ну?
— Я не боюсь львов; они такие же обитатели пустынь, как и я; их рёв я слышала ещё в колыбели. Моего отца, вождя племени, звали Повелителем львов, потому что он умел их приручать. Я кормила их ещё совсем крохой, они таскались за нами по пятам, как собаки.
— Тех львов давно уже нет в живых, ну, а эти тебя не знают.
— А вот я совсем не уверена, что их нет в живых, к тому же ничто не может заглушить голос крови; все эти львы узнают по запаху дочь Повелителя львов. Не сомневайся, нас они не тронут.
— Не могу разделить твою надежду, Ну. Завтра мы умрём мучительной смертью. И для чего? Только для того, чтобы царь Агриппа воздал почести своему верховному повелителю — цезарю.
— Если ты потеряла всякую надежду, госпожа, не лучше ли нам умереть сейчас, чем дожидаться, пока львы разорвут нас на потеху этому гнусному сборищу? На груди у меня спрятан яд, он действует быстро и безболезненно.
— Нет, Ну, я не вправе распоряжаться не только своей жизнью, но и той, второй, что во мне.
— Если умрёшь ты, умрёт и твоё ещё не родившееся дитя. Сегодня ли, завтра, — велика ли разница?
— Довольно для
каждого дня своей заботы
[24]. Кто знает, что будет. Может быть, завтра умрёт Агриппа, а не мы, и моё дитя останется жить. Всё в руке Божьей. Пусть Господь и вершит свою волю.
— Госпожа, — сжав зубы, ответила Нехушта. — Ради тебя я стала истинной христианкой. Но послушай, что я тебе скажу: пока я жива, ни один лев не будет раздирать клыками твоё тело, которое дороже мне моего собственного. Уж лучше я заколю тебя кинжалом прямо там, на арене, а если кинжал отберут, задушу или размозжу тебе голову.
— Но это великий грех, Ну. Не бери
такого греха на свою душу.
— Что мне до своей души? Моя душа — ты. Твоя мать была так добра ко мне, бедной рабыне; когда ты была ещё грудничком, я баюкала тебя на руках. Я застилала твоё брачное ложе; и, если не будет никакого другого выхода, — чтобы спасти тебя от ещё худшей участи, я убью тебя своими руками и прикрою своим мёртвым телом. А уж пусть потом Бог или Сатана, мне всё равно кто, решают, как поступить с моей душой. Я сделаю всё, что в моих силах, и до конца сохраню тебе верность.
— Не говори так, — вздохнула Рахиль. — Я знаю, дорогая, ты меня очень любишь, а я хочу умереть как можно более лёгкой смертью и воссоединиться со своим супругом. Если моё дитя, как я надеюсь, переживёт мою смерть, мы будем вечно втроём. Нет, вчетвером, Ну, потому что ты так же дорога мне, как муж и дитя.
— Такого не может, не должно быть, ведь я только рабыня, собака, ползающая у твоих ног. О, если бы я могла тебя спасти, я показала бы, с какой стойкостью дочь моего отца может переносить любые пытки!
Ливийка замолчала, поскрипывая зубами в бессильной ярости. Потом нагнулась к госпоже, взволнованно поцеловала её в щёку и медленно, надрывно заплакала.
— Ты слышишь, как ревут львы? — спросила Рахиль.
Нехушта подняла голову и прислушалась, точно охотник в пустыне. И в самом деле, со стороны большой башни, возведённой над южной стеной амфитеатра, послышалось что-то похожее на покашливание, затем рычание и рёв.
В этот ужасный концерт вступали всё новые и новые львы; от их мощных глоток содрогалось всё вокруг.
— Ага! — вскричал стражник у ворот — не римский солдат, с безразличным видом вышагивавший взад и вперёд, а тюремщик Руфус, одетый в утеплённый халат и вооружённый большим кинжалом. — Ишь как они размяукались, наши миленькие котята. Верно, проголодались, бедняжки. Ничего, потерпите. Сегодня вечером вы будете мурлыкать, сытые и довольные.
— Всего девять, — пробормотала Нехушта, которая вела счёт голосам зверей. — Девять старых, косматых, царственных львов. Слушая их, я как будто переношусь во времена молодости. Да, да, я чую запахи пустыни и вижу дымки, вьющиеся над шатрами моего отца. В детстве я охотилась на львов, теперь их черёд.
— Здесь такая духота, мне дурно, — пожаловалась Рахиль, приваливаясь всем телом к Нехуште.
Полная жалости, Нехушта с гортанным восклицанием подсунула свои сильные руки под худое тело молодой госпожи, подняла её как пушинку и отнесла в центр двора, где находился фонтан: некогда тут был дворец, превращённый впоследствии в тюрьму. Посадив госпожу спиной к фонтану, она брызгала водой ей в лицо, пока та не очнулась.
Здесь веяло приятной прохладой. Спать Рахиль всё равно не могла, ибо знала, что скоро должна умереть, поэтому она оглядывалась по сторонам. Калитка вдруг отворилась, и во двор втолкнули небольшую группу мужчин, женщин и детей.
— Я вижу, жители Тира, вы боитесь опоздать на пиршество львов, — не преминул съязвить шутник-стражник. — Проходите, друзья христиане, проходите. Поужинайте в последний раз по вашему обычаю. Хлеба и вина вам припасли вдоволь. Ешьте, мои голодные друзья, прежде чем сами будете съедены и попадёте на Небо — или в львиное брюхо.
Какая-то старая женщина, отставшая от остальных, потому что не могла идти быстро, обернулась и погрозила насмешнику своей клюкой.
— Не богохульствуй, проклятый язычник, — громко проворчала она. — А если будешь богохульствовать, тебя ждёт достойное возмездие, я, пророчица Анна, говорю тебе, ренегат-христианин, чей грех вдвойне заслуживает осуждения: сегодня здесь, на этой земле
ты поужинал в последний раз.
Стражник, полукровный сириец, корысти ради отрёкшийся от своей веры и теперь подвергавший пыткам своих бывших собратьев, с громким проклятием выхватил кинжал.
— Ты смеешь угрожать мне оружием, ну так знай: от кинжала ты и погибнешь, — сказала Анна и, не слушая больше брани тюремщика, заковыляла вслед за своими товарищами по несчастью. Сириец, весь побелев от ужаса, тут же незаметно скрылся. Он и впрямь был когда-то христианином и кое-что знал об Анне и её пророчествах.
Когда новая группа проходила мимо фонтана, Рахиль и Нехушта встали, чтобы приветствовать их.
— Мир вам, — сказала Рахиль.
— Мир и вам, во имя Спасителя нашего, — ответили они и прошли к аркаде, где сидели все остальные. Отставшая от них седая женщина с клюкой в руке шла одна.
Завидев её, Рахиль повернулась, чтобы повторить приветствие, и удивлённо воскликнула:
— Узнаешь ли ты меня, Мать Анна? Я Рахиль, дочь Бенони.
— Рахиль? — отозвалась, вздрогнув, Анна. — Как ты попала сюда, дочь моя?
— Как и многие другие христиане, Мать, меня постигла та же участь, что и их, — скорбно произнесла Рахиль. — Прошу тебя, присядь; ты же устала. Помоги ей, Ну.
Анна кивнула и медленно, превозмогая усталость, опустилась на ступени возле фонтана.
— Дай мне попить, дитя моё, — попросила она. — Меня привезли на муле из Тира, я просто умираю от жажды.
Рахиль сложила ладони чашей, ибо другой чаши у неё не было, зачерпнула воды и дала попить Анне, которая с жадностью осушила несколько пригоршней.
— Хвала Господу, жажду мою утолившему! Что ты сказала? Дочь Бенони — христианка? Хотя мы и все здесь узники, хвала Всевышнему!.. Странно, что я не слыхала об этом; последние два года я жила в Иерусалиме, только в прошлую субботу меня привезли обратно в Тир.
— За это время, Мать, я стала и женой и вдовой.
— И кто же был твоим мужем, дитя моё?
— Купец Демас. Его убили в беритском цирке шесть месяцев назад, — со слезами ответила бедная женщина.
— Я слышала о его смерти, — сказала Анна. — Он умер как подобает человеку честному и благородному, без сомнения, Небо прияло его душу. Он отказался веста бой с гладиаторами и был обезглавлен по приказу Агриппы. Но перестань плакать, дитя моё, лучше расскажи о себе. У нас нет времени на причитания. Возможно, завтрашний день навсегда осушит наши слёзы.
Рахиль вытерла глаза.
— Я могу изложить свою печальную историю в немногих словах. Мы с Демасом часто встречались и полюбили друг друга. В торговом деле они с отцом были соперниками; в те дни Демас исповедовал иудейство, ибо не знал другой, высшей религии. Отец согласился на наш брак, потому что жених был богат; а после женитьбы они стали вместе вести торговлю. Но через месяц в Тир явились апостолы; мы с Демасом вместе слушали их проповеди — сперва из любопытства, чтобы узнать правду о новом вероучении, которое всячески хулил мой отец, ибо принадлежит к фанатичной секте; затем потому, что их слова глубоко волновали наши сердца. В конце концов мы оба, уверовав, крестились в один вечер, и крестил нас не кто иной, как сам Брат Господень. Благословив нас, апостолы отправились в дальнейший путь; и тогда Демас, с его откровенностью и честностью, рассказал обо всём отцу. Это был сущий ужас, Мать. Отец бесновался, вопил, яростно проклинал нас и осыпал хулами Того, кому мы поклоняемся. Мне больно вспоминать о том, что он сделал: после того, как мы отказались отречься от нашей новой веры, он донёс на нас священникам, священники донесли римлянам; нас схватили и бросили в тюрьму; часть богатства моего мужа разграбили священники и римляне; всем остальным завладел отец. Много месяцев нас держали в тюрьме здесь, в Кесарии, затем моего мужа отправили в Верит, чтобы сделать из него гладиатора, а когда он отказался, убили его. С тех пор я сижу в этой тюрьме вместе с моей любимой служанкой Нехуштой: она тоже приняла христианство и разделила нашу судьбу; и вот сегодня, по велению Агриппы, мы обе должны умереть.
— Но почему ты плачешь, дитя моё, — тебе следует радоваться, ибо ты узришь и своего супруга, и своего Спасителя.
— Я и радуюсь, Мать: но ты же видишь, что я в тягости. Я оплакиваю своё дитя, которое так никогда и не родится. Появись оно на свет хотя на один час, мы все обрели бы вечное блаженство, но этого не может быть, не может быть!
Анна вперила в неё свой проницательный взгляд.
— Ты совсем недавно вступила на путь истинный, ты не пророчица, тебе ли судить о том, что может и чего не может быть? Грядущее — в руках Божиих. Царь Агриппа, твой отец, римляне, фанатики-евреи, львы рыкающие и мы, предназначенные им в пищу, — тоже в руках Господа; свершится лишь то, чего Он возжелает. Слава Ему! Возрадуемся и оставим заботу о дне завтрашнем. Не лучше ли смерть, чем жизнь в сомнениях, страхах и муках? Помолимся же о ниспослании нам смерти, дабы вознеслись мы к престолу Предвечного.
— Ты права, Мать, — ответила Рахиль, — я постараюсь не терять мужества, но я немощна. Хоть дух мой и силён, плоть слаба. Но нас призывают к Святому причастию, в последний раз в этом мире. — Она поднялась и пошла к аркаде.
Нехушта помогла Анне подняться. Когда Рахиль отошла достаточно далеко, она наклонилась и шепнула:
— О Мать! Вся наша община знает, что ты обладаешь даром провидения. Открой же мне, родится ли у неё ребёнок.
Старая женщина возвела глаза горе и медленно ответила:
— Да, у неё родится ребёнок и проживёт долгую жизнь; я верю, что никто из нас не погибнет сегодня в челюстях львов, хотя кое-кто и не избежит смерти. Но твоя госпожа очень скоро воссоединится со своим мужем. Поэтому я утаила от неё будущее.
— Тогда и я тоже должна умереть — и умру.
— Почему?
— Я хочу прислуживать госпоже и в ином мире.
— Нет, Нехушта, — сурово отрезала Анна, — ты должна остаться здесь, на земле, и оберегать её ребёнка, а когда завершится твой земной круг, ты должна будешь дать ей полный отчёт обо всём.
Глава II
ГЛАС БОЖИЙ
Из всех цивилизаций, чьи анналы доступны для изучения, самая поразительная, несомненно, цивилизация римская. Нигде, даже в древнем Мехико, высокая культура не была в таком тесном единении с грубейшим варварством. Римская империя блистала своим интеллектом; благороднейшие усилия её гения навряд ли будут когда-нибудь превзойдены; её законы составляют фундамент наших лучших юридических кодексов; искусство она высоко ценила, хотя и заимствовала; выкованная ею военная организация всё ещё поражает мир своим совершенством; её великие люди всё ещё остаются великими и по сравнению с множеством их преемников. Но как безжалостна была эта лютая тигрица! Среди развалин имперских городов — ни одной больницы, ни одного, если не ошибаюсь, сиротского приюта, и это в эпоху, когда сирот было больше, чем когда-либо. Благочестивые чаяния и усилия отдельных людей никогда не будили совесть всего народа. У Римской империи как таковой не было совести; это была ненасытная, прожорливая тигрица; её изощрённый ум и великолепие только усугубляли её жестокость.
Царь Агриппа поступал как истый римлянин. Римская империя была для него образцом, её идеалы — его идеалами. Поэтому он и соорудил амфитеатр, где людей убивали, как быков на бойне, к вящему удовольствию обширных толп зрителей. Даже не давая себе труда прикрыться хоть какими-нибудь, пусть неубедительными, оправданиями, он преследовал слабых только из-за их слабости и ещё потому, что их страдания доставляли удовлетворение сильным мира сего или же просто большинству.
Поскольку стояло жаркое время года, великие игры в честь цезаря должны были начинаться на рассвете и прекращаться за час до полудня. Амфитеатр был построен на двадцать тысяч человек и не мог вместить всех желающих; поэтому толпы зрителей начинали стекаться туда ещё с полуночи. За час до восхода все скамьи были уже заполнены, опоздавших даже не пускали в ворота. Свободными оставались лишь места для царя, его личных гостей царской крови, правителей города и других важных особ; что до стариков, женщин и детей-христиан, предназначенных на растерзание львам, то они должны были сидеть на виду у всех, пока не придёт их черёд участвовать в этом кровавом спектакле.
Когда Рахиль присоединилась к другим узникам, она увидела, что под аркадой стоит грубый длинный стол с ломтями хлеба, чашами и кувшинами с вином, купленным втридорога у стражников. Старые и немощные сидели на скамьях, остальные толпились у них за спиной. Во главе стола восседал старый христианский епископ, один из тех пятисот человек, что видели воскресшего Христа и приняли крещение от его любимого ученика. Вынужденные считаться с его почтенным возрастом, достоинством и доброй славой, преследователи Новой церкви несколько лет щадили его, но наконец очередь дошла и до него.
Началось богослужение, хлеб и вино с водой освятили теми же священными текстами, коими освящают их и ныне, только молитвы сочинялись тут же, на месте. Когда все поели с деревянных блюд и попили из грубых чаш, епископ благословил всех членов общины. Затем он обратился к ним с проповедью. Им предстоит, сказал он, радостное событие, пиршество братской любви, все участвующие в котором сложат с себя бремя плоти и, отрешившись от всех своих забот и скорбей, обретут вечное блаженство. Он напомнил им о Вече́ре, которая состоялась при жизни многих из них, когда Создатель и Завершитель их веры объявил своим ученикам, что отныне Он будет пить с ними вино только в своём Царстве. Таково и их пиршество в эту ночь. «Возблагодарим же Господа, — провозгласил он. — Вознесём к Нему молитвы, дабы даровал Он нам силы не дрогнуть в час испытания». Далее он сказал, что клыки свирепых зверей, крики ещё более свирепых зрителей, предсмертная агония трепещущей плоти, ужас смерти — всё это в конце концов не самое страшное. Многие падут, раненых добьют копья солдат; тех же, кому суждено уцелеть, освободят по велению цезаря, и они смогут продолжать их дело, пока не придёт их очередь передать факел духовного спасения в другие руки. «Возрадуемся же, возблагодарим Господа нашего и пойдём на это жертвоприношение, как на свадебный пир!» — призвал он и громко вопросил: «Радуетесь ли вы, братья?» — «Радуемся!» — в один голос отвечали все, даже дети.
Они снова помолились, и снова, воздев руки, старый епископ благословил их во имя Святой Троицы.
Едва это служение, столь же торжественное, сколь и простое, завершилось, как появился старший тюремщик; кощунственно-весёлое выражение его лица после обличительных слов Анны сменилось угрюмым и злобным; он приказал, чтобы все узники шли в амфитеатр. Попарно, во главе с епископом и святой пророчицей Анной, они направились к воротам. Здесь их ожидали солдаты; они повели их по узким, тёмным улочкам к тому входу в амфитеатр, которым пользовались участники игр. По слову епископа они затянули торжественный гимн и пели его всё время, пока солдаты гнали их вдоль проходов к отведённому для них месту. Это была не тюрьма в задней части амфитеатра, как они предполагали, а место между окружающим арену высоким барьером и подиумом, чуть выше арены. Здесь с восточной стороны им предстояло ждать, пока стражники выгонят их через небольшую дверь на арену, куда затем выпустят голодных зверей.
Оставался всего час до восхода солнца, луна уже закатилась, обширный амфитеатр тонул во мраке, лишь кое-где мелькали факелы да по обеим сторонам роскошного, но всё ещё пустующего трона Агриппы горели большие светильники. Этот мрак, видимо, угнетал собравшихся: никто из них не пел, не кричал и даже громко не разговаривал. Обращались друг к другу они приглушёнными голосами; создавалось странное впечатление, будто весь воздух заполнен таинственными перешёптываниями. Появись группа обречённых христиан при свете дня, их, конечно же, встретили бы улюлюканием, насмешливыми возгласами, вроде «Эй вы, собачье отродье!», их призвали бы свершить чудо и восстать из львиного брюха. Но сейчас в ответ на их торжественное песнопение раздался лишь смутный гул; немного погодя можно было отчётливо расслышать: «Христиане! Обречённые на смерть христиане!»
При свете единственного факела группа христиан расселась но местам. Затем они снова запели, и в этот очистительный час публика слушала их внимательно, почти с уважением. После того как были допеты последние слова гимна, епископ встал и в порыве вдохновения обратился к толпе, которой он не мог видеть, как и она его. И странно — толпа слушала его: может быть, только для того, чтобы скоротать томительное время ожидания.
— Братия, — начал он своим негромким, но западающим в душу голосом, — правители, знатные господа и простолюдины, римляне, евреи, сирийцы, греки, граждане Идумеи
[25], Египта и всех других стран, здесь собравшиеся. Внемлите гласу старого человека, с радостью идущего на смерть. Я поведаю вам, если желаете, о Том, Кого распяли при Понтии Пилате; вы ничего не потеряете, если выслушаете правду.
— Молчать! — прогремел голос ренегата-тюремщика. — Не смей проповедовать свою проклятую религию.
— Отвяжись от него, — вступилась за проповедника публика. — Мы хотим его послушать. Ещё раз говорим тебе — отвяжись от него!
Поощрённый этой неожиданной поддержкой, старый епископ заговорил с таким простым, но трогательным красноречием, с такой глубокой мудростью, что никто не перебивал его целую четверть часа.
Затем какой-то дальний слушатель выкрикнул:
— Эти люди лучше нас — почему они осуждены на смерть?
— Друг, — ответил епископ своим звучным голосом, который в этой тяжёлой тишине достиг самых отдалённых рядов амфитеатра, — мы осуждены на смерть волей императора Агриппы, в чьи руки Богу угодно было предать нашу судьбу. Скорбите не о нас, обречённых на жестокую смерть, скорбите о царе Агриппе, с которого Господь взыщет за пролитую им кровь, скорбите, скорбите о себе, люди. Кто ведает, может быть, смерть ещё ближе к некоторым из вас, чем к нам; каково же будет ваше пробуждение, если ваша душа обременена тяжкими грехами? Что, если Господь обрушит свой меч на властителя, восседающего на этом троне? Что, если Глас Божий призовёт его к ответу? Рано ли, поздно, он призовёт и его и вас; кое-кто из вас умрёт естественной смертью, от старости, другие умрут от меча, мора или голода — им предстоит пройти ужасный, мучительный путь. Бедствия, предречённые Тем, Кого вы распяли, уже ломятся в вашу дверь; всего несколько лет, и из тысяч людей, здесь собравшихся, не останется в живых ни единого. От вас не сохранится ничего, кроме плодов ваших дел, плодов ваших дел — и только. Покайтесь же, покайтесь же, пока ещё есть время, ибо я, кого вы осудили на смерть, возглашаю, что близится ваш Судный день. Даже сейчас, сей миг над вами незримо реет Ангел Господень и заносит имена ваши в свою скрижаль. А теперь, в оставшееся время, я помолюсь за вас и царя вашего. Прощайте!
Столь велика была сила его проповеди, глубоко затронувшей воображение этой незнакомой публики в утомлённой темноте, что с каким-то странным, похожим на шелест листвы звуком тысячи лиц обратились вверх, как будто ожидали увидеть там грозного посланца Божия.
— Смотрите, смотрите! — пронзительно закричали сотни голосов, едва различимые во мгле руки протянулись, показывая на нечто, бесшумно реющее на фоне сумеречного предрассветного неба. Нечто исчезло, затем опять появилось, снизилось над троном Агриппы и окончательно скрылось.
— Это и был Ангел, о котором говорил этот колдун, — крикнул кто-то, и все громко застонали.
— Глупец, — возразил другой, — это была только птица.
— Ради блага Агриппы, — прокричал третий голос, — будем надеяться, что это не сова.
Кое-кто посмеялся, но большинство безмолвствовали. Они знали историю о сове и царе Агриппе, которому было предсказано, что некий дух в обличии совы явится ему в час смерти, как явился некогда в час триумфа
[26].
И тут из дворца в северной части города донеслось громкое пение труб. С вершины большой восточной башни глашатай объявил, что над горами уже светает и царь Агриппа со всей своей свитой выехал из дворцовых ворот; естественно, что проповедь старого христианина и его пророчество о грядущем возмездии были тотчас же забыты. Неистово ликующие звуки труб всё приближались и приближались; и вот уже отворены большие бронзовые ворота Триумфального Входа и в серых утренних сумерках появляются легионеры, а за ними, в необычайно пышном облачении — сам Агриппа. По правую руку от него — Вибий Марс
[27], римский наместник Сирии, по левую руку — Антиох, царь Коммагенский
[28], позади — другие цари и царевичи и знатные вельможи из разных стран. Под громкие приветственные клики Агриппа воссел на свой раззолоченный трон; все остальные разместились по бокам от него и сзади в соответствии со своим саном.
Опять грянули трубы, и на арене, готовясь, может быть, в последний раз в жизни пройти парадным маршем мимо своего господина и повелителя, выстраиваются гладиаторы, вооружённые разнообразным оружием, во главе с эквитами
[29], сражающимися на конях, всего и тех и других около пятисот человек. Чтобы христианские мученики тоже приняли участие в этом действе, их выводят попарно, дабы их казалось побольше, через дверь в подиуме.
Начинается марш. Отряд за отрядом, в сверкающих доспехах, каждый со своим излюбленным оружием, гладиаторы останавливаются перед троном Агриппы и выкрикивают традиционные слова: «Идущие на смерть приветствуют тебя, царь!», за что вознаграждаются монаршей улыбкой и одобрительными криками. Замыкают шествие христиане — пёстрая, убогая на вид группа стариков, детей, испуганно цепляющихся за своих матерей, плохо одетых, со всклокоченными волосами женщин. Зрелище жалкое, и та самая толпа, которая несколько минут назад ловила каждое слово епископа, сейчас, глядя, как они ковыляют по арене в ясных лучах рассвета, разражается громким смехом.
— Дайте им каждому по льву, пусть ведут их за собой, — закричали какие-то шутники.
Не обращая никакого внимания на насмешки и поддразнивания, они идут по белому, пока ещё не обагрённому кровью песку и останавливаются наконец перед троном.
— Приветствуйте царя! — заревела толпа. Епископ поднял руки, и воцарилось молчание. Затем негромким, уже хорошо знакомым всем голосом он произнёс:
— О, царь, мы, идущие на смерть, прощаем тебя. Да простит тебя и Всевышний!
Толпа перестала смеяться; Агриппа нетерпеливым жестом показал, чтобы христиане проходили. Они повиновались, но старая, усталая и хромая Анна не могла поспеть за остальными и только-только подсеменила к тому месту, откуда приветствовали царя, и остановилась.
— Проходи! — закричали стражники, но она не двинулась с места; молча стояла, опираясь на свою клюку, и пристально глядела в лицо царю Агриппе. Какая-то неведомая сила, казалось, приковывала к ней и его взгляд. Агриппа побледнел. С трудом выпрямившись, Анна подняла клюку и показала ею на золотой балдахин над головой Ирода. Все посмотрели туда же, но ничего не увидели: балдахин был всё ещё в тени велария
[30], который осенял сидящих зрителей, оставляя открытым пространство над ареной. Но Агриппа, видимо, что-то заметил. Он уже поднялся, чтобы объявить об открытии игр, но вдруг опустился на трон и глубоко задумался. Тем временем Анна, хромая, пошла вперёд, чтобы присоединиться к группе христиан, которых повели обратно через дверь в высоком барьере.
С видимым усилием Агриппа поднялся вторично. Как раз в этот момент его высветили первые низкие лучи восходящего светила. То был высокий, благородной наружности человек в великолепном одеянии; тысячам людей, глядевших на него со своих затенённых мест, казалось, что он облачен в сверкающее серебро. Серебром отливала его корона, серебром отливал его камзол, серебром отливала широкая мантия, ниспадавшая с плеч.
— Во имя цезаря, во славу цезаря, объявляю игры открытыми! — провозгласил он.
Все, кто там был, в едином порыве вскочили и закричали:
— Это Божий глас! Глас Божий! Глас бога Агриппы!
Агриппа в безмолвном упоении слушал восторженные крики двадцати тысяч людей. Он всё ещё стоял во всём своём великолепии, озарённый лучами только что народившегося солнца, а толпа славила его имя, божественное, как она была убеждена, имя. Он жадно вдыхал фимиам всеобщего восторга; его глаза сверкали, он медленно махал руками, как бы благословляя своих почитателей. Возможно, как раз в этот миг он вспоминал удивительное событие, вознёсшее его, нищего, всеми презираемого изгоя, на головокружительную вершину славы. Возможно, он и впрямь уверовал в свою божественность, которая только и могла возвысить его над всеми остальными людьми. Как бы там ни было, он молча принимал славословия толпы, изъявлявшей ему своё поклонение, как евреи поклоняются Яхве и христиане — Иисусу.
И вот тогда-то его и поразил Ангел Господень! Нестерпимая боль пронзила всё его нутро, сразу же напомнив Ироду о том, что он всего лишь бренный человек, и возвестив ему о близости смерти.
— Увы, — воскликнул он, — я не бог, а только человек, подвластный воле судьбы.
С его балдахина вдруг поднялась большая белая сова и взмыла в открытое небо над ареной.
— Смотрите, смотрите, люди мои, — продолжал он, — тот самый дух, который принёс мне великую удачу, покидает меня, и я умираю, люди мои, умираю.
И он, которому только что поклонялись как божеству, бессильно рухнул на трон и, корчась от нестерпимых мук, зарыдал. Да, Ирод зарыдал.
Подбежавшие слуги подхватили его на руки.
— Отнесите меня домой, чтобы я мог спокойно умереть, — простонал он.
И глашатай возгласил:
— Царя внезапно постиг тяжёлый недуг, игры отменяются. Расходитесь все по домам.
Некоторое время объятая ужасом толпа безмолвствовала. Затем послышались отдельные возгласы, которые мало-помалу слились в один общий крик:
— Христиане, христиане! Это они напророчили беду! Это они околдовали царя! Они колдуны! Убейте их, убейте их, убейте их!
Сотни и тысячи людей волнами хлынули со всех сторон к тому месту, где сидели христианские мученики. Но барьер и парапет отделяли их высокой стеной. Отшвырнув стражников, люди бросились вперёд, но их поток разбился об эту стену, как о скалу. Те, кто был впереди, завопили, задние продолжали напирать. Несколько человек упали, их тут же затоптали; остальные полезли по их телам, чтобы разделить участь уже погибших.
— Пришла наша смерть! — воскликнул один из назареян.
— Наоборот, мы спасены! — возразила Нехушта. — Следуйте за мной все, я знаю дорогу. — И, схватив за руку Рахиль, она потащила её к небольшой двери. Дверь оказалась незапертой, охранял её лишь один стражник — ренегат Руфус.
— Назад! — закричал он, поднимая копьё.
Ничего не ответив, Нехушта выхватила кинжал, бросилась ничком на пол, змеёй быстро подползла к тюремщику и, вскочив, по самую рукоять погрузила кинжал ему в грудь. Руфус повалился вперёд, умоляя о помощи и милосердии, и там же, в узком коридоре, испустил дух. Дальше лежал широкий проход вомитория
[31]. Пройдя вдоль него, христиане смешались с тысячами бегущих в панике людей. Кое-кто погиб, но многих — среди них Нехушту и Рахиль — подхватил и понёс многолюдный поток. Трижды они едва не упали, но каждый раз необычайная сила ливийки спасала её госпожу. Наконец они оказались на широкой террасе, обращённой в сторону моря.
— Куда теперь? — спросила Рахиль.
— Ещё не знаю, но оставаться здесь нельзя. Пошли быстрее.
— А что будет с остальными? — спросила Рахиль, оглядываясь на озверело толкающуюся, топочущую, вопящую толпу.
— Да спасёт их Господь. Мы ничем не можем им помочь, — сказала Нехушта.
— Оставь меня, — простонала её госпожа. — Спасайся сама, Ну, у меня больше нет сил. — И она упала на колени.
— Но у меня-то ещё достаточно сил, — пробормотала Нехушта, подхватила своими жилистыми руками обеспамятевшую госпожу и бросилась бежать по направлению к выходу, крича: «Дорогу, дорогу благородной римлянке, моей госпоже! Она в беспамятстве».
И все послушно расступались.
Глава III
ЗЕРНОВОЙ СКЛАД
Благополучно спустившись с внешних террас дворца, Нехушта свернула в боковую улочку и остановилась в тени стены, чтобы подумать, что делать дальше. Пока ещё они в безопасности, но даже если у госпожи и хватит сил, нечего и надеяться пронести её через многолюдный город — их сейчас же схватят. Вот уже несколько месяцев, как они пленницы, а у жителей Кесарии есть такой обычай: когда им нечего делать, они подходят к тюрьме и через решётки глазеют на узников, а иногда даже, с разрешения тюремщиков, заходят и внутрь; поэтому их с Рахилью знают в лицо многие. Нет никаких сомнений, что как только уляжется переполох, вызванный внезапным недугом царя, на поиски беглых пленников немедленно разошлют солдат. И с особенным тщанием будут искать её, Нехушту, и её госпожу, ибо непременно дознаются, что одна из них убила старшего тюремщика; подобное преступление карается медленной, в мучительных пытках смертью. А спрятаться им негде, ведь все их друзья христиане изгнаны из города.
И всё же они должны найти себе укрытие, иного выхода нет.
Нехушта огляделась в поисках какого-нибудь убежища, и судьба ей благоволила. Ещё в те давнишние времена, когда Кесарию называли Башней Стратона, эта улица упиралась во внутреннюю крепостную стену, давно уже разобранную. В нескольких шагах от них находились древние ворота, в глубоком проёме которых ночевали иногда нищие. С другой стороны ворота были замурованы. Туда-то Нехушта и отнесла свою госпожу; к её радости, там не оказалось ни одной живой души, хотя по тлеющему кострищу и по надтреснутой амфоре с чистой водой можно было предположить, что это место используется как ночлежка. Было, однако, понятно, что оставаться здесь далеко не безопасно, к ночи могут вернуться постоянные здешние обитатели. Нехушта вновь осмотрелась. В толстой стене виднелся небольшой сводчатый проход, а в его конце — лестница. Положив Рахиль наземь, она с ловкостью кошки взбежала по этой лестнице; преодолев тридцать истёртых ступеней, она увидела перед собой старую массивную дверь и со вздохом разочарования хотела было вернуться, но, подумав, толкнула её. К её удивлению, дверь поддалась. Ещё толчок — и она распахнулась настежь. Внутри оказалось довольно большое помещение, освещённое амбразурами в толстой стене; некогда оно, видимо, служило для оборонительных целей, но теперь использовалось под черновой склад; в углу лежала большая, во много мер, куча ячменя, валялись кожаные мешки и другой скарб.
Нехушта внимательно осмотрела помещение. Убежище превосходное, с одним-единственным изъяном: в любое время сюда может заявиться торговец, хозяин склада. Ничего не поделаешь, придётся рискнуть. Она быстро сбежала по лестнице, с величайшим трудом втащила так и не пришедшую в себя госпожу в склад и положила её на груду мешков.
Пораздумав, она спустилась ещё раз — за амфорой с чистой водой. Затем закрыла дверь, подперев её валявшимся там брусом, и принялась растирать руки своей госпожи и сбрызгивать её лицо водой из кувшина. Чуть погодя Рахиль открыла тёмные глаза и присела.
— Всё уже кончено, мы в раю? — прошептала она.
— Я бы так не сказала, госпожа, — сухо ответила Нехушта, — хотя, после того как мы побывали в аду, это место и впрямь может сойти за рай. На, попей. — И она поднесла кувшин к губам госпожи.
Рахиль охотно повиновалась.
— Какая вкусная вода! — сказала она. — Но как мы здесь очутились? Последнее, что я помню, — бегущую толпу.
Прежде чем ответить, Нехушта прошептала: «После госпожи и служанка», — и припала к кувшину, ибо она тоже умирала от жажды. Затем рассказала обо всём происшедшем.
— О, Ну! — воскликнула Рахиль. — Какая же ты сильная и смелая! Тебе я обязана спасением жизни.
— Нет, госпожа, спасением жизни ты обязана только Богу, который направлял мой кинжал.
— Ты убила этого человека?
— Но ведь Анна предсказала, что он умрёт от удара кинжалом, — уклончиво ответила Нехушта. — Да, кстати, надо вытереть лезвие, следы крови — неопровержимая улика. — Вытащив кинжал, она присыпала его пылью, зачерпнутой из бойницы, а затем куском кожи натёрла до блеска.
Едва Нехушта успела покончить с этим делом, как её чуткий слух уловил какой-то шум.
— Молчи, госпожа, — шепнула она и припала ухом к трещине в цементном полу. Прислушавшись, она поняла, что внизу стоят трое солдат, разыскивающие её и госпожу.
— Старик клялся, что видел, как ливийка несла свою хозяйку по этой улице, — сказал один, судя по повелительному тону, старший, — среди всего этого сброда была только одна черномазая баба; если их здесь нет, я просто ума не приложу, где их искать.
— Но ты же сам видишь, — пробурчал один из подчинённых, — здесь нет ни души. Пошли дальше. Сейчас по всему городу начнётся такая потеха! Жаль её пропустить.
— Так это черномазая прирезала нашего приятеля Руфуса? — спросил третий голос.
— Говорят, она. Но его так растоптали, что пришлось собирать тело по кускам. Теперь и не узнаешь, что там было на самом деле. Во всяком случае, другие тюремщики ищут эту черномазую, и, если она попадётся им в лапы, я ей не завидую. Так же, как и её госпоже. У них есть позволение на любые пытки.
— Пошли же, — сказал первый солдат, очевидно, куда-то торопившийся.
— Погодите, — воскликнул второй, самый из них приметливый. — Вон лестница, надо поглядеть, куда она ведёт.
— Пустое дело, — ответил старший. — Там, наверху, склад этого старого вора, торговца зерном Амрама, а он не из тех, кто оставляет двери незапертыми. А всё же сходи посмотри.
Женщины услышали шаги на лестнице, кто-то торкнулся в дверь с другой стороны. Рахиль закрыла глаза и принялась молиться; Нехушта вытащила кинжал, подползла как тигрица ближе к двери и придержала левой рукой упорный брус. И как раз вовремя, ибо солдат изо всех сил налёг на дверь, — и на цементном полу брус мог легко соскользнуть. Убедившись, что дверь заперта, солдат сбежал вниз по лестнице.
Со вздохом облегчения Нехушта вновь приложила ухо к трещине в полу.
— На замке, — доложил солдат. — Может быть, взять ключ у Амрама?
— Друг, — сказал старший, — уж не втюрился ли ты в эту черномазую? Или в её госпожу? Я порекомендую тебя на должность ловца христиан в нашей когорте. Давай-ка осмотрим вон тот дом на углу, и, если их там нет, я отправляюсь во дворец, чтобы узнать, как чувствует себя его божественное величество и не побудила ли его эта нежданная болезнь выплатить нам задержанное жалованье. Если нет, говорю тебе прямо: я намерен поживиться любой, какая ни попадётся, добычей, как и все наши ребята, которые просто вне себя из-за отмены этих игр.
— И всё же надо было бы взять ключ у Амрама и осмотреть его склад, — не унимался второй солдат.
— Тогда отправляйся к Амраму или ещё лучше к Плутону
[32] и возьми у него ключи к подземному царству; а мне на всё это начхать, — сердито выпалил старший. — Этот твой Лмрам живёт в другом конце города.
— Конечно, мне не хотелось бы туда тащиться, — продолжал упорствовать добросовестный солдат, — но ведь мы ищем беглых христианок, и, с твоего позволения, я хотел бы взять ключ у Амрама.
Но тут его начальник, и без того изрядно раздражённый долгим ночным дежурством и утренними событиями, не выдержал и пошёл прочь, кляня на чём свет стоит всех христиан, и беглых, и пойманных, Амрама и его ключ, своего упрямого подчинённого и даже царя Агриппу, повинного в невыплате жалованья, а заодно и всех богов и демонов всех известных ему религий.
Нехушта подняла голову:
— Слава Богу, ушли.
— Но не вернутся ли они, Ну? Я так боюсь.
— Думаю, нет, не вернутся. Этот зануда с его острым ножом так разозлил своего начальника, что тот сразу ушлёт его с каким-нибудь поручением, лишь бы он не ходил за ключом. Но вот как бы не пожаловал сам Амрам: в эти праздничные дни он наверняка продаст зерно городским пекарям.
Не успела она договорить, как в замочной скважине забренчал ключ, дверь сильно толкнули, брус соскользнул и повалился. Заскрипели петли, и внутрь собственной персоной пожаловал торговец зерном и тотчас же запер за собой дверь.
Амрам оказался пожилым, с проницательным лидом финикийцем; как и многие его современники-финикийцы, он был преуспевающим торговцем, причём торговля зерном составляла лишь часть его занятий. Одет он был в неяркую, спокойного цвета одежду и шапку и, по всей видимости, не имел при себе никакого оружия.
Заперев за собой дверь, он подошёл к небольшому столику, под которым стоял ящик с табличками, куда он заносил сведения о количестве закупленного и проданного зерна, — и только тогда увидел Нехушту. Она тут же скользнула между ним и дверью.
— Кто ты такая, отвечай во имя Молоха, — удивлённо произнёс он, отступая назад и замечая ещё и сидящую на мешках Рахиль. — А ты кто такая? — добавил он. — Духи вы, воровки или просто женщины, ищущие убежища? А может быть, вы те две христианки, которых солдаты искали в соседнем доме?
— Да, мы — христианки, — ответила Рахиль. — Мы бежали из амфитеатра и укрылись здесь. Они едва не нашли нас.
— Вот что случается, — торжественно изрёк Амрам, — когда забывают запереть дверь. Не поймите меня превратно, вина не моя. Виноват мой приказчик, которому мне придётся выложить, что я по этому поводу думаю. Пожалуй, я скажу это прямо сейчас... — И он шагнул к двери.
— Нет, ты этого не сделаешь, — перебила его Нехушта.
— И как же ты мне помешаешь, милейшая ливийка?
— Распорю тебе ножом глотку — точно так же, как несколько часов назад я отправила в преисподнюю этого предателя Руфуса.
Подумав, Амрам сказал:
— А если и у меня есть кинжал?
— Вытащи его — и мы посмотрим, кто возьмёт верх, мужчина или женщина. Твоё оружие, торговец, — перо. А я, ты знаешь, ливийская аравитянка, со мной тебе не справиться.
— Пожалуй, ты права, — ответил Амрам. — Вы там все головорезы в пустыне, народ отчаянный. К тому же ты угадала, я не вооружён. Что же ты предлагаешь?
— Я предлагаю, чтобы ты помог нам бежать из Кесарии, или, может быть, ты предпочитаешь, чтобы мы все умерли здесь, у тебя на складе, ибо, клянусь богом, которого ты почитаешь, финикиец, прежде чем кто-нибудь хоть пальцем притронется к моей госпоже или ко мне, этот нож будет торчать в твоём сердце. Признаться, я не очень-то люблю твоих соотчичей, которые купили меня, дочь вождя, как простую рабыню; я буду только рада посчитаться с одним из вас. Ты меня понимаешь?
— Вполне. Но зачем так распаляться? Вопрос деловой, и решать его надо по-деловому. Ты хочешь покинуть Кесарию, я хочу, чтобы вы покинули мой склад. Позволь же мне выйти, и я всё улажу.
— Нет, это слишком рискованно, — сказала Нехушта. — Если ты и выйдешь, то только вместе с нами... Но к чему терять время на болтовню? Госпожа — единственная дочь Бенони, крупного тирского торговца. Ты, конечно, его знаешь?
— К сожалению, да, — ответил Амрам. — Трижды я имел с ним дело, и трижды он облапошивал меня.
— Стало быть, ты знаешь, что он богат и щедро вознаградит того, кто вызволит его дочь из большой опасности?
— Может быть, и да, не уверен.
— А я уверена, — ответила Нехушта. — За твою помощь госпожа даст тебе письменное обязательство на любую, в пределах разумного, сумму.
— Да, но оплатит ли он это обязательство? Бенони — человек очень строгих взглядов, истинный еврей, христиан он не любит.
— Я думаю, он оплатит обязательство, надеюсь, оплатит, но тебе придётся пойти на риск. Послушай, торговец, лучше ненадёжное обязательство, чем распоротое горло.
— Согласен. Довод очень убедительный. Но ведь вы хотите бежать. А как я устрою ваш побег, если вы меня не выпустите отсюда?
— Это уж ты сам решай. Но если ты и выйдешь отсюда, то только вместе с нами, и при первых же признаках опасности я всажу тебе нож между лопаток. Но помни, что моя госпожа готова подписать обязательство на любую умеренную сумму.
— В этом нет нужды. При подобных обстоятельствах я предпочитаю положиться на щедрость торговца Бенони. И уверяю, я не имею ничего против вас, как и против христиан вообще, ибо все мои знакомые христиане — люди честные и полностью выплачивают свои долги. Я совсем не хочу, чтобы тебя и твою госпожу пожрали львы или чтобы вас предали пыткам. Я был бы только рад, если бы вы дожили до глубокой старости, следуя предписаниям вашей своеобразной религии, но не в моём складе. Вопрос только в том, как вам помочь? Я не вижу никакой возможности.
— Вопрос в том, останешься ли ты в живых в ближайшие двенадцать часов, — мрачно буркнула Нехушта. — Поэтому советую тебе найти такую возможность. — И чтобы подчеркнуть свою решимость, она подошла к двери, проверила, надёжно ли она заперта, вынула ключ и спрятала его за пазуху.
Амрам глядел на неё с нескрываемым восхищением.
— Ах, если бы я был холостяком, — сказал он. — К сожалению, я женат. — И он вздохнул. — Не то бы, честное слово, сразу же сделал бы тебе предложение. Как тебя зовут?
— Нехушта!
— Нехушта? Вполне подходящее имя. Но, повторяю, к сожалению, это невозможно.
— Совершенно невозможно.
— Тогда у меня к вам другое предложение. Сегодня ночью один из моих кораблей отплывает в Тир. Не согласитесь ли вы осчастливить меня своим присутствием на нём?
— С удовольствием, — сказала Нехушта, — но только в твоём обществе.
— Но я отнюдь не собирался отправляться в Тир на этом корабле.
— Ты можешь переменить решение. Послушай, мы в безвыходном положении, наша жизнь в опасности. И твоя тоже в опасности; клянусь тебе именем Господа, которого мы почитаем, если с моей госпожой случится какая-нибудь беда, ты умрёшь. И на что будут тебе твои богатства в могиле? Мы просим тебя о такой, в сущности, безделице — помоги двум ни в чём не повинным женщинам бежать из этого проклятого города. Неужели ты откажешь? Или мне придётся вонзить этот нож тебе в глотку? Отвечай же, и не тяни, не то я убью тебя и зарою твоё тело в твоём собственном зерне.
Даже в тусклом свете заметно было, как побледнел Амрам.
— Хорошо, я принимаю твои условия, — согласился он. — Вечером я отведу вас на корабль, который отплывает через два часа после заката, со свежим ветром.
Я провожу вас до Тира и передам госпожу её отцу в надежде, что он проявит подобающую щедрость. Но здесь очень душно. Вот эта лестница ведёт на плоскую крышу, обнесённую высоким парапетом. Никто там не увидит нас, даже если мы будем стоять. Может быть, поднимемся?
— Иди первым и не пробуй закричать: помни, мой кинжал наготове.
— Знаю, знаю, ты мне уже все уши прожужжала своими угрозами. Я дал слово, а я никогда не отказываюсь от заключённой сделки. Звёзды к вам благосклонны, и, что бы ни случилось, я покоряюсь их воле.
Они поднялись на крышу: Амрам впереди, следом — Нехушта, и позади всех Рахиль. Там был сооружён навес, которым в непогоду или зной пользовались когда-то часовые. Переход из душного, пропахшего дурно выделанными коками склада под прохладную тень навеса так благоприятно подействовал на Рахиль, смертельно утомлённую всем ею пережитым, что она тут же уснула и проспала до самого вечера. Нехушта, однако, не спала и вместе с Амрамом наблюдала за всем происходящим в городе. С высоты башни они видели большую дворцовую площадь, где разыгрывались странные сцены. Там собрались тысячи людей; большинство из них сидели на земле, одетые в дерюжину, и посыпали пылью свои головы и головы своих жён и детей. Даже на таком расстоянии до слуха Нехушты доносились неразборчивые, слитные звуки их общей молитвы.
— Они молятся за исцеление царя, — сказал Амрам.
— А я молюсь за его смерть, — сказала Нехушта.
Торговец пожал плечами.
— Мне безразлично, что с ним будет, лишь бы сохранился мир, благоприятствующий торговле. Правитель, однако, он неплохой, деньги тратит щедро, а для чего и нужны цари, как не для этого? Во всяком случае, в Иудее, где они подобны пёрышкам, летающим по воле цезаря, только его дуновение и поддерживает их на лету. В тот миг, как он перестаёт дуть, они падают. Но смотри.
На ступенях дворца появился человек. Он сообщил толпе какое-то известие. Ответил ему громкий, возносящийся до самых небес общий плач.
— Твоё благопожелание исполнилось, — сказал Амрам. — Ирод уже умер или умирает, а так как его сын — всего ещё дитя малое, нами будет править какой-нибудь проклятый римский прокуратор — вор с карманом как дырявый мешок. Этот ваш старый епископ, который сегодня утром молился в амфитеатре, должно быть, предугадывал, что случится, или он просто увидел сову и истолковал это знамение. Старик, между прочим, сказал, что бедствия угрожают не только Ироду, но и многим другим.
— А что стало с епископом и остальными нашими братьями? — осведомилась Нехушта.
— Кое-кого затоптали насмерть, кое-кого обвинили в том, будто они околдовали царя, и забросали камнями. Люди разочарованы отменой игр, вот и выместили свою злобу на христианах. Кое-кто всё же ускользнул и прячется сейчас где-нибудь, как и вы.
Нехушта взглянула на свою бледную госпожу: она всё ещё крепко спала, подложив руку под голову.
— Этот мир жесток к нам, христианам, — сказала она.
— Этот мир жесток ко всем, милейшая ливийка; расскажи я тебе о своей жизни, даже ты не стала бы оспаривать эти мои слова. — И он вздохнул. — Вы, христиане, хоть верите в загробную жизнь, — продолжал он, — смерть для вас — только мост, ведущий в град вечного блаженства; возможно, так оно и есть... Твоя госпожа, я вижу, совсем слабенькая.
Нехушта кивнула:
— Сильной она никогда не была, а тут ещё на неё навалилось такое горе. Её мужа убили в Берите; к тому же она вот-вот должна разрешиться от бремени.
— Да, да, я слышал о её горе, как и о том, что его погубил её собственный отец — Бенони. Фанатики — люди безжалостные. Даже мы, финикийцы, которых в чём только не обвиняют, не такие жестокие. Когда-то у меня была дочь... — На какое-то мгновение его суровые черты смягчились. — Но об этом лучше не вспоминать... Послушай, риск очень велик, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы спасти и её и тебя, милейшая ливийка, ибо твоя преданность тронула моё сердце. Не сомневайся во мне, я дал слово, и, если я его нарушу, пусть меня растерзают псы. Корабль у меня небольшой, без кают, но сегодня вечером в Александрию отплывает большая галера, она зайдёт в Аполлонию
[33] и в Иоппию
[34], я скажу, что госпожа — моя родственница, а ты её рабыня, и отправлю вас на ней. И вот вам мой совет: плывите прямо в Египет, где сейчас много христиан, там у вас будет надёжная защита. Оттуда твоя госпожа может написать своему отцу, может быть, он согласится вас приютить. В любом случае она будет там в безопасности, ибо власть Ирода не распространяется на Александрию.
— Совет как будто бы и недурной, — сказала Нехушта. — Но не знаю, согласится ли она вернуться к своему отцу.
— Должна согласиться: другого выхода у неё просто нет. А теперь отпусти меня. К вечеру я возвращусь с едой и одеждой и отведу вас на корабль.
Нехушта заколебалась.
— Не бойся же. Доверься мне.
— Ладно, — сказала Нехушта, — у меня всё равно нет выхода. Ты уж прости, если моё недоверие оскорбляет тебя, но мы ведь в большой опасности, и согласись, что странно найти друга в человеке, которому я угрожала кинжалом.
— Понимаю, — спокойно ответил Амрам. — Но я докажу тебе, что на меня можно положиться. А теперь отопри дверь. Когда я возвращусь, я буду стоять внизу вместе со своим рабом, делая вид, будто связываю случайно упавший тюк. Как только увидишь меня, сойди и впусти без всякого страха.
После ухода финикийца Нехушта села возле спящей госпожи и стала ждать с тревожно бьющимся сердцем. Разумно ли она поступила? Что, если Амрам предаст их и пришлёт за ними солдат, которые отведут их не на корабль, а в пыточный застенок? Что ж, что бы ни стряслось, у неё будет время убить и госпожу и себя, чтобы спастись от людской жестокости. А пока остаётся только молиться — и она обратила к Небесам неистовую, полудикую молитву, — не за себя, конечно, а за любимую госпожу и её будущего ребёнка. Тут она с благодарностью вспомнила предсказание Анны: дитя родится и проживёт долгую жизнь. Вспомнила она и другое предсказание — о скорой смерти матери — и горько заплакала.
Глава IV
СМЕРТЬ МАТЕРИ
Время тянулось медленно, но никто не тревожил их покоя. Часа в три дня Рахиль проснулась, отдохнувшая, но голодная; Нехушта же не могла предложить ей ничего, кроме зерна, от которого та отвернулась. В нескольких словах она поведала госпоже обо всём случившемся и спросила, что она думает по поводу придуманного Амрамом плана.
— План вроде бы неплохой, не хуже других, — ответила Рахиль с тихим вздохом. — Благодарю тебя, Ну, и финикийца, если он сдержит слово. Но я не хочу видеться с отцом, во всяком случае, в ближайшие годы. Ведь это он виновник моего горя.
— Не продолжай, — поспешно перебила её Нехушта, и долгое время они сидели молча.
За час перед закатом Нехушта увидела наконец внизу Амрама и раба с тюком на голове. Верёвка, которой был перевязан тюк, как будто бы ослабла: по приказу хозяина раб положил свою ношу на землю, и они стали вдвоём её перевязывать; покончив с этим делом, они медленно пошли к сводчатому проходу. Нехушта спустилась, отперла дверь и впустила Амрама с тюком.
— А где раб? — спросила она.
— Не бойся, милейшая, он человек надёжный и караулит снаружи, хотя и ничего не знает. Вы, верно, обе проголодались, а у меня тут полно еды. Помоги мне развязать верёвку.
Через несколько минут на свет Божий появились две бутыли старого вина, вкусная еда, какой Нехушта не пробовала уже несколько месяцев, роскошный плащ и другие одежды финикийского покроя, а также белая накидка с двойной каймой — такие носили в те времена служанки богатых финикиянок. Затем Амрам достал из-за пазухи кошель с золотыми монетами — денег должно было хватить им на много недель. 11ехушта поблагодарила его глазами, но, прежде чем она успела выразить свою благодарность вслух, он заговорил:
— Молчи! Я сдержал слово, вот и всё. Эти деньги я даю под процент; госпожа сможет Их вернуть в более спокойные времена. А теперь слушай! Я оплатил ваш проезд и за час до захода солнца отведу вас на галеру. Предупреждаю только, чтобы вы никому не говорили, кто вы такие; моряки считают, что присутствие христиан на борту — к беде. Помоги мне донести еду и вино. Когда поедите, переоденьтесь.
Они поднялись на крышу.
— Госпожа, — сказала Нехушта, — я не ошиблась в этом человеке. Он вернулся, и посмотри, что он нам принёс.
— Да благословит вас Бог, господин, за то, что вы помогли нам, беспомощным, — воскликнула Рахиль, не сводя голодных глаз с соблазнительных яств.
— Пейте, — весело сказал Амрам, наполняя чаши вином и водой, — эта влага взбодрит вас; ведь ваша вера не запрещает пить вино, я даже слышал, что вас называют «общиной бражников».
— Это не единственный возводимый на нас поклёп, — сказала Рахиль, принимая протянутую ей чашу.
Напившись и наевшись, обе женщины сошли в склад, помылись остатками воды и облачились с головы до ног в прекрасные, как будто пошитые для них на заказ благоухающие одежды — так удачно подобрал их размер Амрам.
Пока они одевались, уже начало вечереть. Дождавшись темноты, они тихо выскользнули на улицу, где их ожидал раб — дюжий, хорошо вооружённый малый, и впервые за долгое время страх в их сердце уступил место надежде.
— А теперь в гавань, — сказал Амрам, и они пошли, выбирая самые уединённые улочки — осторожность отнюдь не излишняя, ибо, узнав, что Агриппа поражён смертельным недугом, солдаты вышли из повиновения; в изрядном подпитии они разгуливали по рыночным площадям и большим улицам с криками и похабными песнями, врывались в винные лавки и частные дома и пили в честь Харона
[35], который скоро повезёт их царя на своей зловещей лодке. Но они ещё не принимались убивать тех, на кого у них был зуб. Убийства начались позднее, но это уже не имеет отношения к нашему повествованию.
Без всяких помех или происшествий все четверо достигли пристани, где их уже ожидала лодка с двумя финикийцами. За исключением раба, они все сели в неё, и их повезли к большой галере, стоявшей на рейде в полумиле от берега. Добрались они до неё без всякого труда, ибо ночь была спокойная, хотя и очень душная, а над горизонтом уже висели рваные облака, провозвестники сильного, может быть, даже ураганного ветра.
На нижней палубе галеры их с кислой физиономией поджидал капитан, которому Амрам и представил своих спутниц под видом родственниц, направляющихся в Александрию.
— Хорошо, — сказал капитан, — проведите их в каюту; как только поднимется ветер, мы отплываем.
Каюта оказалась очень удобной, там было всё для них необходимое, но, когда они шли туда, Нехушта услышала, как один матрос с фонарём в руке сказал другому:
— Эта женщина очень похожа на ту, что я видел в амфитеатре сегодня утром, когда христиане приветствовали царя Агриппу.
— Да упасут нас от них боги! — ответил другой. — Эти христиане приносят несчастье.
— Христиане они или нет, но по всем приметам будет буря, — пробормотал первый.
В каюте Амрам простился с обеими женщинами.
— Странное это приключение, — сказал он, — странное и для меня очень неожиданное. Надеюсь, оно окончится благополучно для всех нас. В любом случае, я сделал всё, что мог для вашей безопасности; настало время расставаться.
— Вы очень хороший человек, — ответила Рахиль, — и что бы нас ни ожидало впереди, я вновь молю Господа, чтобы
Он благословил вас за доброту к
Его слугам. И ещё я молю
Его, чтобы
Он указал вам путь к постижению провозглашённой
Им Истины, дабы душа ваша обрела спасение и жизнь вечную.
— Госпожа, — сказал Амрам, — я ничего не знаю о вашем вероучении, но обещаю с ним ознакомиться, может быть, я уверую в его истинность. Как и все мои соотчичи, я люблю богатство, но я не из тех, кто живёт одним днём и гонится только за деньгами. Госпожа, я разыскиваю тех, кого некогда потерял.
— Ищите и обрящете.
— Да, я буду продолжать поиски, хотя, боюсь, они так и не увенчаются успехом.
И они расстались.
С суши повеял ночной бриз; матросы подняли большой парус, рабы взялись за вёсла; корабль вышел из гавани и взял курс на Иоппию. Но через два часа ветер прекратился; только с помощью весел корабль мог плыть по мёртвому, маслянистому на вид морю. Небо было затянуто свинцово-тяжёлыми тучами; капитан не мог ориентироваться по звёздам и решил отдать якорь, но глубина оказалась слишком большая, поэтому они медленно продолжали путь, пока за час до восхода внезапно налетевший шквал не накренил их корабль круто на борт.
— Северный ветер! Проклятый северный ветер! — закричал штурвальный; матросы откликнулись на его крик с мрачными минами: они хорошо знали, как опасен северный ветер у сирийского побережья. А ветер всё крепчал и крепчал. С наступлением рассвета волны вздымались, словно горы, ветер оглушительно завывал в снастях; и под небольшим парусом галера стремительно летела вперёд. Выйдя из каюты, при свете наступающего дня Нехушта увидела белые стены города на берегу.
— Это Аполлония? — спросила она капитана.
— Да, Аполлония, — ответил он, — но мы не сможем туда зайти. Остаётся только плыть на Александрию.
Они промчались мимо Аполлонии и поплыли дальше, взбираясь на склоны огромнейших волн.
Так было до самого полудня, когда ветер достиг ураганной силы, и, несмотря на все усилия матросов, галеру понесло к берегу, и вскоре впереди показалась полоса пенных бурунов. Рахиль укачало так сильно, что она не могла даже оторвать голову от подушки, но Нехушта всё же вышла на палубу, чтобы посмотреть, что происходит.
— Мы в опасности? — спросила она у матроса.
— Да, проклятая христианка, — буркнул он, — это всё из-за вас.
Нехушта вернулась в каюту, где её госпожа лежала почти без чувств. Среди матросов росли ужас и смятениие. Но они ещё продолжали борьбу, пока не сломалась мачта, а затем ещё и руль. Грести в такой шторм было невозможно, и галеру неудержимо понесло к берегу. Пала ночь, и как описать ужасные последующие часы? Управление кораблём было полностью потеряно, отныне он повиновался лишь волнам и ветру. Матросы и даже гребцы-рабы спустились в трюм, к большим кувшинам с вином и стали пить, пытаясь заглушить объявший их ужас. Некоторые из них, захмелев, дважды подходили к двери каюты и грозили вышвырнуть обеих пассажирок за борт. Но Нехушта, прочно забаррикадировавшись изнутри, кричала, что хорошо вооружена и прикончит всякого, кто посмеет вломиться в каюту. Они ушли, а затем перепились до бесчувствия и уже не представляли никакой опасности. Над грозно ревущим, пенящимся морем вновь занялась заря, и при её свете все увидели, какая страшная участь им угрожает. Менее чем в миле от них тянулась серая полоса берега. Но между берегом и кораблём таился опасный риф, вокруг которого бушевали волны. На этот-то риф их стремительно несло. Экипаж отрезвел от страха; все дружно принялись сооружать большой плот из весел и досок, а также готовить к спуску единственную лодку на галере. Но прежде чем они успели сделать и то, и другое, корабль врезался носом в риф, а затем взгромоздился на большую плоскую скалу, где и лежал, раскачиваясь под ударами кипящих волн. Боясь, что вот-вот судно будет вдребезги разнесено, экипаж спустил плот и лодку с подветренной стороны. Нехушта вышла из каюты и стала молить капитана, чтобы он взял с собой и их, но тот с грубым ругательством ответил, что они — причина всех обрушившихся на них несчастий, и если только она и её госпожа посмеют сунуться в шлюпку, их зарежут и выкинут в море, чтобы умилостивить злого Духа Бури.
Нехушта с трудом добралась до каюты и, встав около госпожи на коленях, со слезами сказала ей, что эти негодяи матросы оставили их одних на корабле, который вот-вот пойдёт ко дну, на что Рахиль ответила, что ей всё равно, единственное её желание — избавиться от страха и отчаяния.
В этот момент Нехушта услышала громкие крики, подползла к фальшборту и увидела леденящее душу зрелище. Лодка и плот, перегруженные дравшимися за места людьми, едва их спустили на воду, тут же оказались среди бурунов, подбрасывавших их, как ребёнок — мяч. На глазах у Нехушты и плот и шлюпка перевернулись, все люди очутились в воде, где разбились о скалы или потонули, ни один так и не спасся.
Как десятки тысяч других до них за долгие века, они все до одного погибли — таково было воздаяние за их бессердечие.
Возблагодарив Господа, спасшего их от неминуемой гибели, Нехушта вернулась в каюту и рассказала госпоже обо всём случившемся.
— Да простит их Всевышний, — вздрогнув, сказала Рахиль. — Что до нас, то мы всё равно потонем — в лодке ли, в галере, — какая разница?
— Не думаю, что мы потонем.
— Как же мы можем спастись, Ну? Корабль лежит на скале, и рано ли, поздно, море разнесёт его в щепы. Он же весь дрожит от ударов волн, а пена просто застилает над нами всё небо.
— Не знаю, как мы спасёмся, госпожа, знаю только, что мы не потонем.
Нехушта оказалась права. Спасение пришло неожиданно и вот каким образом: ветер стих, а затем вдруг налетел последний яростный шквал, гоня перед собой огромную водяную гору. Эта могучая волна подхватила галеру своими белыми руками и не только сняла её со скалы, но и перенесла через все рифы, выбросив на устланное песком и ракушками ложе, совсем близко от берега; там она и осталась.
Как будто осуществив свой тайный замысел, ветер окончательно стих, и, как обычно у сирийского побережья, море быстро успокоилось; к ночи оно уже было как зеркало. За три часа до заката, будь обе женщины крепки и здоровы, они могли бы вброд добраться до берега. Но судьба распорядилась иначе: случилось именно то, чего опасалась Нехушта, и именно тогда, когда она менее всего была к этому подготовлена, в полном изнеможении от всего перенесённого, у Рахили начались схватки, и ещё до полуночи на этом полуразбитом судне, возле пустынного, совершенно безлюдного, казалось бы, берега, у неё родилось дитя.
— Покажи ребёнка, — попросила Рахиль. И при свете горевшей в каюте лампады Нехушта показала ей новорождённого младенца.
То была крохотная девчушка, белокожая, голубоглазая, с тёмными вьющимися волосёнками. Долго и нежно смотрела на неё Рахиль. Затем сказала:
— Принеси мне воды, пока ещё не поздно.
Когда Нехушта выполнила её просьбу, она окунула дрожащую руку в воду, перекрестила лоб новорождённой и нарекла её Мириам, именем своей собственной матери, посвятив её тем самым служению Иисусу Христу.
— Ну а теперь, — сказала она, — проживёт ли моя дочурка час или сто лет, она христианка, и что бы ни ждало её в будущем, если она доживёт до сознательных лет, следи, Ну, — отныне ты в ответе за её тело и душу, — чтобы она не забыла предписаний и обрядов нашей веры. Передай ей завет её отца и мой собственный — пусть она выйдет замуж за христианина. Передай, что такова была последняя воля её родителей, и если она выполнит их завет, всю жизнь на ней будет их благословение, как и благословение Господа, служению которому она должна себя посвятить.
— О, — простонала Нехушта, — почему ты так говоришь?
— Потому что умираю. Не возражай. Я хорошо это знаю. Жизнь уходит из моего тела. Господь внял моим мольбам: я дожила до родов, а теперь отправляюсь туда, куда призывают меня мой супруг и Всевышний, под чьим покровом он обретается на небесах, как и мы здесь, на земле. Не сокрушайся, тут нет никакой твоей вины, ни один лекарь не смог бы меня спасти, ибо пережитые страдания истощили все мои силы, вот уже много месяцев, как я живу с разбитым сердцем. Дай мне немного вина — и слушай.
Нехушта молча повиновалась.
— Как только жизнь окончательно покинет меня, — продолжала Рахиль, — возьми мою дочурку и найди какую-нибудь деревню на берегу, где её могут выкормить, деньги у тебя есть. Когда она окрепнет, отвези её — не в Тир, ибо мой отец воспитает её по законам и обычаям своей религии, — а в деревню ессеев
[36] на берегу Мёртвого моря. Отыщи там брата моей матери Итиэля, он член их общины, покажи ему медальон с моим именем и датой моего рождения, всё ещё висящий у меня на шее, и поведай ему обо всём без утайки. Он не христианин, но человек добрый и честный, хорошо относится к христианам и огорчается, что их преследуют; он даже написал моему отцу письмо, осудив, как он с нами обошёлся, и, как ты знаешь, хотя и тщетно, старался вызволить нас из тюрьмы. Скажи ему, что я, его родственница, молю его от своего имени и от имени сестры, нежно им любимой, защитить моё дитя и тебя, не пытаться обратить её в свою веру и вести себя по отношению к ней так, как подсказывает ему его мудрость, — и его осенят мир и благодать. И ещё скажи ему, что он в ответе за вас перед самим Господом.
Примерно так, но короткими отрывистыми фразами говорила Рахиль. Затем она стала молиться и за молитвой незаметно задремала. Проснулась она уже на заре. Знаком показав Нехуште, чтобы она поднесла к ней новорождённую, ибо у неё уже не было сил говорить, она пристально осмотрела её при свете зари и, возложив руку на её головку, благословила её. Благословила она и Нехушту, поблагодарив её взглядом и поцелуем. Затем она как будто погрузилась в сон, но когда через несколько минут Нехушта посмотрела на госпожу, та была уже мертва.
Увидев это, Нехушта издала громкий, полный горького отчаяния крик, ибо после смерти её первой госпожи у неё не было никого дороже Рахили. Она нянчила её в младенчестве, в девичестве разделяла все её радости и печали, была ей верной служанкой и подругой в замужестве, а во вдовстве день и ночь старалась утешить её и защитить от многочисленных опасностей. И вот теперь ей суждено выслушать её последнее наставление и принять в свои руки новорождённую.
Нехушта поклялась, что будет оберегать дитя, как оберегала её мать, вплоть до последнего дня своей жизни. Если бы не дитя, этот день стал бы последним днём и её жизни; хотя и христианка, она была сокрушена обрушившимся на неё горем, в её сердце, казалось, не оставалось места ни для надежды, ни для радости. Её собственная жизнь была неимоверно тяжела: от рождения она занимала высокое положение среди своего дикого народа, но ещё в раннем детстве её похитили и продали в рабство; происхождение как стеной отделило её от всех жителей города, где она оказалась, — она, не желавшая иметь ничего общего с людьми низкими или быть куклой в руках высокородных, она, что стала христианкой, всем сердцем восприяла вероучение, она, что сосредоточила всю свою любовь на двух женщинах и потеряла их обеих. Тяжела была вся её жизнь, и сейчас она не раздумывая положила бы ей конец, но оставалось дитя. Пока оно живо, должна жить и сама она, Нехушта. А если дитя умрёт, тогда умрёт и она.
Однако у неё не было времени предаваться горьким раздумьям; крошку надо было накормить — и накормить в течение ближайших двенадцати часов. Погрести свою госпожу она не могла, отдать на съедение акулам не хотела, и всё же она решила устроить, по обычаю своего народа, поистине царские похороны. Какой погребальный костёр может сравниться с большим пылающим кораблём?!
Нехушта подняла тело усопшей госпожи, отнесла его на палубу и, положив госпожу возле обломанной мачты, закрыла ей глаза и сложила на груди руки. Затем сняла с её шеи медальон, уложила в узел еду и одежды и с лампадой в руке спустилась в капитанскую каюту. Здесь она увидела открытый сундук с золотыми монетами и драгоценными украшениями, которые капитан впопыхах не успел забрать. Всё это она присоединила к тому, что у неё было, и спрятала за пазухой. Подожгла каюту, спустилась в трюм, разбила кувшин с маслом и тоже подожгла его. Быстро поднялась на палубу, пав на колени, поцеловала покойную госпожу, взяла ребёнка, завернула его в тёплую шаль и по верёвочному трапу спустилась в спокойное море. Вода достигала ей лишь до пояса; скоро она уже ступила на берег и взобралась на песчаную дюну. Стоя на её вершине, она оглянулась: над галерой поднимался высокий, до самого неба, столп огня, ибо трюм был весь загружен маслом и пожар распространился в мгновение ока. — Прощай! — крикнула она. — Прощай! И, горько рыдая, направилась вглубь материка.
Глава V
ВОЦАРЕНИЕ МИРИАМ
Наконец море скрылось далеко позади; Нехушта шла уже среди возделанных земель; её путь лежал мимо виноградников, смоковниц в садах, обнесённых каменными заборами, ячменных и пшеничных полей, потоптанных так, будто там паслись целые табуны лошадей. Поднявшись на гребень холма за садами, она увидела под собой многочисленные дома из зелёного кирпича, среди них — немало спалённых пожаром. Она смело вошла в деревню и сразу же увидела груды мёртвых тел, которые пожирали собаки.
Она пошла по главной улице, пока не заметила женщину, глядевшую на неё из-за садовой ограды.
— Что у вас тут случилось? — спросила Нехушта по-сирийски.
— Римляне! Римляне! Римляне! — прорыдала женщина. — Наш староста поссорился со сборщиками налогов и отказался платить недоимки цезарю. Неделю назад нагрянули солдаты, перебили много жителей нашей деревни, забрали коров и овец и увели молодых людей, чтобы продать их в рабство, — почти никого не осталось. Такое частенько случается в нашей несчастной стране. Но кто ты такая, женщина?
— Я спаслась с корабля, потерпевшего крушение, — ответила Нехушта. — На руках у меня новорождённая девочка. Но это слишком долгая история, чтобы сейчас её рассказывать. Хочу только спросить, не найдётся ли здесь кормилицы, я хорошо заплачу.
— Дай её мне, — нетерпеливо попросила женщина. — Мой ребёнок погиб во время резни, учинённой тут римлянами, и мне не надо никакой платы.
Нехушта внимательно её оглядела. Перед ней стояла молодая, здоровая, хотя и с полубезумными глазами, крестьянка.
— Есть ли у тебя дом? — спросила она.
— Да, дом уцелел, и мой муж жив; мы спрятались с ним в пещере, но наш ребёнок играл на улице с соседскими, и они его убили. Давай мне скорее малышку.
Нехушта отдала ей Мириам, которая и была вскормлена этой женщиной, чьего ребёнка убили, потому что деревенский староста поссорился с римским сборщиком налогов. Таков был мир в те времена, когда явился Спаситель.
Покормив девочку, женщина отвела Нехушту в свой дом — скромное жилище, случайно пощажённое огнём; там они нашли несчастного виноградаря, её мужа, оплакивавшего смерть своего ребёнка и разрушение их деревни. Нехушта рассказала ему о себе ровно столько, сколько сочла разумным, и предложила ему золотой, сказав, что это один из десяти у неё имеющихся. Он взял монету с радостью, ибо у него не было ни гроша, обещав, что предоставит ей кров и защиту, а его жена будет кормить младенца целый месяц. Так Нехушта и поселилась у них. Жила она, скрываясь от посторонних глаз, а по истечении месяца дала своим хозяевам ещё один золотой, ибо это были люди хорошие, добрые, которым и в голову не приходило поступить с ней дурно или несправедливо. Видя это, Нехушта дала им ещё денег; благословляя её, хозяин купил два быка и плуг и нанял батрака, чтобы он помог ему убрать остатки урожая.
Место, где потерпел крушение их корабль, отстояло на расстояние одной мили от Иоппии и было в двух днях пути от Иерусалима. За те шесть месяцев, что Нехушта прожила в разорённой деревне, девочка подросла и окрепла, и тогда она предложила хозяевам уплатить ещё три золотых, если они проводят её до окрестностей Иерихона, — с условием, что на эти деньги они купят для поездки осла и мула, которые по окончании поездки перейдут в их собственность. При таких щедрых посулах глаза хозяев заблестели, и они с готовностью согласились в случае необходимости пожить там три месяца, после чего младенца можно будет уже отнять от груди. Хозяева наняли сторожа для охраны дома и виноградников в их отсутствие, и вот поздней осенью, в один приятный прохладный день они отправились в путь.
Путешествие прошло без каких-либо неприятных случайностей; их убогий вид не привлекал внимания ни разбойников, кишевших на дорогах, ни солдат, отряжённых для их поимки.
Обойдя стороной Иерусалим, на шестой день пути они перевалили через гряду пустынных холмов и спустились в долину Иордана. Заночевав в окрестностях города, на седьмое утро, чуть свет, они отправились дальше и часам к двум уже подошли к деревне ессеев. Здесь они остановились, Нехушта и кормилица с малышкой, которая уже махала руками и гугукала, смело вошли в деревню, где, казалось, жили только мужчины — ни одной женщины, во всяком случае, они не видели, — и попросили проводить их к брату Итиэлю.
Человек, к которому они обратились, был весь в белом; он что-то стряпал возле большого дома; говорил он с ними отвернувшись, так, будто ему запрещено смотреть на женщин. Однако он очень учтиво ответил, что брат Итиэль работает в полях и вернётся не раньше ужина.
Нехушта спросила, где находятся поля, ибо хочет видеть брата Итиэля как можно скорее. Человек показал на зелёные деревья на берегу Иордана — там-то, сказал он, они и найдут Итиэля: он сейчас вспахивает орошаемые поля на двух белых быках — единственных, что у них есть. В эту сторону они и направились; оставив Мёртвое море справа, прошли поллиги через терновник, растущий здесь в пустыне, и увидели перед собой тщательно возделанные поля, орошавшиеся с помощью водяного колеса — нории и кувшинов, которые носили на коромыслах с противовесами на другом конце.
На одном из полей они увидели двух белых быков и пахаря, высокого человека лет пятидесяти, со спокойным лицом и глубоко посаженными невозмутимыми глазами. Одет он был в грубую одежду из верблюжьей шерсти, затянутую кожаным поясом, и в сандалии. Они попросили разрешения поговорить с ним; он остановил быков и вежливо их приветствовал, хотя, как и тот человек в деревне, всё время отворачивался. Нехушта велела кормилице отойти в сторону и, держа в руках дочку Рахили, обратилась к нему с такими словами:
— Господин, верно ли, что я разговариваю с Итиэлем, одним из старших священнослужителей ессеев, братом покойной госпожи Мириам, жены еврея Бенони, тирского торговца?
При упоминании этих имён Итиэль заметно погрустнел, но тут же обрёл прежний спокойный вид.
— Да, я Итиэль, — ответил он, — а госпожа Мириам — моя сестра, ныне обитающая в стране вечного счастья и блаженства за морем. (Таков в представлении ессеев Небесный рай, куда возносится душа, освободившись от бренной плоти).
— У госпожи Мириам, — продолжала Нехушта, — была дочь Рахиль. Я её служанка.
— Была?! — Итиэль вздрогнул, на мгновение утратив спокойствие. — Неужели её умертвили эти дикие люди во главе со своим царём, так же, как и её мужа Демаса?
— Нет, господин, она умерла после родов, вот её ребёнок. — И она протянула ему спящую малютку; он пристально её оглядел, наклонился и поцеловал, да, поцеловал, ибо ессеи очень любят детей, хотя и почти их не видят.
— Расскажи мне обо всём, — попросил он.
— Я не только расскажу, господин, но и предъявлю доказательства. — И Нехушта поведала ему обо всём, с начала и до конца, показала медальон, снятый с покойной госпожи, и слово в слово повторила её последнюю просьбу. Выслушав её, Итиэль отошёл сильно помрачневший. Затем он громко помолился Господу, прося вразумления, ибо без молитвы ессеи не предпринимают самого нехитрого дела, и вернулся к Нехуште, стоявшей подле быков.
— Добрая преданная женщина, — сказал он, — ты, я вижу, не похожа на других женщин — ветреных и легкомысленных или ещё того хуже, — может быть, потому, что твоя тёмная кожа оберегает тебя от пагубных искушений, но, признаюсь, ты поставила меня в трудное, очень трудное положение. Наш священный закон запрещает всякое общение с женщинами, молодыми или старыми; как же я могу принять тебя или дитя?
— Я и знать ничего не знаю о законах вашей общины, — резко ответила Нехушта, задетая столь бестактным упоминанием о цвете её кожи, — но я хорошо знаю законы природы и кое-что о законах Божиих, ибо я, как и моя госпожа и этот ребёнок, христианка. И все эти законы говорят одно: оттолкнуть родного тебе ребёнка-сироту, которого злая судьба привела к твоему порогу, — великий грех, и за него придётся держать ответ перед Тем, чья воля выше закона любой общины.
— Не могу спорить, особенно с женщиной, — в явном замешательстве ответил Итиэль. — Всё сказанное мной верно, но верно и то, что наш священный закон предписывает соблюдать гостеприимство, и, уж конечно, мы не должны отворачиваться от беспомощных и обездоленных.
— И тем более вы не должны отворачиваться от своей собственной внучатой племянницы, посланной к вам её покойной матерью, чтобы спасти её от рук деда, так жестоко обошедшегося с теми, кого ему следовало бы любить и лелеять, ведь этот дед — зелот, он научит её забивать в жертву живые существа, натираться маслом и жертвенной кровью.
— Нет, нет, это было бы ужасно! — воскликнул Итиэль, воздев руки к небу. — Пусть уж лучше она будет христианкой, чем членом этой фанатичной кровожадной секты. — Его негодование усугублялось тем, что в натирании маслом ессеи усматривают нечто оскверняющее. И больше всего на свете они ненавидят приношение в жертву живых существ; хотя они и не признают Христа, может быть, потому, что он никогда не проповедовал среди них, не желавших и слышать ни о какой новой религии, они с величайшей строгостью соблюдают многие его заповеди.
— Это дело я не могу решить один, — продолжал он. — Я должен обсудить его на совете всех ста кураторов; только они, все вместе, и могут принять окончательное решение. И всё же наш закон требует помогать всем нуждающимся, являть милосердие и сострадание всем, того заслуживающим, и насыщать всех голодных. Совет соберётся не раньше чем через три дня, и какое бы решение он ни принял, до этого времени я имею полное право приютить тебя вместе с племянницей в нашем странноприимном доме. Дом расположен в той части деревни, где живут низшие из братьев, — те, кому дозволяется жениться, — там ты сможешь общаться с представительницами твоего пола.
— Очень рада, — сухо ответила Нехушта, — только я считаю, что они высшие, а не низшие из братьев, потому что женитьба — священный закон, установленный самим Богом-Отцом и благословенный Богом-Сыном.
— Не могу спорить, не могу спорить, — ответил Итиэль, уклоняясь от словесного поединка, — но дитя просто прелестное. Оно открыло глазки, а глазки у него как два цветка. — Он снова наклонился и поцеловал малютку, затем добавил со вздохом сожаления:
— Осквернился я, душа грешная! Придётся совершить обряд очищенья и покаяться.
— Почему? — кратко спросила Нехушта.
— По двум причинам: я коснулся твоего платья и дал волю земным страстям: дважды поцеловал дитя. Стало быть, я нарушил закон, осквернился.
Тут уж Нехушта не выдержала:
— Это ты-то осквернился, жалкий раб дурацких обычаев. Если кто и осквернён, то только моя милая девочка! Посмотри, ты измазал её одежду своей грязной лапой, довёл её до слёз своей колючей бородой. Очень жаль, что ваш священный закон не учит вас, как обращаться с детьми малыми и как почитать честных женщин, их матерей, ведь без них не было бы и самих ессеев.
— Не могу спорить, — нервно повторил Итиэль, ибо женщина впервые предстала перед ним в новом свете — не как ветреница и притворщица, но как разъярённое существо, на чьи гневные выпады не так-то легко ответить. — Я же тебе сказал, что решение может вынести лишь совет кураторов. Пошли же. Я погоню быков, хотя и рано ещё их выпрягать, а ты с этой женщиной следуй за мной — чуть позади. Нет, не позади, а впереди, я пригляжу, чтобы ты не уронила дитя и чтобы с ним не случилось какой-нибудь другой беды. Она такая прелестная, что я хочу — да простит меня Господь — всё время видеть её личико: ни дать ни взять, моя сестра в младенчестве.
— Чтобы я уронила дитя? — снова вспылила Нехушта, но сразу же остыла, сообразив, что жертва строгого закона уже нежно любит Мириам и ни за что с ней не расстанется; хорошо видя его слабость, она ограничилась словами: — Смотри, чтобы твои большие быки не напугали её. Вам, презирающим женщин мужчинам, надо ещё многому поучиться.
И она молча пошла впереди вместе с кормилицей; Итиэль последовал за ней, чуть отстав; он придерживал быков с помощью верёвки, привязанной к их рогам, ибо они торопились домой и он боялся, как бы, подстрекаемые любопытством, они не разбудили и не испугали младенца. Так они дошли до нижней части деревни, где находился странноприимный дом, большой и добротный, там ессеи принимали путников со всем гостеприимством, какое только могли оказать эти простые и скромные люди. Позвали жену одного из «низших» братьев, и Итиэль заговорил с ней, прикрыв глаза руками, как будто она сущая уродка. Держась поодаль, он объяснил ей, в чём дело, и велел приготовить для гостей всё необходимое, послать кого-нибудь за мужем кормилицы и его скотиной и позаботиться о них. Затем, лишний раз предупредив Нехушту, чтобы она оберегала дитя, не держала его на солнце, он отправился известить обо всём кураторов и подготовить заседание совета.
— И все они такие? — презрительно осведомилась Нехушта у женщины.
— Да, сестра, — ответила та, — все до одного глупцы. Своего собственного мужа я и то вижу редко; а когда вижу, то он, даром что женатый, всеми презираемый человек, только и долдонит что об изъянах женщин: они, мол, сбивают с пути праведников, особенно тех, что не их законные мужья. Иногда меня просто подмывает доказать ему, что он прав. А уж это дело куда как нетрудное, все их высокие рассуждения — одна болтовня; уж это-то я хорошо поняла; природа потешается над теми, кто топчет её законы; и нет ни одной писаной заповеди, которую женщина не сумела бы обойти. Но люди они добрые, и мой тебе совет: посмеивайся над ними в душе, но не мешай им поступать по-своему. А теперь пошли в дом, там хорошо, и было бы лучше, если бы хозяйничали женщины.
Так Нехушта, кормилица и её муж поселились в странноприимном доме, где вполне сносно прожили несколько дней. И Нехуште, и девочке, и их сопровождающим приносили всё, чего они только пожелают, — и в избытке. Нехушту даже спросили через женщину, всё ли её там устраивает, и, когда она пожаловалась, что в комнате, где спит малютка, недостаточно света, пришли несколько пожилых ессеев и за один день, до захода солнца, прорубили в стене окно. Работали они проворно и без отдыха. Мужу кормилицы не позволяли даже ухаживать за своей скотиной; её чистили и кормили сами ессеи; безделье ему скоро опостылело, и на третий день он отправился пахать вместе с хозяевами и проработал до самой темноты.
На четвёртое утро в доме собраний состоялся совет, куда явились все кураторы. Пригласили и Нехушту с младенцем. Зайдя в дом, она увидела сто необыкновенно серьёзных, без единой улыбки, почтенного вида мужчин в одеждах чистейшей белизны. Её усадили на стул в нижней части большого зала, сами же кураторы разместились на поставленных одна над другой скамьях.
Итиэль, видимо, уже успел изложить главное, ибо председатель тотчас же начал расспрашивать Нехушту о кое-каких подробностях, и на все свои вопросы получил ответы, явно удовлетворившие совет. Началось обсуждение, некоторые высказывали мнение, что община не может взять на своё попечение двух женщин, хотя одна из них и совсем маленькая, тем более что обе они христианки и особо обусловлено, что они не могут быть обращены в другую веру. Другие, однако, возражали, что у них нет долга превыше, чем долг гостеприимства; неужели среди них найдётся такой слабый человек, который может нарушить их священный устав из-за пожилой ливийки и грудного младенца? К тому же, добавляли они, христиане — люди неплохие и в их учении много общего с их собственным. Один из кураторов выдвинул довольно странное возражение: они, мол, могут чрезмерно привязаться к ребёнку, а ведь они должны любить только Бога и свою общину. Ему тут же кто-то сказал, что они должны любить весь род человеческий, особенно беспомощных.
— Человечество — да, но не женщин, — последовал ответ. — А ведь эта крошка когда-нибудь станет взрослой женщиной.
Перед голосованием Нехушту попросили выйти, но, прежде чем покинуть зал, она высоко подняла Мириам, «чтобы все видели её улыбающееся личико, и попросила не отвергать последнюю просьбу умершей женщины и не лишать девочку заботы родственника, которого она назначила опекуном, и покровительства их мудрой святой общины. В самом конце же она напомнила, что в случае их отказа ей придётся отвезти девочку к её деду, который если и согласится её взять, то, конечно же, воспитает в своей вере и тем погубит её душу, и этот тяжкий грех падёт на их, ессеев, головы.
Нехушту отвели в соседнюю комнату, где ей пришлось просидеть довольно долго, пока за ней наконец не пришёл один из кураторов. Вернувшись в зал, Нехушта прежде всего отыскала глазами лицо Итиэля, которому так и не дали слова, поскольку речь шла о его родственнице. Увидев на его лице довольную улыбку, она поняла, что её дело выиграно.
— Женщина, — сказал председатель, — подавляющим большинством голосов совет вынес окончательное, не подлежащее пересмотру решение по вопросу, поставленному на обсуждение нашим братом Итиэлем. По причинам, которые я не вижу необходимости объяснять, устав нашей общины позволяет нам принять на своё попечение дитя Мириам, хотя она и принадлежит к женскому полу, пока она не достигнет полных восемнадцати лет, после чего она должна будет покинуть общину. Всё это время никто не должен пытаться склонить её к отказу от веры родителей, тем более что она уже приняла крещение. Тебе и твоей подопечной Мириам будет предоставлен дом для жилья и всё самое лучшее, чем мы располагаем. Дважды в неделю избранные для этой цели кураторы будут заходить в дом на один час, чтобы удостовериться, что дитя находится в добром здравии и что ты исправно исполняешь свои обязанности, в противном случае мы вынуждены будем подыскать тебе замену. В беседах с кураторами мы просим тебя говорить только о ребёнке. Когда Мириам подрастёт, она будет допущена на наши собрания; её обучением будут заниматься самые из нас образованные, хорошо знающие литературу и философию; во время уроков ты будешь сидеть в стороне и не вмешиваться без особой на то надобности.
Чтобы вся община знала о принятом нами решении,
мы торжественно проводим вас в ваш дом; в знак того, что мы приняли ребёнка на своё попечение, понесёт его наш брат Итиэль, а ты пойдёшь сзади и, если понадобится, дашь ему необходимые наставления.
Выстроилась большая процессия во главе с председателем и замыкаемая священниками. Итиэль, с Мириам на руках, шёл в самой середине, он весь сиял от восторга, но Нехушта так допекла его своими наставлениями, что он в конце концов растерялся и едва не уронил малютку. В нарушение постановления совета Нехушта выхватила её у него из рук, да ещё и обозвала уклюжим, неотёсанным мужланом, способным только управлять быками. Итиэль ничего не ответил, даже не обиделся и с глупой улыбкой на лице поплёлся следом за Нехуштой.
Так маленькая Мириам, впоследствии прозванная Царицей ессеев, была торжественно препровождена в свой новый дом. И эти добрые люди даже не подозревали, что это не дом, а трон, выплавленный из чистого золота их благородных сердец.
Глава VI
ХАЛЕВ
Вряд ли какая-нибудь другая девочка на свете получила столь странное и в то же время превосходное образование, как Мириам. Судьба вознаградила её за сиротство несколькими сотнями отцов, которые все до единого любили её как родную. Конечно же, она не звала их «отцами», да и при подобных обстоятельствах они вряд ли согласились бы на это. Для неё все они были «дядюшками», с добавлением имени, если она его знала. Трудно, однако, утверждать, что Мириам принесла мир в общину ессеев. Прежде чем покинуть их деревню, она посеяла в сердцах её обитателей семена горькой, ожесточённой ревности — к вящему тайному удовлетворению Нехушты; хотя и признанная ими важной особой, хранительницей их сокровища, она так и не смогла примириться с кое-какими особенностями их веры и с их постоянным вмешательством.
Посещения, проводившиеся дважды в неделю, а затем ещё и по особому решению совета в полном составе и по субботам, стали источником многих обид и раздоров. Вначале был назначен постоянный комитет, куда входил и Итиэль. Однако не прошло и двух лет, как в общине поднялось сильное недовольство по этому поводу. В достаточно резких — для ессеев — выражениях многие говорили, что одной и той же группе людей нельзя доверять чрезмерную власть, это может привести к упущениям и пристрастиям или — ещё того хуже — пренебрежению благом девочки, являющейся гостьей не только проверяющих, но и всей общины. Было выдвинуто требование ежемесячной смены состава, чтобы все могли внести посильную лепту; единственным бессменным членом комитета остался Итиэль. Комитет противился этим изменениям, но никто не поддержал их при голосовании. Более того, временное или постоянное исключение из членов комитета стало применяться как мера наказания.
Существование комитета само по себе порождало нелепости, становившиеся всё многочисленнее по мере того, как Мириам подрастала, делаясь всё милее и пленительнее. Прежде чем приблизиться к ней, каждый член комитета обязан был вымыться с ног до головы и облачиться во всё чистое, «дабы не заразить её какой-нибудь болезнью, не замарать и не внести в дом дурной запах». Поднялся целый переполох, когда выяснилось, что некоторые члены комитета, пытаясь завоевать благосклонность девочки, тайком дарили ей игрушки, иногда очень красивые, которые делали сами из дерева, ракушек и даже камня. Кое-кто пичкал её лакомствами, очень ею любимыми, — когда, объевшись их, Мириам заболела, последовало неминуемое разоблачение. Взбешённая Нехушта, не стесняясь в выражениях, заклеймила этот заговор и под крики: «Позор им!» — назвала тайных дарителей по имени. Их немедленно отрешили от должности и приняли решение, что отныне подарки будут преподноситься всем комитетом, а не отдельными его членами, и что вручать их от его имени должен её дядя Итиэль.
Семи лет от роду — к этому времени она стала кумиром всех братьев-ессеев — Мириам заболела особой разновидностью лихорадки, часто поражающей детей поблизости от Иерихона и Мёртвого моря. Среди братьев было несколько искусных, прославленных лекарей, они выхаживали её день и ночь. Но лихорадка всё не проходила, и в конце концов они объявили в слезах, что опасаются за её жизнь. Все ессеи были в величайшей тревоге. Три дня и три ночи неустанно молились они Господу о её спасении, — и всё это время многие соблюдали строжайший пост, позволяя себе только утолять жажду. В ожидании новостей они сидели возле её дома и молились. Если новости были неутешительные, они били себя в грудь, если утешительные, возносили Небесам благодарность. Ни за одним больным монархом не ухаживали с большей заботой и преданностью, чем за этой сиротой, и никогда ничьё выздоровление — ибо в конце концов она выздоровела — не принималось с большей благодарностью и радостью.
Такова была правда. Эти простые, чистосердечные люди, строго придерживаясь своего учения, добровольно лишили себя всех привязанностей. Но краеугольным камнем их религии была Любовь; человек не может обходиться без неё, и они все любили свою подопечную, и так как в общине не было ни одной её сверстницы, она безраздельно царствовала в их сердцах. Она была единственной отрадой в их трудной, аскетической жизни, воплощала в себе всю сладость и молодость этого самообновляющегося Мира, столь бесцветного для них и безрадостного. Ко всему ещё она была обаятельной девочкой, неизменно пленявшей все сердца, где бы ни находилась.
А годы всё шли и шли, и наступило время, назначенное советом для начала её обучения. Среди кураторов шли продолжительные споры. В конце концов для её обучения были выделены три самых образованных члена общины. Мириам оказалась весьма способной ученицей, у неё была превосходная память и природная любознательность; в особенности её привлекали языки и история, а также всё то, что касается Природы. Одним из её учителей был египтянин, из фиванских жрецов; по пути в Иудею около Иерихона он тяжко занедужил и был исцелён ессеями, которые обратили его в свою веру. От него Мириам узнала многое об их древней цивилизации и даже о сокровенных тайнах египетской религии и об её высоких истолкованиях, в которые были посвящены лишь жрецы.
Вторым — звали его Феофил — был грек, бывавший в Риме, он обучил её языкам и литературе этих двух стран. Третий её наставник всю жизнь посвятил изучению зверей, птиц и насекомых, явлений Природы, звёзд и их круговращения; вместе с Мириам он ежедневно ходил на прогулки, подкрепляя свои уроки постоянными наблюдениями.
Когда она подросла, у неё появился ещё четвёртый наставник: художник и ваятель. Он учил Мириам лепить животных и даже людей из иерихонской глины, ваять их из мрамора и пользоваться красками. Этот всесторонне одарённый человек умел также петь и играть на музыкальных инструментах; в часы досуга он обучал Мириам и музыке. Таким образом, она выросла широко образованной девушкой, знакомой со многим, о чём её сверстницы в те времена даже не слыхали. Сделала она кое-какие успехи и в изучении христианской религии, хотя ессеи ограничивались здесь лишь тем, что совпадало с их собственным вероучением. Кое-что объяснила ей Нехушта; несколько раз в эти края забредали путешественники или проповедники-христиане; они обращались к ессеям и другим евреям, там жившим, со своими проповедями. А когда узнавали, кто она такая, то ревностно старались разъяснить ей основы христианства. Был среди них и старик, слушавший проповеди самого Иисуса Христа и присутствовавший при Его распятии; девушка с величайшим вниманием выслушала его рассказы и запомнила их на всю жизнь.
Но, пожалуй, полезнее всего для её образования было то, что она жила среди самой Природы. В одной-двух милях простиралось Мёртвое море, и по его унылым, безжизненным берегам, куда прибивались белые стволы деревьев, принесённые Иорданом, она часто прогуливалась. Днём и ночью перед ней маячили Моавитские горы, позади неё громоздились фантастические, таинственные барханы пустыни, тянущейся вплоть до других гор, и те серые, иссушенные зноем края, что простираются между Иерихоном и Иерусалимом.
Рукой подать было и до широкого мутного Иордана, плодородные берега которого наряжались весной восхитительной зеленью и куда слетались зимородки, журавли и всевозможные водоплавающие птицы. Пустыня вдоль реки усеивалась мириадами цветов; в различные времена года их ковёр горел всеми красками радуги. Мириам с восторгом собирала их и даже выращивала в саду возле дома.
Постепенно в душе Мириам откладывалась мудрость, земная и божественная; эта мудрость светилась теперь и на её лице и в глазах, придавая ей ещё больше пленительности. Не обделена она была ни обаянием, ни грацией. Роста она была небольшого, сложения хрупкого, страдала бледностью, зато волосы у неё были тёмные, пышные и вьющиеся, глаза — большие, нежно-голубого цвета. Руки и ноги необыкновенно стройные, движения — быстрые и проворные, как у пташки. Так она росла, щедро расточая любовь и любимая всеми; даже цветы, что она выращивала, и звери, которых она кормила, казалось, находили в ней лучшую подругу.
Одна Нехушта не одобряла такой чрезмерной, по её мнению, учёности и столь строгого распорядка дня. До поры до времени она мирилась со всем этим, но когда Мириам достигла одиннадцати лет, она откровенно выложила комитету, а через него и совету кураторов всё, что по этому поводу думает.
Разумно ли вот так воспитывать малое дитя, вопрошала она, превращая его в некое подобие мрачной старухи, в то время как её однолетки, не засоряя себе головы всевозможной премудростью, проводят время в беспечных играх, свойственных их возрасту. Что, если её голова не выдержит подобной перегрузки, она лишится рассудка либо умрёт, — и какой тогда прок от всей её учёности? Пусть у неё будет больше свободного времени, и пусть она обучается с другими детьми.
— Седобородые отшельники, — выразительно добавила она, — не самое подходящее общество для маленькой девочки.
Последовали долгие споры и совещания с лекарями, которые поддержали Нехушту: да, для девочки необходимо общество сверстников. Трудность, однако, заключалась в том, что в общине не было других девочек. Оставалось искать друзей для Мириам среди мальчиков. Но и тут имелись свои трудности: среди всех мальчиков, воспитывавшихся в общине, чтобы затем её пополнить, был лишь один равный Мириам по происхождению. У себя в общине ессеи не считались с общественными различиями, даже с различиями происхождения и расы. Но Мириам не принадлежит к общине, она лишь их гостья, не более, они должны заменить ей родителей, но, став взрослой, она покинет их и уйдёт в большой мир, что лежит за пределами их деревни. Будучи, при всей своей детской простоте, людьми умудрёнными, они считали, что ей не следует знаться с людьми низкородными.
Этот единственный мальчик — Халев — родился в тот же год, что и Мириам, — это был год, когда умер Агриппа и наместником назначили Куспия Фада
[37]. Отцом Халева был знатный еврей по имени Хиллиэль, временами сотрудничавший с римлянами, то ли ими убитый, то ли погибший среди двадцати тысяч людей, затоптанный насмерть во время празднования Пасхи в Иерусалиме, когда прокуратор Куман
[38] приказал своим солдатам рассеять скопище горожан. Зелоты, считавшие его предателем, не преминули завладеть всем его имуществом, его же сын Халев, лишившийся не только отца, но и матери, был в бедственном положении привезён одной из её подруг в Иерихон. У неё не было другого выхода, кроме как передать его ессеям на воспитание; достигнув совершеннолетия, он сможет, если захочет, остаться в их общине. Совет решил, что этот-то мальчик и будет отныне играть с Мириам, к обоюдному их удовольствию.
Халев был красивым мальчиком с живыми, наблюдательными тёмными глазами, с длинными, до плеч, чёрными кудрями. Хватало у него и ума и смелости, но характер был излишне пылкий и мстительный, — и тут уж он ничего не мог с собой поделать. В своих желаниях он не знал никакой узды и был постоянен и в любви и в ненависти. Так, он ненавидел 11ехушту. Проницательная ливийка, без помощи книг изучившая людскую природу, сразу же разгадала его и сказала, что он может выдвинуться на первое место в любом деле, если только его не предаст, и что, создавая его, Бог взял всё самое лучшее, но чтобы цезарь не обрёл грозного соперника, наполнил чашу вином страсти, не подлив, однако, необходимой честности. Мириам не замедлила передать её слова Халеву, считая их лишь забавной шуткой; она хотела только подразнить своего маленького приятеля по играм, но ожидаемой вспышки гнева не последовало, Халев только сощурил глаза и потемнел лицом, как грозовая туча над горой Нево
[39].
— Ты что, не слышал, Халев? — спросила Мириам, слегка разочарованная.
— Да, слышал, госпожа Мириам. — Так ему было велено называть свою подругу. — Можешь сказать этой старой чёрной карге, что я и впрямь намерен быть первым во всех делах. И ещё скажи, что, может быть, Бог и забыл подлить что-нибудь в чашу моей души, но зато
Он снабдил меня хорошей памятью.
Когда Нехушта услышала это, она посмеялась и сказала, что тут есть доля правды, но тот, кто пытается взобраться сразу на несколько лестниц, кончает обычно падением, а когда голова отлетает от тела, где она, хотелось бы знать, самая лучшая память?
Мириам была по-своему привязана к Халеву, но никогда не любила его так, как старых «дядюшек», а тем более Нехушту, которая была ей дороже всех на свете. Не любила, может быть, именно потому, что он никогда не сердился на неё, что бы она ни говорила и ни делала, никогда даже не повышал голоса, но всячески стремился угодить, выполнить любое её желание. И всё же он был лучшим из всех приятелей. Если Мириам выражала желание погулять по берегу Мёртвого моря, он тут же её поддерживал. Если она собиралась половить рыбу в Иордане, он приносил наживку или сеть, он же снимал и пойманных рыб с крючка — сама Мириам не любила это делать. А если она мечтала о каком-нибудь редком цветке, Халев охотился за ним целыми днями, хотя к самим цветам, как она знала, был совершенно равнодушен; а когда наконец он отыскивал этот редкий цветок, то запоминал место и торжественно вёл её туда. Мириам быстро догадалась, что он боготворит её. Если в его характере и были черты фальши, в этом своём обожании он был совершенно искренен. Если и возможна любовь между детьми, то Халев любил Мириам — сперва детской любовью, а затем истинной мужской любовью. Но Мириам, увы, не разделяла его чувств. В противном случае их жизнь сложилась бы совсем по-другому. Для неё он был только находчивым товарищем по играм.
Ещё более странно, что он не любил никого, за исключением, может быть, самого себя. С годами Халев узнал свою печальную историю и возненавидел врагов своего отца, которые наложили руку на имущество и земли, по праву ему принадлежавшие, ещё сильнее, чем ненавидел римлян, захвативших его страну и попиравших её своей тяжёлой пятою. Что до приютивших и воспитавших его ессеев, то как только он достаточно подрос, чтобы составить себе собственное мнение, он стал относиться к ним с презрением, а за их неистребимую любовь к чистоте прозвал их «чистоплюями». Их учение почти не затронуло его души. Он считал — и объяснял это Мириам, что мир следует принимать таким, как он есть, и соответственно жить, а не мечтать всё время о каком-то ином запредельном мире, куда, вполне возможно, им заповедана дорога, — и тут Нехушта была с ним в какой-то мере согласна.
Мириам со всем пылом юности пыталась обратить его в христианство, но безуспешно. Халев был чистокровнейшим евреем и не мог понять Бога, который допустил, чтобы Его предали позорной казни, а уж тем более им восхищаться. Великий завоеватель, ниспровергающий цезарей и захватывающий их трон, а не скромный проповедник, неустанно изрекающий поучения, — таков должен быть Мессия, достойный того, чтобы за Ним следовать. Как большинство людей не только его поколения, но и всех других поколений, до последнего дня своей жизни Халев не мог постичь, что разум более велик, чем материя, а дух более велик, чем разум, и что в конце концов, продвигаясь шаг за шагом, потерпев множество, казалось бы, сокрушительных поражений, духовное начало неминуемо восторжествует над материальным. Сверкающий меч в руках восседающего на троне владыки он предпочитал слову правды, сказанному каким-нибудь простолюдином на бедной улочке или в пустыне — в надежде, что ветры Божественной Благодати занесут его в людские души, способствуя их возрождению.
Таков был Халев; и все эти подробности о нём сообщаются здесь потому, что, как справедливо гласит пословица: «Дитя — отец взрослого».
Годы пролетали быстро. В Иудее не прекращалась смута, в Иерусалиме реками лилась кровь. Лжепророки — такие, как Февда
[40], похвалявшийся, будто по его велению воды Иордана расступятся, собирали под свои расшитые дешёвой мишурой знамёна тысячи и тысячи людей, а затем этих бедолаг беспощадно уничтожали римские легионы. Цезари приходили и уходили; великий Храм был почти завершён и блистал во всём своём великолепии; произошли многие события, оставившие по себе память и по сей день.
Но в небольшой деревне ессеев, на унылых берегах Мёртвого моря, ничего не менялось; лишь время от времени умирал какой-нибудь окончательно одряхлевший брат или же в общину принимали нового брата. Пробуждались ессеи ещё затемно и восславляли своими молитвами встающее солнце, затем отправлялись на поле, пахали, сеяли, чтобы впоследствии сжать урожай, благодаря Господа, если урожай окажется богатым, и точно так же благодаря Его, если случится недород. Они беспрестанно мылись, они молились, скорбели греховности мира сего и ткали себе белые одежды, как символ иного, лучшего мира. Бывали у них и тайные богослужения, о которых Мириам ничего не знала. Они вызывали своих «ангелов» и с помощью известных им способов гадания предрекали грядущее — занятие весьма малорадостное. Но невзирая на неблагоприятные знаки, пока ещё никто не тревожил мирное течение их жизни, которое, подобно реке, стремящейся к водопаду, несло их плот к великим бедствиям.
Первая беда грянула, когда Мириам было уже семнадцать.
Время от времени иерусалимские первосвященники, ненавидевшие ессеев как еретиков, требовали с них уплаты десятины в пользу Храма. Ессеи, однако, отказывались, ибо отвергали жертвоприношения, а требуемая с них подать предназначалась именно на жертвоприношения. Так продолжалось до тех пор, пока первосвященник Анан не послал своих стражников для сбора десятины. Стражники взломали все амбары и склады и забрали всё, что можно увезти, а остальное сильно попортили. Случилось так, что Мириам вместе с Нехуштой были в этот день в Иерихоне. На обратном пути они проходили через высохшее речное русло, усыпанное обломками скал и заросшее терновником. Здесь им повстречался Халев, теперь уже благородного вида юноша, очень сильный и подвижный, в руке у него был лук, за спиной висел колчан с шестью стрелами.
— Госпожа Мириам, — сказал он, — хорошо, что я вас встретил. Я хочу тебя предупредить, чтобы ты не возвращалась сегодня в деревню по дороге; там ты можешь столкнуться с этими разбойниками, присланными первосвященником для ограбления общины. Они все перепились и могут тебя оскорбить или обидеть. Один из них даже ударил меня. — И он хмуро указал на большой синяк на плече.
— Что же нам делать? — спросила Мириам. — Вернуться в Иерихон?
— Нет, они тоже туда направляются. Идите по руслу; через милю будет тропинка, она и выведет вас к деревне. Если пойдёте по ней, то разминётесь с солдатами.
— Разумный совет, — сказала Нехушта. — Пошли, госпожа.
— А ты куда, Халев? — спросила Мириам, заметив, что он не собирается их сопровождать.
— Я? Я спрячусь тут недалеко, среди камней, и, подождав, пока пройдут стражники, поищу гиену, что охотится на наших овец. Я её выследил и, когда вечером она выйдет из своего логова, пристрелю. Вот зачем я взял с собой лук и стрелы.
— Пошли, — поторопила Нехушта, — пошли. Этот парень сам постоит за себя.
— Будь осторожен, Халев, как бы гиена тебя не покусала, — неуверенно произнесла Мириам, но Нехушта схватила её за руку и поволокла прочь. — Странно, — добавила она, обращаясь к Нехуште, — почему Халев выбрал именно этот вечер для охоты?
— Если не ошибаюсь, он охотится за двуногой гиеной, — кратко ответила та. — Один из стражников ударил его, и он хочет смыть это оскорбление кровью.
— Да нет же, Ну. Ты ведь знаешь, мстить нехорошо, грех.
Нехушта передёрнула плечами.
— Халев, возможно, придерживается другого мнения. Мы ещё кое-что увидим.
Они и в самом деле кое-что увидели. Тропа, по которой они возвращались, тянулась вдоль гребня холма, и с его высоты в прозрачном воздухе пустыни они хорошо видели вереницу стражников, гнавших перед собой десятка два мулов, груженных вином, хлебом и другими награбленными ими припасами. Они спустились в сухое русло, которое пересекала дорога, а ещё через минуту-другую послышались их отдалённые крики. Затем они появились на противоположной стороне, бегая и разъезжая взад и вперёд на мулах, будто кого-то искали, а четверо из них несли то ли раненого, то ли убитого товарища.
— Значит, Халев подстрелил всё-таки свою гиену, — со значением сказала Нехушта, — но я ничего не видела, и тебе тоже надо помалкивать. Я не люблю Халева, но этих грабителей я просто ненавижу, тебе же нельзя выдавать своего друга.
Мириам с испуганным видом кивнула головой, и больше они об этом не говорили.
В тот же вечер, когда, наслаждаясь прохладой, они стояли у дверей своего дома, при свете полной луны они увидели, что по дороге приближается Халев; его появление обрадовало Мириам; она опасалась, как бы с ним не случилось какой-нибудь беды. Заметив их, он попросил разрешения войти и через калитку вошёл в их маленький сад.
— Значит, ты всё же стрелял в гиену? — сказала Нехушта. — Убил ты её?
— Откуда ты знаешь? — спросил он, глядя на неё с подозрением.
— Глупо задавать такой вопрос ливийке, которая выросла среди лучников, — сказала она. — Когда мы встретились, у тебя было шесть стрел в колчане, а сейчас их осталось только пять. К тому же ты недавно вощил свой лук, и там, где ты прикладывал стрелу, воск стёрся.
— Да, я стрелял и, кажется, не промахнулся. Во всяком случае, я так и не нашёл стрелу, хотя долго её искал.
— Ты редко промахиваешься. У тебя верный глаз и твёрдая рука. Лишиться одной стрелы — не такая уж большая потеря, тем более что эта стрела отличалась от других и формой наконечника, и двойным оперением: это римская боевая стрела — таких здесь не делают. Если кто-нибудь и найдёт подбитого тобой зверя, ты не получишь его шкуры, неё знают, что ты пользуешься другими стрелами. — И с многозначительной улыбкой Нехушта повернулась и вошла в дом; Халев посмотрел ей вслед, то ли раздосадованный, то ли удивлённый её сметливостью.
— Что она хотела сказать? — спросил он Мириам, как бы рассуждая сам с собой.
— Она полагает, что ты стрелял в человека, а не в зверя, — пояснила Мириам. — Но я знаю, что ты не мог этого сделать, ведь это было бы нарушением закона ессеев.
— Даже закон ессеев позволяет оборонять себя и своё достояние от грабителей, — угрюмо ответил он.
— Да, оборонять себя, если ты подвергся нападению, и своё достояние, если оно у тебя имеется. Но и их вера и моя запрещают мстить за нанесённый тебе удар.
— Я сражался один против многих, — смело возразил он. — Я рисковал своей шкурой и доказал, что я не трус.
— Выходит, там была целая стая этих гиен? — с невинным видом спросила Мириам. — Помнится, ты говорил об одной гиене, которая таскает овец.
— Да, их была целая стая; они забрали всё вино, а тех, кто пробовал им помешать, избили, как бродячих собак.
— Значит, эти гиены пьют вино, как та ручная обезьяна, которую однажды напоили наши мальчишки.
— Зачем ты меня дразнишь? — перебил её Халев. — Ты же знаешь правду. А если не знаешь, то вот она, правда. Один из грабителей огрел меня палкой и обозвал сукиным сыном. Я поклялся свести с ним счёты и свёл: наконечник стрелы, о которой говорила Нехушта, пронзил насквозь его горло и вышел на целую пядь с другой стороны. Они так и не увидели, кто стрелял, так и не увидели меня. Сначала они, вероятно, подумали, что человек просто упал с лошади. Пока они смекнули, что случилось, я был уже далеко, они не могли меня догнать. А теперь пойди расскажи это всем, или пусть расскажет Нехушта, которая меня ненавидит, чтобы меня схватили и подвергли пыткам палачи первосвященника или же распяли бы римляне.
— Ни Нехушта, ни я не видели, что случилось, и не только не станем доносить на тебя, но даже и не осуждаем, ведь ты же был оскорблён этими грубыми негодяями. Но ты сказал, Халев, что хотел нас предостеречь, мне грустно знать, что у тебя была другая цель — убить человека.
— Неправда, — запальчиво возразил юноша. — Я хотел сперва предостеречь вас, а потом уже убить гиену. Первая моя забота была о вас, и, пока вы не оказались в безопасности, в безопасности был и мой враг. Ты хорошо это знаешь, Мириам.
— Откуда я могу знать? Боюсь, что для тебя, Халев, месть важнее дружбы.
— Может быть, потому, что у бедного, без единого гроша сироты, выращенного благотворителями, так мало друзей. Но, Мириам, месть для меня не важнее, чем... любовь.
— Любовь? — пробормотала она, краснея до корней волос и отступая назад. — Что ты хочешь сказать, Халев?
— Только то, что говорю, ни меньше, ни больше, — хмуро проронил он. — Я уже совершил сегодня одно преступление, почему бы мне не совершить второе и не сказать госпоже Мириам, Царице ессеев, что я её люблю, хотя она меня и не любит... пока...
— Это безумие, — запинаясь, проговорила она.
— Согласен. Безумие поразило меня в первый же день, как я тебя увидел; мы ещё только-только научились тогда говорить; и оно, это безумие, покинет меня лишь перед тем, как мой голос навсегда замолкнет. Послушай, Мириам, не считай мои слова словами несмышлёного ещё отрока; всей своей жизнью я докажу тебе, что они сама правда. И тебе придётся считаться с моей любовью. Ты меня не любишь, поэтому, даже если бы я имел такую возможность, я не стану навязывать тебе свою любовь, но предупреждаю тебя, не полюби кого-нибудь другого, тогда одному из нас, ему или мне, несдобровать. Клянусь! — Он привлёк её к себе, поцеловал в лоб и отпустил, сказав: — Не бойся. Я целую тебя без твоего согласия в первый и последний раз. А если ты всё же боишься, расскажи обо всём совету ессеев и Нехуште: она отомстит за тебя.
— Халев, — воскликнула она, в гневе топнув ногой. — Халев, ты куда более дурной человек, чем я думала, и... — как бы про себя добавила, — более великий.
— Да, — ответил он перед тем, как уйти, — пожалуй, ты права: я более дурной человек, чем ты думала, — и более великий. И я люблю тебя, Мириам, как никто никогда не будет тебя любить. Прощай.
Глава VII
МАРК
В ту ночь, нарушив покой молящихся и постящихся кураторов, возвратился начальник ограбившего их отряда; он в сильных выражениях заявил им, что один из стражников убит кем-то из ессеев. Они спросили, когда и как; тот ответил, что стражник был поражён стрелой в высохшем русле реки по дороге в Иерихон; убийца, к сожалению, бежал. Ессеи сказали, что и на разбойников, бывает, нападают разбойники, и попросили показать им стрелу. Стрела оказалась римская, точно такая же, какие были у стражников в колчанах. Ессеи не преминули указать на это обстоятельство, затем, рассерженные неосновательными, по их мнению, обвинениями, прогнали его вместе с эскортом, заявив, что он может жаловаться на них, ограбленных, своему первосвященнику Анану, а если хотят, то и ещё более отъявленному вору — римскому прокуратору Альбину
[41].
Начальник так и поступил, после чего ессеям приказали прислать несколько их старейшин к Альбину и ответить на предъявляемые им обвинения. Они отправили брата Итиэля и двух других, которые дожидались три месяца, пока их соизволят хотя бы выслушать. Наконец их вызвали и после короткого, в несколько минут разбирательства слушание дела отложили за его незначительностью. В тот же вечер Итиэль был уведомлен посредником, что, если они уплатят Альбину круглую сумму денег, дело будет тут же прекращено. Ессеи, однако, отказались принять это предложение, противоречащее их принципам, заявив, что не требуют ничего, кроме справедливости, а за неё они не намерены платить деньгами. Говоря всё это, они, естественно, не знали, что смертельная стрела была послана рукой одного из их неофитов — Халева.
Вся эта история изрядно поднадоела Альбину, и, видя, что из ессеев всё равно ничего не выжмешь, он велел им убираться, сказав, что пришлёт одного из своих центурионов провести следствие на месте.
Прошло ещё два месяца, и наконец прибыл центурион в сопровождении двадцати солдат.
В то зимнее утро Мириам и Нехушта прогуливались по Иерихонской дороге, когда вдруг увидали приближающийся отряд римлян. Они хотели спрятаться в терновнике, но начальник отряда, пришпорив коня, тут же пустился наперехват.
— Не беги — стой спокойно, — предупредила Нехушта Мириам, — и не показывай никаких признаков страха.
Мириам остановилась и стала рвать поздние осенние цветы; в этот момент на неё упала тень начальника отряда — та самая тень, которой суждено будет сопровождать её всю дальнейшую жизнь.
— Госпожа, — произнёс приятный голос на греческом языке, с лёгким иностранным акцентом, — прошу тебя: извини меня и не тревожься. Я впервые в этих краях, куда привели меня служебные дела. Не покажешь ли ты мне дорогу в деревню ессеев: они живут где-то здесь, в этой пустыне.
— О, господин, — ответила Мириам, — вы прибыли сюда с целым отрядом римских солдат, надеюсь, вы не причините ессеям никакого зла.
— Нет. Но почему ты так спрашиваешь?
— Потому что принадлежу к их общине, господин.
Начальник с изумлением смотрел на неё — прелестную, голубоглазую, белокожую, с тонкими чертами лица девушку, в чьём голосе и каждом движении явственно чувствовалось высокое происхождение.
— Ты принадлежишь к общине ессеев, госпожа? Значит, эти иерусалимские священники ещё большие лжецы, чем я предполагал. Они сказали, что ессеи — старые аскеты, поклоняющиеся Аполлону и со страхом отворачивающиеся от женщин. А ты говоришь, что принадлежишь к их общине.
Клянусь Вакхом, это сущее чудо! — И он устремил на неё взгляд, полный восхищения, в котором не было ничего грубого или оскорбительного. Мириам даже позабавило это столь неприкрытое восхищение.
— Я их гостья, — сказала она.
— Их гостья? Это ещё более странно. Если эти духовные изгои — так их обозвал старый первосвященник — делят свой хлеб и воду с такими гостьями, моё пребывание среди них может оказаться куда более приятным, чем я полагал.
— Они меня вырастили и воспитали, я их подопечная, — вновь объяснила Мириам.
— Моё мнение о ессеях растёт с каждым твоим словом; я уверен, что священники их оболгали. Если они смогли вырастить и воспитать столь милую госпожу, они несомненно люди добрые и благородные. — И он поклонился, как бы стараясь придать значительности своей похвале.
— Да, господин, они люди добрые и благородные, — ответила Мириам, — но вы сами скоро в этом убедитесь, ибо живут они неподалёку. Поезжайте за нами через вон тот холм, и мы покажем вам деревню, куда мы сейчас идём.
— С твоего позволения, госпожа, я пойду вместе с вами, — ответил он и, не дожидаясь её ответа, спешился. — Извини, госпожа, я должен отдать кое-какие распоряжения. — И он подозвал одного из своих солдат, остановившихся поблизости.
После того как солдат подошёл, подняв руку в знак приветствия, начальник отряда отвёл его в сторону и начал что-то говорить. Только тогда Мириам смогла хорошенько разглядеть его. Он был не старше двадцати пяти — двадцати шести лет, среднего роста, сухощавый, но подвижный и атлетического сложения. Его небольшая круглая голова была защищена от солнца не шлемом (подвешенным, к седельной луке), а подбитой изнутри ватой и обшитой снаружи стальными пластинками шапочкой, из-под которой чуть-чуть выбивались короткие темно-каштановые кудри. Белая под налётом загара кожа; живые и проницательные, широко расставленные серые глаза. Хотя и слишком большой, но красиво очерченный рот; чисто выбритый, выдающийся вперёд волевой подбородок. Вид человека, привыкшего повелевать, но открытого, искреннего, а когда он улыбался, обнажая ровные белые зубы, даже весёлого; вид человека с добрым и благородным сердцем.
Глядя на него, Мириам почувствовала, что он нравится ей больше любого другого молодого мужчины, которого ей доводилось видеть. Впрочем, не следует это воспринимать как чрезмерно высокую похвалу, ибо круг её общения ограничивался несколькими молодыми людьми, если не сводился к одному Халеву. Как бы там ни было, он нравился ей куда больше Халева; при их сравнении она ощутила некоторый стыд, поняв, что отдаёт предпочтение своему новому знакомцу перед другом детства, в последнее время сильно докучавшим ей своей слишком пылкой привязанностью.
Отдав распоряжения, центурион отпустил ординарца, ибо это был его ординарец; судя по всему, он велел, чтобы весь отряд следовал за ним чуть позади. Затем он произнёс: «Я готов, госпожа», — и зашагал вперёд, ведя коня на поводу.
— Прости, госпожа, — сказал он, — я хотел бы представиться. Зовут меня Марк, я сын Эмилия, человека, хорошо в своё время известного. — Тут он вздохнул. — Надеюсь, и мне удастся добиться такой же славы. Но пока я не могу похвастать особыми успехами; у меня одна-единственная надежда — на то, что мой дядюшка Кай когда-нибудь оставит мне своё богатое состояние, сколоченное им в Испании; пока он, однако, не выказывает такого намерения; я всего лишь солдат Фортуны; один из центурионов под командованием превосходного, благороднейшего прокуратора Альбина, — добавил он саркастически. — Ко всему этому могу присовокупить, что я провёл в вашей любопытной, неспокойной и, пожалуй, чересчур знойной стране, куда я прибыл из Египта, около года; мне поручено весьма почётное задание расследовать обвинение, предъявляемое твоим достойным опекунам-ессеям, в убийстве некоего стражника, который вместе с другими разграбил ваше имущество, или если не в убийстве, то в укрывательстве убийцы. Кажется, я рассказал о себе всё. А теперь, госпожа, мне хотелось бы, чтобы и ты рассказала мне о себе.
Мириам заколебалась, не уверенная, что столь короткое знакомство — достаточный повод для откровенности. Но тут вмешалась Нехушта; никакие сомнения её не тревожили, она была убеждена, что лучшая политика — говорить с этим римлянином совершенно откровенно.
— Господин, эта девушка, которой я служу, как прежде служила её бабушке и матери...
— Как это может быть — ты же ещё совсем молода, — перебил её Марк. Он давно уже поставил себе за правило вести себя учтиво со всеми женщинами, каков бы ни был цвет их кожи, заметив, что галантным мужчинам легче живётся на свете.
Нехушта слегка улыбнулась, ибо есть ли такой возраст, в котором женщины не ценят любезных комплиментов?
— Господин, они обе умерли молодыми, — объяснила она и добавила: — Эта девушка — единственная дочь высокородного тирского греко-сирийца Демаса и его благородной жены Рахили...
— Я знаю Тир, — перебил он. — Квартировал там ещё два месяца назад. — И уже другим тоном продолжал: — Как я понимаю, этой пары нет уже в живых.
— Они умерли, — печально откликнулась Нехушта, — отец был убит в беритском амфитеатре по велению Агриппы Первого, а мать скончалась после родов.
— В беритском амфитеатре? Он был преступником?
— Нет, господин, — гордо ответила Нехушта, — он был христианином.
— Понимаю. О них говорят как о врагах всего человечества, но я был знаком с несколькими христианами, — и все они люди превосходные, хотя и мечтатели. — В душе у него шевельнулось сомнение, и он сказал: — Но ведь ты, госпожа, — последовательница учения ессеев?
— Нет, господин, — ответила она всё тем же ровным голосом. — Я тоже христианка, хотя и нашла приют у ессеев.
Он посмотрел на неё с жалостью.
— Но ведь для такой молодой прелестной девушки очень опасно придерживаться христианской веры.
— Пускай и опасно, — сказала она, — но это моя вера — целиком и полностью.
Марк поклонился, поняв, что продолжать этот разговор не стоит, и сказал Нехуште:
— Рассказывай дальше, любезнейшая.
— Господин, отец матери моей госпожи — очень богатый тирский торговец — еврей Бенони.
— Бенони? — переспросил он. — Я знаю его хорошо, даже слишком хорошо для человека бедного. Говорят, что он еврей из евреев, зелот. И судя по тому, как он ненавидит нас, римлян, хотя я и не раз обедывал у него дома, это чистая правда. Он самый преуспевающий — если не считать финикийца Амрама — торговец во всём Тире, но человек он суровый и столь же умный, сколь и суровый. Припоминаю, что в его дворце не было детей. Почему же твоя госпожа, его внучка, живёт не с ним, а в этой пустыне?
— Вы сами ответили на свой вопрос, господин. Бенони — еврей из евреев, а его внучка, как и я, христианка. Вот почему после смерти её матери я привела её сюда — к дяде, ессею Итиэлю; Бенони вряд ли даже знает о её существовании. Может быть, я говорю чересчур откровенно, но вы рано или поздно узнаете всё от ессеев; мы надеемся только, что вы не выдадите эту тайну своему другу Бенони.
— Можете на меня положиться, но очень жаль, что она не пользуется ни богатством, ни высоким положением, по праву ей принадлежащими.
— Богатство и высокое положение ещё не самое важное, господин; важнее свобода вероисповедания, личная свобода. Во всяком случае, моя госпожа ни в чём не нуждается; вот и всё, что я хотела рассказать.
— Нет, почтеннейшая, не все; ты забыла сказать, как её зовут.
— Мириам, господин.
— Мириам, Мириам, — повторил он с акцентом, как бы мягко перекатывая слоги. — Чудесное имя, вполне подходящее для такой... — Он не договорил.
Они были уже на вершине холма, и, остановившись между двух зарослей терновника, Мириам поторопилась его перебить:
— Смотрите, господин, — вон там внизу деревня ессеев; зелёные деревья слева окаймляют берег Иордана, откуда мы берём воду для орошения, а это серое пространство справа, окружённое горной грядой, — Мёртвое море.
— Да? Приятно видеть хоть какую-то зелень в пустыне, а эти поля хорошо возделаны. Надеюсь как-нибудь там побывать, ведь я вырос в сельской местности, и, хотя по роду своего занятия я солдат, я понимаю толк и в крестьянском труде... Что это за большой дом, госпожа?
— Это, — ответила она, — дом собраний ессеев.
— А это? — спросил он, показывая на другой дом — на отлёте.
— Тот самый дом, где живём мы с Нехуштой.
— Так я и думал, — при нём такой ухоженный сад.
Он начал задавать другие вопросы, и Мириам отвечала с достаточной непринуждённостью; хотя и наполовину еврейка, она выросла среди мужчин и не испытывала ни стеснения, ни страха, разговаривая с ними столь же дружески и открыто, как если бы была египтянкой, римлянкой или гречанкой.
Кусты возле тропинки внезапно раздвинулись, и из них вышел Халев, которого Мириам в последнее время почти не видела. Он остановился и посмотрел на них.
— Друг Халев, — окликнула его Мириам, — это римский центурион Марк, который приехал побеседовать с кураторами нашей общины. Не отведёшь ли ты его и солдат к дому собраний и не сообщишь ли дяде Итиэлю и другим об их прибытии, потому что нам пора возвращаться домой?
Со сдерживаемой яростью Халев сверкнул глазами, но не на Мириам, а на римлянина, и ответил:
— Римляне всегда сами выбирают себе дорогу, на что им проводник-еврей. — И он нырнул в кусты.
— Ваш друг не слишком учтив, — сказал Марк, провожая его взглядом. — Вид у него явно негостеприимный. Если ессеи способны совершить такое преступление, как убийство сборщика налогов, я вполне мог бы заподозрить этого малого. — И он вопрошающе воззрился на Мириам.
— Ну при чём тут он, — вставила Нехушта. — Если он когда-нибудь и стрелял из лука, то только в хищных птиц.
— Халев, — извинительно произнесла Мириам, — неприязненно относится к незнакомцам.
— Вижу, — сказал Марк, — и если говорить начистоту, он вызывает у меня ответную неприязнь. Взгляд у него — как удар ножом.
— Пошли, Нехушта, — сказала Мириам. — Наши дороги здесь расходятся, господин. Наша — вот эта, а ваша — вон та. Прощайте, господин; благодарю вас за компанию.
И на этот день они расстались.
Дом, много лет назад построенный ессеями для их подопечной и её няни, стоял в непосредственной близости от странноприимного дома и даже занимал часть участка, разделённого теперь на два сада оросительной канавой и оградой из гранатовых деревьев, усыпанных в это время года золотыми шарами плодов. В тот вечер, разгуливая по саду, Мириам и Нехушта услышали из-за ограды знакомый голос Итиэля, а затем увидели его доброе лицо и почтенную седую голову.
— Что ты хочешь сказать, дядя? — подбежав к нему, спросила Мириам.
— Только то, что благородный римский центурион Марк поселился в странноприимном доме, не пугайся, если услышишь незнакомые голоса или увидишь незнакомцев; не знаю, правда, гуляют ли римляне в саду. Я тоже буду здесь — следить, чтобы наш гость ни в чём не нуждался. И я не думаю, чтобы он досаждал тебе; хоть он и римлянин, но, кажется, человек обходительный и добрый.
— Я его не боюсь, дядя, — сказала Мириам и, невольно краснея, добавила: — Мы с Нехуштой уже с ним познакомились. — И она рассказала об их встрече в окрестностях деревни.
— Нехушта, Нехушта, — укоризненно покачал головой Итиэль, — разве не предупреждал я тебя, чтобы без сопровождения наших братьев вы ни на шаг не отдалялись от деревни? Вы могли наткнуться на разбойников или пьяных.
— Моя госпожа хотела нарвать цветов, — ответила Нехушта. — Она делает это уже много лет, и до сих пор ничего дурного с ней не случалось. Я вооружена и не боюсь разбойников; к тому же здесь, где живёт одна беднота, им
просто нечего делать.
— И слава Богу, что ничего дурного не случалось, но больше вы не гуляйте одни, солдаты могут оказаться не столь учтивыми, как их начальник. Они, кстати, вас не потревожат, потому что все, за исключением охраны их начальника, стали лагерем на берегу. До завтра, дитя моё!
Расставшись
с дядей, Мириам легла спать; ей снилось, будто она и Нехушта путешествуют с центурионом Марком; в пути с ними происходит множество приключений, в которых Халев играет какую-то странную роль. Марк защищает её от всех опасностей, и в конце концов они выходят к спокойному морю, где плавает, ожидая их, белый корабль со знаком креста на парусе. Проснувшись, Мириам увидела, что уже наступило утро.
Из всех искусств, которым обучали Мириам, больше всего ей полюбилась лепка из глины, тут у неё обнаружился большой природный дар. Она так преуспела в этом искусстве, что её статуэтки после обжига продавались, по её предложению, всем желающим. Деньги от их продажи шли на помощь самым бедным.
Этой работой Мириам занималась под тростниковым навесом в саду, возле каменного бассейна, куда вода подавалась по подземной трубе; в этом бассейне она размачивала глину и полоскала тряпки, необходимые ей для работы. А иногда с помощью каменщиков и своего теперь уже сильно состарившегося учителя повторяла свои статуэтки и в мраморе, который ессеи приносили ей из развалин дворца около Иерихона. В ту пору, когда явился римский отряд, она как раз заканчивала скульптуру более значительную, чем все предыдущие, — мраморный бюст своего дяди Итиэля в натуральную величину, из большого обломка древней колонны. На другой день после её встречи с Марком она надела белый рабочий халат и занялась окончательной шлифовкой бюста; Нехушта помогала ей, подавая тряпки и шлифовальный порошок. На Мириам вдруг упала чья-то тень, и, повернувшись, она увидела Итиэля и римлянина.
— Доченька, — сказал Итиэль, с улыбкой замечая её смущение, — я привёл центуриона Марка, чтобы показать ему твою работу.
— О, дядя, — возмутилась она, — не могу же я принимать гостей в таком виде. — И она показала на свой халат, запачканный глиной и порошком. — Посмотри на меня.
— Я смотрю, — простодушно ответил Итиэль, — и не вижу ничего плохого.
— И я тоже смотрю, госпожа, — весело сказал Марк, — и вижу много достойного восхищения. Какая жалость, что лить немногие женщины увлекаются таким чудесным занятием!
— Увы, господин, — ответила она с нарочитым непониманием; Мириам никак нельзя было отказать в находчивости. — В этой моей скромной работе нет ничего, достойного восхищения. Вы наверняка видели все эти великолепные статуи, о которых я знаю лишь понаслышке; что может вас привлекать в грубой лепке неумелой девушки?
— Клянусь троном цезаря, госпожа, — воскликнул он с глубоким убеждением, внимательно разглядывая бюст Итиэля, — сам я не ваятель, но кое-что смыслю в этом благородном искусстве, ибо дружу с человеком, считающимся лучшим ваятелем наших дней, и в наказание за свои грехи мне часто приходилось ему позировать. Могу утверждать, что ещё никогда великий Главк не создавал подобного бюста.
— Уверена, что нет, — улыбнулась Мириам. — Боюсь, он просто вытаращил бы глаза, увидев этот камень.
— Возможно, и да — от зависти. Он сказал бы, что это творение одного из великих мастеров-греков, а не ныне живущего ваятеля.
— Господин, — с укоризной сказал Итиэль, — не подтрунивайте над девушкой, которая делает, что может; вы её огорчаете — это нехорошо.
— Друг Итиэль, — весь побагровев, ответил Марк, — неужели ты считаешь меня невоспитанным мужланом, который приходит в гости к ваятелю, чтобы посмеяться над его работой, кто бы он ни был. Я говорю, что думаю, ни больше ни меньше. Если бы показать этот бюст в Риме, друг Итиэль, а тебя поставить бы рядом, для сравнения, госпожа Мириам прославилась бы в течение недели. Да. — И он скользнул взглядом по различным статуэткам, уже обожжённым или ещё в сырой глине, изображающим верблюдов, других животных или птиц. — Да. И всё остальное так же превосходно, просто чудо.
Мириам, хотя и не могла сдержать довольства этой преувеличенной, как ей казалось, похвалой, залилась звонким смехом; ей громко вторили Итиэль и Нехушта.
Лицо ещё более разгневанного Марка стало бледным и строгим.
— Сдаётся мне, — сурово произнёс он, — что это вы подтруниваете надо мной. Скажи мне, госпожа, что ты делаешь со всем этим? — И он показал на глиняные фигурки.
— Я, господин? Продаю их, вернее, их продают мои дядюшки.
— А вырученные деньги идут на помощь беднякам, — вмешался Итиэль.
— И могу я спросить: по какой цене?
— Иногда, — с гордостью ответил Итиэль, — проходящие мимо путники дают мне по серебряному шекелю. А за караван верблюдов с погонщиками-арабами я получил целых четыре шекеля, но моя племянница трудилась над этой вещью три месяца.
— Шекель! Четыре шекеля! — воскликнул Марк тоном глубокого разочарования. — Да я закуплю их все до одной. Но нет, это был бы чистейший грабёж. А сколько может стоить этот бюст?
— Он не предназначается для продажи, господин, — это дар моему дяде, вернее, моим дядюшкам, чтобы его выставили в зале собраний.
Марка осенила внезапная мысль.
— Я здесь пробуду несколько недель, — сказал он. — Скажи, госпожа, если твой дядя Итиэль разрешит тебе изваять мой бюст такой же величины и такой же превосходный, сколько ты возьмёшь за свой труд?
— Это стало бы вам дорого, — с улыбкой ответила Мириам. — Мрамор обходится недёшево, к тому же резцы быстро стачиваются. Это стало бы вам очень дорого, — повторила она, раздумывая, сколько может запросить на нужды благотворительности. — Это стало бы вам, — наконец решилась она назвать цифру, — в пятьдесят шекелей.
— Я человек небогатый, — спокойно сказал Марк, — но я готов выложить двести шекелей.
— Двести? — ахнула Мириам. — Это просто баснословная сумма. Я никогда не согласилась бы взять столько за кусок мрамора! Возьми я такие деньги, вы имели бы полное право говорить, что попали в лапы к разбойникам на берегу Иордана. Нет. Если дядюшки дадут позволение и у меня будет свободное время, я возьмусь сделать ваш бюст за пятьдесят, но я советую вам отказаться от этой затеи, ибо, чтобы получить бюст, в котором вы, чего доброго, себя не узнаете, вам придётся позировать много часов, а это занятие весьма и весьма утомительное.
— Я готов, — изъявил своё согласие Марк. — Как только я доберусь до какого-нибудь цивилизованного места, я пришлю тебе достаточно заказов, чтобы все здешние бедняки стали богачами, — с совсем другой оплатой. Начнём сразу же.
— Сначала я должна получить разрешение, господин.
— Это дело, — пояснил Итиэль, — должно получить одобрение совета кураторов, который соберётся завтра. Между тем я не вижу большой беды, если моя племянница, пока мы здесь разговариваем, начнёт лепить ваш глиняный бюст; если совет откажет в разрешении, его можно будет разбить.
— Надеюсь, ваш мудрый совет не сделает подобной глупости, — пробормотал Марк себе под нос и громко сказал: — Где мне сесть, госпожа? Обещаю быть самым терпеливым из всех натурщиков. И не забудь, что великий Главк — мой друг. Боюсь, правда, что нашей дружбе придёт конец, если я покажу ему изваянный тобой бюст.
— Прошу вас, господин, сядьте на этот табурет и смотрите прямо на меня.
— Весь к твоим услугам, — весело сказал Марк. И работа началась.
Глава VIII
МАРК И ХАЛЕВ
Наутро Итиэль, как и обещал, ходатайствовал перед советом кураторов, который все решения относительно своей подопечной принимал полным составом, о том, чтобы Мириам позволили изваять бюст центуриона Марка. Мнения разделились. Одни не видели в этом ничего предосудительного, другие же, более строгих взглядов, были против того, чтобы разрешить римлянину, человеку, скорее всего, беспутному, позировать молодой госпоже, которую они все ласково называли своей «дочкой». Позволение так, вероятно, и не было бы дано, если бы один из кураторов, поумнее других, не напомнил, что римский центурион прислан, чтобы составить донесение об их общине, и едва ли разумно отказывать ему в довольно невинном желании. В конце концов было вынесено компромиссное решение. Мириам было позволено изваять бюст, но только в присутствии Итиэля и двух других кураторов, одним из которых был её собственный учитель.
Вот так и случилось, что, явившись в назначенный Итиэлем час, Марк увидел в мастерской трёх седобородых, облачённых во всё белое старцев; за ними с улыбкой на своём тёмном лице сидела Нехушта. При его появлении они все встали и поклонились; на это приветствие он ответил поклоном. Тут подошла и Мириам, которую он также приветствовал.
— Эти люди, — спросил он, показывая на пожилых братьев, — ждут своей очереди позировать или же они ценители?
— Они ценители, — сухо ответила Мириам, снимая тряпки с большого кома глины.
Началась работа. Трое кураторов сидели в ряд в самом конце мастерской и не собирались оставлять свои места, откуда трудно было наблюдать за движениями Мириам; все трое встали чуть свет, день был жаркий, и очень скоро их сморил сон.
— Посмотри на них, — сказал Марк, — неплохой сюжет для любого ваятеля.
Мириам кивнула, взяла три комка глины и, к восхищению Марка, быстро, не говоря ни слова, вылепила грубоватые, но очень схожие портреты этих достойных людей, которые, проснувшись, весело над ними посмеялись.
Так продолжалось изо дня в день. Всякий раз пожилые кураторы являлись на сеанс и каждый раз засыпали на своих удобных стульях; их примеру следовала или прикидывалась, будто следует, и Нехушта, оставляя Мириам наедине с её натурщиком. Нетрудно догадаться, это последний, будучи человеком общительным и разговорчивым, не упускал представлявшихся ему возможностей. О чём только не беседовали эти двое! Он рассказывал ей о своей богатой событиями жизни, опуская кое-какие подробности; рассказывал о войнах, в которых участвовал, и странах, где побывал. Она, в свой черёд, рассказывала ему простую историю своей жизни среди ессеев, и он с интересом её слушал. По исчерпании этой темы они перешли к другим, в частности к религии. Мириам рискнула изложить ему основы христианства, и он выслушал её внимательно и с почтением.
— Звучит убедительно, — сказал он наконец со вздохом, — но применимы ли подобные высокие принципы в этом мире? Хотя я и не стар, госпожа, я уже изучал много религий. Есть боги греческие, есть наши римские — чем меньше о них сказано, тем лучше. Есть ещё боги египетские, я расспрашивал и о них и пришёл к выводу, что под покровом странного поклонения им таится искра божественного огня. Есть ещё и боги финикийские, прародители чудовищной религии. Далее следуют огнепоклонничество и другие родственные им восточные верования. Остаются ещё евреи, чьё учение, на мой взгляд, носит отпечаток варварства, ибо включает в себя кровопролитие и ежедневное жертвоприношение живых существ. К тому же они раздроблены на множество сект, эти евреи: среди них есть фарисеи, саддукеи, ессеи и, наконец, вы, христиане, чья религия как будто бы отличается нравственной чистотой, но объединяет всех в ненависти к себе. Что может дать вера в распятого проповедника, обещающего воскресить после смерти всех, кто в него верует?
— Это вы поймёте, когда все остальные вам изменят, — ответила Мириам.
— Да, это религия для тех, которым всё изменило. Мы же, потеряв всё, совершаем самоубийство, уходим в небытие.
— А мы, — гордо ответила она, — воскресаем для жизни вечной.
— Возможно, госпожа, возможно, но поговорим о чём-нибудь более весёлом. — И он вздохнул. — Я по крайней мере считаю, что нет ничего вечного — кроме искусства, такого, как твоё...
— Которое будет позабыто с первым же изменением вкусов или погибнет в пламени пожара. Но смотрите, мой учитель просыпается. Подойдите, учитель, помогите мне вылепить эту ноздрю; она что-то никак не получается.
Старый художник осмотрел бюст с нескрываемым восхищением.
— Дорогая Мириам, — сказал он, — в своё время я кое-что смыслил в ваянии и обучал тебя его начаткам. Но теперь, моё дитя, я не достоин месить даже глину для тебя. Вылепи ноздрю сама; подмастерье может таскать кирпичи для божественного зодчего, но не давать ему советы. Я не хочу вмешиваться, не хочу вмешиваться, и всё же... — И он высказал своё предложение.
— Так? — спросила Мириам, притрагиваясь к глине. — Теперь всё в порядке. Вы хорошо знаете своё дело, мой учитель.
— И до этого всё было в порядке. Может быть, я и хорошо знаю своё дело, но у тебя поистине великий дар; ты обнаружила бы свою ошибку и без моей подсказки.
— Что я говорил! — торжествующе воскликнул Марк.
— Господин, — ответила Мириам, — вы очень щедры на похвалы, но я сомневаюсь в их искренности. Прошу вас, помолчите, для меня сейчас важнее очертания вашего рта, чем произносимые им слова.
Работа продолжалась. Они не всегда беседовали, ибо скоро поняли, что и молча прекрасно понимают друг друга. Однажды Мириам спела песню; убедившись, что Марк слушает её с удовольствием, зато кураторы спят ещё крепче под звуки её пения, она стала часто петь странные, грустные песни жителей пустынь и иорданских рыбаков. Она рассказывала ему сказки и легенды, а когда утомлялась, на помощь ей приходила Нехушта; она рассказывала дикие ливийские сказки, тёмные по содержанию, с кровавыми убийствами, среди них и волшебные, где действовали силы добра или зла. Так в беспечной радости протекали дни; и вот наконец глиняный бюст был завершён, каменщики приготовили кусок мрамора, и Мириам принялась за окончательную доделку.
Радости не испытывал лишь один человек. С того времени, как Халев увидел Мириам, идущую рядом с Марком, он возненавидел обаятельного римлянина, не без основания видя в нём опасного соперника. И как возненавидел! Даже при самой первой встрече он не мог сдержать ярости и зависти: эти чувства сверкали в его глазах, как предупреждающие об опасности сигналы, и Марк не преминул их заметить.
Мириам в последние дни Халев почти не видел. Она не таила на него зла, ибо женщины легко прощают подобные обиды, но в душе побаивалась. Ниспала завеса, девушка заглянула в самую глубь сердца молодого человека и увидела неистовствующее там пламя. Только тогда поняла она со всей ясностью, что всё сказанное им — правда: этот сирота, которого чурались даже кроткие старейшины ессеев, любил одно-единственное существо — её, Мириам, но испытывал ненависть ко многим. Она поняла, что Халев и впрямь готов расправиться с каждым, кто встанет у него на пути, завоевав её любовь, — и эта мысль испугала её. Такой же страх кольнул её в сердце, когда она увидела, какими злыми глазами смотрит Халев на Марка, хотя римлянин не вызывает у неё никаких чувств, кроме дружеского расположения. Но она знала, что Халев думает, будто она влюблена.
Всё это время Мириам его почти не видела, но была убеждена, что он прячется где-то поблизости и неусыпно за ней следит. Марк сказал ей, что — куда бы ни пошёл — всюду встречает этого красивого юношу с мечтательным взглядом, по имени Халев. Страх Мириам стал ещё сильнее, и, как потом выяснилось, не без оснований.
Однажды, во время очередного сеанса, когда трое пожилых ессеев, как обычно, были погружены в сон, Марк сказал вдруг:
— Да, совсем было запамятовал. Я установил, кто именно убийца этого иерусалимского грабителя, ведь меня прислали сюда и для расследования этого дела. Это твой друг Халев.
Мириам вздрогнула так сильно, что процарапала резцом один из завитков мраморных волос.
— Ш-ш-ш, — сказала она, взглянув на спящих, один из которых храпел так сильно, что даже начал пробуждаться от собственного храпа, и шёпотом добавила: — Они же ничего не знают.
Он в недоумении покачал головой.
— Я должна поговорить с вами об этом деле, — взволнованно продолжала она, по-прежнему шёпотом, — но не сейчас и не здесь, а с глазу на глаз.
— Когда и где тебе угодно, — улыбаясь, ответил Марк, которому, видимо, была приятна мысль о свидании наедине с Мириам, хотя он и знал, что она хочет поговорить с ним всё о том же злополучном Халеве. — Назови время и место, госпожа.
Храпун-куратор окончательно проснулся и шумно встал со стула, разбудив и остальных; поднялась с места и Нехушта и, как будто невзначай, опрокинула медный поднос с резцами.
— Через час после заката, в саду. Калитка будет не заперта.
— Хорошо, — ответил Марк и громко добавил: — Нет, нет, госпожа... О боги, что за шум!.. Мне кажется, мой локон стал только лучше от этой случайной царапины. А то он блестел, словно навощённый по египетскому обычаю... Зачем вы затрудняете себя, почтенные? — обратился он к старейшинам. — Боюсь, эти долгие посиделки для вас слишком утомительны; да в них и нет никакой необходимости.
Солнце уже скрылось, последние алые отблески исчезли с западного неба, залитого теперь мягким светом молодой луны. Мир омыли красота и покой, смягчились даже суровые очертания окрестных гор, бледные воды Мёртвого моря и пепельно-серый лик пустыни замерцали, как будто только что отлитые из серебра. От олеандров и лилий, окаймляющих оросительные каналы, и от белых цветов апельсиновых деревьев заструились восхитительные ароматы; только лай бродячей собаки и вой шакала в пустыне изредка нарушали царящее вокруг безмолвие.
«В такую чудесную ночь — и говорить о Халеве!» — подумал Марк, за десять минут до назначенного срока выходя из-за деревьев, насаженных вдоль высокой наружной стены, на открытое место. Заметь Марк, что через маленькую калитку, которую он забыл за собой запереть, за ним, крадучись как кошка и стараясь держаться в тени, шмыгнул Халев и тут же спрятался среди деревьев, он, вероятно, вспомнил бы пословицу, гласящую, что змеи прячутся в самой зелёной траве, а самые красивые цветы растут на колючих стеблях. Но в этой лунной ночи он был охвачен радостным предвкушением встречи с очаровательной, утончённой молодой госпожой, чей образ гак прочно завладел его воображением, что он даже задумывался, сможет ли справиться с этим наваждением. Оставалось надеяться только, что это свидание при свете луны разочарует его. Такое бывает, если верить пословице.
В сумрачном, унизанном росой саду мелькнуло белое платье, за ним тёмное, и его сердце замерло, а затем забилось учащённо и прерывисто. Разумеется, он не знал, что в нескольких шагах позади него замерло, а затем забилось в судорожной ярости ещё одно сердце. Возможно, и в девичье сердце закралось какое-то новое, ещё не изведанное чувство.
— Жаль, что она взяла с собой служанку, — прошептал Марк. — А впрочем, не стоит жалеть, может быть, это к лучшему. Найдутся, верно, такие злопыхатели, которые сурово её осудят. — И, на своё счастье, он сделал несколько шагов навстречу белому платью, так что Халев, прятавшийся под деревьями, почти не мог слышать его разговор с Мириам.
Марк стоял перед Мириам; лунный свет озарял её тонкое лицо, поблескивал в её спокойных глазах, всегда напоминавших ему голубую бездну небес.
— Господин... — начала она.
— Прошу тебя, — перебил он, — зови меня просто Марком, без всяких церемоний.
— Центурион Марк, — повторила она, слегка растягивая незнакомое имя. — Простите, что побеспокоила вас в такое неурочное время.
— Охотно прощаю, госпожа Мириам, — ответил он, также растягивая её имя и передразнивая её выговор так потешно, что даже мрачная Нехушта улыбнулась.
Мириам укоризненно помахала тонкой рукой.
— Честно сказать, я хотела бы поговорить с вами о Халеве!
— Дался тебе этот Халев, чтобы ему провалиться в преисподнюю! Да так, вероятно, скоро и будет, — сердито перебил Марк.
— Именно это я и хочу предотвратить. Я встретилась с вами, чтобы поговорить о Халеве.
— О Халеве так о Халеве. Что же ты хочешь мне сказать?
Мириам сжала руки.
— Что вы о нём знаете, центурион Марк?
— Что знаю? А вот что: соглядатай из моего отряда нашёл одного местного малого, который собирал грибы — или ещё что-то, не помню — в высохшем русле реки недалеко отсюда и видел, как Халев подстрелил из кустов этого иерусалимского грабителя. И это не всё, он нашёл и ещё одного человека, который видел, как упомянутый Халев выкрал одну стрелу из колчана убитого, эта-то стрела — или очень на неё похожая — и торчала у него в горле. Вина Халева твёрдо установлена, и мой долг — завтра же арестовать его и препроводить в Иерусалим, где его делом займутся священники. Удовлетворено ли твоё любопытство, госпожа Мириам?
— Нет, — сказала она, — этого не может, не должно быть. Солдат ударил его, и он отплатил ударом за удар.
— Стрелой за удар кулаком, ты хочешь сказать, или остриём копья за удар древком? Но, госпожа, ты, видимо, пользуешься неограниченным доверием Халева. Откуда ты всё это знаешь?
— Я не знаю, только догадываюсь. Да нет, я совершенно уверена в невиновности Халева.
— Почему ты так горячо его защищаешь? — с подозрением спросил Марк.
— Потому что он друг моего детства, товарищ по играм.
Он гмыкнул.
— Странная пара — голубка и ворон. Хорошо хоть, ты не заразилась от него горячностью, а то ты была бы ещё опаснее, чем сейчас. Чего же ты хочешь от меня?
— Я хочу, чтобы вы пощадили Халева. Вы... вы можете не поверить показаниям этих свидетелей...
— И только-то? — в притворном ужасе воскликнул Марк. — Кто бы мог подумать, что девушка, которую я считал образцом добродетели, окажется столь безнравственной! Ты хочешь склонить меня к нарушению долга?
— Да, хочу. К тому же все здешние крестьяне — отъявленные лгуны.
— Госпожа, — с суровой убеждённостью произнёс Марк. — Я вижу, Халев не довольствовался ролью товарища по играм — он усиленно за тобой ухаживал. Так я и подумал с самого начала.
— О, — ответила она, — откуда вы можете это знать? К тому же он обещал никогда больше этого не делать.
— Откуда я могу это знать? Просто думаю, что Халев был бы ещё большим глупцом, чем я его считаю, если бы не пытался за тобой ухаживать. Будь на то моя воля, его навсегда лишили бы этой возможности. А теперь скажи откровенно, если, конечно, женщина способна на полную откровенность: любишь ли ты Халева?
— Я, я? Люблю ли я Халева? Конечно же нет! Если вы мне не верите, спросите у Нехушты.
— Благодарю. Я удовольствуюсь твоим собственным ответом. Ты отрицаешь, что любишь его, и я склонен тебе поверить; с другой стороны, именно такого ответа и следовало ожидать: всякий другой мог бы повредить Халеву. В разговоре со мной, во всяком случае.
— В разговоре с вами? Да какая вам разница, люблю я или нет Халева, который, признаюсь, пугает меня своими неожиданными выходками.
— Поэтому ты так упорно его защищаешь?
— Нет, — сказала она с внезапной суровостью, — я защищаю его так же упорно, как защищала бы в подобном случае и вас, — потому что он мой друг, и, если он в самом деле совершил то, в чём вы его обвиняете, у него есть на то свои оправдания.
— Хорошо сказано, — проговорил Марк, не спуская с неё глаз. Да и как было не залюбоваться ею?! Она стояла перед ним, сжав руки; её грудь высоко вздымалась, милое бледное лицо раскраснелось от волнения, а прелестные глаза подёрнулись слезами. Глядя на неё, Марк вдруг потерял самообладание. Страстное влечение к этой девушке и горькая ревность к Халеву двумя мощными волнами накатили на его сердце.
— Ты говоришь, что не любишь Халева, — сказал он. — Поцелуй меня — и я тебе поверю.
— Как может это доказать, что я говорю правду? — негодующе спросила она.
— Не знаю; да и честно сказать, мне всё равно. Поцелуй меня — и я поверю, что все здешние крестьяне — лгуны. Я уже начинаю верить.
— А если я откажусь?
— Тогда я вынужден буду передать это дело в иерусалимский трибунал.
— Нехушта, Нехушта, ты слышала? Что мне делать?
— Что тебе делать? — сухо заметила Нехушта. — Если ты хочешь поцеловать благородного Марка, я не стану тебя укорять и никому не скажу об этом. Но, если это тебе претит, ты будешь большой дурой, пожертвовав собой ради спасения Халева.
— Нет, я это сделаю — и только ради спасенья Халева, — всхлипнула Мириам и потянулась к римлянину.
К её изумлению, он отстранился, закрыв лицо рукой.
— Прости меня, — сказал он. — Мне очень совестно, что я вымогал у тебя поцелуй. Я позабылся, и виной тому — твоя красота, твои чары. Прошу тебя, — скромно добавил он, — не думай обо мне плохо; случается, и мы, мужчины, тоже проявляем слабость... Хорошо, я удовлетворю твою просьбу, в нарушение закона. Допустим, эти свидетели и впрямь солгали; во всяком случае, если он и совершил преступление, то заслуживает снисхождения, он может меня не остерегаться.
— Но зато тебе следует его остерегаться, — вмешалась в разговор Нехушта. — И мне очень жаль, что это так, ибо ты, господин Марк, поистине благородный человек.
— Ну что ж, наше будущее — в руках богов: чему быть, того не миновать. До свидания, госпожа Мириам, я твой скромный слуга и друг, желаю тебе спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — ответила она. — Да, Нехушта права: вы человек очень благородный. — И она посмотрела на него таким взглядом, что у него мелькнуло желание вновь попросить её о поцелуе, и на этот раз он был уверен в её согласии. Но Марк не поддался искушению. До сих пор он, как это было свойственно молодым римлянам, почти ни в чём себе не отказывал; и вот он впервые вкусил радость самообуздания; в его душе зародилось какое-то странное новое чувство — чистое и высокое. И он ощущал неизъяснимое удовлетворение.
Из всего сказанного в саду Халев, как ни старался, не мог уловить ни слова. Никто из троих не повышал голоса, стояли они достаточно далеко, и, как ни тянул Халев шею, его острый слух не мог различить отдельных произнесённых слов; он слышал лишь смутный гул голосов. Зато его глаза не упускали ни единого движения, ни единого жеста. Ясно только, что происходит страстная любовная сцена, ибо Нехушта стоит спиной к Мириам и римлянину, пока между ними идёт объяснение. Затем, как он и ожидал, наступил кульминационный миг. Ах, бесстыжая, — они целуются! Глаза Халева застлало туманом; этот туман как будто прорезали раскалённые мечи огня; кровь барабанила в висках; сердце разрывалось от ярости. Он убьёт этого римлянина на месте. Мириам никогда больше его не поцелует — разве что мёртвого.
Халев уже вытащил короткий меч, спрятанный под свободной одеждой, и вышел из тени деревьев, как вдруг опомнился. Рассудок его обрёл равновесие, как выправляется судно, сильно накренённое яростным шквалом: вернулась обычная осторожность. Если он бросится на римлянина, эта подлая служанка Нехушта, вероятно, им подкупленная, придёт своему покровителю на помощь и вонзит свой кинжал в спину ему, Халеву. А если он и избежит этой опасности, они позовут ессеев и передадут его в руки правосудия. Он же хотел только убить, но не быть убитым. Конечно, очень заманчиво поразить мечом римлянина, но если при этом погибнет и он сам, Мириам достанется кому-нибудь третьему, и что он от этого выгадает? Скоро они выговорятся; его враг пойдёт обратным путём, тогда, может быть, и представится удобный случай напасть на него. Надо подождать, надо подождать.
Ага, они расстались; Мариам направляется к дому, а Марк — в его сторону; и у него такой вид, как будто он во сне. Только Нехушта на прежнем месте: стоит, опустив глаза, о чём-то задумалась. Всё ещё как во сне, Марк прошёл мимо него на расстоянии протянутой руки. Отворил калитку, вышел и закрыл её за собой. Халев последовал за ним. В восьми — десяти шагах в ограде была другая калитка, которая вела в сад странноприимного дома. Когда он хотел захлопнуть её, Халев быстро протиснулся внутрь, — и они оказались лицом к лицу.
— Кто ты такой? — спросил римлянин, отпрыгивая.
К этому времени Халев обрёл достаточное хладнокровие; он закрыл калитку и запер на засов. И только тогда ответил:
— Я Халев, сын Хиллиэля. Хочу с тобой поговорить.
— А, Халев, — сказал Марк. — И, если в этом сумраке глаза меня не обманывают, как всегда, в препакостном настроении... Какое же у тебя ко мне дело, Халев, сын Хиллиэля?
— У меня к тебе очень важное дело, Марк, сын Эмилия. Речь идёт о жизни и смерти, — ответил он таким тоном, что Марк обнажил меч и стоял, внимательно за ним наблюдая.
— Говори ясно и коротко, молодой человек.
— Хорошо, буду говорить ясно и коротко. Я люблю эту госпожу, с которой ты только что расстался, и ты тоже её любишь или делаешь вид, что любишь. Не отрицай, я видел всё, даже ваши поцелуи. Она не может принадлежать нам обоим, и я надеюсь, что когда-нибудь она будет принадлежать мне, если, конечно, меня не подведут сейчас глаз и рука. Один из нас должен сегодня умереть.
Марк отступил назад, отнюдь не испуганный, но ошеломлённый.
— Да ты, оказывается, не только наглец, но и лжец, — сказал он. — Никаких поцелуев не было, говорили мы о спасении твоей шкуры; я обещал ей пощадить тебя, хотя ты и совершил тяжкое преступление — убил человека.
— Да ну! — осклабился Халев. — Кто бы мог подумать, что благородный центурион Марк будет прятаться за женщин?! Что до всего прочего, то моя жизнь — всецело моя, и никто не имеет права ею распоряжаться. Защищайся, римлянин, потому что я хочу убить тебя в честном поединке. Будь у меня другие намерения, ты был бы уже мёртв, даже не зная, чья рука поразила тебя. И не тревожься, я по меньшей мере тебе ровня, ибо мои предки были уже людьми родовитыми, когда твои были ещё дикарями.
— Да ты просто рехнулся, малый! — воскликнул Марк. — Неужели ты думаешь, что я, человек, прошедший три войны, испугаюсь безусого юнца, пусть самого что ни на есть злобного? А если бы я и впрямь испугался тебя, стоит мне свистнуть в свисток, — и моя охрана тут же уведёт тебя на позорную казнь. Подумай лучше о себе. Хотя в нашем положении и есть большая разница, я готов сражаться с тобой. Но только пойми: если я убью тебя, на том и конец делу, но если ты случайно убьёшь меня, тебя схватят как дважды убийцу. Я прощаю тебя, потому что знаю, как мучительны бывают муки ревности в юности, и ещё потому, что ты не пытался убить меня исподтишка, хотя у тебя и была такая возможность. Потому говорю тебе, ступай себе с миром, зная, что я сдержу своё слово.
— Хватит разговоров, — сказал Халев, — выходи на свет.
— Ну что ж, я рад, что ты этого хочешь, — сказал Марк. — Я сделал всё, что могу, для твоего спасения, но должен заметить, что было бы очень неплохо избавить мир, госпожу Мириам и себя от такого опасного зверёныша, как ты. Какое у тебя оружие? Короткий меч, и ты без доспехов? Я тоже вооружён коротким мечом и тоже без доспехов. Но на мне обшитая стальными пластинами шапочка, а у тебя её нет. Снимаю шапочку. Теперь мы в равном положении. Обмотай накидку вокруг левой руки, как эта, делаю я. Неплохая замена щиту. Место здесь удобное, но свет слишком тусклый. Итак, начали!
Халев не нуждался в поощрении. Одно мгновение они стояли друг против друга как воплощение двух миров — западного и восточного; римлянин — крепкого сложения, с прямым честным взглядом, бдительный и бесстрашный, голова приоткинута, ноги широко расставлены, обмотанная плащом рука протянута вперёд; другая рука с мечом — сбоку. Его противник, еврей, — весь в напряжении, как готовящийся к прыжку тигр, полузакрытые глаза как будто вбирают в себя свет, лицо перекошено яростью, все мышцы пронизаны трепетом, впечатление такое, словно вся его плоть движется на костях, как у змеи. С негромким криком он прыгнул вперёд, и этим свирепым нападением бой начался и завершился.
Марк был наготове, он хорошо знал, что делает. Отпрянув в сторону, он поймал меч Халева в замотанную вокруг руки накидку и, не желая его убивать, ударил мечом по руке, отрубив, указательный палец и поранив остальные; палец упал вместе с мечом. Марк наступил ногой на его лезвие и обернулся.
— Молодой человек, — сурово произнёс он, — ты получил неплохой урок, отныне и до самой смерти ты будешь носить мои отметины. А теперь проваливай.
Несчастный Халев стиснул зубы.
— Мы договаривались сражаться до смерти, — сказал он, — до смерти. Ты победил, убей же меня! — И окровавленной рукой он разорвал на себе одежду, подставив обнажённую грудь для удара мечом.
— Оставь такие разговоры для лицедеев, — ответил Марк. — Проваливай и помни: если ты когда-нибудь поступишь со мной предательски или станешь досаждать госпоже Мириам, я убью тебя, непременно убью!
С полупроклятием, полувсхлипом Халев повернулся и ушёл. Пожав плечами, Марк также повернулся и хотел было направиться к дому, как вдруг на него упала тень, и, осмотревшись, он увидел Нехушту.
— Откуда ты явилась, почтеннейшая ливийка? — спросил он.
— Из-за гранатовых деревьев, мой римский господин. Я всё видела и всё слышала.
— В самом деле? Тогда, надеюсь, ты похвалишь меня за владение мечом и за моё долготерпение.
— Да, мечом ты владеешь неплохо, хотя сражаться с безумцем — дело нетрудное. Но твоё долготерпение свидетельствует только о глупости.
— Такова, — философски заметил Марк, — награда добродетели. Но я хотел бы знать почему.
— Потому, мой господин Марк, что этот Халев будет опаснейшим человеком во всей Иудее, и опасность угрожает прежде всего моей госпоже Мириам и тебе. Тебе следовало воспользоваться этим случаем и убрать его, прежде чем ему представится возможность убить тебя.
— Может быть, ты и права, милейшая ливийка, — позёвывая, ответил Марк. — Но в последнее время я общался с христианкой и усвоил кое-какие заповеди её религии... Это неплохой меч. Возьми его себе. Спокойной ночи!
Глава IX
ПРАВОСУДИЕ ПРОКУРАТОРА ФЛОРА[42]
На другое утро Халева не оказалось на перекличке неофитов-ессеев. Не откликнулся он и на последующих проверках. Долгое время никто не знал, что с ним, пока не пришло письмо, где он уведомлял совет кураторов о своём решении не вступать в общину ессеев, так как не чувствует должного призвания; он также писал, что находится у друзей своего покойного отца, не уточняя, где именно. Более ессеи не интересовались его судьбой. После того, как крестьянин, случайно оказавшийся свидетелем преступления, рассказал, что видел, как Халев застрелил иерусалимского стражника, даже самые простодушные ессеи догадались о причине его внезапного исчезновения. Не испытывали они и особого сожаления, ибо Халев во многих отношениях оказался далеко не образцовым учеником, и уже поговаривали о том, что его надо исключить из общины. Знай они, что перед бегством он оставил и меч, и указательный палец, они только укрепились бы в своём мнении. Но они не знали, знала только Мириам, которой Нехушта обо всём рассказала.
Прошла неделя, всё это время Мириам и Марк не встречались, так как необходимость в позировании отпала: Мириам могла завершить свою работу с помощью глиняного бюста. Она уже занималась окончательной полировкой, когда рядом мелькнула чья-то тень, и она увидела Марка в полном боевом облачении, хотя и без шлема; по всей видимости, он был уже готов отправиться в обратный путь. Нехушта куда-то ушла по домашним делам; Мириам находилась одна в своей мастерской. Так они впервые встретились наедине, без посторонних глаз.
Едва завидев Марка, Мириам вспыхнула и уронила тряпку, повисшую на шее бюста.
— Прошу извинить, госпожа Мириам, — поклонившись, без тени улыбки сказал Марк, — что я врываюсь без приглашения, но у меня не было времени заранее предупредить ваших стражей о моём приходе.
— Вы... вы покидаете нас? — с запинкой спросила она.
— Да, покидаю вас.
Подобрав тряпку, Мириам сказала:
— Работа будет закончена через несколько минут, вы можете взять бюст, если не передумали.
— Конечно, я его возьму. О цене я договорюсь с вашими дядюшками.
Она кивнула.
— Да, да, но с вашего позволения я хотела бы упаковать бюст сама, чтобы его не повредили при перевозке. С вашего же разрешения я хотела бы оставить себе глиняный бюст: он принадлежит мне по праву. Я не вполне удовлетворена своей работой и хотела бы сделать её заново.
— Мраморный бюст — просто чудо; если хочешь, можешь оставить себе глиняный. Я даже рад, что у тебя останется мой портрет.
Она вопросительно взглянула на него, но тут же отвела глаза.
— Когда вы уезжаете?
— В три часа дня. Моя работа также завершена; я написал отчёт; главный мой вывод, что ессеи — вполне достойные, безвредные люди, заслуживающие поощрения, а не преследования. Час назад прибыл гонец из Иерусалима: меня срочно отзывают. И хочешь знать почему?
— Если вы готовы сказать — да.
— Я, кажется, рассказывал тебе о своём дяде Кае, который при покойном императоре служил проконсулом в богатейшей провинции Испании и воспользовался теми возможностями, которые предоставляло ему высокое положение.
— Да.
— Старик тяжело болен. Боюсь, его даже нет в живых, хотя врачи и считают, что он может протянуть ещё десяток месяцев, а то и год. И вот, почувствовав приближение конца, он вдруг воспылал любовью к своим родственникам, вернее, к своему единственному родственнику, то бишь ко мне, и изъявил желание видеть мою скромную особу, хотя и много лет не давал мне ни гроша. Он даже возвестил в письме о своём намерении назначить меня своим наследником, «если сочтёт достойным», но сам-то я знаю, что не достоин быть его наследником, ибо всегда говорил ему прямо в глаза, что он худший изо всех людей. Однако он прислал мне приличную сумму денег на дорогу, вместе с письмом от цезаря Нерона на имя прокуратора, чтобы мне предоставили срочный отпуск. Вот почему, госпожа, мне необходимо ехать.
— Да, — ответила Мириам, — у меня нет опыта в подобных делах, но и мне кажется, что вам следует ехать. Через два часа бюст будет закончен и упакован. — И она протянула руку для прощания.
Марк задержал её руку.
— Мне очень не хочется прощаться с тобой вот так, — сказал он вдруг.
— Есть только один способ проститься, — ответила Мириам, пытаясь высвободить руку.
— Нет, способов проститься есть много, но я ненавижу их все: я не хочу разлучаться с тобой.
— Господин, — сказала она с кротким негодованием, — зачем расточать пустые любезности? Встретились мы на один час — расстаёмся на всю жизнь.
— Почему на всю жизнь? Не хочу скрывать, эта мысль для меня — нож острый.
— Но ведь тут ничего нельзя изменить... Отпустите мою руку. Я должна закончить и упаковать бюст.
Марк был в явном замешательстве; он как будто хотел поймать её на слове и уйти, но не мог.
— Значит, всё кончено? — спросила Мириам, глядя на него своими спокойными глазами.
— Я думаю, что нет, всё ещё только начинается. Я люблю тебя, Мириам.
— Марк, — ответила она, — мне не следует слушать такие признания.
— Почему? Каждый мужчина имеет право объясниться с женщиной — это никогда не считалось предосудительным.
— Да, но только честно, а в этом случае трудно говорить о честности.
Марк весь побагровел.
— Что ты хочешь сказать? Неужели ты предполагаешь, будто я?..
— Я ничего не предполагаю, центурион Марк.
— Неужели ты предполагаешь, будто я имею в виду не законный брак, а что-то иное?
— Нет, разумеется. Это было бы оскорбительно для вашей чести. Но я не могу допустить, что вы всерьёз предлагаете мне стать вашей женой.
— Именно это я и предлагаю, Мириам.
Её глаза смягчились, но она отвечала:
— Прошу вас — выкиньте эту мысль из головы; между нами — море глубокое.
— Которое называется Халев?
Она улыбнулась и покачала головой.
— Нет, это море называется иначе.
— Расскажи же мне о нём.
— Нет ничего проще. Вы римлянин, почитающий своих богов, я же христианка, поклоняющаяся своему Богу. Вот почему мы никогда не сможем соединиться.
— Почему? Я не понимаю. Если бы мы поженились, ты могла бы принять мою веру или я мог бы принять твою.
Это дело души и грядущего, а не тела и настоящего. Каждый день христианки выходят замуж за нехристиан, иногда даже обращают их в свою веру.
— Да, я знаю. Но для меня этот путь заповедан, даже если бы я и хотела его избрать.
— Почему?
— Потому что и мой зверски убитый отец, и моя мать перед смертью строго-настрого запретили мне выходить замуж за иноверца.
— И ты намерена соблюсти этот запрет?
— Да, конечно, — до самого конца.
— Даже если бы всей душой полюбила нехристианина?
— Даже если бы всей душой полюбила иноверца.
Марк отпустил её руку.
— Пожалуй, мне и в самом деле лучше уйти.
— Да.
Какое-то время он боролся сам с собой, затем сказал:
— Я не могу уйти, Мириам.
— Ты должен уйти, Марк.
— Ты любишь меня, Мириам?
— Да, люблю — да простит меня Христос!
— И как сильно, Мириам?
— Настолько, насколько может любить женщина.
— И всё же, — с горечью произнёс он, — ты отвергаешь меня, потому что я нехристианин.
— Потому что для меня главное — не любовь, а вера. Я должна принести свою любовь в жертву на алтарь веры; во всяком случае, — поспешила она добавить, — я связана вервием, которое нельзя ни порвать, ни рассечь. Такая попытка навлекла бы на нас проклятие Небес и моих родителей, ныне там обитающих.
— А если я приму твою веру?
Всё её лицо вдруг загорелось, но тут же погасло.
— Я не смею на это надеяться. Легко бросить фимиам на алтарь, но как сделать, чтобы переродилась душа, как начать новую жизнь. Не будем продолжать этот разговор. Зачем ты играешь со мной?
— Но ведь для того, чтобы душа переродилась и начать новую жизнь, надобно время.
— Да, время и стремление понять.
— Но подождёшь ли ты? С такой красотой и с таким милым характером у тебя не будет отбоя от поклонников.
— Я подожду. Я же призналась, что люблю вас; ни один другой человек не займёт вашего места в моей жизни. Я не выйду замуж ни за кого, кроме вас.
— Ты предлагаешь всё, не требуя ничего взамен. Это несправедливо.
— На всё воля Божия! Если он пожелает просветить вашу душу и сохранить нам обоим жизнь, когда-нибудь, в дни грядущие, мы сможем соединиться. Или же мы будем навсегда разлучены, и если соединимся — то только Вечным Утром.
— О Мириам, я не могу покинуть тебя. Просвети мою душу.
— Нет, Марк, вы должны постигнуть истину сами. Я не могу быть приманкой для ловли вашей души. Вам предстоит нелёгкий, очень нелёгкий путь. Прощайте же!
— Могу я написать тебе из Рима?
— Почему бы и нет, если у вас будет такое желание, но я уверена, что к тому времени вы избавитесь от наваждения, порождённого безлюдной пустыней и слишком яркой луной.
— Я напишу, и я возвращусь, тогда мы и поговорим обо всём этом; прощай же, моя дорогая, моя любимая, самая любимая на свете!
— Прощайте, Марк, и да пребудет с вами любовь Божия!
— А твоя любовь?
— Моя любовь всегда будет с вами, ибо вы покорили моё сердце.
— Значит, Мириам, я не зря прожил свою жизнь. Помни всегда, что я тебя боготворю — и чту ещё больше... — И, преклонив перед ней колена, он поцеловал сперва её руку, а затем кайму её платья, после чего повернулся и ушёл.
В ту ночь, при свете полной луны, Мириам увидела с крыши своего плоского дома, как Марк уезжает во главе своего отряда. На гребне небольшого холма за деревней он остановился, пропустил солдат и, развернув коня, посмотрел назад. В лунных лучах его доспехи отливали серебром между двух долин тени. Мириам догадывалась, куда устремлён его взгляд и что сейчас творится в его сердце. Ей даже почудилось, будто вокруг неё витают его полные любви слова и он слышит её ответное признание. И вдруг он стегнул коня и растворился в ночном мраке. И только после его окончательного исчезновения мужество покинуло её, она припала головой к парапету, и из её глаз полились кроткие, но очень горькие слёзы. И тут на её плечо опустилась рука и голос старой Нехушты произнёс:
— Не грусти. Тот, кто потерялся в ночи, может ещё возвратиться днём.
— Боюсь, это произойдёт не здесь, на нашей грешной земле. О Ну, он увёз с собой моё сердце, оставив вместо него нестерпимую муку в моей груди.
— Он возвратится, говорю тебе, он возвратится, — повторила Нехушта с яростной убеждённостью. — Ваши жизни слиты воедино, до самого конца — они нанизаны на одну нить. Не спрашивай, откуда я это знаю, но я знаю; поэтому успокойся, ибо я говорю тебе правду. И как бы ни была сильна твоя мука, ты можешь и должна её вытерпеть, иначе она не была бы тебе ниспослана.
— Но, Ну, что может изменить его возвращение, ведь на мне — суровый запрет моих родителей. Нарушить его — означает совершить великий грех и навлечь на себя проклятия Господа и людей.
— Не знаю, знаю только, что и в этой стене, как во всех других, должна быть какая-то дверь. Не тревожься о будущем. Оно в руках Того, кто его предопределяет. Довольно для каждого дня своей заботы. Так изрёк Он. Прими же Его слова с благодарностью. По-моему, завоевать любовь такого человека, как этот римлянин, — большое счастье; как подсказывает мне жизненная мудрость, он верен и честен; поистине благороден тот человек, который вырос в Риме, поклонялся римским богам — и всё же не утратил честности. Подумай обо всём этом и возблагодари Всевышнего, ибо множество людей не знали подобной радости, хотя бы и на час.
— Хорошо, я попробую, Ну, — скромно сказала Мириам, всё ещё глядя на гребень холма, заслонивший собой Марка.
— Ты не только попробуешь, но и возьмёшь себя в руки. Нам надо поговорить и ещё об одном деле. Принимая нас, ессеи оговорили, что по достижении полных восемнадцати лет ты должна будешь их покинуть. Этот срок миновал уже год назад; ты, вероятно, не знаешь, что совет ещё тогда обсуждал этот вопрос. Нарушать свои же постановления он не вправе, но был высказан аргумент, что слова «полных восемнадцати лет» означают девятнадцатилетие; а до твоего девятнадцатого дня рождения остаётся всего месяц.
— Стало быть, мы должны уйти, Ну? — растерянно спросила Мириам, ибо для неё весь мир сводился к этой деревне в пустыне, а круг близких людей ограничивался почтенными людьми, которых она именовала «дядюшками».
— Да, тем более что все догадываются, что поединок между Халевом и центурионом Марком произошёл из-за тебя. Об этом много толков: молодой дикий кот потерял лапу, подобранную садовником.
— Но ведь они знают, что тут нет никакой моей вины. Куда же мы пойдём, Ну? У нас нет ни друзей, ни дома, ни денег.
— Не знаю, но и в этой стене непременно должна быть дверь. Даже если случится самое худшее, у нас, христиан, много братьев; ты прекрасная ваятельница, с твоим искусством мы проживём в любом большом городе мира.
— Верно, — просветлела Мириам, — если, конечно, Марк и мой старый учитель говорят правду.
— К тому же, — продолжала Нехушта, — у меня сохранились почти все деньги, которые дал финикиец Амрам, когда мы бежали с твоей матерью, а также драгоценности, найденные в сундуке капитана галеры в ночь твоего рождения. Так что не бойся, мы не пропадём, да ессеи и не допустят этого... Я вижу, ты очень устала, моя девочка; поди отдохни, может быть, во сне к тебе вернётся твой возлюбленный.
С тяжёлым сердцем, так жестоко посрамлённый, Халев покинул деревню ессеев. Рано на рассвете после поединка с Марком, с палкой в забинтованной руке и котомкой с провизией за плечами, он тоже стоял на гребне небольшого холма, глядя на дом, где жила Мириам. Ни в любви, ни на войне ему не повезло; при одной мысли о своих неудачах он буквально скрежетал зубами. Мириам отвергла его, Марк одолел в первой же стычке, да ещё и пощадил ему жизнь, и, самое худшее, эти двое, от которых он претерпел столько мук, любят друг друга. Немногим доводилось страдать так нестерпимо, как ему; что может быть в юности причиной большего отчаяния, чем отвергнутая любовь и позорное поражение. С годами люди смиряются с несчастьями и неудачами. Конь, который в молодости взвивался от одного прикосновения хлыста, одряхлев, тяжело плетётся к живодёру, не обращая внимания на град сыплющихся на него ударов.
В это время из-за горизонта выкатился багровый шар солнца, наполняя мир светом и оживлением. Защебетали птицы, засновали зверьки, тени улетучились. Впечатлительное сердце Халева сразу же откликнулось на эту перемену в Природе. В его груди шевельнулась надежда; даже боль в покалеченной руке, казалось, улеглась.
— Окончательная победа всё равно будет за мной, — закричал он в безмолвное небо. — Все мои беды — позади. Я вознесусь надо всеми, словно сверкающее солнце; словно пылающее солнце, я спалю своих врагов. Это доброе предзнаменование. Теперь я рад, что римлянин пощадил меня; когда-нибудь я отниму у него и жизнь и Мириам.
Он повернулся и пошёл вперёд по залитой ярким светом земле, глядя, как убегает вдаль его собственная тень.
— Какая длинная у меня тень, — произнёс он, — и это тоже доброе предзнаменование.
По пути в Иерусалим Халев много раздумывал, беседовал со всеми встречными, не исключая разбойников и грабителей, которых не привлекал его убогий скарб, ибо он хотел знать, что делается в стране. Добравшись до Иерусалима, он отправился к подруге своей матери, которая в своё время отдала его, беспомощного сироту, на воспитание ессеям. Оказалось, что она уже умерла, но его принял её сын, человек добрый и гостеприимный; он приютил его в память о покойной матери. Рука скоро поджила, новый друг купил ему приличную одежду и дал немного денег, после чего Халев, не делясь ни с кем своими замыслами, отправился во дворец римского прокуратора Гессия Флора, чтобы получить у него аудиенцию.
Трижды ожидал он по многу часов, и каждый раз его прогоняли стражники. На четвёртый раз ему повезло.
Гессий Флор заметил его и спросил, кого он так терпеливо ожидает. Начальник охраны ответил, что он хочет обратиться к нему с какой-то просьбой.
— Я выслушаю его, — согласился прокуратор. — Для того я и нахожусь здесь, чтобы творить правосудие по милостивому повелению и от имени цезаря.
Халев предстал перед небольшим, темноглазым, с нависающими бровями и коротко стриженными волосами римлянином, одним из самых жестоких правителей Иудеи.
— О чём ты просишь, еврей? — спросил он резким голосом.
— Я прошу о правосудии, о благороднейший Флор, только о правосудии, попранном моими врагами. И не сомневаюсь, что вы восстановите справедливость. — При этих словах придворные и стражники прыснули со смеху, и даже сам Флор изволил улыбнуться.
— За правосудие надо платить, — сказал он.
— Я готов.
— Тогда излагай своё дело.
Халев рассказал. Много лет назад его отца случайно убили во время очередной смуты; он, Халев, был тогда ещё совсем малышом, и под тем предлогом, что его отец — сторонник римлян, зелоты захватили и поделили между собой всё оставшееся после него имущество, а он, законный наследник, лишившись всего, вынужден был обратиться за помощью к благотворительности. Зелоты или их наследники до сих пор владеют незаконно присвоенным имуществом, состоящим из богатых земель и недвижимости в Иерусалиме и Тире.
Чёрные глаза Флора зажглись алчными огоньками.
— Назови их имена, — сказал он, хватаясь за таблички.
Но Халев ещё не был готов назвать имена. Он сказал, что предварительно хотел бы заключить письменное соглашение, предусматривающее, какую долю имущества, если оно будет возвращено, передадут ему как законному наследнику. Прокуратор и Халев долго торговались и в конце концов договорились о нижеследующем: поскольку Халев пострадал из-за того, что его отец был сторонником римлян, все земли и большой дом со складом в Тире, вместе с половиной невзысканной задолженности, будут отданы ему. Правитель, «цезарь», как сказал прокуратор, получит всё имущество в Иерусалиме и другую половину задолженности. Халев проявил обычную свою предусмотрительность. Дома, объяснил он впоследствии, могут быть сожжены или снесены, но земле никто не может причинить никакого ущерба, разве что истопчет выросший на ней урожай. Соглашение было надлежащим образом подписано и засвидетельствовано, и только после этого Халев назвал имена и предъявил все имевшиеся в его распоряжении доказательства.
Через неделю люди, обобравшие Халева, или их наследники оказались в тюрьме; чтобы выйти на свободу, им пришлось пожертвовать не только всем украденным, но и своим собственным имуществом. Потому ли, что прокуратор был очень доволен столь большими и неожиданными приобретениями, потому ли, что Халев показался ему человеком, который может пригодиться в будущем, он в точности выполнил все условия соглашения.
Вот так благодаря странному повороту колеса фортуны, через месяц после бегства из общины ессеев, изгой и сирота Халев, которому угрожала смертная казнь через обезглавливание, оказался очень богатым и влиятельным человеком, с обширными владениями. Его звезда воссияла высоко в небе.
Глава X
БЕНОНИ
Через некоторое время Халев — уже не одинокий путник с палкой в руке и котомкой с провизией за плечами, а молодой человек благородной наружности, хорошо вооружённый, в мехах и пурпурной накидке, на великолепном коне и в сопровождении слуг выехал из Иерусалима. На холме за Дамасскими воротами он остановился и оглянулся на прославленный город с его многолюдными улицами, могучими башнями, роскошными дворцами и знаменитым на весь мир Храмом, возвышавшимся вдали, точно увенчанная сверкающим золотом восхода гора.
«После того как римляне будут изгнаны, этим городом буду править я», — сказал он себе, ибо отныне его честолюбию не было границ. Внезапно обрушившееся на него богатство и высокое положение удовлетворили бы большинство людей, но не Халева, которого теперь сжигало ещё большее стремление к славе, власти и всем благам мира. Деньги были для него лишь ступенью для восхождения вверх по лестнице жизненных успехов.
Сейчас Халев направлялся в Тир, чтобы вступить во владение тамошним своим домом, который ему, по велению прокуратора, должен был передать римский начальник округа. Была у него и другая цель. В Тире жил старый еврей Бенони, как он узнал много лет назад, дед Мириам; они были ещё детьми, когда Мириам рассказала ему всю свою историю. Этого-то Бенони, по некоторым своим соображениям, он и хотел видеть.
В день прихода Халева Бенони сидел в своём тирском дворце, в длинном портике, или, как мы теперь сказали бы, — на веранде, с видом на Средиземное море, голубые воды которого лизали отвесную скалу внизу. Дворец этот находился в островной части города, а не на материке, где жило большинство богатых сирийцев.
Бенони был очень красивым стариком. Живые, огнемётные глаза, нос, похожий на клюв хищной птицы, длинные снежно-белые волосы на голове и борода. Богатое, великолепное облачение, и поверх него — дорогие северные меха, ибо в это время года в Тире бывает довольно прохладно. Дворец вполне достоин своего хозяйка. Всё — из чистейшего мрамора; потолки и стены комнат отделаны панелями из благоуханного ливанского кедра; повсюду — множество серебряных лампад, статуэтки и фрески. На мраморных полах — пестроцветные, превосходнейшей выделки ковры; столы и стулья из ливийского эбенового дерева, инкрустированного слоновой костью и перламутром.
Владелец всех этих богатств — Бенони — с утра проверял реестр товаров, прибывших на корабле из Египта; затем, пообедав, улёгся на диван в портике, чтобы понежиться под солнцем; откинувшись на подушки, он скоро заснул; спал он беспокойно: ворочался с боку на бок, что-то бормотал, шевелил руками. И наконец, вздрогнув, привскочил на диване.
— О Рахиль, Рахиль, — простонал он, — ты преследуешь меня даже во сне! О моё дитя, моё дитя, неужели я мало ещё отстрадал? Почему ты всё время напоминаешь мне о моём тяжком грехе? Я не могу спокойно подремать на солнце. Ты приходишь, стоишь передо мной, бессильная и неподвижная, и что-то всё пытаешься сказать. Скажи же! Но нет, это не ты, это мой грех в твоём телесном обличии! — Закрыв лицо руками, Бенони раскачивался взад-вперёд и всё стонал, стонал.
И вдруг он соскочил с дивана.
— Нет, это был не грех — это было праведное деяние. Я принёс её в жертву, дабы умиротворить разгневанного Яхве, как Авраам хотел принести в жертву своего сына Исаака, но на меня и моих родных пало проклятие этого лжепророка. Во всём виноват Демас, этот пёс-полукровка, который заполз в мою конуру; она полюбила его, и я разрешил ей выйти за него замуж. А он отблагодарил меня чёрным предательством, и я... я покарал его. Не моя вина, что меч отсёк сразу две шеи. Пострадать должен был только он, он один. О Рахиль! О, моя навеки потерянная Рахиль, чьи останки покоятся на дне моря, — прости меня! Я не могу вынести твой взгляд. Я стар, Рахиль, совсем стар.
Так бормотал себе под нос Бенони, быстро расхаживая взад и вперёд; наконец, изнурённый своей страстной вспышкой, порождённой сновидениями, он опустился на диван.
Вошёл пышно одетый, вооружённый большим мечом привратник-араб и, убедившись, что хозяин не спит, отвесил низкий салам.
— В чём дело? — коротко спросил Бенони.
— Хозяин, с вами хочет поговорить молодой господин Халев.
— Халев? Я вроде бы не знаю такого... Нет, погоди. Должно быть, это сын Хиллиэля, которого римский наместник, — Бенони отвернулся и сплюнул, — восстановил в правах. Говорят, он живёт теперь в большом доме на набережной. Пригласи его.
Араб поклонился и вышел. Через несколько минут он ввёл Халева, теперь уже благородной наружности молодого человека в богатом одеянии. Бенони с поклоном пригласил его сесть. Халев по восточному обычаю приложил руку ко лбу и также поклонился. Хозяин заметил, что на руке у него недостаёт пальца.
— Я к вашим услугам, — любезно сказал Бенони.
— Я ваш раб, господин, — ещё более учтиво ответил Халев. — Вы, говорят, знавали моего отца. Поэтому по прибытии в Тир я тотчас же поспешил засвидетельствовать вам своё почтение. Я сын Хиллиэля, погибшего много лет назад в Иерусалиме. Вы, вероятно, слышали и о нём и обо мне.
— Да, — ответил Бенони, внимательно изучая взглядом своего посетителя. — Да, я знал Хиллиэля; человек он был умный, но всё же попался в расставленную для него ловушку. Ваше лицо убедительно доказывает, что вы сын Хиллиэля, сходство просто поразительное, как будто он сам передо мной.
— Ваши слова вселяют в меня гордость, — ответил Халев, хотя он уже догадался, что Бенони и его отец не слишком-то жаловали друг друга. — Вы знаете, — добавил он, — что мне возвращено — частично возвращено разграбленное отцовское наследство.
— С помощью Гессия Флора, как я догадываюсь; из-за этого он заточил в тюрьму много евреев, среди них и ни в чём не повинных.
— В самом деле? Как раз по этому поводу я и хотел с вами посоветоваться. Дело в том, что Гессий Флор забрал себе половину моего имущества. — Халев вздохнул и постарался напустить на себя негодующий вид.
— Вам повезло, что он не прибрал к рукам всё.
— Я вырос в деревне, вдали от городов, — прикидываясь простаком, сказал Халев. — Неужели нет такого закона, который помог бы нам восстановить справедливость? Может быть, вы что-нибудь сделаете, ведь вы такой влиятельный человек среди евреев.
— Нет, — ответил Бенони, — за римлянами все права, у евреев — только те, которые они осмеливаются взять. Вы можете обратиться с жалобой к цезарю — с тем же успехом, с каким шакал в одной басне жаловался льву. Но если вы человек мудрый, вы удовольствуетесь половиной задранной львом туши. И не такой уж я влиятельный человек; старый торговец, с которым никто уже не считается.
Халев понурился.
— Тяжёлые времена настали для нас, евреев, — сказал он. — Что поделаешь, придётся и впрямь довольствоваться тем, что я получил, и попытаться простить своих врагов.
— Довольствоваться, конечно, придётся, но врагов лучше всё же сокрушить, — заметил Бенони. — Вы были бедняком, а теперь богач, — благодарите же Господа!
— Я благодарю Его денно и нощно, — притворно искренним тоном сказал Халев.
Последовало недолгое молчание.
— Вы собираетесь поселиться в Хезране... я хочу сказать, в своём доме? — спросил Бенони.
— Ненадолго, пока не подыщу, кому его сдать. Я не привык жить в городах, в этой тесноте и духоте я просто задыхаюсь.
— Где же вы выросли?
— Среди ессеев, около Иерихона. Но я не ессей, их религия вызывает у меня отвращение; я держусь веры своих праотцев.
— Ессеи не такие уж плохие люди, — сказал Бенони. — Брат моей покойной жены — ессей, он большой добряк, хоть и глупец; зовут его Итиэль; вы, вероятно, его знаете?
— Да, знаю, он один из их кураторов и опекун госпожи Мириам, своей внучатой племянницы.
Старик сильно вздрогнул и, подавляя волнение, спросил:
— Простите, Мириам звали мою покойную жену — мне тяжело слышать это имя. Но каким образом эта девушка может приходиться внучатой племянницей Итиэлю? У него не было никаких родственников, кроме сестры.
— Не знаю, — беззаботно произнёс Халев, — говорят, госпожу Мириам — её зовут Царицей ессеев — лет девятнадцать — двадцать назад привела в их деревню ливийка по имени Нехушта. — Бенони снова вздрогнул. — Она сказала, что мать ребёнка, племянница Итиэля, умерла при кораблекрушении; перед самой смертью она родила девочку и велела служанке отнести её к ессеям. Ессеи согласились её принять, Итиэль стал её опекуном, и она до сих пор там, у них.
— Значит, госпожа Мириам приняла их религию? — медленно, хриплым голосом спросил Бенони.
— Нет, она христианка, мать пожелала, чтобы её воспитали в христианской вере.
Старик встал с дивана и заходил взад и вперёд по портику.
— Расскажите мне о госпоже Мириам, — попросил он. — Ваш рассказ заинтересовал меня. Как она выглядит?
— Невысокая, стройная и очень красивая — красивее нет, по-моему, никого на свете; к тому же очень милая и образованная.
— Это высокое мнение, — сказал Бенони.
— Если я преувеличиваю её достоинства, господин, то это вполне естественно.
— Почему вы так считаете?
— Потому что мы выросли вместе, и я надеюсь, что в один прекрасный день она станет моей женой.
— Уж не помолвлены ли вы с ней?
— Нет, пока ещё — нет, — слегка улыбнулся Халев. — Но я не хотел бы утомлять вас своими личными делами. Я и так слишком долго злоупотребляю вашей добротой. Не знаю, хотите ли вы поддерживать со мной знакомство, но ваш покорный слуга был бы признателен, если бы вы оказали мне честь отужинать со мной завтра.
— Спасибо за приглашение, молодой господин, я приду, непременно приду, — торопливо сказал Бенони, — не стану скрывать, что я хочу знать все последние новости о том, что происходит в Иерусалиме, откуда вы прибыли, как я полагаю, всего несколько дней назад, а я вижу, вы из тех, чьи глаза и уши всегда открыты.
— Да, я стараюсь всё видеть и слышать, — скромно подтвердил Халев, — но мне недостаёт жизненного опыта, и я плохо себе представляю, чьей стороны человек умный и честный должен держаться в эти смутные дни. Я очень нуждаюсь в ваших советах. А пока разрешите откланяться.
Бенони проводил посетителя взглядом и снова стал прохаживаться по портику.
«Этот молодой человек не вызывает к себе доверия, — подумал он. — Я кое-что слышал об этом ловкаче. Но он богат и весьма неглуп и может послужить нашему делу... Кто же эта Мириам? Неужели Рахиль успела родить дочь перед смертью? А почему бы и нет? Она ни за что не доверила бы мне свою дочь; конечно же, она хотела, чтобы её воспитали в этой проклятой христианской вере; я для неё убийца её мужа, заклятый враг её самой. Я думал, что потерял всех родных и близких, а оказывается, у меня осталась родная кровинка. Красивая, щедро одарённая, но христианка. Грех родителей пал на их дитя, и над ней тяготеет проклятие. Но я должен её найти. Должен знать правду...»
— Зачем ты пришёл? Неужели не видишь, что я хочу побыть один?
— Простите, хозяин, — ответил слуга-араб, кланяясь, — с вами хочет поговорить римский центурион Марк.
— Марк? А, вспоминаю, один из здешних военачальников. Я нездоров, не могу его принять. Пусть придёт завтра.
— Хозяин, он велел передать, что сегодня вечером отплывает в Рим.
— Ну ладно, впусти его... Может быть, он пришёл заплатить свой долг.
Араб ушёл, затем вернулся вместе с римлянином.
— Приветствую вас, Бенони, — сказал тот, приятно улыбаясь. — Как видите, вопреки всем вашим страхам, я жив и здоров; стало быть, ваши деньги в сохранности.
— Рад слышать, господин Марк, — ответил Бенони с низким поклоном. — Но если вы уплатите мне весь долг вместе с процентами, — добавил он уже суше, — в моём кованом сундуке деньги будут в ещё большей сохранности.
Марк вновь приятно улыбнулся.
— Уплатить долг? Вы, верно, шутите? Я пришёл занять ещё денег на путешествие в Рим.
Прежде чем Бенони успел выразить своё возмущение по этому поводу, Марк поднял руку.
— Не утруждайте себя, — сказал он. — Я знаю всё, что вы скажете. Времена сейчас трудные, опасные. Все ваши наличные деньги вложены в наиболее благоприятные для дел страны: Египет, Рим, Италию; ваш деловой партнёр в Александрии задерживает платежи; и ко всему ещё вполне вероятно, что корабли с вашими товарами покоятся на дне морском. И всё же ссудите мне полталанта серебром — тысячу шекелей наличными, остальное векселями на имя ваших агентов в Брундизии.
— Нет! — сурово отрезал Бенони.
— Да! — убеждённо сказал Марк. — Послушайте, друг Бенони, я предлагаю вам превосходное обеспечение. Если я не утону по пути в Италию, если мне не перережут глотку, я стану одним из богатейших людей Рима. Вам представляется последняя возможность ссудить мне пустяковую сумму. Вы не верите? Прочитайте это письмо моего дяди Кая и этот рескрипт, подписанный цезарем Нероном.
Бенони прочитал и письмо и рескрипт — и возвратил их.
— Примите мои поздравления, — сказал он. — Если вы проявите упорство в достижении своих целей, а Господь Бог окажет вам милосердное покровительство, вас ожидает блистательное будущее, ибо у вас располагающая к себе внешность и, когда вы хотите, неплохо работает голова. Но я не вижу достаточно надёжного обеспечения под мои деньги; даже если всё будет идти как нельзя более благоприятно, Италия очень далеко.
— Неужели вы боитесь, что я обману вас? — запальчиво спросил Марк.
— Нет, не боюсь, но ведь нельзя исключить всякие случайности.
— Хорошо, я предложу такие условия, которые оправдают любой риск. Напишите вексель на целый талант под залог моего имущества. Даже если со мной и случится какая-нибудь беда, вы всё равно получите своё. И прошу вас, побыстрее, ибо я хотел поговорить с вами кое о чём куда более важном, чем эти жалкие деньги. Когда я проводил расследование среди ессеев на берегу Иордана...
— Среди ессеев?.. И что же?..
Марк внимательно осмотрел его своими серыми глазами и ответил:
— Давайте покончим с нашим маленьким дельцем, и я всё расскажу.
— Хорошо. Считайте, что мы договорились. Прежде чем оставить мой дом, вы напишете расписку и получите наличные и векселя. Так что вы хотели сказать о ессеях?
— Что они люди странные, — сказал Марк, — и умеют каким-то неизвестным мне способом предугадывать будущее. Один из них, мой друг, предсказал, что на вашу страну обрушатся великие бедствия, каких ещё не видывал мир: кровопролитнейшая война, мор и голод...
— Это давнишнее пророчество проклятых назареян.
— На вашем месте я не стал бы называть их проклятыми, друг, — сказал Марк с непонятным волнением в голосе. — Выслушайте меня. Возможно, таково пророчество назареян, но таково же и пророчество ессеев. Я внимательно слежу за всеми предзнаменованиями и уверен, что оно сбудется. Старейшина ессеев предрекает великое восстание евреев против власти цезаря; большинство восставших, по его словам, погибнет. Он даже называет имена, среди них и ваше, друг Бенони. Вы дали мне взаймы денег, хотя я и римлянин, поэтому я приехал в Тир, чтобы предостеречь вас: держитесь подальше от всяких смут.
Старик выслушал его внимательно, но с видимым недоверием.
— Не исключено, что всё так и будет, — сказал он, — но если моё имя уже внесено в список обречённых на смерть, это означает, что на меня пал выбор ангела Яхве и мне всё равно не спастись от его меча. К тому же я стар, — добавил он, сверкнув глазами, — и что может быть почётнее, чем умереть, сражаясь против врагов своей страны.
— Как горячо вы, евреи, любите нас, римлян, — со смешком заметил Марк.
— Народ, посылающий таких людей, как Гессий Флор или Альбин, править другими народами, конечно, заслуживает самой пылкой любви, — с горьким сарказмом ответил Бенони. — Но чтобы избежать ссоры, не будем говорить о политике. Кстати, странное совпадение: только что у меня был посетитель, воспитанный ессеями.
— Да? — произнёс Марк, рассеянно глядя на море.
— Он сказал, что у них там живёт красивая молодая девушка, которую называют Царицей ессеев. Вы случайно её не видели, господин?
Марк сразу встрепенулся.
— Да, видел, и что ещё он вам сказал?
— Что эта молодая госпожа не только красива, но и хорошо образована.
— Это верно, — с энтузиазмом подтвердил Марк. — Роста она невысокого, но более прелестной девушки я не видел, а как ваятельница она просто не знает себе равных. Если вы потрудитесь отправиться со мной на корабль, я открою ящик и покажу вам её творение — мраморный бюст вашего покорного слуги... Но скажите, на правой руке у этого вашего посетителя не хватает одного пальца?
— Да.
— И зовут его Халев?
— Откуда вы знаете?
— Потому что это я отсёк ему палец, — сказал Марк. — В честном поединке... Но я зря пощадил этого молодого негодяя, — сурово добавил он. — Он-то не из тех, кто кого-нибудь щадит. Убить ему — пара пустяков.
— Так, — сказал Бенони, — кажется, я не утратил ещё проницательности: точно такое же мнение сложилось и у меня. Что ещё вы знаете об этой госпоже?
— Кое-что, ведь я вроде бы как с нею помолвлен.
— В самом деле? Странно, ибо то же самое сказал и Халев.
— Он осмелился сказать такое? — вскричал, вскочив на ноги, Марк. — Это ложь; жаль, что я упустил возможность проучить его как следует. Она отклонила его домогательства, я знаю это от самой Нехушты; есть и другие подтверждения.
— Стало быть, она приняла ваше предложение, господин Марк?
— Не совсем, — печально понурился Марк. — Она приняла бы его, если бы я был христианином. Но она меня любит, — продолжал он, успокаиваясь. — Тут не может быть никаких сомнений.
— А вот Халев сомневается, — вставил Бенони.
— Халев — лжец, — выпалил Марк. — И человек, которого вам следует остерегаться.
— Почему я должен его остерегаться?
Помолчав, Марк смело ответил:
— Потому что госпожа Мириам — ваша внучка и наследница вашего богатства. Я говорю так открыто потому, что Халев всё равно скажет вам это, если уже не сказал.
Бенони закрыл лицо руками, затем убрал руки и проговорил:
— Да, я это подозревал. Теперь знаю наверняка... Но господин Марк, хотя мы и одной с ней крови, моё богатство принадлежит только мне.
— Совершенно верно. Хотите, оставьте его себе, хотите, отдайте кому-нибудь. Мне нужна сама Мириам, а не ваши деньги.
— А вот Халев не отказывается ни от Мириам, ни от денег — он человек разумный. Да и почему бы ему не получить всё, чего он хочет? Он еврей благородного происхождения и, кажется мне, далеко пойдёт.
— А я римлянин ещё более благородного происхождения и пойду ещё дальше.
— Да, римлянин, а я, её дед, — еврей и не люблю римлян.
— Мириам ни еврейка, ни римлянка, она христианка, воспитанная ессеями, и любит меня, но отказывается выйти за меня замуж, потому что я нехристианин.
Бенони пожал плечами:
— Над всем этим я ещё должен подумать, прежде чем прийти к какому-нибудь определённому решению.
Марк вскочил со стула и с угрожающим видом встал перед стариком.
— Послушайте, Бенони, — сказал он. — Если кто-нибудь и будет принимать решение, то не вы, не Халев, а сама Мириам. Вы меня понимаете?
— Вполне. Вы мне угрожаете.
— Да, угрожаю. Мириам уже совершеннолетняя, она больше не может оставаться у ессеев. Несомненно, вы возьмёте её к себе. Относитесь же к ней, как она того заслуживает. Захочет она — сама, по своей воле — выйти замуж за Халева, это её дело. Но если вы будете её принуждать или позволите, чтобы её принуждал Халев, клянусь вашим Богом, моими богами и её Богом, я вернусь и так отомщу ему, вам, всему вашему народу, что эта месть останется в памяти многих поколений. Вы мне верите?
Бенони посмотрел на римлянина, который стоял перед ним в самом расцвете мужской красоты; его глаза метали молнии, тело вздрагивало от ярости столь неистовой, что Бенони невольно отшатнулся. Он и не предполагал, что этот легкомысленный с виду молодой человек обладает подобной внутренней силой и волей. Только теперь он впервые осознал, что Марк — истинный сын грозного народа завоевателей и что, наталкиваясь на сопротивление, он может быть не менее беспощаден, чем самые из них отъявленные, а честность и открытость только делает его более опасным.
— Я чувствую, вы говорите с полной убеждённостью. Но сохраните ли вы эту убеждённость после возвращения в Рим, где есть немало женщин, не уступающих красотой Царице ессеев, — уже другой вопрос.
— Этот вопрос я решу сам.
— Кому же его и решать, как не вам? Угодно ли вам добавить ещё что-нибудь к суровым повелениям, отданным своему скромному заимодавцу торговцу Бенони?
— Да, угодно. Прежде всего, ещё до того как я оставлю ваш дом, вы уже не будете моим заимодавцем; я принёс весь долг сполна вместе с процентами; разговор же о новом займе я завёл лишь для того, чтобы выяснить, что вам известно о Мириам. Вас, верно, удивляет, что я моту вести тонкую игру? Неужели вы и впрямь вообразили, глупец, будто я, наследник такого богатства, не смогу раздобыть жалкие полталанта? Да там, в Иерусалиме, я мог бы занять десять, двадцать талантов, пообещай я только своё покровительство. Мой слуга ждёт снаружи с золотом. Позовите его и получите весь долг вместе с процентами и дополнительным вознаграждением. И вот ещё что: Мириам — христианка. Не понуждайте её к перемене веры. У неё своя религия, не такая, как у меня, но ещё раз предостерегаю вас — не понуждайте её к перемене веры. Вы обрекли её отца и мать, вашу собственную дочь, на смерть — отца убили гладиаторы, мать чудом спаслась от растерзания львами, — и всё это за то, что они придерживались другого образа мыслей. Посмейте только обидеть её — и вы сами окажетесь на арене римского цирка: вас зарубят гладиаторы или растерзают львы. Даже вдалеке я буду знать всё, что здесь происходит, ибо у меня есть хорошие друзья и ещё лучше соглядатаи. И помните: я скоро возвращусь. А теперь спрашиваю вас: готовы ли вы принести торжественную клятву, именем Бога, которому вы поклоняетесь, что не будете принуждать Мириам к замужеству с Халевом, приютите её и будете относиться к ней со всяческим уважением, не мешая ей следовать избранной вере?
Бенони вскочил с дивана.
— Нет, римлянин, я и не подумаю дать эту клятву. Кто вы такой, чтобы приказывать мне в моём собственном доме, как мне обращаться с моей собственной внучкой. Заплатите свой долг и уходите, чтобы и тени вашей здесь не осталось. Наш разговор закончен.
— Ах так, — сказал Марк. — Видимо, пришла пора вам попутешествовать. Побывав в незнакомых странах, среди незнакомых народов, путешественники становятся великодушнее. Извольте прочитать это постановление. — И он протянул Бенони какой-то документ.
Вот что там было написано:
Центуриону Марку, сыну Эмилия, от имени цезаря, с приветствием. Предоставляю тебе все необходимые полномочия для ареста — если ты сочтёшь это необходимым — еврейского торговца Бенони, живущего в Тире. В случае ареста препроводи его в Рим, дабы там он ответил на выдвинутые против него обвинения, с коими ты подробно ознакомлен. Означенный Бенони, как ты знаешь, обвиняется в соучастии в заговоре с целью ниспровержения власти цезаря в Иудейской провинции.
(Подписано)
Гессий Флор, прокуратор
Тяжело дыша, Бенони откинулся на спинку дивана; белое лицо посинело от удивления и страха. Внезапно его озарило: он схватил предписание и порвал его на клочки.
— И где же теперь ваше предписание, римлянин? — спросил он.
— У меня в кармане, — ответил Марк. — Я предъявил вам только копию. Нет, нет, уберите свой колокольчик. Посмотрите. — И он вытащил серебряный свисток. — У ваших ворот — пятьдесят моих солдат. Вы хотите, чтобы я их позвал?
— Не надо, — сказал Бенони, — я поклянусь, хотя в клятве нет никакой необходимости. Почему я должен принуждать девушку к замужеству или преследовать её за веру?
— Вы фанатик. Вы осудили её отца и мать на жестокую смерть — где ручательство, что её вы пощадите? К тому же вы ненавидите меня и весь мой народ — вы вполне можете отдать предпочтение моему сопернику, хотя он и убийца, дважды пощажённый мной по просьбе Мириам. Клянитесь же!
Бенони поднял руку и принёс торжественную клятву, что не будет склонять свою внучку Мириам к замужеству с Халевом или кем бы то ни было, что сохранит в тайне её принадлежность к христианской вере и не причинит ей ни малейшего зла.
— Это недостаточно, — сказал Марк. — Нужна письменная клятва с вашей подписью.
Подойдя к столу, Бенони выполнил его требование. Подписался и Марк — как свидетель.
— А теперь, послушайте, Бенони, — сказал он, убирая вручённую ему бумагу, — постановление предоставляет мне право по изучении всех обстоятельств дела — арестовать вас по своему усмотрению. Я изучил все обстоятельства дела и решил пока не прибегать к аресту. Но помните, что постановление остаётся в силе и я могу дать ему ход в любую минуту. Помните также, что вы будете под наблюдением и если хоть пальцем тронете девушку, то будете немедленно арестованы. И ещё одно. Если вы не хотите, чтобы пророчество ессеев сбылось, советую вам воздерживаться от участия в заговорах против его величества цезаря. А теперь велите слуге позвать моего человека, ожидающего в прихожей, чтобы он заплатил долг. Прощайте. Где и когда мы встретимся — я не знаю, но мы непременно встретимся. — И Марк покинул портик.
Бенони проводил его взглядом; его лицо было темно от злобы.
— Этот римлянин сумел меня перехитрить. Оскорбил меня дерзкими угрозами. Втоптал в грязь, — забормотал он. — До самого дна испил я чащу позора! Много ли знает тот, кто нас предал? Очевидно, не всё; иначе вопрос о моём аресте не был бы передан на усмотрение этого римского патриция, хоть он и любимчик прокуратора. Да, господин Марк, я тоже уверен, что мы ещё встретимся; боюсь только, что эта встреча окажется мало для вас приятной. Час вашего торжества позади, настанет час и моего торжества. И всё же мне придётся сдержать клятву, нарушить её было бы слишком рискованно: она — как висящий над моей головой меч. Да и для чего мне причинять зло внучке, стремиться выдать её замуж за этого плута Халева, который, пожалуй, ещё хуже римлянина. Этот, во всяком случае, не обманывает и не лжёт... Я очень хочу видеть внучку. Надо немедленно за ней ехать.
Он позвонил колокольчиком и приказал, чтобы впустили слугу господина Марка.
Глава XI
ЦАРИЦА ЕССЕЕВ ПОКИДАЕТ ИХ ОБЩИНУ
Совет ессеев собрался для обсуждения предстоящего ухода Мириам, их подопечной. То, что она должна их покинуть, не подлежит никакому сомнению; даже ради Мириам, которую все они нежно любят, как если бы были её родными отцами и дядями, они не могут нарушить свой древний священный устав. Надо только решить, куда ей отправиться и как обеспечить ей достойное существование. Это-то и вызывало их беспокойство. После долгих споров дядя Итиэль предложил позвать Мириам и спросить у неё, чего она сама хочет. Братья согласились и тут же послали его за ней.
Мириам явилась вместе с Нехуштой. Девушка была в ослепительно-белом платье, перехваченном пурпурным кушаком, и в белом покрывале с пурпурной каймой. Так велики были любовь и уважение к ней ессеев, что при её появлении все сто членов совета разом поднялись и стояли в ожидании, пока она не сядет. Обратившись к ней с невесёлым и даже смущённым видом, председатель рассказал ей об их затруднениях и попросил прощения за то, что они вынуждены её отослать, ибо так требует устав. В заключение он спросил, каковы её собственные пожелания, добавив, что за своё пропитание она может не тревожиться, ибо из своих скромных доходов они будут ежегодно выделять ей сумму, достаточную, чтобы она не бедствовала.
Мириам печальным голосом от всего сердца поблагодарила их за проявленную к ней доброту и сказала, что уже давно знает о предстоящем расставании с ними. Поскольку в Иерусалиме нескончаемая смута, поселиться она предполагает в одном из приморских городов; возможно, её с Нехуштой приютит какой-нибудь друг или родственник братьев.
Около десятка присутствующих тотчас же вызвались ей помочь, и совет стал обсуждать их различные предложения. Неожиданно в дверь постучали. После обычных в таких случаях расспросов впустили одного из братьев: он сообщил о прибытии Бенони, еврейского купца из Тира, с большой свитой. Бенони, по его словам, хочет поговорить с ними по поводу своей внучки Мириам, находящейся или находившейся — он точно не знает — на их попечении.
— Надеюсь, сейчас мы и получим ответ на свой вопрос, — сказал председатель. — Мы уже слышали об этом Бенони и о том, что он собирается попросить у нас внучку, но должны были подождать, пока он обратится к нам с этой просьбой.
Он предложил впустить Бенони. Члены совета изъявили согласие, и перед ними предстал торговец с длинной седой бородой, ниспадающей на богатое, шитое серебром и золотом платье. Войдя в полутёмную прохладную залу, он с изумлением оглядел ряды собравшихся там почтенных людей в белых одеждах. Его зоркий взгляд тотчас же выхватил прелестную девушку, которая сидела перед ними на почётном месте, рядом с меднолицей Нехуштой, и он догадался, что это и есть Мириам.
«Ничего удивительного, — подумал Бенони, — что все мужчины влюбляются в эту девушку: от одного взгляда на неё растаяло даже моё сердце».
Он поклонился председателю совета, и тот ответил ему поклоном. Но никто из остальных даже не повернул головы: они уже успели возненавидеть этого незнакомца, что приехал за их Царицей.
— Почтенные старейшины, — нарушил Бенони общее молчание, — я хочу обратиться с просьбой, которая, вероятно, покажется вам странной, а именно: отдайте мне девушку, если не ошибаюсь, являющуюся моей внучкой. Вы взяли её на своё попечение почти с самого рождения, а я узнал о её существовании совсем недавно. Она здесь, среди вас? — И он поглядел на Мириам.
— Да, госпожа Мириам здесь, — ответил председатель. — Ваше предположение совершенно правильно, она — ваша внучка, мы знали об этом с самого начала.
— Тогда почему же, — спросил Бенони, — об этом ничего не знал я?
— Вполне естественно, — ответил председатель. — Как мы могли передать доверенное нам дитя человеку, так жестоко погубившему её отца и едва не погубившему её мать, своё собственное семя?
Он и все другие члены общины с таким негодованием уставились на Бенони, что даже гордый еврей вынужден был смущённо понурить голову.
— Я здесь не для того, чтобы оправдываться за что-либо, мною сделанное или не сделанное, — ответил он, овладев собой. — А для того, чтобы взять у вас внучку, которая, я вижу, стала совсем взрослой женщиной. Кто, как не я, её законный опекун?
— Прежде чем рассмотреть вашу просьбу, — ответил председатель, — мы, её нынешние опекуны, хотим получить надёжные гарантии и поручительства.
— Какие ещё гарантии и поручительства?
— Сейчас скажу. Прежде всего вы должны отписать ей в своём завещании достаточную, чтобы она могла прожить, сумму. Вы должны взять на себя обязательство предоставлять ей разумную свободу в личной жизни и право самой выбрать себе
мужа, если она пожелает вступить в брак. И последнее: мы в своё время обязались не принуждать её к перемене веры, подобное же обязательство должны принять на себя и вы.
— А если я откажусь?
— Тогда вы видите госпожу Мириам в первый и последний раз, — решительно заявил председатель, и все остальные закивали в знак согласия. — Мы люди миролюбивые, торговец, но это отнюдь не значит, что мы из тех, кто не может за себя постоять. Госпожа Мириам для нас всё равно что родная дочь, но мы должны с ней расстаться, так повелевает наш священный устав, запрещающий ей, теперь уже взрослой женщине, находиться среди нас. Но куда бы её ни забросила судьба, до последнего дня жизнь её будет охранять наша любовь; порукой в том — вся сила нашей общины. Если кто-нибудь попробует причинить ей зло, мы тут же об этом узнаем и отомстим. А если вы откажетесь принять наши условия, мы её спрячем, и тогда, торговец, обыщите хоть весь свет, побережье Сирии и Египта, города Италии, — вам ни за что её не найти. Вот и всё, что я хотел сказать.
Бенони задумчиво погладил седую бороду и ответил:
— Вы говорите со мной свысока. Закрой я глаза, я мог бы вообразить, что слышу голос римского прокуратора, возглашающий указ цезаря. Но я не сомневаюсь, что вы можете выполнить свою угрозу, ибо я убеждён, что вы, ессеи, почитающие ангелов и демонов, провидящие и предрекающие будущее, поклоняющиеся солнцу в своих хижинах среди пустыни, — отнюдь не безобидные еретики.
Он замолчал, но председатель, пропустив мимо ушей его оскорбления и язвительные намёки, только повторил:
— Это все.
И все сто собравшихся в один голос, словно эхо, подхватили:
— Все.
Тишину нарушил голос Нехушты:
— Ты слышал их, господин? Я хорошо их знаю. Они люди слова, и ты прав: они из тех, кто непременно осуществляет свои угрозы.
— Я хотел бы послушать внучку, — сказал Бенони. — Доченька, — обратился он к Мириам, — и ты тоже требуешь, чтобы на меня наложили эти позорные обязательства?
— Дедушка, — ответила Мириам внятным и звонким голосом, — могу ли я возражать против того, что делается ради моего же блага? Богатство меня не соблазняет, но я не хочу быть ничьей рабыней и не хочу разделить участь моих родителей. Всё, что говорят мои дяди, — она махнула рукой в сторону старейшин, — они говорят не только от своего имени, но и от имени тысяч других членов общины, любящих меня так же, как и я их; их мысли — мои мысли, их слова — мои слова.
— Держит она себя гордо, в красноречии ей, как и её родителям, не откажешь, — тихо пробормотал Бенони. Он всё ещё не знал, что сказать, только поглаживал бороду.
— Соблаговолите же ответить, — поторопил его председатель, — чтобы мы могли закончить обсуждение до вечерней молитвы. Помните, мы не выдвигаем никаких других условий. — Бенони быстро вскинул глаза, и он добавил: — Мы получили копию обязательства, подписанного вами и засвидетельствованного римлянином Марком; этого для нас достаточно.
Теперь уже изумилась Мириам, она тоже подняла глаза, но тотчас потупилась. Её дед побелел от гнева.
— Теперь я понимаю... — начал он с горьким смехом.
— Что рука ессеев куда длиннее, чем вы полагали; она может дотянуться до вас даже из Рима, — сказал председатель.
— Я понял другое — что вы не гнушаетесь вступать в сговор с римлянами. Берегитесь, как бы их меч не оказался длиннее, чем вы полагаете, и не поразил бы вас самих, о мирные жители пустыни! — И, видимо, опасаясь отказа, он прибавил: — У меня большое желание оставить девушку у вас, чтобы вы поступили с ней, как вам заблагорассудится. И всё же я заберу её, ибо она очень хороша собой и благородна и с помощью богатства, которое я могу ей дать, займёт высокое положение в этом мире. Что ещё важнее — я стар, моя жизнь близится к концу, а она единственная, в ком течёт та же кровь, что и во мне. Вот почему я принимаю все ваши условия и забираю её с собой в Тир — в надежде, что в конце концов она меня полюбит.
— Хорошо, — согласился председатель, — к завтрашнему дню мы подготовим все необходимые для подписания бумаги. Пока же будьте нашим гостем.
На следующий вечер все приготовленные обязательства были подписаны: Бенони безоговорочно согласился со всем, чего добивались ессеи от имени своей воспитанницы, и даже назначил ей определённую сумму на прожитие. Теперь, когда он её увидел, он ни за что на свете не отступился бы от своей новообретённой внучки и пошёл бы на куда большие уступки, если от него бы их потребовали, — лишь бы ессеи не спрятали от него Мириам, что в случае его отказа было вполне вероятно.
Через три дня Мириам простилась со своими покровителями; они многолюдной толпой проводили её до гребня холма за деревней; здесь они остановились, и, видя, что настал миг окончательного расставания, Мириам разрыдалась.
— Не плачь, дорогая дочка, — утешил её Итиэль, — хотя мы и разлучаемся, наши души всегда будут с тобой, и в этой, и, как мы надеемся, в последующей жизни. Денно и нощно мы будем следить за тобой, и если кто-нибудь, упаси Бог, тебя обидит, — тут он посмотрел на своего деверя Бенони, весьма им не любимого, — сами ветры принесут нам весть об этом, и к тебе вмиг подоспеет подмога.
— Не бойся, Итиэль, — перебил его Бенони, — я не только буду верен подписанному мной обязательству, но и подкреплю его своей любовью.
— Я тоже надеюсь, что так оно и будет, — сказала Мириам. — И не премину вам ответить любовью на любовь, дедушка.
Она повернулась к ессеям и в последний раз поблагодарила их прерывающимся голосом.
— Не грусти, — хрипло сказал Итиэль. — Я надеюсь, мы ещё свидимся в этой жизни.
— Дай-то Бог, — сказала Мириам, и они расстались: ессеи, печально понурясь, побрели домой, Бенони же с Мириам, с сопровождающими направились по дороге, ведущей из Иерихона в Иерусалим.
Путешествовали они медленно и только к исходу второго дня сделали привал на открытом месте недалеко от Дамасских ворот Священного города, за новой северной стеной, возведённой Агриппой. В сам город Бенони решил не заходить, опасаясь, как бы их не обобрали римские солдаты. С восходом луны Нехушта взяла Мириам за руку и отвела на несколько шагов в сторону от отдыхающих верблюдов.
Стоя спиной ко второй, внутренней стене, она указала на крутой, но не очень высокий утёс с небольшими пещерами в его склонах: утёс напоминал человеческий череп.
— Смотри, — торжественно возгласила она, — вот где был распят Господь.
Мириам преклонила колени и стала молиться. Сзади послышался задумчивый голос деда.
— Да, это верно, дитя, — сказал он. — Верно и то, что после смерти лже-Мессии воспоследовали различные знамения и чудеса; что до меня и моих единоверцев, то он наложил на нас проклятие, которое, возможно, ещё не лишилось своей силы. Я знаю, к какой религии ты принадлежишь, и помню, что обещал не препятствовать тебе. И всё же умоляю: не молись своему Богу здесь, где Он погиб, как преступник среди преступников, тебя могут увидеть какие-нибудь фанатики; они убьют тебя, как и твоего отца.
Мириам покорно кивнула и вернулась на стоянку; больше в тот вечер они не проронили ни слова о религии. Но с тех пор она воздерживалась от любых поступков, которые могли бы навлечь подозрение на её деда.
Через четыре дня они прибыли в прекрасный и богатый юрод Тир, и Мириам увидела то самое море, где когда-то родилась. Она полагала, что оно походит на Мёртвое море, на берегах которого прожила столько лет, но когда увидела увенчанные пенными гребнями морские валы, с рёвом разбивающиеся о берег острова, где они находились, то радостно захлопала в ладоши. С того дня и до самого конца жизни она любила море во всех его изменчивых настроениях и долгие часы довольствовалась его обществом. Первым услышанным ею звуком был шум его вод, а первый её вдох был приправлен его солью, — этим, вероятно, и объяснялась её любовь.
Ещё из Иерусалима Бенони отправил вперёд себя гонцов на быстрых конях, чтобы слуги приготовились к их встрече. И когда Мириам вступила в тирский дворец Бенони и нашла его пышно украшенным, как перед прибытием невесты, она была в изумлении и восторге, ибо никогда не видела ничего лучшего, чем глинобитные дома ессеев. С этими чувствами она переходила из покоя в покой, осматривая древний дворец, обиталище многих царей и правителей. Бенони следовал за ней по пятам, не сводя с неё взгляда, пока она наконец не обошла всё, за исключением разбитых на материке садов.
— Тебе нравится твой новый дом, доченька? — спросил он.
— Да, он очень красив, дедушка, — ответила она. — Я даже не представляла себе, что существуют подобные дворцы. Могу ли я заниматься своим любимым искусством — ваянием — в одном из его покоев?
— Мириам, — сказал он, — отныне ты госпожа этого дворца, а со временем будешь его владелицей. Поверь мне, дитя, не было никакой необходимости требовать от меня, чтобы я заботился о твоём благополучии и безопасности, все эти люди только зря себя утруждали. Всё, что я имею, твоё, тогда как сам я не посягаю ни на что, тебе принадлежащее, включая твою религию и твоих многочисленных друзей. Но я не имею ни детей, ни друзей и буду тебе благодарен, если ты уделишь мне хоть малую толику твоей любви.
— Я сама хочу того же, — поспешила ответить Мириам, — но ведь между нами, дедушка...
— Не говори об этом, — остановил он её полным отчаяния жестом. — Я знаю, между тобой и мной — поток крови твоих родителей. Да, это так, Мириам, и всё же признаюсь тебе: я глубоко раскаиваюсь в своей жестокости. Возраст располагает к доброте и снисходительности. Я не могу принять твою религию, твой Бог для меня лжебог, но теперь я хорошо понимаю, что поклонение Ему нельзя карать не только смертью — сегодня я никого бы не осудил на смерть из-за его веры, — но даже бичами или оковами. Пойду дальше: я готов даже позаимствовать кое-что из Его учения. Ведь Он призывает прощать тех, кто причинил тебе зло.
— Да, вот почему христиане любят всё человечество.
— Тогда, Мириам, ты должна следовать этому завету и у нас в доме, люби меня, ибо я раскаиваюсь в своём поступке, совершенном в фанатической слепой ярости; и сейчас, на старости лет, меня преследуют горькие воспоминания.
И тогда Мириам впервые бросилась в объятия к своему старому деду и поцеловала его в лоб.
Так, к обоюдной их радости, состоялось это примирение.
День ото дня Бенони любил её всё сильнее, пока она не стала для него дороже всего на свете. Он ревновал её теперь ко всем, кто часто бывал в её обществе, особенно — к Нехуште.
Глава XII
ПЕРСТЕНЬ, ОЖЕРЕЛЬЕ И ПИСЬМО
Так Мириам поселилась в Тире, и много месяцев её жизнь текла достаточно покойно и счастливо. Сначала она опасалась встречи с Халевом, — дед сообщил ей, что он тоже живёт в этом городе, — но потом выяснилось, что он куда-то отправился по делам. В Тире было много христиан, с которыми Мириам сдружилась и участвовала в общих молениях. Бенони же прикидывался, будто ничего не ведает. В те времена в этом городе опасность угрожала не столько христианам, сколько евреям: их ненавидели за богатство и сирийцы, и греки, и жили они в постоянном опасении грабежей и убийств. 11о хотя тучи уже сгущались, гроза ещё не грянула, и до поры до времени никто не обращал внимания на малочисленных скромных христиан, принадлежащих к разным народностям.
Потому-то Мириам и жила спокойно, занимаясь своим любимым ваянием и избегая показываться на людях, что было для неё, внучки богатого купца, отнюдь не безопасно. Хотя она и купалась в роскоши, это не доставляло ей большого удовлетворения; её, вскормленницу пустыни, раздражал недостаток свободы; иногда она тосковала и часами просиживала, глядя на море, в печальных раздумьях о матери, которая жила здесь до неё, об отце, павшем от гладиаторского меча, о добрых старцах, её воспитавших, о муках своих братьев и сестёр по вере в Риме и Иерусалиме, но чаще всего о своём возлюбленном — Марке, которого — как ни старалась — не могла забыть ни на час. Да, что скрывать, она любит его, но их разделяет глубокая бездна — не только море, которое можно пересечь на корабле, но и строгий запрет, наложенный на неё родителями. Он — язычник, она — христианка, им никогда не стать мужем и женой. Вполне вероятно, что он уже забыл её — девушку, встреченную им в пустыне. В Риме много благородных красавиц — страшно даже подумать об этом. И всё же каждую ночь она молилась за него, и что ни утро перед её, ещё дремотными, глазами стояло его лицо. Где он? Чем сейчас занят? Может быть, его нет уже в живых? Нет, нет, её сердце наверняка почувствовало бы это. Она жаждала хоть каких-нибудь вестей, но их, увы, не было.
И всё же в конце концов вести пришли — и самые приятные. Однажды, устав от сидения взаперти, с позволения деда и в сопровождении слуг, Мириам отправилась погулять в садах своего деда, расположенных на материке, севернее той части города, что называлась Палетир. Чудесные, хорошо орошаемые сады простирались вдоль самого берега; здесь стройные пальмы и другие деревья, плодовые кустарники и цветы. Во время прогулки Мириам и Нехушта присели на лежащую колонну, обломок какого-то древнего храма, чтобы отдохнуть. И вдруг услышали шаги; подняв глаза, Мириам увидела перед собой римского центуриона, одетого в плащ со следами морского путешествия; с ним был один из слуг Бенони.
Римлянин, грубоватый, добродушного вида человек, с поклоном осведомился по-гречески, говорит ли он с госпожой Мириам, внучкой Бенони, воспитанницей ессеев.
— Да, это я, — подтвердила Мириам.
— Позволь представиться, меня зовут Галл, — продолжал римлянин. — Меня прислали к тебе с поручением. — Он достал из-под одежды перевязанное шёлковой ленточкой, запечатанное письмо и какой-то свёрток.
— От кого всё это? — с искоркой надежды в глазах спросила Мириам. — И откуда?
— Из Рима, госпожа, прибыло на корабле со скоростью попутного ветра. А отправитель всего этого — Марк по прозвищу «Счастливчик».
— О, — воскликнула Мириам, заливаясь румянцем во всю щёку, — скажи мне, господин, хорошо ли он себя чувствует.
— Во всяком случае, чувствовал бы куда лучше, если бы мог видеть тебя сейчас, — ответил римлянин, глядя на неё с нескрываемым восхищением.
— Так он нездоров?
— Да нет, вполне здоров, а с тех пор, как опочил его дядя Кай, ещё и богат, ведь старик отписал ему всё своё богатство. Может быть, именно поэтому он в такой милости у божественного Нерона, который не выпускает его из своего дворца. Вот почему я не решаюсь сказать, как чувствует себя Марк сегодня, ибо друзья Нерона не отличаются долголетием... Ну, ну, не бойся, я пошутил, конечно же, твой Марк в добром здравии. Прочитай письмо, госпожа, не теряя времени. Что до меня, то я только выполнил его поручение. И не благодари меня: видеть твоё милое лицо — лучшая из наград. Марк и впрямь родился под счастливой звездой, я ему завидую, но всё же хотел бы, чтобы эта звезда привела его обратно к тебе. Прощай, госпожа!
— Перережь ленточку, Ну, — сказала Мириам после ухода Галла. — Да побыстрей. У меня нет с собой ножа.
Нехушта с улыбкой повиновалась; письмо гласило:
Госпоже Мириам от её друга, римлянина Марка, через центуриона Галла.
Приветствую тебя, дорогая подруга и госпожа. Я уже написал тебе одно письмо, но сегодня узнал, что корабль, с которым я его отправил, затонул у берегов Сицилии. Письмом, а заодно и множеством находившихся на его борту людей завладел Нептун, и, хотя я пишу хуже, чем делаю многое другое, я отправляю тебе с оказией ещё одно письмо; человек я тщеславный и надеюсь, что ты меня не забыла и что его чтение может даже доставить тебе удовольствие. Дорогая Мириам, сообщаю тебе, что я благополучно добрался до Рима, посетив по пути твоего деда, чтобы уплатить ему свой должок. Но ты, должно быть, уже слыхала об этом.
Из Тира я отплыл в Италию, но наш корабль потерпел крушение, многие утонули, меня же вместе с несколькими остальными выбросило на берега Мелита[43]. По милости некоего — хотел бы я знать, какого именно, — бога я остался в живых, и, пересев на другой корабль, доплыл до Брундизия, откуда как можно быстрее поскакал в Рим. Успел я как раз вовремя, хотя дядя Кай и был очень болен. Он полагал, что я потонул во время кораблекрушения, и уже хотел отказать всё своё состояние императору Нерону, но, по счастью, не успел этого сделать. Напиши он завещание в пользу Нерона, я остался бы таким же бедняком, как и когда покинул тебя, дорогая, а может быть, даже беднее, ибо вместе с наследством вполне мог лишиться и головы.
Дядя встретил меня очень радушно и через неделю после моего прибытия по всей форме составил завещание, отказав мне все свои земли, достояние и деньги; во владение наследством я вступил через три месяца после его смерти. И вот я богат, так неимоверно богат, что, купаясь в деньгах, из какой-то необъяснимой противоречивости стараюсь проявлять бережливость, трачу как можно меньше. Я уже хотел было вернуться в Иудею с одной-единственной целью — быть рядом с тобой, моя милая Мириам. Но натолкнулся на неожиданное препятствие. Я не только спас от кораблекрушения изваянный тобой бюст, но и доставил его в Рим — теперь я сожалею, что он не покоится на дне моря, сейчас ты, узнаешь почему.
Когда я вселился в большой красивый дом на Виа Агриппа, который мне теперь принадлежит, я водрузил бюст на почётное место в прихожей и пригласил скульптора Главка — я тебе о нём говорил — и нескольких знатоков искусства, чтобы они вынесли суждение о твоей работе. Но они все растерянно молчали, опасаясь воздать ей должное, ибо полагали, что это работа какого-нибудь их соперника. Когда же я им сказал, что это работа иудейской ваятельницы, они мне не поверили, заявив, что ни одна женщина не обладает столь великим талантом и умением, однако, поняв, что ваятель, живущий так далеко, кто бы он ни был, не может угрожать их славе, они дружно, взахлёб превознесли твою скульптуру, не говорили ни о чём другом до позднего вечера, пока их всех не свалило забористое вино. Продолжали они петь тебе дифирамбы и наутро; в конце концов слух о замечательном мраморном бюсте дошёл до самого Нерона — ценителя музыки и искусства. И вот однажды, не предупредив меня ни словом, император нагрянул в мой дом и потребовал показать ему бюст. Он долго смотрел на него через особый изумруд, который помогает ему видеть лучше, затем спросил:
—
Какая страна вскормила этого гениального мастера?
—
Иудея, — ответил я; об этой стране, кстати, он знает только то, что там живут фанатики, отказывающиеся почитать его божественную особу. Он сказал, что назначит ваятеля наместником Иудеи. Я объяснил ему, что это женщина, а он сказал, не имеет значения, он всё равно назначит её правительницей Иудеи, а если это невозможно, прикажет привезти её в Рим; она изваяет его статую; эту статую выставят в Иерусалимском храме, чтобы все тамошние обитатели ей поклонялись.
Я понял, что свалял дурака; хорошо зная, какая участь постигнет тебя, моя Мириам, если он тебя увидит, я ответил, что его желание неисполнимо, так как ты перешла уже в мир иной, в подтверждение я поведал долгую историю, которой не стану утомлять твоё внимание. Убедив его в твоей мнимой смерти, я показал ему маленькую статуэтку, где ты изобразила саму себя. При мысли о том, что такая красавица покинула наш мир, обременённый множеством злых, безобразных и старых людей, он вдруг горько разрыдался.
Он всё стоял, продолжая восхищаться бюстом, пока один из сопровождавших его фаворитов не шепнул мне на ушко, что я должен подарить его императору. Когда я отверг этот совет, он сказал, что у меня нет другого выхода; если я заартачусь, бюст отберут у меня вместе со всем моим имуществом, а возможно, и жизнью. Пришлось преподнести ему этот подарок; получив его, он обнял сперва мрамор, потом меня, велел унести бюст и отбыл, оставив меня в дикой ярости.
Я рассказал тебе всю эту дурацкую историю только для того, чтобы ты знала, что задержало и продолжает задерживать меня в Риме. Через два дня я получил императорский рескрипт; в нём извещалось, что несравненное творение искусства, привезённое Марком, сыном Эмилия из Иудеи, выставлено в одном из римских храмов; всем, кто хочет доставить удовольствие императору, надлежит посетить храм и воздать дань почитания как самому творению, так и душе ваятелъницы, его создавшей. Этим же рескриптом я, Марк, чьи черты запечатлёны в мраморе, назначен хранителем скульптуры; дважды в неделю мне велено посещать храм, дабы все могли видеть, как гений великого художника может создать произведение бессмертной красоты, неузнаваемо преобразив грубый оригинал из плоти и крови. О Мириам, у меня недостаёт терпения, чтобы описать всё это идиотство, но, к сожалению, не лишившись всех своих богатств, а заодно, может быть, и жизни, я не могу выехать из Рима. Дважды в неделю, и лишь иногда, по особой императорской милости, однажды, я должен являться в проклятый храм, где на мраморном пьедестале стоит моё собственное подобие, а перед ним — алтарь с высеченными на нём словами: «Принеси жертву, о пришедший, покойному гению, создателю сего божественного творения».
И вот я, солдат, торчу как дурак в храме, куда валом валят всякие глупцы, чтобы поглазеть на мрамор, а затем на меня; они несут такую околесицу, что у меня просто чешутся руки их придушить. Каждый из них бросает зёрнышки фимиама в огонь на алтарь, принося жертву твоей душе, что, как я надеюсь, пойдёт тебе на благо. Вот так теперь, Мириам, правят нами в Римской империи.
Пока я в большой милости у Нерона, и все зовут меня «Счастливчиком», а мой дом «Счастливым домом», боюсь, всё это плохо кончится.
Но нет худа без добра; благодаря нынешней любви императора ко мне или к моему бюсту, я смог — ради тебя, Мириам, — помочь твоим единоверцам и даже спас кой-кому жизнь. Здесь много христиан, и для Нерона сущее развлечение преследовать их, подвергать пыткам и казнить, обливая смолой и превращая в живые факелы для освещения своих садов, или каким-либо иным способом. По моей просьбе он пощадил некоторых из этих мучеников. Более того. Вчера Нерон явился в храм и предложил принести жертву твоей душе, казнив весьма жестоким способом несколько христиан. Я ответил, что это ничуть не обрадовало бы твою душу, ибо при жизни ты сама была христианкой. Тут он стал ломать руки, крича: «Какое ужасное преступление я чуть было не совершил!» — и тотчас отменил казни христиан. Так что некоторое время, благодаря твоей скульптуре и мне, в ней изображённому, твои единоверцы — те, что остались в живых, — в безопасности.
Я слышал, что в Иудее смута, постоянные стычки и что туда направляется один из наших главных военачальников — Веспасиан; ему поручено навести порядок. Я хотел бы поехать вместе с ним, но пока безумие, овладевшее моим повелителем, не позволяет мне на это надеяться; остаётся уповать, что ему в конце концов опостылеет «божественное творение искусства» и изображённая в нём «натура».
Меж тем я и сам возлагаю иногда благовония на твой жертвенник и молюсь, чтобы в это беспокойное время с тобой не приключилось какой-нибудь беды.
Я ужасно несчастлив, Мириам. Без конца думаю о тебе и никак не могу вырваться отсюда. Воображаю всякие опасности, но прийти тебе на спасение не могу. Смею надеяться, что и тебе хочется меня увидеть; но тем временем к тебе, должно быть, захаживают Халев и другие мужчины; они воскуряют фимиам твоей сладостной красоте, как я здесь — твоей душе. Молю тебя, Мириам, не принимай их жертвоприношений; надеюсь, придёт день, когда я перестану быть хранителем своего бюста и вновь натяну на себя солдатскую одежду, — тогда им всем, а особенно Халеву, придётся очень худо.
Что ещё тебе написать? Я отыскал нескольких великих проповедников твоей веры; говорят, они очень искусны в магии, и я надеюсь, что они убедят меня в твоём благополучии. Но к моему огорчению, они отказались прибегнуть к магии, которой, видимо, и не занимаются, а только попотчевали меня всевозможными изречениями. У них я за большие деньги купил написанные ими книги о вашем вероучении; постараюсь изучить их, как только появится свободное время. Однако с этим делом всё же не следует торопиться, ибо может случиться так, что после их изучения я обращусь в вашу веру и — не ровен час — стану живым факелом в садах Нерона.
Посылаю тебе подарки, прошу тебя, не отвергай их. Изумруд в перстне вырезан моим другом — скульптором Главком. Жемчужины — отменнейшие: в своё время я расскажу тебе их историю. Носи их не снимая, моя любимая, — ради меня. Я не забыл твоих слов — размышляю над ними днём и ночью. Ты ведь сказала, что любишь меня; я думаю, что, нацепив эти безделушки, ты ни в коей мере не нарушишь своего долга перед покойными родителями. Если будет оказия, черкни несколько строк. Не сможешь написать — всегда думай обо мне, как и я о тебе. Как бы я хотел сейчас очутиться с тобой вместе в той блаженной деревушке ессеев, которым, как и тебе, я желаю всяческого благополучия. До встречи.
Твой верный друг и возлюбленный
Марк
Дочитав письмо, Мириам поцеловала его и спрятала на груди. Затем развернула свёрток, где оказалась шкатулка из слоновой кости с привязанным к ней ключиком. Внутри, завёрнутое в мягкую кожу, покоилось ожерелье из самых дивных жемчужин, какие только приходилось видеть Мириам. При виде ожерелья она вскрикнула от радости. И это ещё не всё. В шкатулке Мириам нашла перстень с изумрудом, на котором были вырезаны голова Марка и её собственная, скопированная со статуэтки, подаренной ею Марку.
— Посмотри, Ну, посмотри, — закричала Мириам, показывая Нехуште чудесные украшения.
— Глядя на такое зрелище, заблестят и старые глаза, — сказала Нехушта, беря в руки ожерелье. — Я понимаю кое-какой толк в жемчужинах: эти стоят целое состояние. Счастлива девушка, имеющая такого возлюбленного.
— Нет, девушка, которой не суждено стать счастливой женой, не может быть счастлива, — вздохнула Мириам, и на её голубые глаза накатились слезинки.
— Не горюй, всякое ещё может случиться, — утешила её Нехушта, надевая ожерелье ей на шею. — Главное — ты получила от него весточку, он всё ещё тебя любит. И смотри, как хорошо сидит перстень у тебя на безымянном пальце, — настоящий свадебный подарок!
— У меня нет права носить этот перстень, — прошептала Мириам, но всё же его не сняла.
— Пошли, — сказала Нехушта, пряча шкатулку под своим просторным платьем, — солнце уже садится, а сегодня вечером за ужином у нас гости.
— Какие гости? — рассеянно полюбопытствовала Мириам.
— Заговорщики, все до одного, — ответила Нехушта, пожав плечами. — Они, видите ли, вынашивают великий замысел — изгнать римлян из Священного города. Как бы все мы не пожали горькие плоды с этой лозы, взращённой твоим дедом. Ты слышала, что Халев уже возвратился в Тир?
— Халев? — выдавила Мириам. — Нет.
— Прибыл вчера и будет присутствовать на ужине, вместе с другими. Говорят, он отважно сражался в пустыне и был одним из участников захвата крепости Масада
[44] с истреблением всего римского гарнизона.
— Стало быть, он против римлян?
— Да, ибо надеется стать первейшим среди евреев и ни перед чем не останавливается.
— Я не хочу с ним встречаться, — сказала Мириам.
— Но этого не избежать, и чем быстрее ты с ним встретишься, тем лучше. Почему ты его боишься?
— Не знаю, но я его боюсь и всегда боялась.
Когда Мириам вошла в трапезную, все двенадцать гостей уже восседали на диванах, ожидая начала пиршества. По настоятельной просьбе деда она облачилась в лучшее своё платье, скроенное и вышитое в греческом стиле; волосы заплетены в несколько узлов и затянуты золотой сеткой; талия перехвачена золотой опояской, отделанной жемчугом; на шее — жемчужное ожерелье, присланное Марком, а на пальце — одно-единственное кольцо с его и её изображением. Хотя и небольшого роста, она была очень хороша собой; увидев её, дед пошёл ей навстречу, поочерёдно представил её гостям, которые поднялись при её появлении. Один за другим они кланялись ей; она внимательно изучала глазами их лица — по большей части суровые и непримиримые. Халева среди них не оказалось, и она уже с облегчением вздохнула, когда штора отодвинулась и перед ней предстал Халев.
Да, то был он, никакого сомнения, но как сильно переменился он с того времени, когда она видела его в последний раз, два года назад. Тогда ещё незрелый, страстный юнец, теперь блистательный молодой человек, очень красивый в своей смуглоликости, сильный и быстрый в движениях. Под стать его внешности и роскошная одежда, типичная одежда знатного восточного воина, выражение лица горделивое, даже надменное. Гости встретили его почтительными поклонами, как приветствуют человека неоспоримо высокого положения, который может подняться ещё выше. Да, даже Бенони, проявляя уважение, шагнул ему навстречу. На все эти приветствия Халев отвечал небрежно, если не высокомерно, пока не увидел вдруг стоящую в тени Мириам; он тут же, не глядя на гостей, направился в её сторону.
— Наконец-то мы встретились вновь, Мириам, — сказал он; его гордое лицо смягчилось, а глаза остановились на ней с восхищением. — Рада ли ты видеть меня?
— Конечно, Халев, — ответила она, — всегда радостно видеть своего друга по детским играм.
Халев нахмурился, ибо его мысли были далеко от детства с его беспечными играми. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, Бенони пригласил всех сесть, и Мириам заняла своё привычное место хозяйки дома.
К её удивлению, Халев опустился на диван рядом с ней, где должен был сидеть старейший из гостей, который несколько мгновений стоял с разгневанным лицом, пока Бенони не подозвал его к себе. Рабы поднесли по очереди всем гостям сосуды с благоухающей водой для мытья рук, и пиршество началось. Прежде чем окунуть пальцы в воду, Мириам вспомнила о кольце и повернула его резным камнем внутрь. Халев заметил это, но ничего не сказал.
— Откуда ты, Халев? — спросила она.
— Я участвовал в боях, — ответил он. — Мы бросили вызов самому Риму, и он его принял.
Она вопросительно на него поглядела.
— Разумно ли это?
— Как знать, — сказал он. — Но дело уже сделано. Признаюсь, я долго колебался, но твой дед меня уговорил, и теперь я должен следовать стезей, которую указывает сама судьба.
И он стал ей рассказывать о взятии Масады и о кровавых распрях между сектами в Иерусалиме.
Затем он заговорил о ессеях — они всё ещё живут в своей деревне, хотя и в постоянном страхе, ибо вокруг них идут непрерывные сражения, — и о днях их с Мириам детства, что доставило ей удовольствие. В это время в комнату вошёл гонец и что-то шепнул на ухо Бенони; тот воздел руки к Небесам, как бы в знак благодарности…
— Какие новости? — спросил один из присутствующих.
— Новости, мои друзья, таковы: римлянин Цестий Галл
[45] отогнан от стен Иерусалима, а его войско разбито в Бет-Хоронском проходе.
— Хвала Господу, — воскликнули все в один голос.
— Хвала Господу, — повторил Халев, — даровавшему нам столь великую славную победу! Проклятые римляне повержены в прах!
Промолчала только Мириам.
— О чём ты думаешь? — спросил он, глядя на неё.
— Что они воспрянут — ещё более могучие, чем прежде, — ответила она и по знаку Бенони встала и оставила трапезную.
Через коридор она прошла в портик и уселась, опершись руками о мраморные перила. Снизу доносился немолчный плеск волн.
Впервые за долгое время в череду мирных дней вторглось волнение. Сперва появился посланец с дарами от её возлюбленного и письмом, которое ей очень хотелось перечитать; за ним, как буря после затишья, последовал тот, который — если она не ошибается — всё ещё домогается её любви, — Халев. Как странно сложилась судьба у них троих! Как высоко они вознеслись, все трое! Она, некогда сирота на попечении ессеев, — теперь важная, богатая особа, обладающая всем, чего только может пожелать сердце, кроме одного, самого, увы, желанного. Марк — ещё недавно бедняк, весь в долгах, солдат, искатель приключений — тоже занимает теперь высокое положение, тоже богач, хотя ему и приходится играть роль глупца в угоду своему безумному императору.
Велико богатство и Халева; в эти времена волнений и бунтов и он тоже обрёл высокое положение и власть. Все трое они восседают теперь на вершинах, покрытых глубоким снегом, который может быть растоплен солнцем их процветания. При всей своей молодости и неопытности, наблюдая за переменчивой морской стихией, она вдруг с большой силой ощутила всю зыбкость окружающего её мира, инстинктивно осознала его тщету. Великие люди, чьи имена на устах у всех, вдруг сходят со сцены опозоренные либо погибают. Группы людей, сплочённых общим делом, возносятся, затем низвергаются; один первосвященник сменяет другого; на место высокого военачальника приходит новый, но всех их, проходящих, как волны под ней, рано или поздно поглощают ночная тьма и забвение. Недолгий танец под солнечными лучами, недолгие стенания в тени — и смерть, а после смерти...
— О чём ты задумалась, Мириам? — зазвучал совсем рядом красивый, переливчатый голос — голос Халева.
Она вздрогнула, ибо не ожидала, что её здесь найдут, и ответила;
— Не важно. Зачем ты сюда пришёл? Тебе следовало бы быть с остальными...
— Заговорщиками? Почему ты не решаешься выговорить это слово? Увы, в конце концов даже заговоры начинают нагонять тоску. Сейчас мы победители и можем позволить себе расслабиться. Я, во всяком случае, хочу отдохнуть... Что за перстень у тебя на пальце?
Мириам выпрямилась и смело ответила:
— Это подарок Марка.
— Так я и думал. Я о нём кое-что слышал: он стал любимчиком безумного Нерона, посмешищем для всего Рима.
— Но не для меня, Халев.
— Конечно, ты же хранишь ему верность... Но скажи, не посмеиваешься ли ты надо мной?
— Конечно, нет, почему я должна над тобой смеяться? Ты с достоинством играешь трудную и опасную роль.
— Да, Мириам, я и впрямь играю трудную и опасную роль. Я уже достиг высоких вершин и намерен подняться ещё выше.
— Что ты имеешь в виду?
— Я хочу воссесть на престол Иудеи.
— Деревенский табурет куда безопаснее, Халев.
— Согласен, но мне на нём неудобно. Послушай, Мириам, я обрету величие либо погибну. Я связал свою судьбу с евреями; и если мы выгоним римлян, я стану их повелителем.
—
Если вы выгоните римлян и
если ты уцелеешь. Извини, Халев, но я не верю в успех вашего дела. Мы с тобой старые друзья, и я прошу тебя: пока ещё есть время, выйди из игры.
— Почему, Мириам?
— Потому что Тот, Кого распял твой народ и Кому я служу, предрёк ваше неминуемое поражение. Римляне раздавят вас своей железной пятой, Халев. Ваши руки обагрены Его кровью, надвигается час расплаты.
Халев ненадолго задумался, а когда заговорил вновь, то уже без прежней уверенности.
— Может быть, так и будет, Мириам, хотя я и не верю предсказаниям вашего пророка; но, как бы то ни было, я сыграю свою роль в драме до конца. А теперь во второй раз прошу тебя разделить со мной превратности моей судьбы. Я не отказался от прежнего намерения. И в свои зрелые годы люблю тебя так же сильно, как в детстве и юности. Я предлагаю тебе блистательное будущее. Что бы меня ни ждало — падение или триумф, и падение и триумф будут достойны, чтобы ты разделила их со мной. Великолепный трон и великолепная гробница равно прекрасны, кто может сказать, что прекраснее? Соедини же свою судьбу с моею, Мириам.
— Не могу, Халев.
— Почему?
— Потому что с самого рождения мне запрещено выходить замуж за нехристианина. И ты это знаешь.
Он опустил голову.
— А если бы не запрет, согласилась бы ты стать моей женой, Мириам?
— Нет, — тихо ответила она.
— Почему?
— Потому что люблю другого; я не могу стать его женой, но поклялась ему в верности.
— Ты говоришь о римлянине Марке?
— Да, о нём. Смотри, вот его перстень, — она подняла руку. — И на шее у меня его дар. — Она коснулась жемчужного ожерелья. — До самой смерти я принадлежу ему — ему одному.
Халев стиснул зубы в приступе горькой ревности.
— Пусть же его скорее настигнет смерть! — сказал он.
— Это ничего не изменит для тебя, Халев. О, почему мы не можем быть просто друзьями, как в доброе старое время?
— Потому что мне мало дружбы, я хочу большего, и клянусь: рано или поздно, тем или иным путём добьюсь своего.
Послышались шаги, появился Бенони.
— Друг Халев, — сказал он, — мы ждём тебя... Что ты здесь делаешь, Мириам? Иди к себе, дочка. В делах, которые здесь замышляются, женщины не должны принимать участия.
— Боюсь, дедушка, что их бремя падёт именно на нас, женщин, — ответила Мириам. И, поклонившись Халеву, повернулась и ушла.
Глава XIII
ГОРЕ, ГОРЕ ИЕРУСАЛИМУ!
Прошло два года, два ужасных, кровопролитных года. Яростно борются друг против друга различные секты Иерусалима. В Галилее, невзирая на отчаянное сопротивление Иосифа
[46], под чьим началом сражается и Халев, Веспасиан и его начальники берут штурмом город за городом, поголовно вырезая тысячи и десятки тысяч их обитателей. В прибрежных и в остальных городах не прекращаются сражения между сирийцами и евреями. Евреи захватили Гадару и Гавланитиду, Себасту и Аскалон, Анфедон и Газу, предав мечу многих своих врагов. И только в Тире ещё нет кровопролития, хотя все и ожидают, что оно вот-вот начнётся. Ессеи, изгнанные из своей деревни на берегу Мёртвого моря, укрылись в Иерусалиме; они шлют гонцов к Мириам, советуя покинуть Тир, где уже замышляется жестокая резня, но ни в коем случае не ехать в обречённый, по их убеждению, Иерусалим; лучше всего уплыть куда-нибудь за море. И это ещё не всё: её собратья по вере, христиане, умоляют её бежать вместе с ними в Пеллу, куда они стеклись из Иерусалима и со всей Иудеи; только бегством, полагают они, можно ещё спасти свою жизнь.
На все советы и просьбы Мириам отвечала, что поступит так же, как и её дед. Если он бежит, бежит и она, если останется в Тире, она тоже останется, ибо он очень добр к ней и она поклялась: пока он жив, она его не покинет.
Так ничего и не добившись, гонцы от ессеев вернулись в Иерусалим; старейшины христиан благословили её и, вверив её попечению Бога Отца и Бога Сына, отбыли в Пеллу, где все они благополучно переживут эти тяжкие времена, ни один волос не падёт с их головы.
Проводив их, Мириам зашла к своему деду: он шагал взад и вперёд по комнате, и вид у него был донельзя встревоженный.
— Почему ты так грустна, Мириам? — спросил он. — Твои друзья предупреждали тебя, что нам угрожают новые беды?
— Да, дедушка. — И она рассказала ему всё.
— Я им не верю, — пылко возразил он. — А ты веришь? Нет оснований отчаиваться. Говорю тебе, мы победим. Веспасиан коронован императором в Риме; там он быстро позабудет о нашей маленькой стране, остальных же врагов — и тех, что принадлежат к нашему собственному дому, и тех, что не Принадлежат, — мы разгромим и убьём. Мессия ещё низойдёт в этот мир, истинный Мессия. Многие знамения и чудеса предвещают его скорое явление. Даже мне было ниспослано видение. Он придёт и восторжествует над всеми врагами нашими, освобождённый Иерусалим воссияет новым величием. Я спрашиваю, какой повод для всех этих зловещих карканий?
Мириам вытащила свиток из-под одежды и прочитала:
Когда вы увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его;
Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится всё написанное.
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей;
И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников[47].
Терпеливо выслушав её, Бенони сказал:
— Так говорит твоё Священное писание, моё же писание говорит иное. Но если ты веришь этому предсказанию, если тебя гнетёт страх, уезжай вместе со своими друзьями-христианами; я один встречу надвигающуюся бурю.
— Я верю этому предсказанию, — спокойно ответила она, — но страх меня не гнетёт.
— Странно, — сказал он. — Если ты веришь предсказанию, то должна верить и тому, что тебе угрожает жестокая смерть, а ведь она особенно ужасает молодых и красивых девушек.
— Нет, дедушка, согласно предсказанию, ни один христианин не погибнет в предстоящих бедствиях. Я опасаюсь не за свою жизнь, а за тебя, сама я готова отправиться туда же, куда и ты, и жить там же, где и ты. В последний раз умоляю тебя: прояви благоразумие и беги вместе со мной — иначе ты будешь убит, — сказала Мириам, и её голубые глаза подёрнулись слезами.
На какой-то миг Бенони почувствовал, что его решимость поколеблена.
— Тому, что говорит твоё Писание, я не верю, но тому, что провидит твоя чистая душа, я склонен поверить. Доиустим, ты права, предсказание и в самом деле сбудется, поэтому беги, дитя. Я пошлю с тобой надёжных сопровождающих и дам тебе много денег.
Мириам покачала головой:
— Я уже сказала, что без тебя не поеду.
— Тогда тебе придётся остаться здесь, ибо даже ради спасения жизни я не покину свой дом и богатства и, уж конечно, не предам свой народ, ведущий священную войну. Но не забывай, Мириам: если нас и впрямь ждёт худшее, я умолял тебя уехать, — не кори меня потом.
— Я никогда не буду вас упрекать, — пообещала она улыбаясь и нежно поцеловала старика.
Они остались в Тире, и не прошло и недели, как гроза разразилась.
В течение многих дней евреям было опасно показываться на улицах города; по наущению римских эмиссаров толпа окружала и убивала тех, кто выходил по делам, чтобы запастись водой или пищей. Всё это время Бенони готовил к возможной осаде свой дворец, который составлял часть старинной крепости, выдержавшей немало вражеских нападений, и усиленно
пополнял запасы продовольствия. Он также отправил гонцов к Халеву, начальнику ионнийского гарнизона, с известием об угрожающей им опасности. В его дворце-крепости укрылись вместе с жёнами и детьми более ста самых видных тирских евреев, ибо во всём городе не было места, столь пригодного для обороны. Во всех наружных дворцах и галереях было размещено более пятидесяти верных слуг и рабов, искусных во владении оружием.
Поначалу сирийцы ограничивались тем, что грозили из ворот или окон высоких домов, но вот однажды ночью Мириам разбудил ужасающий вопль. Она спрыгнула с кровати, и в тот же миг рядом с ней оказалась Нехушта.
— Что случилось? — спросила Мириам, поспешно одеваясь.
— На материке и в нижней части города сирийские псы напали на евреев, — ответила Нехушта. — Поднимемся на крышу, оттуда мы сможем видеть всё происходящее. — Рука в руке они вбежали в приморский портик и кинулись вверх по ступеням крутой лестницы.
Уже начинало светать, но, стоя на обнесённой парапетом крыше, они не нуждались в утренних лучах, ибо и сумеречный город под ними, и материковый Палетир освещены гигантскими факелами пылающих домов. В их багровых отблесках тысячи горожан вытаскивают оттуда своих несчастных жертв, убивают их или швыряют обратно в огонь. Не смолкают крики беснующейся толпы, громкие стоны их жертв и оглушительный треск горящих домов.
— О, Христос! Смилостивься над ними! — прорыдала Мириам.
— С какой стати должен Он являть им своё милосердие? — сказала Нехушта. — Они отвергли Его и убили; теперь, как Он и предсказал, их поразило заслуженное возмездие. Пусть лучше Он смилостивится над нами, верными своими слугами.
— Сам Он никогда бы не сказал ничего подобного, — вознегодовала Мириам.
— Нет, но это было бы только справедливо. Взявшие меч, мечом погибнут
[48]. Не так ли во многих городах поступали и слепые фанатики-евреи с сирийцами и греками? Теперь бил их час, а может быть, и наш. Пошли прочь, госпожа, всё это не для твоих глаз, хотя, может быть, тебе и нора привыкать к подобным зрелищам, ибо, если спасёшься, ты увидишь ещё много кровавых побоищ. Пойдём и, если хочешь, помолимся за этих евреев, особенно за их ни в чём не повинных детишек, и за себя.
В полдень, перебив большинство бедных и беззащитных евреев, сирийцы осадили крепость-дворец Бенони. Обороняющиеся сразу поняли, что имеют дело не с уличным сбродом, а с тысячами жестоких воинов, руководимых опытными военачальниками. По доспехам и всему виду этих военачальников, сновавших среди толп осаждающих, нетрудно догадаться, что это римляне. Хитрый Гессий Флор и его ближайшие помощники проводили свою политику, натравливая сирийцев на евреев и способствуя им в их убийствах.
Штурм начался с главных ворот, но, убедившись, что они слишком прочны, чтобы их можно было взять с лёгкостью, нападающие отошли, потеряв десятка два людей, застреленных с крепостной стены. После этого сирийцы изменили тактику: завладев ближайшими домами, принялись поливать защитников крепости дождём стрел из окон. Они загнали их в укрытие, но большего так и не смогли добиться, ибо дворец был весь из мрамора, с зацементированными крышами, — и пылающие стрелы не могли его подпалить.
Так миновал первый день, а в ночь всё, казалось, было тихо. Но когда рассвело, они увидели, что напротив ворот установлена большая стенобойная машина, а со стороны моря, на вёслах, как можно ближе подошла огромная галера; её матросы готовятся обстреливать дворец из катапульт, мечущих камни и большие стрелы.
Тогда-то и развернулось настоящее сражение. С крыши дворца евреи стреляли в осаждающих и убили многих из них, пока тем не удалось подтащить таран вплотную. Трёх ударов тяжёлого деревянного бревна оказалось достаточно, чтобы проломить ворота. Но защитники крепости во главе со старым Бенони выбежали из укрытия и перебили ворвавшихся сирийцев, затем, прежде чем успели уничтожить их самих, перебежали через ров, за внутреннюю стену, разрушив за собой деревянный мост. Перетащить стенобойную машину через ров было невозможно; галера, которая стояла на якоре саженях в шестидесяти от берега, принялась осыпать их большими стрелами и камнями, разрушая стены дворца; несколько человек, среди них две женщины и трое детей, были убиты.
Так продолжалось до полудня; осаждающие непрерывно обстреливали их из луков со стороны суши, а галера забрасывала их камнями и стрелами с моря, и, не имея никаких мета тельных машин, они могли оказать лишь слабое сопротивление. Бенони созвал совет и описал их отчаянное положение. Едва ли, сказал он, мы продержимся ещё день; вечером, под прикрытием темноты, сирийцы, несомненно, преодолеют узкий ров и подтащат таран к воротам внутренней стены. У них, евреев, есть лишь два выхода — сделать вылазку и попытаться пробиться через ряды нападающих либо продолжать сражаться, затем убить всех женщин и детей, а тем, кто уцелел, броситься на врагов и биться, пока их всех не перебьют.
Шансов на успех вылазки не было никаких; обременённые беспомощными людьми, не могли они надеяться и на успешное бегство из города: в полном отчаянии они избрали второй выход. Уж если смерти всё равно не миновать, лучше умереть от рук своих же людей. Когда огласили это решение, женщины и дети — те, что постарше и понимали, какая участь их ждёт, — громко завопили от страха.
Нехушта схватила Мириам за руку.
— Пошли на самую высокую крышу, — сказала она. — Там мы будем в безопасности от камней и стрел, а если оправдаются наши худшие опасения, бросимся с высоты в воду, и это самая лёгкая смерть.
Они поднялись на крышу и присели на корточки, беспрестанно молясь, ибо положение казалось совершенно безысходным. Вдруг Нехушта тронула рукой Мириам и показала на море. Мириам увидела быстро несущуюся на вёслах и парусах другую галеру.
— Ещё одна галера? Ну и что? — мрачно спросила она. — Это только приблизит наш конец.
— Нет, — ответила Нехушта, — на корабле не видно ни орла, ни финикийского флага — остаётся предположить, что судно еврейское. Смотри, сирийская галера поднимает якорь и готовится к сражению.
Она была права, рабы на сирийской галере усердно заработали вёслами, и она стала было направляться в сторону подплывающего корабля. Но вдруг сильное течение развернуло её поперёк, еврейская же галера, подгоняемая попутным ветром, слегка изменила курс и под оглушительные к рики с моря и с берега обрушилась своим тяжёлым клювом на неприятельское судно, и то перевернулось. Мириам зажмурила глаза, чтобы не видеть этого страшного зрелища.
Вновь открыв глаза, она увидела, что вода испещрена чёрными точками — головами людей.
— Браво! — воскликнула Нехушта. — Смотри, новая галера уже стала на якорь, с неё спускают лодки, у нас ещё есть шансы на спасение. Скорее к морю!
По пути они встретили Бенони, который как раз их разыскивал; вместе с ним через ворота в стене они добежали до спускающейся к морю каменной лестницы, уже усеянной беглецами. Подплыли две лодки с галеры; на носу первой стоял высокий молодой человек благородной наружности.
— Это Халев, — узнала его Мириам. — Прибыл, чтобы спасти нас.
Это и впрямь был Халев. На расстоянии пяти саженей от нижней ступени он велел остановить лодку и громко крикнул:
— Бенони, госпожа Мириам и Нехушта! Если вы живы, спускайтесь вниз.
Они, все трое, повиновались.
— А теперь войдите в море.
Вода уже доходила им до подмышек, когда их схватили и втащили в лодку. За ними подобрали и многих других. Лодки вернулись к галере, высадили беглецов и отправились за новыми. Садились в них преимущественно женщины и дети.
Когда лодки в третий раз нагрузились беглецами, на стены, отгораживающие каменные ступени, уже были заброшены кошки с лестницами, через несколько минут в портике появились сирийцы и стали спускаться на верёвках.
Сцена последовала ужасная. Лодки переполнены, но многие люди ещё стоят на ступенях или в воде; женщины громко вопят, поднимая над головами детей, мужчины отпихивают их в безумном стремлении спасти свою жизнь.
Умеющие плавать поплыли следом за лодками. Остальных изрубили мечами. Спаслось всего душ семьдесят.
Мириам упала ничком на палубу и громко зарыдала.
— Спасите их! Неужели вы не можете их спасти? — кричала она.
Рядом с ней сидел Бенони; с его одежды ручьями стекала алая от крови вода.
— Мой дом захвачен, — стонал он, — мои богатства разграблены, мои люди убиты врагами!..
— Благодари за наше спасение Господа! — перебила его старая Нехушта. — Господа и Халева!.. Что до тебя, хозяин, то мы, христиане, не раз тебя предостерегали, но не внял ты нашим предупреждениям. Что ж, это только начало, конец будет куда ужаснее.
К ним подошёл Халев; его гордое лицо так и светилось торжеством, он и в самом деле совершил подвиг и спас госпожу Мириам от неминуемой гибели. Бенони встал, обвил его шею руками и поцеловал.
— Вот наш спаситель, — сказал он Мириам, нагнулся и поднял её на ноги.
— Благодарю тебя, Халев, — прошептала она, уверенная в глубине души, что спас её Господь Бог, а Халев лишь
Его орудие.
— Я щедро вознаграждён, — воскликнул Халев. — Это самый счастливый для меня день, я потопил большую сирийскую галеру и спас женщину... которую я люблю...
— В конце концов, клятвы — всего лишь слова, — прервал его Бенони, вспомнив о своих былых обещаниях. — Спасённая тобой жизнь тебе и принадлежит; и если моё слово что-нибудь значит, и моя внучка, и остатки моих богатств будут твоими.
— Время ли говорить о подобных вещах? — сказала Мириам. — Смотрите. — Она показала на берег, где разворачивался последний акт трагедии. — Они загоняют наших друзей и слуг в море и топят несчастных. — И она вновь зарыдала.
Халев вздохнул.
— Перестань плакать, Мириам, слезами горю не поможешь. Мы сделали всё, что могли, остальное не в наших силах. Военная фортуна переменчива. Я не имею права посылать лодки к берегу, даже если матросы и выполнят моё повеление... Нехушта! Отведи госпожу в каюту и помоги ей переодеться в сухое платье, чтобы её не прохватило на этом холодном ветру... Каковы ваши планы, Бенони?
— Я хотел бы отправиться к своему двоюродному брату Матфии, первосвященнику Иерусалима, — ответил старик. — Он обещал предоставить мне убежище, если в эти дни можно хоть где-нибудь укрыться от врагов.
— Лучше плывите в Египет... — сказала Нехушта.
— Где евреев убивают тысячами и тысячами; улицы Александрии заполнены реками крови, — с горечью заметил Халев. — Но в Египет я всё равно не могу вас отвезти, ибо должен передать корабль тем, кто его ждёт по эту сторону Иоппии, оттуда я должен ехать в Иерусалим.
— Туда — и только туда — отправлюсь и я, — сказал Бенони, — чтобы погибнуть или победить вместе со своим народом. Но Мириам я уже говорил, что она может меня оставить.
— А я повторю свой ответ, — сказала Мириам, — я вас никогда не оставлю.
Нехушта отвела свою госпожу в каюту; под ударами весел взбурлила вода, и галера медленно выплыла из гавани; через некоторое время жалобные вопли жертв и торжествующие крики победителей замерли вдали; и когда пала ночь, в темноте виднелось лишь зарево от пылающих домов убитых евреев.
Ночь прошла тихо, если не считать плача и причитаний беглецов, лишившихся и друзей, и всего своего скарба; хотя и стояла зима, море было спокойно, и никто их не преследовал. На рассвете галера бросила якорь, Мириам вместе с Нехуштой поднялась из каюты на палубу и при свете восходящего солнца увидела впереди гряду рифов и пенящиеся буруны, а за ними — пустынные берега небольшого залива. Нехушта глубоко вздохнула.
— Что это за место? — спросила Мириам.
— То самое, где ты родилась, госпожа. Вон на той плоской скале застрял наш корабль, который я сожгла вместе с телом твоей матери. Видишь почерневшие доски, полузанесённые песком? Это остатки каркаса.
— Странно, что мы возвратились именно сюда, Ну, — печально сказала Мириам.
— Странно, но, может быть, тут есть тайное значение. С бури здесь началось твоё мирное младенчество и девичество, а теперь мирное море возвещает, может быть, бури в твоей последующей жизни.
— Оба наши путешествия начались со смертей, Ну.
— Этим заканчиваются все путешествия. Тьма позади и тьма впереди, а между ними — солнечный свет и тени — таков закон жизни. Но не бойся: покойная провидица Анна предсказала, что ты проживёшь долгую жизнь в отличие от меня, чьи дни, должно быть, уже сочтены.
Лицо Мириам помрачнело.
— Я не боюсь ни жизненных тягот, ни смерти, Ну. Будь что будет. Но я умираю от страха при одной мысли о вечной разлуке с тобой.
— Я думаю, у нас есть ещё время в запасе, — сказала Нехушта. — Хоть я и стара, я ещё должна завершить кое-какие дела, прежде чем обрести вечный покой. Пошли, Халев зовёт нас. Мы должны высадиться на берег, пока погода не испортилась.
Мириам спустилась в лодку вместе со своим дедом и другими спасёнными людьми, все они хотели отправиться в Иерусалим. По пути к берегу они проплыли как раз мимо той скалы, где Мириам сделала первый свой вдох. За прибытием галеры на берегу наблюдала группа евреев. Беглецов ожидал тёплый приём и — что ещё более важно — еда, костёр и несколько вьючных животных для путешествия.
После окончания высадки к ним присоединился и Халев, передав командование галерой другому еврею, который вместе с дожидавшейся их группой должен был отправиться на перехват римских судов с зерном. Узнав обо всём, происшедшем в Тире, они вначале выказали недовольство, говоря, что у него не было права рисковать кораблём, но затем, уяснив, что он одержал важную победу, не потеряв притом ни одного члена экипажа, превознесли его и сказали, что он поистине совершил подвиг.
Галера отправилась в дальнейший путь, а спасённые — их было душ около шестидесяти — начали своё путешествие в Иерусалим. В скором времени они достигли той самой деревни, где некогда Нехушта нашла кормилицу для Мириам; завидев их ещё издали, все жители бежали, приняв их за одну из банд грабителей, которые, точно волки, рыскали кругом, обирая и убивая всех, кто ни попадётся им в руки. Узнав, кто они такие, обитатели деревни возвратились и молча выслушали их рассказ о довольно обычных в те времена событиях. После того как рассказ подошёл к концу, к Нехуште приблизилась морщинистая, загорелая женщина, положила одну руку ей на плечо и, указывая другой на Мириам, спросила:
— Это та самая малышка, что я вскормила своей грудью?
Узнав кормилицу, которая провожала их до деревни ессеев, Нехушта приветствовала её и ответила «да», после чего та обняла Мириам и расцеловала её.
— Из года в год, день за днём, — сказала кормилица, — я думала о тебе, моя малышка, и после того как я увидела, какая ты стала милая да пригожая, мне всё равно, когда закроются мои глаза. Муж мой умер, детей у меня нет, для чего мне и жить одной? — Она благословила Мириам, помолилась своему ангелу, чтобы он оберегал Мириам в Иерусалиме, и дала ей еды и ездового осла, после чего они простились, чтобы никогда больше не встретиться.
Путешествие прошло вполне благополучно; вооружённый отряд в двадцать человек под командованием Халева был слишком силён, чтобы на них осмелились напасть разбойники, и, хотя распространился слух, будто Тит уже переправился из Египта в Кесарию, ни одного римлянина им не встретилось. Единственным их врагом был холод, такой пронизывающий, что, когда на вторую ночь они остановились на привал на холмах возле Иерусалима, не имея с собой шатров и боясь развести костёр, до самого наступления дня им пришлось расхаживать взад и вперёд, чтобы не замёрзнуть. И вот тогда они увидели странные, вселяющие необоримый ужас знамения.
В ясном ночном небе над Иерусалимом, подобно огненному мечу, просверкала большая комета. Эту комету, случалось, видели и в Тире, но там она никогда не светилась с такой яркостью. И к тому же не имела сходства с огненным мечом. Все сочли это недобрым знаком, только Бенони сказал, что это острие меча, занесённого над Кесарией и возвещающего, что все римляне погибнут от десницы Господней. К рассвету неестественно бледное сверкание кометы померкло, небо затянули тёмные тучи — предвестницы бури. А когда взошло солнце, они с удивлением увидели, что облака приняли диковинные очертания.
— Смотрите, смотрите, — сказала Мириам, хватая своего деда за руку. — В небесах сражаются два воинства.
Все подняли головы, и, в самом деле, впечатление было такое, будто в небесах сошлись два больших воинства. Можно даже различить отдельные легионы, вьющиеся на ветру знамёна, мчащиеся колесницы, эскадроны нетерпеливых коней. Небо превратилось в поле сражения: оно рдеет, точно кровь павших; воздух полон странных, устрашающих звуков, порождённых, вероятно, ветром или отдалённым громом; эти звуки напоминают вопли побеждённых и торжествующий рёв победителей. В непреодолимом ужасе они опустились на корточки и закрыли лицо руками. Лишь старый Бенони стоял во весь рост, зловещее сияние окрашивало его седую бороду и одеяние в багрец; он кричал, что это небесное знамение предвозвещает погибель врагов Господних.
— Да, — сказала Нехушта, — но кого ты разумеешь под врагами Господними?
Высокий Халев, обходивший место их стоянки, подхватил её вопрос:
— Кого вы разумеете под врагами Господними?
Вдруг солнечный свет брызнул с ослепительной яркостью; фантасмагорические видения в небе расплавились в багровой дымке; дымка спустилась ниже, и теперь чудилось, будто Иерусалим плавает в океане крови и пламени. Подплыла тёмная туча, полностью заслонив собой священную гору Сион. Вновь воссияло голубое небо; ясный свет заструился на мраморные дворцы, лепящиеся друг к другу дома, заиграл на золотых крышах Храма. Так спокойно и мирно выглядел этот всемирно прославленный город, что никому даже не пришло в голову, что отныне он арена кровавого побоища, там яростно сражаются между собой различные секты, и день за днём сотни евреев гибнут под кинжалами их собственных братьев.
Халев велел сниматься со стоянки, и, дрожа от холода и страха, они направились по неровным холмам к Иоппийским воротам; спускаясь на равнину, они заметили, что всё кругом в запустении, и без того скудный урожай на полях почти весь вытоптан и нигде не видно ни овечьих, ни коровьих стад. Ворота оказались запертыми; выглянув из-за зубцов крепостной стены, их окликнули свирепые солдаты из войска Симона Геразского, охранявшие Нижний город.
— Кто вы и зачем сюда явились?
Халев назвал свою должность и звание, но это их, видимо, не удовлетворило; тогда Бенони объяснил, что они беженцы из Тира, где почти поголовно вырезали всех евреев.
— У беженцев всегда с собой деньги; лучше всего убить этих незваных пришельцев, — сказал начальник стражи, охранявшей ворота. — Наверняка они изменники и заслуживают, чтобы их предали смерти.
Придя в ярость, Халев потребовал, чтобы они немедленно открыли ворота; по какому праву, спросил он, смеют они не впускать его, прославленного военачальника.
— По праву сильного, — ответили они, — тем, кто впустил Симона, приходится иметь дело с Симоном. Если вы приверженцы Иоанна или Элеазара, идите к Храму и стучитесь. — И они с издёвкой показали на сверкающие вдали ворота.
— Стало быть, дело дошло до того, — сказал Бенони, — что евреи пожирают евреев, тогда как римские волки беснуются вокруг стен Иерусалима. Мы не принадлежим ни к какой секте, но я полагаю, что моё имя чтимо всеми сектами: я Бенони из Тира. И я требую, чтобы меня отвели не к Симону, не к Иоанну, не к Элеазару, а к моему двоюродному брату первосвященнику Матфии, здесь повелевающему.
— К первосвященнику Матфии? — переспросил начальник стражи. — Так бы сразу и сказал. Матфия привёл нас в этот город, где мы нашли удобный постой и богатую добычу, и, исполняя долг благодарности, мы можем впустить его друзей. Проходи, двоюродный брат первосвященника Матфии, со всеми остальными беглецами. — И он открыл ворота.
Они направились по узким улочкам к Храму. Был уже тот час, когда обычно царит оживление, но кругом было пустынно и безлюдно. На мостовой валялись тела мужчин и женщин, убитых в наканунешней схватке. Из-за оконных решёток за ними следили сотни глаз, но никто не пожелал им доброго утра, не сказал ни единого слова. Над пустыми перекрёстками витало безмолвие смерти. И вдруг издалека до них донёсся одинокий вопль, значение которого они не могли понять. Вопль звучал всё ближе и ближе, и наконец на какой-то тёмной и узкой улочке они увидели худого, седобородого человека. Он был обнажён по пояс, и его спина и грудь были испещрены грубыми рубцами и отметинами от бичей; некоторые из них ещё не зажили и гноились.
— Голос с Востока! Голос с Запада! Голос с Четырёх сторон света! Голос, бросающий вызов Иерусалиму и Храму! Голос, бросающий вызов женихам и невестам! Голос, бросающий вызов всему народу! Горе, горе Иерусалиму!
Он был уже совсем рядом и подошёл к толпе беглецов с таким видом, словно никого не замечал; они поспешили расступиться, чтобы избежать соприкосновения с этим зловещим, нечистым существом, лишь отдалённо напоминающим человека.
— Что ты хочешь сказать? — вскричал Бенони в гневе и страхе. Но прохожий ничего не ответил; устремив взгляд своих бледных глаз в небеса, он продолжал вопить:
— Горе, горе Иерусалиму! Горе и вам, что пришли в Иерусалим!
Так он прошёл мимо, твердя своё мрачное пророчество, и скоро его обнажённый торс скрылся вдали, а его вопль мало-помалу затих.
— Какое недоброе приветствие! — сказала Мириам, заламывая руки.
— Напутствие будет ещё хуже! — ответила Нехушта. — Город обречён, со всеми своими жителями!
Один Халев сохранял спокойный вид.
— Не тревожься, Мириам, — сказал он. — Я знаю этого человека, он безумец.
— Кто знает, где кончается мудрость и начинается безумие, — заметила Нехушта.
Они пошли дальше, направляясь к вратам Храма, всё по тем же безлюдным, в потоках крови улицам.
Глава XIV
К ЕССЕЯМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИХ ЦАРИЦА
Беглецы продолжали путь, но пройдёт ещё много долгих дней, прежде чем Мириам суждено будет достичь ворот Храма. Им сказали, что, если они хотят поговорить с первосвященником, им следует подойти к одним из двух ворот Хульда, к югу от Царского монастыря; туда они и направились через долину Тиропеон
[49]. При их приближении обращённые на восток ворота распахнулись, и оттуда, как муравьи из разворошённого муравейника, посыпались тысячи людей. Крича и размахивая мечами, они бросились им навстречу. Беглецы находились как раз посреди обширного пустыря; некогда там стояли дома, но пожар оставил от них лишь закопчённые шаткие стены.
— Это люди Иоанна! — прокричал чей-то голос; повинуясь общему побуждению, беглецы повернулись и кинулись прятаться среди разрушенных домов; да, в бегство обратились даже Халев и Бенони.
Но из-за развалин, населённых, как они полагали, лишь бродячими псами, выбежал другой отряд свирепых воинов — то были люди Симона, расквартированные в Нижнем городе.
Растерянная Мириам плохо понимала, что происходит. Сверкали мечи и наконечники копий, приверженцы разных сект беспощадно разили друг друга. Она увидела, как Халев зарубил одного из солдат Иоанна, и на него тут же набросился солдат Симона; им было всё равно, кого убивать, лишь бы убивать. Её дед катался по земле, схваченный похожим на священника человеком; женщин и детей пронзали копьями. Нехушта схватила её за руку и, ударив кинжалом солдата, пытавшегося их остановить, потащила прочь. У самого уха Мириам тонко прожужжала стрела, что-то ударилось о её ногу. Но они продолжали бежать, сами не зная, куда, пока наконец звуки беспорядочной схватки не замерли далеко позади. Но Нехушта всё не останавливалась, ибо опасалась погони. По пути они почти никого не встречали, а если и встречали, их не желали даже выслушать; в конце концов Мириам в полном изнеможении повалилась наземь.
— Вставай! — приказала Нехушта.
— Не могу, — ответила Мириам. — У меня ранена нога. Смотри, идёт кровь.
Осмотревшись, Нехушта поняла, что они находятся у второй стены нового города Бецета, недалеко от старых Дамасских ворот; справа от них, чуть позади, вздымалась большая башня Антонии. Под стеной громоздились зловонные кучи мусора, поросшие уже травами, и склоны древнего рва пестрели весенними цветами. Домов здесь не было, запах стоял омерзительный, и они подумали, что это как раз подходящее место, чтобы спрятаться. Нехушта подняла Мириам и, невзирая на её жалобы и распухшую щиколотку, потащила вперёд, пока они не достигли места, где, как и в дни нынешние, стена покоилась на скале: тут в грубой кладке были большие углубления, заросшие высокой травой. К одному из таких углублений Нехушта и привела Мириам; усадив госпожу на траву, она осмотрела её ногу, ушибленную, очевидно, пущенным из пращи камнем. Воды для промывания кровоточащей раны у неё не было, и она просто наложила на щиколотку раздавленные травы и привязала их куском полотна. Мириам была в таком изнеможении, что уснула ещё до конца перевязки. Некоторое время Нехушта смотрела на неё, размышляя, что делать, пока под лучами тёплого весеннего солнца и её не сморил сон.
Приснилось ей, будто видит она бородатого, белолицего человека, глядящего на неё из-за выступа скалы, и она, вздрогнув, проснулась. Скала, которая ей привиделась, на месте, а человека нет. Тогда она посмотрела наверх. Над ними гигантскими камнями поднимается крепостная стена, высокая и неприступная. Туда могла бы взобраться только ящерица, но не человек. А спрятаться там негде. Нехушта решила, что это какой-нибудь сборщик мусора, который наткнулся на них в высокой траве и убежал. Мириам крепко спала, и пожилая женщина, ещё не оправившаяся от усталости, опять уснула; прошло некоторое время — час, два или три, она не знала, — и её разбудил какой-то шум. Открыв глаза, она увидела за выступом скалы уже не одно седобородое лицо, а два — оба смотрели на неё и на Мириам. Но как только она присела, они исчезли. Тогда она прикинулась, будто продолжает дремать, и лица появились вновь; внимательно её рассматривая, оба незнакомца взволнованно перешёптывались. И вдруг одно лицо повернулось к свету, и Нехушта сразу же узнала, кто это, и возблагодарила в душе Всевышнего.
— Брат Итиэль, — спокойно произнесла она, — почему ты прячешься,точно кролик, среди камней?
Обе головы исчезли, но шёпот продолжал доноситься. Затем один из незнакомцев поднялся из зелёных трав, как встают из воды. Это был Итиэль.
— Так это ты, Нехушта? — сказал хорошо знакомый голос.
— Она самая, — ответила женщина.
— А госпожа, спящая с тобой рядом?
— Когда-то её звали Царицей ессеев; теперь она преследуемая беглянка, которой угрожает смерть от рук Симона, или Иоанна, или Элеазара, или зелотов, или сикариев
[50], или каких-нибудь других святош-головорезов, которых в Священном городе хоть пруд пруди.
Итиэль воздел руки в знак благодарности Небесам и сказал:
— Ш-ш! Ш-ш-ш! Здесь даже птицы могут быть лазутчицами... Брат, заберись на этот валун и посмотри, нет ли кого поблизости.
Оглядевшись, второй ессей ответил:
— Тут нет ни души, а со стены нас не видно.
Итиэль показал ему жестом, чтобы он спустился.
— И крепко она спит, твоя молодая госпожа? — спросил он у Нехушты.
— Как убитая.
Двое мужчин ещё пошептались и только тогда вылезли из-за скалы. Велев Нехуште следовать за ними, они подняли спящую Мириам и перенесли её через кусты к другой скале. Раздвинули побеги травы и отвалили камень, под которым зияло небольшое, как шакалья нора, отверстие. Гуда — пятками вперёд — сошёл второй ессей. Нехушта помогла ему спустить в дыру Мириам и спустилась сама. За ними последовал Итиэль; он расправил помятые травы и закрыл вход камнем. Они оказались в полной темноте, но братья, очевидно, чувствовали себя в ней уверенно; подняв опять Мириам, они прошли тридцать — сорок шагов. Чтобы не отстать, Нехушта держалась за одежду Итиэля. Наконец что-то — то ли холодный воздух пещеры, то ли глубокий мрак, то ли прикосновение чужих рук — разбудило Мириам от её полуобморочного сна. Она забилась и закричала бы, если бы Нехушта не велела ей молчать.
— Где я? — спросила она. — В преисподней?
Нет, госпожа. Погоди немного, сейчас тебе всё объяснят.
Мириам испуганно к ней прижалась; тем временем с помощью кремня и огнива Итиэль высек огонь и запалил свечу. По мере того как свеча разгоралась, его лицо всё явственнее выступало из кромешной тьмы. Не так ли восстают из могил призраки?
— Конечно же, я умерла, — сказала Мириам, — а передо мной стоит дух моего дяди Итиэля.
— Нет, не мой дух, — я сам во плоти, — ответил старик, трепещущим от радости голосом. Не в силах больше сдерживаться, он отдал свечу своему спутнику и, схватив Мириам в объятия, принялся её целовать. — Добро пожаловать, моё дорогое дитя! — восклицал он. — Добро пожаловать, трижды добро пожаловать в нашу тёмную берлогу и благословение Всевечному за то, что он привёл наши стопы к тебе! Но ничего не отвечай, мы ещё слишком близко к крепостной стене. Протяни руку и следуй за мной.
При слабом мерцании свечи Мириам увидела над собой широкие каменные своды. По бокам тянулись грубо вытесанные, влажные, всё в потёках, стены, а на полу или полувырубленные в потолке можно было разглядеть заготовки для храмовых колонн.
— Что это за ужасное место, дядюшка? — спросила она.
— Та самая пещера, откуда великий царь Соломон брал камень для строительства Храма. Посмотри, на стене ещё заметны зарубки каменщиков. Здесь обтёсывали каменные глыбы, а сверху не было даже слышно ни визга пилы, ни ударов кувалды. Каменоломнями несомненно пользовались до последних дней и другие цари, ни один человек не знает, насколько они стары, эти каменоломни.
Говоря всё это, он вёл её вперёд по неровному, усыпай ному камнями полу, где небольшими лужицами стояла вода Следуя по извилистому проходу, они повернули раз, другой, третий; скоро Мириам перестала запоминать дорогу и не смогла бы вернуться к выходу, даже если речь шла бы о спасении её жизни. Стало так жарко и душно, что она с трудом дышала.
— Сейчас будет полегче, — сказал Итиэль, видя, как тяжело ей идти; он втащил её в естественную узкую расщелину, где можно было пройти лишь по одному. Через восемь — десять шагов они оказались в тоннеле с обтёсанными стенами, где можно было стоять во весь рост.
— Когда-то через тоннель протекал канал, — объяснил Итиэль, — этот канал служил для наполнения большого нодохранилища, но вот уже много веков, как здесь сухо.
Тёмный проход закончился глухой, казалось бы, стеною, но Итиэль нажал на вделанный в неё камень, и камень повернулся. Тоннель продолжался ещё двадцать — тридцать шагов, далее расширялся в большую пещеру со сводчатым потолком и зацементированными стенами и полом — некогда тут помещалось водохранилище. В пещере горели свечи и даже была растоплена плита, на которой стряпал один из братьев. Воздух стал чище и свежее несомненно благодаря извилистым ходам, которые поднимались куда-то вверх. Здесь сидело человек сорок — пятьдесят, большей частью в типичных для ессеев одеждах. Некоторые, рассевшись вокруг свечей группами, о чём-то беседовали, другие наблюдали за стряпающим братом.
— Братья, — крикнул Итиэль в ответ на оклик часового, — я привёл к вам ту, с кем мы недавно расстались, — госпожу Мириам.
Схватив свечи, братья кинулись к ней навстречу.
— Это, — радовались они, — и впрямь не кто иная, как наша Царица, — она и ливийка Нехушта. Добро пожаловать, тысячу раз добро пожаловать, наша дорогая госпожа!
Мириам приветствовала их всех по одному, но ещё до того как обмен приветствиями закончился, ей принесли пищу, хотя и грубую, но сытную, а также хорошее вино и воду. За едой она выслушала историю злоключений ессеев. Более чем год назад, по пути в Иерихон, римляне напали на их деревню, многих перебили, многих обратили в рабство. Остальные бежали в Иерусалим, где их также подстерегала смерть, ибо, пользуясь их миролюбием, все секты грабили и убивали их. Поняв наконец, что если останутся в городе, то обречены на полное истребление, они поселились в этом подземном убежище, о существовании которого знал один из братьев. Эту тайну он унаследовал от своего отца, а тот — от своего отца, так что ни одна живая душа не знала об этом укрытии.
Здесь мало-помалу они собрали большие запасы продовольствия, угля для приготовления пищи и всё необходимое: одежды, постельное бельё, посуду и даже кое-какую грубую мебель. Завершив эти приготовления, пятьдесят оставшихся в живых ессеев переселились в эти катакомбы, где они живут вот уже три месяца, соблюдая, по возможности, устав своей общины. Мириам полюбопытствовала, как им удаётся сохранять здоровье в этом тёмном месте, и они ответили, что иногда выходят наружу, — тем самым путём, которым она шла, — смешиваются с толпами горожан, а вечерами приходят обратно. Итиэль и его товарищ как раз возвращались домой с подобной прогулки, когда увидели её. Есть, сказали они, и другой выход, они покажут его позднее.
После того как Мириам поела, перевязала ушиб и отдохнула, её повели показывать достопримечательности этого места. За большой пещерой, бывшим водохранилищем, которое служило им общей комнатой, находилось шесть-семь пещер поменьше, одну из них и отвели Мириам и Нехуште. Другие были наполнены припасами, достаточными, чтобы прожить много месяцев. Сзади всех этих каморок находилась ещё одна, не очень глубокая, но всегда полная свежей воды. На дне этого водохранилища несомненно бил родник, оно не пересыхало даже в отсутствие дождей. Из этой пещеры, где черпали воду в течение многих поколений, уходила вверх небольшая лестница со стёртыми ступенями: по ней спускались за водой многие поколения давно уже умерших людей.
— Куда она ведёт, эта лестница? — поинтересовалась Мириам.
— К разрушенной башне наверху, — ответил Итиэль. — В другой раз я тебе покажу. Но всё уже приготовлено для вас, пусть Нехушта вымоет тебе ноги, и ложись спать, ты очень нуждаешься в отдыхе.
Мириам отправилась в свою маленькую зацементированную каморку, которая стала её жилищем на четыре долгих месяца; и, изнемогая от усталости, невзирая на пережитые ею страдания и опасения за деда, уснула таким же крепким сном, как если бы почивала в прохладной спальне в тирском дворце или в своём доме в деревне ессеев.
Проснувшись в полной темноте, она подумала, что всё ещё ночь, но затем вспомнила, что здесь всегда ночь, и позвала Нехушту; та открыла висевшую в углу занавешенную лампаду и, выйдя наружу, вскоре вернулась и сообщила, что, по словам ессеев, уже день. Мириам оделась, и они вместе с Нехуштой отправились в большую пещеру. Ессеи молились, кланяясь в сторону невидимого здесь солнца. Закончив молитву, они все позавтракали. Мириам поговорила с Итиэлем о деде: её тревожило, что он, по всей вероятности, считает её погибшей.
— Я знаю только одно, — ответил дядя, — отправиться сейчас на его поиски ты не можешь, не можешь ты и сказать ему о нашем убежище, ибо тогда, рано или поздно, мы будем все перебиты, хотя бы только потому, что у нас тут большие запасы пищи.
— Я никак не могу подать ему весть о себе? — спросила Мириам.
— Нет, это невозможно.
Она долго и настойчиво уговаривала его, и в конце концов они решили, что она напишет на куске пергамента: «Я в безопасности, чувствую себя хорошо, но не могу сообщить, где нахожусь». В этот вечер Итиэль предполагал, переодевшись нищим, пойти в город, чтобы узнать новости; он обещал, что возьмёт письмо с собой и постарается подкупить какого-нибудь солдата, чтобы тот вручил его Бенони, находящемуся, вероятно, во дворце первосвященника.
Мириам написала короткую записку, о которой они условились, и вечером Итиэль и ещё один брат, захватив её с собой, отправились в город.
Наутро они возвратились целые и невредимые, с ужасными известиями о резне, идущей в городе и в храмовых дворах, где всё ещё ожесточённо сражались между собой фанатичные секты.
— Какие новости, дядя? — спросила Мириам, поднимаясь, чтобы приветствовать его. — Он жив?
— Успокойся, — ответил он. — И Бенони, и Халев благополучно достигли дворца Матфии и теперь скрываются в стенах Храма. Это я узнал у одного из стражников верховного священника, который за золотую монету обещал вручить твою записку. Но, дитя, я больше не возьмусь носить твои письма, ибо солдат с любопытством оглядел меня и сказал, что таким голодранцам, как я, рискованно носить с собой золотые монеты.
Мириам поблагодарила дядю за принесённые им вести, сказав, что он снял тяжкое бремя с её сердца.
— У меня есть и другие новости, которые могут ещё больше облегчить это бремя, — сказал старик, поглядев на неё искоса. — Из Кесарии в Иерусалим с большим войском идёт Тит.
— В этом для меня нет ничего радостного, — ответила Мириам. — Это означает, что Священный город будет осаждён и захвачен.
— Но в этом войске есть один человек, который, если верить рассказам, — и он снова взглянул на её лицо, — охотнее пленил бы тебя, чем город.
— Кто же эго? — сказала она, прижав руки к груди, с красным, словно свет лампады, лицом.
— Один из конных префектов Тита, благородный римлянин Марк; ты некогда знавала его на берегах Иордана.
Кровь отхлынула от лица Мириам, у неё вдруг закружилась голова, и, не обопрись рукой о стену, она могла бы упасть.
— Марк? — переспросила она. — Он поклялся вернуться, но возвращение не приблизит его ко мне. — И, повернувшись, она поспешила в свою каморку.
Стало быть, Марк уже здесь? С тех пор как он прислал ей письмо, перстень, украшающий её руку, и ожерелье, украшающее её шею, от него нет никаких вестей. Дважды она пересылала ему свои письма через надёжных людей, но так и не знает, получил ли он их. Более двух лет длится его молчание, подобное безмолвию смерти; иногда она даже думает, что его нет уже в живых. И вот он вернулся, конный префект армии Тита, присланной, чтобы покарать мятежных евреев. Увидит ли она его ещё когда-нибудь? Этого Мириам не знала. Она встала на колени и помолилась от всего своего чистого сердца, чтобы Господь послал ей хоть ещё одно свидание с ним. Только надежда на встречу и поддерживала её все эти мучительно трудные дни.
Прошла неделя, и, хотя ушиб на ноге уже зажил, Мириам быстро чахла: она, как цветок, не могла жить во тьме. Дважды она умоляла дядю, чтобы ей позволили подойти к выходу около скалы, где она могла бы подышать свежим воздухом и полюбоваться благословенными небесами. И дважды он отказывал: слишком опасно, хотя местонахождение их убежища и держится в тайне, двое-трое беглецов всё же сумели отыскать входы в катакомбы, а их вполне могли заметить.
— Ладно, — в конце концов сдалась Мириам и медленно побрела обратно в свою каморку.
Нехушта обеспокоенно посмотрела ей вслед.
— Боюсь, что без свежего воздуха она скоро умрёт. Неужели нет никакого сколько-нибудь безопасного выхода?
— Только один, — ответил Итиэль, — но я не решаюсь им воспользоваться. Лестница от водохранилища ведёт в башню, оставшуюся от древнего царского дворца. Вход в неё вот уже много лет замурован, чтобы там не устроили себе притон воры. Никто не может взойти на эту башню, в военных целях она не используется, ибо не возвышается над крепостной стеной; там она могла бы посидеть в безопасности, видя дневное небо, но я опасаюсь туда её пускать.
— Придётся рискнуть, — ответила Нехушта. — Отведи меня на эту башню.
Итиэль отвёл её в пещеру, где помещалось водохранилище, оттуда по лестнице в небольшое сводчатое помещение с потайной дверью, сделанной из того же камня, что и стены; поэтому, когда дверь закрывали, никто не мог догадаться, что за ней лежит проход. Из этой старой кладовки — именно для этой цели и предназначалось, видимо, помещение — уходила вверх ещё одна лестница, упиравшаяся в глухую, как казалось, стену. Подойдя к ней, Итиэль сунул плоскую железную отмычку размером около фута или более в щель, поднял щеколду и нажал, после чего открылась каменная дверь высотой и шириной с человека и толщиной в целый ярд. Нехушта втиснулась в образовавшийся проем, Итиэль последовал за ней.
— Смотри, — сказал он, отпуская камень, который тут же бесшумно затворился; теперь позади них, казалось, была сплошная стена. — Эта каменная дверь неплохо подогнана. Входить в неё без железной отмычки было бы рискованно. Вот щель, через которую можно её открыть.
— Кто бы здесь ни жил, он надёжно укрывал свои запасы воды и продовольствия.
Башня была квадратной формы, сорок на сорок футов, с массивными стенами. Вход в неё, как сказал Итиэль, был замурован много лет назад, чтобы туда не могли проникнуть воры и бродяги. Высотой она была около ста футов, крыша давно уже прогнила. Но лестница, которая вела к четырём каменным галереям, уцелела. Когда-то, возможно, в башне были деревянные перекрытия на каждом этаже; если и так — от них ничего не осталось: сохранились лишь каменные галереи с перилами. Лестница, ведущая наверх, была хоть и узкая, но вполне безопасная и удобная. Отдыхая после каждого пролёта, Итиэль и Нехушта наконец добрались до галереи, которая находилась внутри башни, в десяти футах от самого её верха. Выглянув в стрельницу, Нехушта увидела, что внизу, словно развёрнутая карта, простирается Иерусалим с его окрестностями. Но так как время было уже вечернее, они спустились обратно. У подножия лестницы Итиэль дал Нехуште железную отмычку и показал, как поднимать щеколду, чтобы открыть потайную дверь, которая захлопывалась сама.
На другое утро, ещё до того как вверху, над землёй, взошло солнце, Мириам разбудила Нехушту. Та пообещала ей, что в этот день её отведут на старую башню, и столь велико было её желание подышать свежим воздухом и увидеть голубое небо, что в ту ночь она почти не сомкнула глаз.
— Потерпи, госпожа, — увещевала её Нехушта, — потерпи. Мы не можем взойти на башню, пока ессеи не совершат обряд поклонения солнцу, который в этой чёрной дыре они блюдут ещё ревностнее, чем когда
бы то ни было прежде.
Завтракать Мириам наотрез отказалась, но ей всё же пришлось подождать, пока Итиэль не отвёл её в кладовую. Потайная дверь там была открыта, ибо закрывали её только в случае опасности. Пройдя через неё, они подошли к монолитной двери; Итиэль ещё раз показал им, как её открывать. И вот они уже в самом низу массивной башни. Увидев над собой багровое от утренних лучей небо, Мириам захлопала в ладоши и закричала.
— Тише, — сказал Итиэль. — Стены эти очень толстые, и всё же в Иерусалиме, этом гнездилище тысяч несчастий, отнюдь не безопасно кричать от радости; в каменной кладке может оказаться трещина, кто-нибудь услышит твой голос и начнёт тебя искать. А теперь идите за мной.
Они взобрались на верхнюю галерею, откуда через бойницы можно было осыпать нападающих камнями и стрелами. Разгуливая по галерее, Мириам останавливалась около каждой бойницы, с нетерпением выглядывая наружу.
К югу лежали мраморные дворы и сверкающие строения Храма; над ним, невзирая на ежедневные сражения, поднимался дым воскурений. За Храмом лежали Верхний и Нижний города — тысячи и тысячи домов, забитых человеческими существами, в них укрывшимися; многие из них, пренебрегая опасностью, праздновали Пасху. К востоку расстилалась всхолмлённая долина Иосафат, за ней высилась Масличная гора с зелёными деревьями, которым суждено было пасть под топорами римлян. К северу — новый город Бецета, огороженный третьей стеной, ещё дальше — скалистые земли. Невдалеке от неё вздымалась могучая башня Антонии — ныне оплот Иоанна Гисхальского и зелотов; к западу же, за широко раскинувшимся городом, можно было видеть башни Гиппика, Фазаэля и Мариаммы, а поодаль — великолепный дворец Ирода. Стены, крепости, ворота и дворцы, столь многочисленные, что их невозможно даже сосчитать, а между ними — ещё более многочисленные узкие улочки. Итиэль показал Мириам весь город; она с любопытством слушала его объяснения, но в конце концов он устал и замолк. Они смотрели вниз на большой рынок и вдаль, на крыши домов, небогатых в этой части города и тянувшихся вплоть до крепостных стен, где возвышалась Старая башня: там укрылось множество людей; они завтракали, встревоженно о чём-то разговаривали и даже молились.
Нехушта коснулась Мириам и показала на дорогу, начинающуюся от Терновой долины, с северо-востока. Она увидела быстро движущееся большое облако пыли; в скором времени сквозь пыль можно было уже разглядеть сверкание копий и доспехов.
— Римляне! — спокойно сказала Нехушта.
Она была не единственная, кто увидел римское войско, — внезапно на всех крепостных стенах и башнях, на крышах всех высоких домов, во дворах Храма появились тысячи, десятки тысяч голов, — и все они глядели на движущееся облако пыли. Все они безмолвствовали, будто поражённые немотой, но вот далеко внизу, в путанице извилистых улочек, послышался чей-то одинокий голос.
— Горе, горе Иерусалиму! — возглашал голос. — Горе городу и Храму!
Обе женщины вздрогнули, как, вероятно, вздрогнули многие тысячи людей, заслышавших этот скорбный вопль.
— Да, — повторил Итиэль, — горе Иерусалиму, к нему приближается сама Смерть!
Дорога пошла по каменистой местности, пыли стало заметно меньше, и уже можно было различить отряды могучей армии, которая везде, где ни проходила, сеяла гибель и разрушения. Впереди шествовали тысячи сирийских воинов, союзников римлян, и тучи разведчиков и лучников, — развернувшись широким фронтом, они защищали основное ядро армии от неожиданных налётов. За ними следовали строители дорог, в чью обязанность также входила разбивка лагерей, вьючные животные с личными вещами верховного военачальника, далее, в сопровождении большого эскорта, ехал сам Тит, его свита, копьеносцы и всадники. За ними везли бессчётное множество устрашающих военных машин; ещё далее шагали трибуны и начальники когорт со своей охраной, окружённые целыми оркестрами трубачей, чьи трубы время от времени бросали громкий вызов врагам, парили Римские орлы, несущие «мерзость запустения»
[51], и, наконец, колонной по шестеро, большая, разделённая на легионы, шла армия в сопровождении строителей и конных эскадронов. Замыкали это шествие обозы и десятки тысяч наёмников. На Сауловой горе всё это воинство остановилось и принялось разбивать лагерь. Через час конный отряд в пятьсот — шестьсот человек выехал со стоянки и помчался прямой дорогой в Иерусалим.
— Это сам Тит, — сказал Итиэль. — Видите — перед ним императорский боевой знак.
Конники быстро приближались к городу, и в скором времени Мириам с её острым зрением уже различала отдельные части их доспехов и даже могла назвать масть коней. Она пристально вглядывалась в императорский эскорт, не без основания полагая, что среди сопровождающих должен быть и Марк. Может быть, этот воин с плюмажем и есть он? Или воин в пурпурном плаще? Или тот, что поскакал от боевого знака с каким-то поручением? Он там, она уверена, он там, — и всё же они не ближе друг к другу, чем тогда, когда их разделяло безбрежное море.
Разведывательный отряд римлян проезжал мимо Башни Женщин, когда крепостные ворота отворились и из них выбежали тысячи евреев, прятавшихся в прилегающих улицах и домах. Со свирепыми криками они прорвали узкую колонну конников и окружили обе разорванные части. Мириам хорошо видела, как падают с коней убитые. Императорский знак опустился, взмыл ввысь, вновь опустился и взмыл ввысь. Сражающиеся скрылись в облаке пыли, и Мириам боялась, что все римляне будут истреблены. Но нет, вот они вынырнули из облака пыли и ринулись обратно, хотя их число и уменьшилось. На всём скаку они прорвали кольцо окруживших их евреев и благополучно вернулись к своим. Однако Мириам не знала, кто из них погиб, а кто уцелел. Сердце у неё ныло от сильной тревоги, когда она спустилась с башни в катакомбы.
Глава ХV
ЧТО ПРОИСХОДИЛО В БАШНЕ
Миновало почти четыре месяца. Мировая история никогда не знала, а возможно, и не узнает более жестоких страданий, чем те, что перенесли за это время жители Иерусалима, евреи, укрывшиеся за его стенами. Отбросив все свои внутренние распри перед лицом столь грозной опасности, секты, хоть и слишком поздно, объединились и с неистовой яростью сражались против общего врага. Они делали всё, на что толкало их отчаяние. Вновь и вновь совершали вылазки, убивали тысячи римлян. Захватывали их стенобойные машины и катапульты. Подкапывались под большие деревянные башни, возведённые Титом около крепостных стен, и поджигали их. И всё время продолжали совершать вылазки. Тит занял третью стену и новый город Бецету. Занял и снёс вторую стену. Затем послал историка Иосифа, чтобы он уговорил евреев сдаться, но те с проклятиями забросали его камнями; война продолжалась.
Наконец, убедившись в безуспешности своих приступов, Тит решил прибегнуть к более надёжной и устрашающей тактике. Он приказал обнести первую, ещё не захваченную стену, Храм и крепости сплошным валом и стал ждать, пока голод сделает своё дело. В самом начале, ещё до того как обезумевшие, одержимые дьяволом секты принялись уничтожать друг друга и обирать мирный народ, в Иерусалиме были достаточные запасы продовольствия. Но секты безрассудно тратили всё, что у них имелось, а при случае сжигали запасы своих соперников, так что продовольствие, которого могло бы хватить на долгие месяцы, было уничтожено в оргиях безумного расточительства и разрушения. От былого изобилия почти ничего уже не осталось, и жители города умирали десятками, даже сотнями тысяч от голода.
Те, кого интересуют подробности этой длительной осады, кто хотел бы знать, какие лишения способны вынести человеческие существа и какие дикие поступки способны совершить от голода, могут прочитать обо всём этом в книге историка Иосифа. Повторять же их здесь нет никакого смысла, тем более что они поистине ужасны. Нет таких жестокостей, описанных в истории и изобретённых умом человеческим, которых не применяли бы голодные евреи по отношению к евреям, подозревавшимся в том, что они утаивают еду для себя и своих семей. Страшное пророчество сбывалось, матери пожирали собственных детей, дети вырывали последние кусочки хлеба изо рта умирающих родителей. И если такое происходило между людьми одной крови, то каким изощрённым пыткам подвергали друг друга незнакомцы. Город как будто обезумел под бременем жестокого, сверх сил человеческих, бедствия. Что ни день гибли тысячи людей, и тысячи бежали или пытались бежать к римлянам, которые ловили и распинали этих бедняг под крепостными стенами. В конце концов у них не осталось ни дерева для изготовления распятий, ни свободной земли, куда можно было бы их ставить.
Всё это — и многое другое — видела Мириам со своего наблюдательного поста на галерее покинутой башни. Она видела сотни мертвецов, валяющихся на улицах. Видела, как грабители вытаскивают людей из домов и пытают, чтобы узнать, не прячут ли они еду, а затем, так ничего и не выяснив, убивают мечами. Видела долину Кедрона и нижние склоны Масличной горы, усеянные распятыми пленными евреями, корчащимися в предсмертных муках, как некогда их Мессия. Она видела яростные приступы, ещё более яростные вылазки и кровавые ежедневные побоища. Теперь сердце Мириам раздирали такие сильные муки, что она, хотя и продолжала прятаться на башне, а не в тёмных катакомбах, долгими часами лежала ничком, заткнув пальцами уши, — только бы перестали терзать все эти жуткие зрелища и крики, полные невыносимого горя.
Ессеи, чьи запасы еды ещё не иссякли, теперь почти не покидали своего убежища: хотя лица их и были смертельно бледны от постоянного пребывания впотьмах, тела их были отнюдь не такими измождёнными, как у горожан, и они боялись, что голодные, заподозрив обман, могут схватить и пытать их, надеясь, что они откроют тайники с запасами продовольствия. Такое уже случилось с несколькими братьями, но они не нарушили принятого ими обета; так, например, ушёл и не вернулся их старший брат Теофил, но никто из них не выдал тайны даже под пытками. И всё же, невзирая на опасность, не в силах выдержать длительное заключение в подземной темнице и обуреваемый желанием знать, что происходит в городе, кто-нибудь из них выползал по ночам из катакомб, с тем чтобы возвратиться до рассвета. От этих братьев Мириам узнала, что верховный священник Матфия, его сыновья и шестнадцать членов синедриона убиты по обвинению в тайном сношении с римлянами, после чего в этот высший совет избран её дед Бенони, который пользуется там большим влиянием и казнил многих по обвинению в предательстве или поддержке римлян. В Храме находился и Халев, который отличался в каждом сражении. Говорили, что он поклялся лечь костьми, но убить конного префекта Марка, своего старинного врага. Однажды они уже встретились и обменялись несколькими ударами, но обстоятельства разлучили их в тот раз.
Начался август; несчастный город вдобавок ко всем своим бедам задыхался от палящего солнца и зловония, исходившего от тысяч валявшихся на улицах или сброшенных со стен мертвецов. Римляне установили свои стенобойные машины прямо напротив ворот Храма и медленно, но уверенно прокладывали себе путь в его внешние дворы.
Однажды ночью, за час до восхода, Мириам разбудила Нехушту и сказала ей, что просто не может дышать здесь под землёй и должна взойти на башню. Нехушта возразила, что это сущее безумие, но Мириам ответила, что пойдёт одна. Этого Нехушта, естественно, не могла допустить, и они обе взошли на верхнюю галерею. Там они сидели, овеваемые тихим предутренним ветерком, глядя на костры римлян, разложенные вокруг крепостных стен и даже среди разрушенных домов, внизу, ибо эта часть города была уже захвачена.
И вот занялся рассвет, сияющий, но ужасный. Будто Ангел Утренней зари окунул своё крыло в море крови и обрызгал им чело Ночи, всё ещё увенчанной блекнущими звёздами. В небе повисли огненные пятна и нити, особенно яркие на бледном фоне сумеречного неба. Мириам наблюдала за этой картиной, словно в экстазе; впервые за долгое время её встревоженная душа преисполнилась мира и покоя; но снизу уже слышно было, как пробуждаются и готовятся к дневной битве оба враждующих лагеря. Ослепительный луч света, точно огромное копьё, взметнулся над Масличной горой, перелетел через долину Иосафата и упал на златоверхий Храм и его дворы. И в тот же миг, как по сигналу, широко распахнулись Северные ворота, и через них выплеснулся поток суровых, измождённых воинов. Они устремились наружу многими тысячами, издавая грозные боевые кличи. Передовые посты римлян попытались остановить их натиск, но были смяты и уничтожены. Поток докатился до подножия большой деревянной башни, наполненной лучниками. Здесь завязалось отчаянное сражение, ибо солдаты Тита бросились на защиту своей машины. Но и им не удалось задержать наступающих; башня тотчас же заполыхала; в последней безумной попытке спасти свои жизни лучники бросились вниз головой с высоты. С ликующими кликами евреи ринулись в проломы во второй стене и, оставив слева от себя то, что ещё сохранилось от башни Антонии, растеклись по лабиринту улиц, лежащих в непосредственной близости от старой башни, где находилась Мириам.
Перед этой башней, куда римляне даже не пытались войти, ибо с военной точки зрения она была для них бесполезна, лежала площадь; некогда она, по всей видимости, составляла часть сада, но теперь использовалась под скотный рынок, иногда на ней также упражнялись во владении оружием молодые люди. С противоположной стороны площади римляне воздвигли прочные укрепления, за которыми располагались лагеря двенадцатого и пятнадцатого легионов. Через эту площадь пробежали остатки римлян, преследуемые толпами взбешённых евреев. Евреи уже догнали было своих врагов, но из-за укреплений их так решительно атаковали свежие силы римлян, что и они, в свою очередь, были размётаны и спрятались в разрушенных домах. Внимание Мириам привлёк всадник, который возглавлял это сражение, молодой человек мужественной наружности, в сверкающих доспехах; даже среди общего шума и криков её слух улавливал повеления, отчётливо отдаваемые его звонким голосом. Но и эта атака захлебнулась, римляне отхлынули, как волна, набегающая на песчаный берег. На их счастье, евреи были не в состоянии воспользоваться представившейся им возможностью; римский военачальник, который ехал последним, имел даже время неторопливо развернуть коня и, не обращая внимания на звенящие вокруг него стрелы, осмотреть площадь, усеянную ранеными и убитыми. Неожиданно он поднял глаза на башню, как бы оценивая, на что она может пригодиться, и Мириам увидела его лицо. То был Марк — старше, с более серьёзным видом, с курчавой бородкой, которой раньше у него не было, — и всё же Марк, а не кто иной.
— Смотри, смотри! — закричала она.
Нехушта кивнула:
— Да, это он, я так и думала с самого начала. А теперь, госпожа, после того как ты его увидела, нам надо уходить.
— Уходить? — удивилась Мириам. — Куда?
— Одна из этих двух армий, вполне возможно, захочет воспользоваться нашей башней и взломает замурованную дверь. Они найдут лестницу и тогда...
— И тогда, — спокойно договорила за неё Мириам, — нас возьмут в плен. Ну и что? Если нас найдут здесь евреи, ничего страшного, мы ведь принадлежим к их стану. Если — римляне... Я не очень-то их боюсь.
— Ты хочешь сказать, что по крайней мере одного из них ты не боишься. Кто знает, не погибнет ли он в бою...
— Не говори так, — перебила её Мириам, прижав руку к сердцу. — Нет, опасно ли, нет ли, я должна досмотреть сражение до конца. А вон Халев, сам Халев, сзывающий своих солдат. Какой у него злобный вид — ни дать ни взять гиена в западне. Нет, нет, я не пойду, но ты можешь идти. Повторяю, я должна досмотреть сражение.
— Ты слишком тяжела и сильна, чтобы мои старые руки могли снести тебя вниз по крутой лестнице, и я вынуждена уступить, — спокойно ответила Нехушта. — В конце концов, еды у нас с собой достаточно, а наши ангелы-хранители с одинаковым успехом могут уберечь нас не только в грязных пещерах, но и на вершине башни. Да и стоит понаблюдать за таким боем.
Перестроившись за своими укреплениями, во главе с префектом Марком и другими военачальниками, римляне снова вышли на площадь; на полпути их встретили евреи, получившие подкрепление из Храма; среди них был и Халев. Там, на открытой площади, они вступили в рукопашную, и ни одна из сторон не хотела отступить ни на пядь. Через каменную решётку Мириам следила за боем; но из всего множества сражающихся её внимание приковывали лишь двое — Марк, которого она любила, и Халев, которого она боялась. На Марка напал один из солдат-евреев, заколол его коня и был, в свою очередь, сражён римлянином, бросившимся на выручку к своему начальнику. После этого Марк сражался на ногах. Халев зарубил сперва одного римского солдата, затем другого. Мириам поняла, что он пробивается к Марку. Марк, видимо, тоже это понял, потому что решительно двинулся навстречу своему давнишнему врагу. Они сошлись и обменялись несколькими ударами, но их тут же разлучила атака конных римлян, после чего обе стороны, подобрав раненых, возвратились на исходные позиции.
Так, с промежутками в два-три часа, битва продолжалась с утра и до полудня, с полудня и до заката. К вечеру римляне прекратили атаки, только защищались, ожидая подкреплений от войск, стоящих снаружи города или освободившихся после боев в каком-нибудь другом квартале.
Преимущество — или его видимость — оставалось за евреями, они заняли все окрестные разрушенные дома и простреливали площадь из своих луков. Тогда-то и оправдались опасения Нехушты: располагая часом-другим свободного времени, евреи взяли бревно и пробили замурованную дверь.
— Смотри, — проговорила Нехушта, показывая вниз.
— О Ну, я была не права, — воскликнула Мириам. — Из-за меня и ты в опасности. Но я не могла уйти. Что же нам теперь делать?
— Сидеть спокойно, пока они не поднимутся сюда, — мрачно ответила Нехушта. — Тогда, если у нас будет время, мы постараемся объяснить, кто мы такие.
Евреи, однако, не поднялись на башню: они боялись, что римляне могут застать их врасплох и они не успеют спуститься. Они только снесли в башню тяжелораненых, которых нельзя было отправить в безопасное укрытие.
Сражение на какое-то время прекратилось, солдаты с обеих сторон развлекались, выкрикивая издевательства и оскорбления или вызывая друг друга на поединки. Из-под прикрытия стены выступил вперёд Халев и прокричал, что, если префект Марк осмелится встретиться с ним один на один, он скажет ему кое-что любопытное. Хотя Марка и удерживали, он вышел из-за укрепления и сказал:
— Я готов тебя выслушать.
Они сошлись в центре площади и о чём-то заговорили, Мириам и Нехушта не могли расслышать ни слова.
— Они будут сражаться? — спросила Мириам.
— Вполне вероятно, ибо каждый из них поклялся убить другого.
В конце разговора Марк покачал головой, как бы отклоняя какое-то сделанное ему предложение, и показал на своих легионеров, которые внимательно за ним наблюдали, затем вернулся и направился к своим позициям. Халев последовал за ним, крича, что он трус, боящийся сразиться с ним один на один. При этом оскорблении Марк вздрогнул, но пошёл дальше, намереваясь, видимо, присоединиться к своему отряду; Халев, обнажив меч, ударил его плашмя по спине. Евреи захохотали, римляне же, видя, какое нестерпимое оскорбление нанесено их префекту, разразились негодующими криками. Марк, с мечом в руке, повернулся и бросился на Халева.
Именно этого и ждал Халев: он знал, что ни один римлянин, тем более Марк, не стерпит такого позора. Уклоняясь от ослеплённого яростью врага, Халев львиным прыжком отскочил в сторону и, крепко сжав меч в своей жилистой длинной руке, изо всех сил обрушил его на голову Марка. Не будь шлем так прочен, от такого удара его череп раскололся бы надвое, и всё же меч пробил шлем и рассёк голову до кости. Марк зашатался, широко раскинув руки, и выронил меч. Прежде чем Халев успел ударить его вновь, римлянин пришёл в себя и, зная, что у него нет оружия, сделал единственное, что ему оставалось, — ринулся прямо на врага. Халев полоснул его по плечу, но стальные доспехи выдержали удар, и в следующий миг Марк крепко обхватил его руками. Они покатились по земле; еврей пытался заколоть римлянина, а римлянин — задушить его голыми руками. Из-за римских укреплений послышался дружный крик: «На выручку! На выручку!», тогда как евреи вопили: «Хватайте его! Хватайте!»
На площадь с обеих сторон хлынули сотни и тысячи бойцов; вокруг Марка и Халева началась самая яростная в тот день стычка. Люди гибли, но ни на шаг не отходили назад; хотя и в меньшинстве, римляне предпочитали скорее умереть, чем оставить своего любимого раненого начальника в руках жестоких врагов, евреи же слишком хорошо понимали ценность такой добычи, чтобы легко с нею расстаться. Так велико было взаимное ожесточение, что Марк и Халев скоро оказались погребёнными под телами павших. Всё новые и новые отряды евреев вступали в бой, но римляне сражались доблестно — плечо к плечу, щит к щиту, они медленно оттесняли врагов.
Но тут вдруг с запада к евреям пришло свежее подкрепление — человек триста — четыреста; со свирепыми криками они ударили на римлян с фланга. Начальник, который заменил Марка, понимая, какая над ними нависла опасность, и считая, что пусть лучше погибнет один префект, чем целый отряд, что означало бы сокрушительное поражение для войска цезаря, дал приказ к отступлению. Взвалив на себя раненых товарищей, легионеры медленно отступали, не обращая внимания на ливень сыплющихся на них копий и стрел: прежде чем евреи смогли их обойти, они уже успели укрыться за своими укреплениями. Видя, что их позиции неприступны и развить достигнутый успех всё равно не удастся, победители-евреи также отошли — но не к домам за башней, а к старой рыночной ограде, в тридцати — сорока шагах от них, которую они стали укреплять в блекнущем вечернем свете. Те из римлян, что лежали раненые на поле боя, видя, что на спасение нет никакой надежды, закалывались собственными копьями, не желая попасть в руки врагов, которые подвергнут их пыткам, а затем распнут. Была у них и ещё одна причина для самоубийства: декрет Тита провозглашал, что каждый захваченный в плен римлянин должен быть публично заклеймён позором и изгнан из рядов легиона; при повторном же пленении ему грозила смертная казнь или изгнание.
Марк с радостью последовал бы их примеру и тем самым — хотя тогда он этого не знал — избавил себя от тяжких мук и позора, но у него не было ни времени, ни оружия, к тому же он очень ослаб от поединка и потери крови, и, когда руки евреев извлекли его и Халева из-под груды поверженных тел, он был в беспамятстве. Евреи решили было, что он мёртв, но один из них, по роду своих занятий — лекарь, объявил, что он жив и, если отлежится, придёт в себя. Желая сохранить своего пленника живым, с тем чтобы впоследствии держать его заложником или казнить на виду у всей армии Тита, они втащили его в Старую башню, предварительно убрав оттуда своих раненых, кроме уже умерших. Оставив с ним стражу, хотя в ней и не было особой необходимости, во главе с торжествующим Халевом они отправились укреплять рыночную стену.
Мириам, которая наблюдала за всем происходящим, казалось, что её сердце разорвётся от боли и страха. Она видела, как её возлюбленный и Халев упали, сжимая друг друга в железных объятиях, видела ужасное столпотворение вокруг них. Видела она, и как их вытащили из-под горы убитых, и как Марка — жив ли он, мёртв ли, она не знала — внесли в башню и положили на пол.
— Не убивайся так, — с глубоким состраданием шепнула Нехушта. — Господин Марк жив, не то они раздели бы его и бросили на площади. Повторяю, он жив, и они намерены держать его в плену, поэтому и не позволили Халеву, как он ни порывался, всадить в него меч.
— В плену? — сказала Мириам. — Стало быть, его распнут, как и многих других, которых мы видели вчера на стене Храма?
Нехушта пожала плечами.
— Может быть, — сказала она, — если он не покончит с собой... или если его не спасут...
— Спасут? Как можно его спасти? — И не в силах совладать с горем, бедная девушка пала на колени и, соединив руки, запричитала: — О Иисусе, Которому я служу, научи меня, как спасти Марка! О Иисусе, я люблю его, хоть он и нехристианин, не могу его не любить, вразуми меня, как его спасти. А если кому-то из нас суждено умереть, возьми мою жизнь вместо его, возьми мою жизнь вместо его...
— Перестань, — остановила её Нехушта. — Господь уже ответил на твою молитву. Смотри, Марк лежит рядом с лестницей, не более чем в двух-трёх шагах от потайной каменной двери, ведущей в подземелье. Если не считать нескольких мертвецов, в башне никого, кроме него, нет, оба часовых стоят снаружи, потому что там им светлее, а их пленник не вооружён и беспомощен, у него нет никаких шансов на побег. Если римлянин придёт в себя и сможет стоять на ногах, почему бы нам не втащить его в потайную дверь?
— Но евреи могут нас заметить; если они раскроют тайну убежища, они перебьют всех ессеев за то, что те скрывают запасы еды.
— Уж если мы окажемся за дверью, они ни за что не смогут нас найти, даже если у них и будет достаточно времени для поисков, — ответила Нехушта. — Прежде чем они успеют взломать дверь, можно будет закрыть каменную западню за ней, выбить подпорки из-под крыши каменной лестницы и завалить вход, а потом так затопить всё, что им не хватит и недели, чтобы проникнуть вглубь. Не беспокойся, ессеи приняли все меры предосторожности.
Мириам бросилась Нехуште на шею и расцеловала её.
— Мы сделаем всё, что можем, Ну, всё, что можем, — зашептала она, — а если потерпим неудачу, то умрём вместе с ним.
— Ты, может быть, и будешь рада, — с кислым видом произнесла Нехушта, — но мне отнюдь не улыбается возможность умереть вместе с господином Марком. Признаюсь, он мне очень нравится, но если бы не ты, я оставила бы его там, где он есть. Не отвечай и не лелей слишком больших надежд. Впечатление такое, будто он мёртв. Может быть, он и впрямь мёртв.
— Да, да, — в диком смятении ответила Мириам. — Это мы и должны выяснить. Прямо сейчас.
— Да, пока ещё светло, ибо впотьмах на этой лестнице мы сломаем себе шею. Следуй за мной.
Они стали тихо спускаться вниз по тёмной древней лестнице, где ухали совы, а об их лица ударялись летучие мыши. Последний пролёт выводил в небольшой коридор, который шёл под прямым углом к ступеням, на том же уровне, что и пол нижнего этажа; сюда когда-то и открывалась дверь лестницы. Таким образом, из башни нельзя было видеть человека, стоящего на нижних ступенях. Дойдя до порога, они остановились. Нехушта опустилась на четвереньки и заглянула внутрь. Там было темно как в могиле, лишь слабые отблески звёздного света, отражаясь от доспехов, показывали, где лежит Марк, — так близко, что она могла притронуться к нему рукой. Напротив неё виднелось большое пятно серого света. Это был пролом, в котором время от времени мелькали тени шагающих взад и вперёд часовых.
Нехушта нагнулась ещё ниже и прислушалась. Нет, он не мёртв, слышно, как он дышит. Марк пошевелил рукой, пытаясь, видимо, прикоснуться к своей раненой голове. Отодвинувшись назад, Нехушта шепнула Мириам:
— Он жив, госпожа, и, как я полагаю, очнулся. А теперь поступи так, как говорит тебе разум; если я окликну его, он может испугаться, но, услышав твой голос, он сразу его узнает, — если, конечно, он в полной памяти.
В тот же миг все страхи и сомнения покинули душу Мириам, её рука окрепла, голова прояснилась, сама Природа подсказывала ей, что, если она хочет спасти своего возлюбленного, ей следует сохранять твёрдость руки и ясность мыслей. Робкая, истерзанная муками любви девушка вдруг превратилась в женщину с железной волей и решимостью. Она опустилась на колени и подползла к Марку вплотную.
— Марк, — окликнула она его тихим шёпотом, — проснись и слушай меня, но, умоляю, не шевелись и не шуми. Ты меня знаешь, я Мириам.
Тёмная фигура под ней шевельнулась, губы шепнули в ответ:
— Теперь я знаю, что умер. Оказывается, на том свете ещё лучше, чем я надеялся. Продолжай говорить, о тень моей милой Мириам.
— Нет, Марк, ты не мёртв, а только ранен, и я не дух, а земная женщина, та самая, что ты знал на берегах Иордана. Мы хотим спасти тебя, я и Нехушта. Если ты послушаешься меня и у тебя хватит сил встать, мы отведём тебя в тайное убежище ессеев; ради меня они позаботятся о тебе, а когда ты поправишься, то сможешь вернуться к своим римлянам. Но если ты останешься здесь, боюсь, что евреи распнут тебя.
— Клянусь Вакхом, я тоже боюсь. А это ещё хуже, чем потерпеть поражение от Халева. Но всё это я вижу во сне, конечно же, во сне. Будь рядом со мной Мириам, я видел бы её, мог бы к ней притронуться. Это только сновидение. Ну что ж, буду спать. — И он повернул голову.
Мириам задумалась. Времени очень мало, надо убедить его, что всё это не сон. Но ведь это и не так трудно. Она медленно наклонилась ещё ниже и прижала губы к его губам.
— Марк, — продолжала она, — я целую тебя, чтобы ты понял, что ты не во сне. Будь у меня свеча, я показала бы тебе перстень и жемчужное ожерелье, твой дар, — и у тебя не осталось бы никаких сомнений.
— О, моя ненаглядная! — ответил он. — У меня и так нет сомнений. Я очень ослабел, у меня мутится в голове, я уже уверен, что это явь, и благодарю Халева, который — хоть и против своей воли — вновь соединил нас. Скажи, что я должен сделать.
— Ты можешь стоять на ногах? — спросила Мириам.
— Надеюсь, да. Но не уверен. Сейчас попробую.
— Нет, подожди. Нехушта, подойди сюда, ты сильнее меня. Пока я буду отпирать потайную дверь, постарайся его поднять. Да побыстрее, я слышу шаги стражников.
Нехушта скользнула вперёд, встала на колени возле раненого и подсунула под него руки.
— Я готова, — сказала она. — Вот железная отмычка.
Мириам взяла отмычку и, подойдя к стене, ощупью нашла в темноте щель. Это удалось ей сделать не сразу. Вставив тонкую, изогнутую железку, она подняла невидимую щеколду и толкнула дверь. Дверь была так тяжела, что Мириам пришлось напрячь все свои силы, чтобы её отворить. Наконец камень повернулся.
— А теперь веди его сюда, — сказала она Нехуште, которая, выпрямившись, поставила раненого Марка на ноги. — Быстрей, быстрей! — торопила она. — Кажется, идёт стражник.
Поддерживаемый Нехуштой, Марк с трудом сделал три шага и достиг открытой двери. Здесь, на самом пороге, силы оставили его, ибо он был ранен не только в голову, но и в колено. Простонав: «Не могу больше», — он упал на пол, увлекая за собой старую ливийку. Звякнули доспехи. Часовой снаружи услышал этот звук и крикнул своему напарнику, чтобы тот дал ему фонарь. Через миг Нехушта была уже на ногах и, схватив Марка за правую руку, потащила его через порог, в то время как Мириам, упираясь спиной в каменную дверь, чтобы та не закрылась, подталкивала его сзади.
В проломе блеснул свет фонаря.
— Тащи изо всех сил, — прошептала Мириам, и Нехушта потянула за собой тяжёлое, обмякшее тело. Но было уже слишком поздно; если на него упадёт свет, всё будет потеряно. В мгновение ока Мириам приняла решение. Она открыла каменную дверь пошире и, когда Нехушта перетащила Марка через порог, прыгнула вперёд, держась в тени стены. Встревоженный звуками какой-то возни, часовой с фонарём поспешно вошёл внутрь, но, зацепившись ногой за лежавшего там мертвеца, упал на одно колено. Мириам сжимала в руке отмычку и, когда часовой встал, освещая её, — ни на миг прежде! — ударила по фонарю, который сразу же погас, разбитый. Затем она бросилась бежать, зная, что дверь всё ещё поворачивается вокруг оси.
Но, увы, она опоздала, часовой уже успел ухватить её за пояс и крепко держал, взывая о помощи. Пытаясь вырваться, Мириам била его железной отмычкой, отталкивала левой рукой, но она была беспомощна, как дитя в руках кормилицы. Услышав глухой стук закрывшейся двери, невзирая на своё отчаянное положение, она обрадовалась; ведь это означало, что Марк в безопасности. Прекратив бесполезную теперь уже борьбу, она напрягла ум: Марк спасён, дверь захлопнулась, и открыть её без помощи отмычки никто не сможет. На их счастье, часовой не успел ничего заметить. Но бегство отныне невозможно. Её роль сыграна, остаётся лишь хранить молчание и тайну.
В башню один за другим вбегали солдаты с фонарями. Ещё до их появления Мириам забросила железку в ту часть башни, где валялись груды камней, обломков сгнивших досок и птичьего помёта. Теперь она стояла не шевелясь. Солдаты подбежали к ней, впереди всех — Халев.
— Что случилось? — закричал он.
— Не знаю, — ответил часовой. — Я услышал негромкий звон и вбежал внутрь; но кто-то выбил у меня из руки фонарь; негодяй очень силён, но я всё-таки удержал его, хоть он и осыпал меня ударами меча.
Подняв фонари, они увидели прелестную, растрёпанную девушку, маленькую и хрупкую, — и все дружно расхохотались.
— Нечего сказать, силач! — ухмыльнулся один. — Это же девчонка! Неужели ты зовёшь на помощь всякий раз, когда какая-нибудь милашка хватает тебя в объятия?!
Не успел он договорить, как другой солдат крикнул:
— А где римлянин? Префект куда-то исчез. Где наш пленник?
И подобно тому как кот ищет ускользнувшую от него мышь, они с гневными криками принялись обыскивать всё кругом. Только Халев стоял не двигаясь и в упор смотрел на девушку.
— Мириам, — сказал он.
— Да, Халев, — спокойно ответила она. — Не правда ли, странная встреча? Зачем ты ворвался в моё убежище?
— Женщина, — закричал он, обезумев от ярости, — где ты спрятала префекта Марка?
— Марка? — переспросила она. — Разве он здесь? Я не знала, что он здесь. Кто-то выбежал из башни, может быть, это и был он? Поторопитесь, вы ещё успеете его поймать.
— Никто не выбегал из башни, — возразил второй часовой. — Схватите эту женщину, она помогла римлянину скрыться в каком-то тайном убежище. Схватите её — и обыщите!
Они схватили Мириам, связали её и забегали вдоль стен.
— Тут лестница, — закричал кто-то. — Он наверняка удрал наверх. Пошли за ним, друзья.
Взяв с собой фонари, они поднялись на самый верх, но никого не нашли. Когда они спускались, затрубила труба и снаружи послышались громкие крики.
— Что там происходит? — недоумённо спросил кто-то.
В проломе появился какой-то начальник.
— Выходите, все выходите, — громко приказал он. — Возьмите с собой пленника и немедленно возвращайтесь в Храм. Нас атакует сам Тит во главе двух свежих легионов: он взбешён потерей префекта и многих своих солдат. Где раненый римлянин Марк?
— Исчез, — угрюмо отозвался Халев. — Исчез. — И с ревнивой, мстительной злобой уставился на Мириам. — А вместо себя оставил нам эту женщину, внучку Бенони, Мириам; как ни странно, она его любовница.
— Вот как? — изумился начальник. — А ну-ка скажи нам, девчонка, куда запропастился римлянин — или мы тебя тут же прикончим. Говори, у нас нет лишнего времени.
— Я тут ни при чём, — ответила Мириам. — Я только видела, как кто-то прошёл мимо часовых, вот и всё.
— Она лжёт, — презрительно сказал начальник. — Убейте эту предательницу.
Солдат уже занёс меч, и Мириам закрыла глаза, ожидая смертоносного удара. Она была уверена, что всё уже кончено, но тут Халев шепнул начальнику несколько слов, которые заставили его переменить решение.
— Хорошо, — сказал он. — Не убивай её. Отведи в Храм, и пусть там судят её дед Бенони и другие судьи синедриона. Они могут заставить говорить самых неразговорчивых, а смерть навсегда запечатывает уста. Быстрей, быстрей, сражение идёт уже на рыночной площади.
Они схватили Мириам и потащили её с собой, а через час Старая башня была занята римлянами, которые снесли её с лица земли вместе с окружающими домами.
Часть вторая
Глава I
СИНЕДРИОН
Солдаты грубо тащили Мириам по тёмным извилистым улочкам, которые с обеих сторон обступали сгоревшие дома, а затем по заваленным обломками крутым каменным склонам. Им надо было поторапливаться, потому что по пятам за ними, озарённый пожарами, катился поток войны. Днём вытесненные из этой части города отчаянной вылазкой евреев, под покровом тьмы римляне превосходящими силами отвоёвывали потерянную территорию, стараясь при этом отрезать своих врагов от Храма и той части Верхнего города, которую те ещё удерживали.
Отряд евреев, который увёл с собой Мириам, направлялся к стене, окружавшей Храм; подойти туда с севера или востока они не могли, ибо внешние дворы и галереи Святилища были уже захвачены римлянами; пришлось идти в обход Верхнего города — путь долгий и утомительный. Однажды они вынуждены были укрыться в окрестных домах, ожидая, пока мимо прошествует большой отряд римлян. Халев хотел их атаковать, но другие военачальники воспротивились, сказав, что они слишком малочисленны и устали; просидев три часа в укрытии, они двинулись дальше. Много времени ушло на ожидание перед воротами, которые удерживали их соотчичи. Рассвет был уже совсем близок, когда они миновали узкий мост, оседлавший ров, и через массивные ворота прошли в большой сумеречный внутренний двор. Теперь, как поняла Мириам из разговоров конвойных, они были уже в Храме. По приказу того самого начальника, который хотел было убить Мириам, её посадили в тесную темницу в одной из галерей. Заперев дверь, сопровождавшие её солдаты удалились.
Мириам была в полном изнеможении, она опустилась на пол и попыталась уснуть, но это никак ей не удавалось, в голове у неё, казалось, пылало какое-то жгучее пламя. Едва она закрывала глаза, как перед ней вновь вставала ужасная сцена, свидетельницей которой она оказалась, в ушах звучали торжествующие крики победителей и жалобные стоны умирающих и вновь взывал голос раненого Марка: «О, моя самая любимая!» В самом ли деле он так её любит, раздумывала она. Неужели он не забыл её за долгие годы разлуки? А ведь он человек богатый и знатный, и его благосклонности наверняка домогались многие красивые женщины, готовые стать его женой или любовницей. Но, может быть, в том отчаянном положении, в котором он находился, он называл бы «самой любимой» любую пришедшую ему на помощь женщину, — да, даже старую Нехушту, — при этой мысли Мириам невольно улыбнулась. Но его голос звучал так искренне, и он прислал ей перстень, жемчуга и письмо — это письмо она всё ещё носит на груди, хотя и знает его наизусть. Как сомневаться в его любви? Мириам радовалась, что по воле Господней спасла ему жизнь, пусть даже ценой своей собственной. Но ведь он тяжело ранен — что, если он умрёт? Ессеи — искусные лекари, и конечно же исцелят его — ради неё, Мириам! И может ли быть лучшая сиделка, чем Нехушта? Бедная Ну будет так беспокоиться за неё — совсем изведётся. Какая боль, должно быть, пронзила её сердце, когда она услышала, как за ней захлопнулась каменная дверь, и поняла, что её любимая питомица осталась за порогом, во власти евреев.
Хорошо ещё, что Мириам не знала, что происходит за дверью, не видела, как Нехушта била по ней обеими руками, как пыталась откинуть щеколду своими тонкими пальцами, пока не ободрала их в кровь. Хорошо, что она не могла слышать, как пришедший в себя Марк, всё ещё не в силах подняться с колен, яростно клял свою злосчастную судьбу, ведь это из-за него она, Мириам, которую он так любит, попала в руки к безжалостным врагам. Хорошо, что она не могла слышать, как он роптал на свою беспомощность с таким неистовством, что его раненый мозг не выдержал, им овладело безумие, и в этом состоянии Марк провалялся многие недели. От всего этого по крайней мере Мириам была избавлена.
Как бы там ни было, обратного пути нет; она, Мириам, должна заплатить дорогую цену за то, что сделала; у них полное право её казнить, ведь она спасла от них римского префекта, — и они, конечно, её казнят. А если и пощадят, то её не пощадит Халев, чья горькая ревность наверняка уже превратила его прежнюю любовь в ненависть. Ни за что на свете не оставит он её в живых, боясь, как бы она не попала в руки ускользнувшего от него соперника-римлянина.
И всё же цена не слишком высока. С самого рождения она отмечена печатью Рока: даже если Марк всё ещё хочет на ней жениться и Фортуна сведёт их снова, наложенный на неё запрет непреодолим.
Мириам была совершенно изнурена, её просто тошнило от той оргии убийств, свидетельницей которой ей довелось быть в эти дни, от всех этих бедствий, которые, в соответствии с предсказанием Господа, обрушились на город, отвергнувший и распявший Его, своего Мессию. И ей хотелось умереть, вознестись в чертог полного вечного покоя; может быть, в награду за страдания ей будет даровано право наблюдать издали за душой Марка, а после его смерти приготовить и для него чертог, где его душа будет обитать бесчисленные века. Эта мысль подбодрила её, она подняла перстень и прижала его к губам, всё ещё хранившим вкус его поцелуя, затем сняла и спрятала в волосах. Ей хотелось сохранить перстень до самого конца. Что до жемчужного ожерелья, то спрятать его было негде, и, хотя ей был очень дорог этот подарок, она вынуждена была примириться с мыслью, что оно попадёт в руки мародёров, а потом на шею какой-нибудь другой женщины, которая никогда не узнает его истории.
Поднявшись на колени, Мириам стала молиться, одухотворённая живой и простой верой, дарованной первым детям Церкви. Она молилась за Марка — чтобы он исцелился и не забыл её и чтобы его осиял свет Истины; молилась за Нехушту — чтобы она не так сильно горевала, за себя — чтобы ей была ниспослана лёгкая смерть и счастливое воскрешение, за Халева — чтобы его душа была вразумлена; за мёртвых и умирающих, за прощение их грехов, за маленьких детей — да сжалится всемилостивый Господь над их страданиями, — за еврейский народ — да минует его бич гнева Божия — и за римлян, да, даже за римлян, хотя она и не знала, бедняжка, чего просить для них у Царя Небесного.
Окончив свою молитву, Мириам попыталась уснуть и наконец задремала; пробудили её тихие вздохи, доносившиеся из дальнего угла темницы. Через каменную решётку небольшого окошка над дверью уже сочился неяркий утренний свет, и Мириам смогла разглядеть фигуру человека с белоснежными волосами на голове и бородой, в когда-то белом, но теперь грязно-сером одеянии. Она подумала
было, что это мертвец, таким неподвижным было лежащее тело. Но мертвецы не вздыхают. Кто же он, этот человек? Очевидно, пленник, обречённый, как и она, на смерть. К этому времени свет стал ярче, и Мириам почудилось что-то знакомое в очертаниях головы её товарища по несчастью. В надежде, что сможет помочь страдальцу, она подползла ближе. Теперь она хорошо видела и его лицо, и покоящуюся на груди руку. И лицо и рука были ужасно костлявыми, обтягивавшая их жёлтая кожа походила на сморщенный пергамент, и только глубоко запавшие круглые глаза горели яркими огоньками. Наконец-то она его узнала. Это ессей Теофил, духовный глава общины, учивший её языкам в те далёкие, счастливые годы, когда она жила в деревне у Мёртвого моря, её друг детства. Никто не приветствовал её с большим жаром, чем этот Теофил, когда она попала в катакомбы. Дней десять назад, хотя его отговаривали Итиэль и другие, он всё же отправился в город, чтобы подышать свежим воздухом и узнать какие-нибудь новости. Тогда это был крепкий и здоровый для своих лет старец, хотя и бледный от постоянного пребывания в подземелье. С этой прогулки он так и не возвратился. Поговаривали, что он бежал за город, в сельскую местность, другие — будто он переметнулся на сторону римлян, третьи — что его убили Симоновы люди. А он здесь.
— Наставник, — сказала, склонившись над ним, Мириам, — как вы сюда попали? И что с вами — вы больны?
Он устремил на неё пустые безжизненные глаза.
— Кто говорит со мной так ласково?
— Это я, Мириам, ваша подопечная.
— Мириам, Мириам! Что ты делаешь в этом застенке?
— Я пленница, наставник. Но расскажите о себе.
— А что тут рассказывать, Мириам. Заметив, что я не такой тощий и слабый, как все, хоть и стар, эти дьяволы потребовали, чтобы я сказал, где раздобыл пищу в этом голодном городе. Выдать тайну означало бы неминуемо погубить всех братьев и тебя, нашу гостью, госпожа. Я ничего им не сказал, даже под пытками; в конце концов они засадили меня сюда, надеясь, что голод заставит меня заговорить. Но я по-прежнему молчу. Да и как я могу раскрыть тайну, я, принявший обет, духовный глава ессеев? И вот теперь наконец я умираю...
— Не говорите так, — заламывая руки, вскричала Мириам.
— Я говорю это с радостью... У тебя нет никакой еды?
— У меня под одеждой сохранилось немного сушенины и ячменного хлеба. Съешьте их.
— Нет, Мириам, я не хочу есть и не хочу жить — мои дни сочтены. Сбереги пищу для себя: без сомнения, они и тебя будут морить голодом. Тут в кувшине много воды, которую они дали, чтобы продлить мою жизнь. Пей же, пей вволю, завтра ты, возможно, останешься и без воды.
Воцарилось долгое молчание. Слёзы, скопившиеся в глазах девушки, пали на лицо старца.
— Не плачь обо мне, — сказал он. — Я только обрету желанный покой. Как ты здесь очутилась?
Она коротко рассказала ему о себе.
— Ты смелая женщина, — сказал он, когда она закончила, — и этот римлянин обязан тебе спасением. Перед тем как умереть, я, Теофил, призываю на тебя благословение Господне и на него тоже, ведь он дорог твоему сердцу. Да оборонит тебя Всевышний своим щитом от страданий и смерти.
И он закрыл глаза, то ли не в силах, то ли не желая продолжать этот разговор.
Мучимая жгучей жаждой, Мириам попила. Сидя на корточках, она наблюдала за старым ессеем, когда дверь вдруг отворилась и в темницу вошли два измождённых, сурового обличил человека; они подошли к Теофилу и принялись грубо его пинать.
— Что вам надо? — спросил он, открывая глаза.
— Проснись, старик! — выкрикнул один из них. — Посмотри, вот мясо. — И он поднёс к его губам кусок грязной дохлятины. — Не правда ли, вкусно пахнет. А теперь скажи нам, где находится тайник со жратвой, которой ты набивал себе брюхо, и мы отдадим тебе весь этот кусок.
Теофил покачал головой.
— Подумай хорошенько. Если ты не поешь, завтра утром ты протянешь ноги. Говори же, упрямый пёс, это твой последний шанс.
— Уберите мясо, я вам всё равно ничего не скажу, — простонал старый мученик. — Да, завтра утром я буду мёртв, но и вы тоже будете мертвы, все вы; и Господь воздаст вам но делам вашим. Покайтесь же; ваш последний час близок.
Обозлённые этим зловещим пророчеством, они избили его и ушли, даже не взглянув на Мириам, скорчившуюся в своём углу. Когда после их ухода она подошла к старцу, то увидела, что у него отвалилась челюсть. Ессей Теофил обрёл вечный покой.
Прошёл ещё час. Дверь снова открылась, и на пороге показался тот самый начальник, который хотел её убить. С ним были двое солдат.
— Пошли, женщина, — сказал он, — тебя будут судить.
— И кто же меня будет судить?
— Синедрион, то, что от него осталось. Быстрее, у нас нет времени на пустую болтовню.
Мириам поднялась и последовала за ними; они прошли край обширного двора, в самом центре которого во всём своём ослепительном величии стоял Храм. Мощёный двор был усеян мёртвыми телами, из галерей выбивались языки пламени и валили клубы дыма. Там, видимо, ещё сражались: громкие крики заглушались мерными тяжёлыми ударами таранов, крушивших массивные стены.
Её ввели в большой зал с беломраморными колоннами, забитый голодающими, среди которых было немало женщин с измождёнными детьми: одни сидели молча на полу, другие расхаживали взад и вперёд, опустив глаза, как будто что-то искали. На возвышении в конце зала в гнутых креслах восседали двенадцать — четырнадцать человек, справа и слева от них оставалось ещё множество незанятых мест. Это и был синедрион, сильно поредевший. Его члены были в великолепных мантиях, слишком просторных для их исхудалых тел, как и у всех остальных в зале, глаза у них были испуганные, лица бледные и сморщенные.
Когда Мириам подошла ближе, один из членов судилища зачитывал приговор какому-то несчастному голодающему человеку. Это был её дед Бенони, но как неузнаваемо он переменился! Всегда такой стройный и прямой, он согнулся в три погибели; зубы все жёлтые, длинная седая борода — клочками и облезла, руки дрожат, роскошная судейская шапочка надета вкривь. Только глаза прежние, но сверкающие более яростным, чем в былые времена, огнём. То были глаза голодного волка.
— Что ты можешь сказать в своё оправдание? — спросил он подсудимого.
— Только одно, — ответил тот. — Я припрятал немного еды, купленной на остатки моего богатства. А ваши гиены схватили мою жену и пытали её до тех пор, пока она не сказала, где спрятана еда. Они тут же сожрали почти всё. Моя жена умерла от голода и пыток, умерли от голода и все мои дети, кроме шестилетней дочери, которую я накормил тем, что уцелело. Но и у неё тоже началась агония, и я сговорился с римлянином, отдал ему все драгоценности и пообещал показать слабое место в укреплениях, если он покормит мою дочь и отправит её в свой лагерь. Я показал ему это слабое место, а он покормил мою дочь и увёл не знаю куда. И тут меня схватили. Слабое место немедленно укрепили, так что никакой беды не случилось. Я поступил так, чтобы спасти жизнь своей дочурки; и, если бы понадобилось, двадцать раз поступил бы точно так же. Вы убили мою жену и детей: можете убить теперь и меня. Мне всё равно.
— Несчастный, — сказал Бенони, — что значит жизнь твоей жалкой жены и детей, когда под угрозой само существование священного Храма, который мы защищаем от врагов Яхве. Уведите его и казните на стене, на виду у его друзей, римлян.
— Хорошо, я умру, — сказал осуждённый, — но и вы все тоже умрёте на виду у римлян; вы — безумные убийцы, алчущие власти, которые навлекли горчайшие муки и смерть на наш еврейский народ...
Стражники оттащили его прочь, и голос выкрикнул:
— Подведите следующего изменника.
Подвели Мириам. Бенони сразу же её узнал.
— Мириам! — взволнованно воскликнул он, вскакивая и тут же падая обратно в кресло. — Ты здесь, Мириам?
— Да, дедушка, — спокойно ответила она.
— Тут какая-то ошибка, — сказал Бенони. — Эта девушка не могла причинить никому никакого вреда. Отпустите её.
Остальные судьи подняли головы.
— Сперва надо выслушать, какое обвинение ей предъявляют, — с сомнением сказал один, а другой добавил: — Это та самая женщина, что жила у вас в Тире? Говорят, она христианка?
— Мы сидим здесь не для того, чтобы разбирать вопросы религии, — по крайней мере сейчас, — уклончиво ответил Бенони.
— Правда ли, что ты христианка, женщина? — спросил один из судей.
— Да, ваша честь, — подтвердила Мириам, и лица всех судей сразу резко посуровели, а кто-то из собравшейся там толпы запустил в неё камнем.
— Хорошо, — сказал один из судей, — мы рассматриваем дела об измене, а не вопросы религии. Пусть так и будет... В чём обвиняется эта женщина?
Вперёд выступил тот самый начальник, который распорядился задержать Мириам; позади него она увидела Халева — он был в явном смятении — и часового, охранявшего Марка.
— Я обвиняю её в том, — сказал он, — что она освободила префекта Марка, римлянина, раненного и взятого в плен Халевом, а затем отнесённого в Старую башню с целью проверки, выживет ли он.
— Освободила префекта Марка? — заговорил один из судей. — Но ведь он личный друг Тита и был бы для нас ценнее, чем целая сотня простых римлян. К тому же никто не нанёс нам таких потерь в этой войне, как он. Если ты и впрямь освободила его, женщина, даже самая мучительная смерть не может искупить такое преступление. Отвечай же, освободила ты его?
— Это ваш долг — установить истину, — ответила Мириам; теперь, когда Марк был в безопасности, она не хотела больше лгать.
— Эта женщина такая же наглая, как и все её проклятые единоверцы, — сказал судья, сплёвывая. — Изложи же это дело, сотник, да покороче.
После сотника допросили солдата, из чьих рук Мириам выбила фонарь. Затем призвали Халева и спросили у него, что он знает.
— Ничего, — ответил он. — Я ранил и захватил в плен римлянина. Когда его отнесли в башню, он был без памяти.
А когда я зашёл туда, римлянина уже не было, а была госпожа Мириам: она сказала, что он бежал через дверь. Вместе я их не видел и больше ничего не могу сказать.
— Это ложь! — грубо оборвал его судья. — Вы сказали сотнику, что Марк — её возлюбленный. Почему вы так сказали?
— Потому что много лет назад она высекла его мраморный бюст, — ответил Халев.
— И поэтому вы заключили, что она его возлюбленная? — впервые заговорил Бенони.
Халев ничего не ответил, но один из членов синедриона, человек с умным проницательным лицом, Симеон, друг Симона, сына зелота Гиоры, сидевший рядом с Бенони, громко воскликнул:
— Прекратите комедию; дочь Сатаны очень хороша собой; Халев наверняка хотел бы её заполучить, но какое отношение это имеет к нашему суду? — И с мстительным видом он добавил: — Мы ещё припомним ему, что он выгораживал преступницу!
— Против неё нет достаточно веских улик, надо её освободить, — настаивал Бенони.
— Вполне естественно, что так считает её дед, — язвительно заметил Симеон. — Если рабби укрывают христианок только потому, что они принадлежат к их семье, а воины дают ложные показания только потому, что они хороши собой, это означает, что Бог отступился от нас: вот-вот нас поразит его меч! Что до меня, то я убеждён в её виновности: римлянину помогла скрыться в каком-то тайном убежище не кто иной, как она. Потому она и выбила фонарь из рук стражника.
— Может быть, она опасалась, что он на неё нападёт, — ответил другой. — Не могу только понять, каким образом оказалась она в башне.
— Я пряталась там от грабителей, — сказала Мириам. — До вчерашнего дня дверь была замурована.
— Так, — ехидно заметил судья, — ты жила одна в этой покинутой башне, как сова или летучая мышь, да ещё и без еды и воды? Не рассказывай нам сказок, тебя снабжали и едой и водой через какой-то тайный ход. Через этот-то ход ты несомненно и выпустила римлянина, а сама не успела бежать. Ты — римская лазутчица! Да и чего ещё ждать от христианки?.. Я считаю, — добавил он, обращаясь к остальным, — что она заслуживает смертной казни.
Бенони, вскочив, резко рванул на себе одежду.
— Неужели вам мало крови, в таком обилии пролитой в этих священных дворах? — воскликнул он. — Вы готовы пролить и кровь невиновных! А ведь вы поклялись вершить правосудие и выносить обвинительный приговор только на основании ясных и бесспорных свидетельств! Где же они, эти свидетельства? Где подтверждения, что Мириам как-то сносилась с этим Марком, которого она не видела многие годы? От священного имени я протестую против такого беззакония!
— Ещё бы не протестовать, ведь она ваша родственница, — сказал кто-то из членов суда.
Завязался ожесточённый спор, ибо ни у кого не было полной ясности, а при всём их свирепом нраве они всё же старались быть честными и справедливыми.
И тут, осенённый внезапной мыслью, Симеон предложил:
— Обыщите её. Она выглядит не такой худой, как мы все. У неё может оказаться при себе еда... или что-нибудь другое.
Два голодных, мрачного вида стражника схватили Мириам и, не желая затруднять себя её раздеванием, грубыми ручищами порвали ей платье на груди.
— Смотрите, — закричал один, — у неё дорогое жемчужное ожерелье на шее. Забрать его?
— Глупцы! Оставьте эту безделушку! — гневно набросился на стражников Симеон. — Мы же не уличные грабители.
— А вот и ещё кое-что, — сказал старший стражник, вытаскивая шёлковый мешочек с письмом Марка.
— Только не это! Только не это! — взмолилась бедная девушка.
— Дайте мне письмо. — Симеон протянул свою худую руку.
Он развязал шёлковый мешочек и, достав письмо, прочитал начальную строку:
«Госпоже Мириам от её друга, римлянина Марка, через центуриона Галла». Что вы теперь скажете, Бенони и братья? И какое длинное письмо! А в самом конце приписано:
«Твой верный друг и возлюбленный, Марк». Пусть читает это письмо тот, у кого есть время, а у меня нет времени. Эта женщина — предательница, и я голосую за смертный приговор.
— Письмо послано два года назад, из Рима, — оправдывалась Мириам, но никто её не слушал, все говорили разом.
— Я настаиваю на оглашении всего письма, — выкрикнул Бенони.
— У нас нет времени, нет времени, — возразил Симеон. — Нашего суда ожидают другие пленники. А римские тараны уже крушат наши ворота. Мы не можем тратить драгоценные минуты на эту христианскую лазутчицу. Уведите её.
— Да, да уведите, — поддержал Симон, сын Гиоры, а все остальные согласно закивали головами.
После того как Мириам увели, они стали обсуждать способ её казни. Бенони оспаривал высказывавшиеся ими мнения, и они всё же пошли на некоторые уступки.
— Итак, оглашаю приговор суда, — сказал зелот Симон. — Предательница приговаривается к смертной казни. Она будет прикована к колонне над Никаноровыми воротами, отделяющими двор Израиля от двора Женщин, чтобы её могли видеть и её друзья-римляне, и народ Израиля, который она замышляла погубить. Там она и будет находиться, пока не погибнет от голода и жажды, если Вышний Судия не назначит ей другой участи. Таким образом, на нашей совести не будет крови женщин. Но по просьбе Бенони, нашего брата, к чьей семье она принадлежит, мы откладываем исполнение приговора до захода солнца; если за это время предательница даст показания, которые приведут к аресту римского префекта Марка, она будет отпущена на свободу и сможет покинуть Храм. На этом рассмотрение дела заканчивается. Стражники, отведите её обратно в тюрьму.
Мириам повели через толпу евреев, которые только что расхаживали взад и вперёд, шаря по полу взглядом; они оплёвывали её и проклинали. Через несколько минут её втолкнули в дверь темницы, где покоилось уже остывшее тело Теофила.
Мириам села и отчасти, чтобы скоротать время, отчасти, потому что проголодалась, съела хлеб и сушенину, припрятанные ею в темнице. Она сильно устала и, как ни странно, успокоилась, узнав об ожидающей её судьбе, поэтому её быстро сморил сон. Четыре-пять часов она спала сладким сном; ей снилось, будто она ещё девочка и собирает весенние цветы на берегах Иордана, как вдруг её разбудил какой-то шорох. Открыв глаза, она увидела рядом с собой Бенони.
— Зачем ты пришёл, дедушка? — спросила она.
— О, доченька, — простонал несчастный старик, — я пришёл к тебе, хотя это и рискованно, потому что эти волки в человеческом облике подозревают меня в измене, чтобы проститься с тобой и попросить у тебя прощения.
— За что ты должен просить прощения, дедушка? С точки зрения этих людей, приговор вполне справедлив. Я христианка и честно признаюсь, что спасла Марка ценой собственной жизни.
— Но каким образом?
— Этого я тебе, дедушка, не скажу.
— Скажи, ведь это может спасти тебя. Вряд ли они сумеют схватить его, ведь нас уже вытеснили из Старой башни.
— А завтра вы снова, может быть, её займёте; нет, я не скажу. Помимо всего, я могу поставить под угрозу жизнь других людей, моих друзей, которые меня приютили и, надеюсь, приютят и его.
— Тогда я ничего не могу для тебя сделать, ты обречена на позорную смерть. Ты умрёшь, прикованная к колонне на воротах, осыпаемая насмешками врагов и друзей. Если бы не моё влияние и не твоё родство со мной, они распяли бы тебя на стене, хоть ты и девушка, как римляне распинают наших людей.
— Если такова воля Всевышнего, я умру. Кто заметит мою смерть среди десятков тысяч смертей? Поговорим о чём-нибудь другом, пока у нас остаётся ещё время.
— О чём говорить, Мириам, когда кругом одни несчастья, море несчастий. — И он вновь застонал. — Ты оказалась права, я заблуждался. Этот ваш Мессия, Которого я отверг и всё ещё отвергаю, по крайней мере был истинным провидцем: Его слова, которые ты прочитала мне в Тире, полностью сбудутся, страшная угроза нависла над нашим народом и этим городом. Римляне захватили уже внешние дворы Храма; у нас не остаётся ни крошки еды. В Верхнем городе горожане поедают друг друга, они умирают в таком множестве, что их некому хоронить. Через день, или два, или десять — какая разница? — мы, ещё живые, тоже погибнем от голода и меча. Наш еврейский народ почти весь истреблён, в небо уже не поднимается дым жертвоприношений, воздвигнутый нами Храм будет разрушен по камню или превращён в капище, где будут почитать языческих богов.
— Но ведь вы можете рассчитывать на милосердие Тита? Почему бы вам не сдаться?
— Сдаться? Чтобы римляне продали нас в рабство или отвезли в Рим для участия в триумфальном шествии за колесницей цезаря, чтобы мы шли среди насмешливо улюлюкающей толпы? Нет, девочка моя, лучше сражаться до последнего вздоха. Мы будем взывать к милосердию Яхве, а не Тита. У меня лишь одно желание — чтобы всё это быстрее кончилось, ибо моё сердце разбито, и на меня возложена тяжкая кара: мало того что я виновник гибели собственной дочери, я ещё могу стать — пусть невольным — виновником гибели дочери моей дочери. Послушай я тебя, ты была бы сейчас в Пелле или Египте. Никто не знает, какие муки я перенёс после того, как тебя потерял. И вот я нашёл тебя, и что же? Я, твой дед, должен лишить тебя жизни.
— Дедушка! — взмолилась Мириам, не в силах смотреть па страдания старика. — Прекратите. Прошу вас: прекратите. Может быть, мне ещё удастся избежать смерти.
Он посмотрел на неё с любопытством.
— У тебя есть надежда спастись? Уж не с помощью ли Халева?
— Нет, я даже не знаю, где Халев. Знаю только, что в его сердце ещё сохранилось добро, он, как мог, пытался меня спасти, за что я ему благодарна. И всё же я лучше умру, чем приму от него помощь. Может быть, моя плоть и испытывает страх, но моя душа не ведает страха перед смертью.
— На что же ты тогда надеешься, Мириам?..
— Я уповаю на Господа — и не отчаиваюсь. Одна женщина, моя единоверка, давно уже умершая, предрекла моё рождение, она же предрекла мне и долгую жизнь. Её предсказание должно оправдаться, ибо эта женщина — святая и ей дано было провидеть грядущее.
Снаружи послышался какой-то шум, похожий на отдалённый гром, и чей-то голос позвал снаружи:
— Рабби Бенони, стена уже проломлена. Поторопитесь, рабби Бенони, вас ищут.
— Увы, я должен идти, — сказал он, — на нас обрушилась какая-то новая беда, и меня призывают на совет. Прощай же, моя Мириам, я так тебя люблю, — пусть мой Бог и твой Бог примут тебя под свой покров, ибо я ничем не могу тебе помочь. Прощай же и, если судьба сохранит тебя, прости меня, прости за то зло, которое в своём высокомерном ослеплении я причинил твоим родителям и тебе, не говоря уже о самом себе.
Он крепко прижал её к груди и вышел, оставив её в слезах.
Глава II
НИКАНОРОВЫ ВОРОТА
Минуло ещё два часа; тени, отбрасываемые каменной решёткой, удлинились, и Мириам поняла, что приближается вечер. Внезапно загремел засов, дверь отворилась.
«Настал мой час», — сказала она себе. Сердце судорожно забилось, ноги подкосились, глаза застлала непроницаемая пелена. Когда пелена наконец рассеялась, она увидела перед собой по-прежнему красивого и статного, хотя и измученного бесконечными сражениями и голодом, Халева. В руке у него был меч, на стальном нагруднике виднелись глубокие вмятины от ударов. При его появлении к Мириам вернулось всё её мужество, уж перед ним-то она не выкажет никакого страха.
— Ты пришёл для выполнения приговора? — спросила она.
Халев удручённо склонил голову.
— Да, — горько ответил он. — Этот судья Симеон, что велел тебя обыскать, поистине человек без сердца. Он заподозрил, что я пытался спасти тебя от наказания, он подумал, что я...
— Какая разница,
что он подумал, — прервала его Мириам. — Друг Халев, исполняй свой долг. Когда мы были детьми, ты часто связывал мои руки и ноги стеблями цветов — помнишь? Сделай то же самое, только на этот раз перевяжи их верёвкой, вот и всё.
Он вздрогнул:
— Ты так жестока.
— В самом деле? Посторонний человек мог бы подумать, что это ты жесток. Или ты уже не помнишь о том, что произошло накануне в башне — ведь не кто иной, как ты, назвал моё имя и связал его с другим именем.
— О, Мириам, — умоляюще произнёс он, — ревность возбудила во мне такое бешенство, что я не отдавал себе отчёта в том, что творю. Ведь я так тебя люблю!
— Любишь? Такую же любовь испытывает, вероятно, лев к ягнёнку. И какой у тебя повод для ревности? Ты хотел убить Марка — я видела весь ваш поединок и могу утверждать, что это было просто покушение на убийство; ты захватил его врасплох, ударив мечом по спине, видимо, боялся, что я спасу его от твоих клыков. И благодарение Господу нашему, я его спасла. Так выполни же свой долг, представитель столь милосердного и просвещённого синедриона.
— И всё же, Мириам, — смущённо продолжал Халев, глубоко уязвлённый её горькими, лишь отчасти справедливыми словами, — сегодня, по здравом размышлении, я пытался тебя спасти — сделал всё, что мог.
— Да, — ответила она, — боясь, как бы другие львы не утащили овечку, которую ты надеялся растерзать сам.
— Более того, — продолжал он, не обращая внимания на её реплику, — я тут кое-что придумал.
— Придумал? И что же?
— Как тебя спасти. Если, когда я поведу тебя к Никаноровым воротам, я дам условленный сигнал, мои друзья отобьют тебя и отведут в безопасное убежище; я же, начальник конвоя, буду сбит с ног и ранен. Затем я присоединюсь к тебе, и под покровом ночи мы бежим тайным путём, который мне известен.
— Бежим? Куда же?
— К римлянам. Они пощадят тебя, потому что ты спасла их военачальника, а заодно и меня.
— Ты думаешь, они простят тебе вчерашнее?
— Ты... ты скажешь, будто я твой муж. Это неправда, но что из того?
— Да, что из того? — подхватила Мириам. — Ведь это может стать правдой... Но с каким видом ты, один из первейших воинов еврейских, будешь просить милости у врагов? Уж не потому ли?..
— Не оскорбляй меня, Мириам. Ты хорошо знаешь ответ на свой вопрос. Знаешь, что я не изменник и бегу не из страха.
Его мужественные слова тронули её.
— Да, — ответила она, — я знаю.
— Я готов бежать только ради тебя, только ради тебя я готов покрыть своё имя позором. Я готов бежать для того, чтобы спасти тебя во второй раз.
— И какой же платы ты просишь?
— Тебя самое.
— Этой просьбы я не могу удовлетворить. Я отклоняю твоё предложение, Халев.
— Так я и знал, — хрипло произнёс он. — Я уже привык к твоим отказам. Хорошо, тогда я поставлю тебе другое условие: поклянись, а я знаю, ты держишь своё слово, что никогда не выйдешь замуж за римлянина Марка.
— Я не могу выйти замуж ни за римлянина Марка, ни за тебя, ибо вы оба нехристиане, и тебе хорошо известно, какой запрет лежит на мне с самого рождения.
— Ради тебя, Мириам, — медленно ответил он, — я готов креститься и принять твою веру. Вот тебе доказательство, как я тебя люблю.
— Но не доказательство любви к моей вере, Халев; однако, даже если ты и примешь мою веру, всё равно я не смогу тебя полюбить. Иудей ты или христианин, всё равно я не стану твоей женой.
Он отвернулся к стене и некоторое время молчал.
— Ну что ж, Мириам, — наконец заговорил он. — Я всё равно тебя спасу. Стань, если хочешь, женою Марка, но помни, что я его убью, если смогу, хотя, скорее всего, это пустая угроза, ибо навряд ли я останусь в живых.
Она покачала головой:
— Я устала бегать и прятаться. Пусть со мной, Марком и тобой свершится то, что предначертал Бог. И всё же я благодарю тебя и сожалею о своих жестоких словах. О Халев, почему ты не можешь изгнать меня из своих мыслей? Есть много более красивых женщин, они с радостью отдадут тебе своё сердце. Зачем же ты губишь из-за меня свою жизнь? Иди своим путём, а я пойду своим. Но всё это пустой разговор, потому что нам, вероятно, недолго остаётся жить.
— У всех нас троих — у тебя, римлянина Марка и меня — один путь, и я не хочу идти никаким другим путём. Ещё в мальчишестве я поклялся, что если ты станешь моей, то только по своей доброй воле, этой клятве я буду верен до конца. Я также поклялся, что, если смогу, убью своего соперника, — и этой клятве я буду верен до конца. Если он убьёт меня, ты сможешь выйти за него замуж. Если я убью его, ты выйдешь за меня замуж, только если сама того пожелаешь. Но борьба между нами — всё равно останешься ты жить или умрёшь — завершится лишь со смертью одного из нас, не ранее. Ты поняла?
— Твои слова яснее ясного, Халев, но ты выбрал странное время, чтобы их сказать. Марк, вероятнее всего, мёртв, скоро умру и я, над тобой и всеми, кто сейчас в Храме, тоже висит угроза смерти.
— Но пока мы ещё живы, Мириам, — и я почему-то уверен, что никто из нас троих не погибнет в этой войне. Итак, ты отказываешься бежать со мной или без меня?
— Да, отказываюсь.
— Тогда у меня нет никакого другого выхода, кроме как исполнить свой долг, положившись во всём остальном на судьбу. Если я смогу спасти тебя, я спасу, но не возлагай на это особых надежд.
— Я уже ни на что не надеюсь, Халев, нет во мне и страха. Отныне я прекращаю всякую борьбу и вверяю себя в руки Всевышнего — мы только глина в Его руках: что Он вылепит, то и будет. Свяжи же меня.
— Такого повеления я не получал. Выходи, конвойные уже ждут снаружи. Пожелай ты, чтобы я тебя спас, мы пошли бы тем путём, где нас ожидают мои друзья. Но мы пойдём другим.
— Ну что ж, — сказала Мириам, — другим так другим, но сперва дай мне кувшин, ибо горло у меня пересохло.
Он поднёс кувшин к её губам, и она вволю напилась. Снаружи галереи её ждали четыре конвойных: два стражника, что обыскивали её утром, и два солдата.
— Долго же ты проторчал с этой красоткой, начальник, — сказал один. — Уж не принимал ли ты у неё исповедь?
— Я хотел узнать, где она спрятала римлянина, но из этой ведьмы слова не вытянешь, — сказал Халев, сверкнув сердитыми глазами на Мириам.
— Ну, когда окажется на воротах, она запоёт другую песню, начальник: ночью там холодно, днём жарко, а у неё ведь не будет ни плаща, чтобы прикрыть спину, ни воды, чтобы утолить жажду. Пошли, синеглазка, только сперва отдай мне своё жемчужное ожерелье, на него можно купить немного хлеба или вина. — И он сунул свою грязную лапищу ей за пазуху.
На голову негодяя, блеснув в закатном багрянце, обрушился меч, и он упал, мёртвый или умирающий.
— Скотина, — гневно прорычал Халев, — может быть, в геенне тебе дадут хлеба или вина. Девушка приговорена к смертной казни, но это не значит, что таким, как ты, её можно грабить. Пошли.
Товарищи убитого уставились на него. Один из них рассмеялся, ибо смерть стала слишком привычным зрелищем, чтобы возбуждать жалость или удивление.
— Он всегда был жадным малым, — сказал он. — Надеюсь, он угодит туда, где хватает жратвы.
Во главе с Халевом они прошли по длинным галереям, миновав внутреннюю дверь, повернули направо и, следуя вдоль подножия высокой крепостной стены, достигли прекрасных, украшенных серебром и золотом центральных ворот — это и были Никаноровы ворота, и находились они между двором Женщин и двором Израиля. Над самыми воротами было воздвигнуто строение более пятидесяти футов высотой с кладовыми и чуланами, где священники хранили свои музыкальные инструменты. На его плоской крыше возвышались три мраморные колонны с острыми позолоченными шпилями. У ворот их ожидал один из членов синедриона, тот самый неумолимый судья Симеон, который приказал обыскать Мириам.
— Женщина так и не призналась, где она спрятала римлянина? — спросил он у Халева.
— Нет, — ответил он. — Она продолжает утверждать, что не видела никакого римлянина.
— Это так, женщина?
— Да, так, рабби.
— Отведите её наверх, — сурово продолжал он; пройдя через несколько комнат, они подошли к кедровой двери. Судья отпер замок, пропустил их всех вперёд и снова запер. Поднявшись по лестнице, они оказались перед небольшой каменной дверью, открывающейся на крышу ворот. Мириам подвели к центральной колонне, к которой была прикреплена железная цепь около десяти футов длиной. Симеон приказал связать Мириам руки за спиной, и его повеление было тут же выполнено. Затем он извлёк из-под своей одежды пергамент, где большими буквами была сделана следующая надпись:
Назареянка Мириам, изменница, волей Божией обречена на смерть на виду у своих друзей, римлян.
Далее шли несколько подписей членов синедриона, среди них и подпись её деда Бенони, которого таким образом принудили доказать, что патриотизм для него превыше родственных чувств.
Симеон повесил пергамент на грудь Мириам. Затем её опоясали цепью и заклепали образовавшуюся петлю. Прежде чем все они ушли, Симеон обратился к ней с такими словами:
— Ты пребудешь здесь, проклятая изменница, пока твои кости не истлеют в цепях, — сказал он, — ты пребудешь здесь и под бушующим ветром и под палящим солнцем, на свету и во тьме, — и римляне и евреи будут вместе потешаться над твоими страданиями, которые, если бы меня послушались, были бы не столь долгими, зато куда мучительнее. Проваливай же к Сатане, дочь Сатаны, и пусть Сын плотника спасёт тебя, если может.
— Прекратите проклинать девушку, — взбешённый, перебил его Халев, — ибо проклятья, словно копья, падают на голову тех, кто их мечет.
— Будь на то моя воля, — ответил рабби, — копьё давно упало бы на твою голову, наглец, смеющий упрекать старших! Уходи — и знай, если ты попробуешь сюда вернуться, ты здесь навсегда и останешься. Нам известно о тебе куда больше, чем ты думаешь, Халев, и возможно, у тебя тоже есть друзья среди римлян.
Халев ничего не ответил, ибо знал, как мстителен и могуществен зелот Симеон, избранный друг и орудие неукротимого Иоанна из Гисхалы. Он только печально поглядел на Мириам и пробормотал:
— Уж если ты ничего не желаешь слушать, я умываю руки. Прощай.
И ушёл, предоставив Мириам её судьбе.
Озарённая закатным багрянцем, Мириам стояла со связанными руками, прикованная, словно дикий зверь, к мраморной колонне, а висевшая у неё на груди табличка во всеуслышание провозглашала её позор. Приблизившись к одному из небольших зубцов парапета — насколько позволяла длина цепи, — Мириам посмотрела вниз, на двор Израиля, где, чтобы поглазеть на неё, собралось множество зелотов. Едва завидев её, они громко завопили, заулюлюкали и стали осыпать её градом камней, один из которых угодил ей в плечо. Вскрикнув от боли, Мириам бросилась в противоположную сторону. Под ней простирался большой двор Женщин; оттуда к Никаноровым воротам вела расположенная полукругом беломраморная лестница в пятнадцать ступеней. Здесь теперь был разбит военный лагерь, ибо внешний двор язычников был уже захвачен римлянами, и их стенобойные машины взламывали крепостные стены.
Наступившая ночь не принесла с собой покоя: по-прежнему тяжело бухали тараны, как оказалось, недостаточно мощные для сложенных из огромных глыб крепостных стен, поэтому под покровом ночной темноты римляне возобновили попытки взять их приступом. Впрочем, вряд ли уместно говорить о темноте, евреи разожгли костры на стенах и при их свете отбивали непрестанные атаки врагов. Вновь и вновь со своей плоской крыши Мириам видела, как над гребнем стены появляются лестницы. По ним взбираются вереницы людей, каждый со щитом над головой. Как только первые высовываются из-за стены, евреи со свирепыми криками тут же на них набрасываются и убивают мечами, другие в это время, схватившись за верхнюю перекладину, сталкивают лестницу со всем её живым грузом прямо в ров. Внезапно послышались громкие крики радости, два римских знаменосца взобрались на стену. Но их схватили, отняли у них боевые знаки и стали издевательски размахивать этими знаками; римляне внизу ответили на это оскорбление криками угрюмой ярости.
В конце концов, утомившись от отчаянной схватки, римляне приняли другое решение. До сих пор Тит хотел сохранить весь Храм, вплоть до внешних дворов и галерей, но теперь он повелел поджечь ворота, сколоченные из мощных кедровых брусов, покрытых пластинами серебра. Сквозь дождь копий и стрел римские солдаты подбежали к воротам и стали совать пылающие факелы во все соединения и щели. Ворота загорелись, серебряные пластины расплавились, обнажилось голое дерево. И это ещё не всё: от ворот пожар перекинулся на галереи с обеих сторон, а защитники Храма были слишком измучены, чтобы справиться с этим пожаром. В мрачном молчании отошли они назад и, усевшись группами на мощёном дворе Женщин, наблюдали, как пламя подползает всё ближе и ближе. Наконец взошло солнце. Римляне принялись тушить объятые пожаром ворота и пробивать себе путь вглубь Храма. С ликующими криками легионеры, возглавляемые самим Титом и сопровождаемые конным отрядом, ворвались во двор Женщин. Отступая, евреи быстро бросились вверх по лестнице, ведущей на Никаноровы ворота. На неё никто даже не взглянул, у них просто не было времени смотреть на одинокую девушку, прикованную к столбу за какое-то почти никому не известное преступление. Они рассыпались по стенам, защищая ворота, но никто из них не поднялся на самую крышу, ибо там был слишком низкий парапет, чтобы защитить их от стрел осаждающих.
Римляне, однако, заметили её; она увидела, что некоторые из их военачальников показывают на неё всаднику в великолепных доспехах, поверх которых наброшена пурпурная мантия; Мириам поняла, что это сам Тит. Один из солдат пустил в неё стрелу, но промахнулся и попал в мраморную колонну, стрела, отскочив, упала к ногам Мириам. Тит подозвал его к себе, и по его жестам Мириам поняла, что верховный римский военачальник гневно ему выговаривает. После этого никто больше в неё не стрелял; она поняла, что вид женщины, прикованной к мраморной колонне над воротами, возбуждает всеобщее любопытство и что ей не хотят причинить вреда.
В безоблачном небе уже ярко горело августовское солнце, над крышами Храма и мостовыми дворов заплясал жаркий воздух, и тысячи толпящихся там людей поспешили укрыться в тени от огненных лучей. Но Мириам не могла от них защититься. Утром и в полдень она ещё кое-как пряталась в узкой тени мраморной колонны. Но позже тени не стало, и она изнемогала под палящими лучами, не имея ни глотка воды, чтобы утолить жажду. И всё же она дотерпела до вечера с его спасительной прохладой.
В этот день римляне не возобновляли своих атак, а евреи не совершали вылазок. Только во двор Женщин было втащено несколько катапульт и баллист, и они обстреливали двор Израиля большими камнями и дротиками. Несколько из этих камней и дротиков пролетели так близко от Мириам, что струя воздуха овеяла её волосы. Это зрелище зачаровывало и отвлекало её от собственных мук. Она видела, как солдаты с помощью рычагов и воротов натягивают верёвки катапульт и баллист. Камни или дротики укладываются в жёлоб, верёвка отпускается, и метательный снаряд с угрожающим гудением несётся по воздуху. Сперва он кажется совсем маленьким, затем, прямо на глазах, вырастает и, наконец, вновь уменьшается в размерах. Иногда камни — они наносили большие потери, чем дротики, — падают на брусчатку и, подпрыгивая, мчатся по ней, отмечая свой путь осколками разбитого мрамора и клубами пыли. А иногда, по воле злой судьбы, они врезаются в группы евреев, причиняя им большие потери.
Блуждал тут и безумный Иисус, сын Анны, чьи дикие зловещие пророчества они слышали, когда входили в Иерусалим, а затем, когда Марка захватили в плен около Старой башни. Никем не останавливаемый, он расхаживал взад и вперёд, громко вопя: «Горе, горе Иерусалиму! Горе городу и Храму!» Чтобы не слышать его криков, многие затыкали руками уши и отворачивались. И вдруг, вскинув руки, он завопил ещё пронзительнее: «Горе мне! Горе мне!» Эхо его голоса ещё не смолкло, когда огромный камень, пущенный из двора Женщин, опрокинул его наземь. Камень запрыгал дальше, а Иисус, сын Анны, остался лежать недвижимый. С осуществлением его пророчества закончилось и его жизненное паломничество.
Весь день галереи вокруг двора Женщин яростно пылали, но евреи, совсем павшие духом, так и не отважились на вылазку; римляне также воздерживались от атаки на внутренний двор Израиля. Наконец последние лучи заходящего солнца озарили склоны Масличной горы, белые шатры римских лагерей и сотни крестов с их кошмарным бременем, расставленных по долине Иосафата и склонам гор — везде, где их только можно было приткнуть. На истерзанный голодный город пала желанная ночь. И желаннее всех была она для Мириам; обильная роса, собираясь на позолоченном шпиле, непрерывно стекала по колонне, и Мириам наконец смогла хоть немного утолить свою мучительную жажду. Роса собиралась и на волосах Мириам, её голой шее и одежде; и это тоже её освежало, вливало в неё новую жизнь. После этого Мириам забылась тревожным сном, поминутно ожидая, что её разбудит шум битвы. Однако сражение возобновилось лишь утром. А пока царствовали мир и покой.
Мириам осаждали многочисленные сны. Вот перед ней холм Мория, где стоит Храм, таким как этот холм был прежде, до его сооружения — неровный, волнистый, поросший дикими рожковыми и оливковыми деревьями и населённый не людьми, а дикими кабанами и гиенами, поедающими своих детёнышей. Почти в самом центре — чёрная скала. К этой скале подходит человек в одежде араба, жителя пустыни, а с ним отрок, которого он распластывает на камне, как бы намереваясь принести его в жертву. Араб уже хочет вонзить нож в его сердце, но над холмом разливается необыкновенно прекрасное сияние, и голос свыше повелевает ему пощадить мальчика. Это так и не свершившееся жертвоприношение Исаака
[52].
Ещё одно видение. Перед ней — всё тот же священный холм — Мория, но на этот раз увенчанный великолепным, хотя и незнакомым ей Храмом. Перед ним — чёрная скала. На скале, где некогда возлежал отрок, — алтарь; перед алтарём — человек с сияющим обликом, в священническом одеянии; он приносит в жертву ягнят и быков и звучным голосом возносит хвалы Яхве перед целым сонмищем людей. Это царь Соломон, догадывается Мириам.
Видение растаивает; теперь у той же чёрной скалы — другой человек, со страстным бледным лицом, с пронизывающим взглядом: он укоряет верующих в Храме за то, что в сердцах их свили себе гнездо зло и порок, и отгоняет их от себя верёвочным бичом. Мириам знает: это Иисус, сын Марии, тот самый Мессия, которому она поклоняется. Он предсказывает евреям неминуемую гибель, а они, убегая, над ним потешаются.
И это сновидение растаивает; перед Мириам — опять чёрная скала, но теперь над ней возведён золотой купол, её озаряют лучи, проникающие сквозь цветные окна. Скала окружена жрецами, свершающими странные обряды. Кажется, прошло уже много веков, как они здесь. В двери вламываются бледнолицые статные люди в блестящих доспехах и со знаком креста на щитах и нагрудниках. Они убивают проповедников незнакомой Мириам веры; скала багровеет от пролитой крови. Затем и они уходят, под куполом водворяются новые жрецы, но креста там уже нет, а башни увенчаны изображениями полумесяца.
И это сновидение растаивает: Мириам видит бессчётные, с неразличимыми лицами орды: они срывают изображения полумесяца, убивают проповедников неизвестной им веры и поджигают Храм, обречённый на гибель от огня.
И это сновидение растаивает: гора Мория предстаёт такой, как и в самом начале: на её пустынных уступах растут оливы и дикие смоковницы, в их тени бродят дикие кабаны, и никто на них не охотится. Только солнечный свет и свет луны по-прежнему не расстаются со Скалой Жертвоприношений.
И это видение растаивает. Бесчисленные мириады людей, которые уже были и ещё будут, заполняют всё пространство вокруг скалы, заполняют долину Иосафата и все другие долины, заполняют Масличную гору и все другие горы, заполняют весь воздух, насколько хватает взгляд, — и ещё дальше; и все они молча и встревоженно смотрят на иссечённую шрамами обнажённую Скалу Жертвоприношений. Над скалой разливается невиданно яркое сияние, при виде которого мириады людей опускают глаза. И слышится громовой трубный глас, как будто бы возглашающий: «Это конец и начало, всё завершилось в назначенный срок, наступил Судный день!»
Мириам видит во сне, как солнце наливается кровью, звёзды рушатся, ветры сотрясают мир, затянутый завесой ночи, в этой темноте слышатся голоса, над скалой вздымается огненный крест,
указуя на восток и запад; и во всём небе — бесчисленные сонмы ангелов.
Рассеивается и это последнее видение. Мириам просыпается от своего тревожного кошмарного сна и видит костры римлян во дворе Женщин и слышит стоны голодных евреев во дворе Израиля: они скучены здесь, как скот на бойне; завтра они все будут преданы мечу.
Глава III
ПОСЛЕДНИЙ СМЕРТНЫЙ БОЙ ИЗРАИЛЯ
Наступило утро, но солнце так и не восстало над тысячами людей, ожидавших его восхода. Небо было сплошь затянуто серым туманом, который волнами наплывал со стороны моря, неся с собой солёную влагу. Мириам с благодарностью взирала на этот туман, едва ли она перенесла бы ещё один жаркий день. Она совсем ослабела, ужасно измучилась, почти ничего не ела и пила лишь росу, но она чувствовала, что, пока не печёт солнце, она будет жить.
Порадовал туман и некоторых других. Под его прикрытием Халев подобрался поближе к воротам, и хотя он не мог подняться к Мириам, потому что все двери были заперты и под охраной, он забросил к её ногам холщовый мешочек с наполненной вином и водой кожаной бутылкой и заплесневелой корочкой хлеба — без сомнения, это было всё, что он мог найти, купить или украсть. Опустившись на колени, Мириам развязала зубами шнурок, которым был затянут мешочек, и съела корочку, благодаря в душе Халева за его заботу; но напиться со связанными руками ей так и не удалось, ибо она не могла ни поднять бутылку, ни открыть затычку, которой та была закупорена. Поэтому, хотя она и слизала много капель росы, её по-прежнему жгла жажда, к тому же её непрестанно кусали москиты и трупные мухи, она пыталась развязать руки и для того, чтобы защититься от них.
Позолоченные шпили, венчавшие колонны, были прикреплены железными скобами, утопленными в мрамор, но одна из скоб всё же выступала наружу, и, глядя на её грубую поверхность, Мириам подумала, что сможет перетереть об неё верёвку. Она повернулась спиной к столбу и принялась за работу, но сразу же поняла, что действовать надо не торопясь, постепенно, ибо она находилась в неудобном положении, распухшие от трения о мрамор руки нестерпимо болели. Мириам плакала от боли, но не прекращала своих усилий. И всё же ночь наступила раньше, чем она смогла перетереть верёвку.
В тумане и римляне приблизились к воротам, хотя это и было опасно; не в силах превозмочь любопытство, они спрашивали её, почему она прикована к колонне. Она отвечала на латинском языке, понятном лишь очень немногим евреям, что её наказывают за спасение римлянина. Прежде чем она смогла что-нибудь добавить, любопытствующие были отогнаны дождём стрел, пущенных со стены; но хотя она и находилась далеко от этих римлян, ей показалось, что один из них что-то доложил своему начальнику, и тот отдал какие-то приказания.
Под прикрытием тумана и евреи готовились к сражению. Во дворе Израиля их собралось около четырёх тысяч. Несколько ворот, среди них и Никаноровы, вдруг распахнулись. Трубы пропели сигнал к наступлению, и евреи ринулись во двор Женщин, сметая на своём пути отдельных часовых и передовые посты римлян — так внезапное наводнение подхватывает и уносит веточки и соломинки. Но легионеры были уже наготове; сомкнув щиты, они стояли железными шеренгами, и евреи откатились от них, словно поток, ударившийся о скалу. Но всё же они не отступили, а продолжали яростно сражаться, сразив многих римлян, пока наконец на них не обрушился Тит во главе конного отряда и не оттеснил их обратно через ворота. Римляне зарубили мечами многих раненых и пленников, но всё ещё не пытались взять ворота. Их военачальники подошли ближе к стене и стали уговаривать евреев сдаться, обещая взамен, что Тит сохранит их Храм и пощадит их самих. Но те отвечали язвительными насмешками и оскорблениями, и, слушая их, Мириам дивилась безумной гордыне народа, который предпочитал смерть сдаче на милость победителей. Но, вспомнив странные ночные видения, она нашла в них объяснение этой гордыне.
Отбив отчаянную вылазку, римские военачальники послали тысячи людей на тушение пылающих галерей, ибо, невзирая на упрямство осаждённых, Тит всё ещё хотел спасти Храм. Его защитники же ограничивались обороной двора Израиля. Сгрудившись в местах, наиболее защищённых от дротиков и камней, извергаемых катапультами и баллистами, они сидели на четвереньках; некоторые хранили угрюмое молчание, другие били себя в грудь и раздирали на себе одежды; а женщины и дети, истерзанные голодом и горем, посыпали головы пылью. Никаноровы ворота охранял сильный отряд, который не позволял никому приблизиться, однако никто не пытался подняться на крышу. Мириам знала, что Халев всё ещё жив, ибо видела его, в пыли и крови, отступающего под натиском римской кавалерии к ступеням ворот. Он был одним из последних защитников Храма, которые успели вбежать в ворота, прежде чем их закрыли, чтобы преградить путь преследователям-римлянам. После этого она не видела его много месяцев.
Так завершился этот день, последний день длительной осады. К ночи густой туман разошёлся, и в последний раз лучи заката ярко заиграли на крыше и шпилях, венчающих Храм, отражаясь на ослепительной белизне его стен. Никогда ещё в вечерних сумерках не казалась такой прекрасной его громада, возвышаясь над почерневшими развалинами обезлюдевшего города, — всесовершенное творение рук человеческих. Замерли шум и крики, смолкли даже причитания плакальщиц; вы ставив караульные посты, римляне отошли и уселись поужинать; те, кто стрелял из катапульт и баллист, прекратили свой разрушительный труд. Везде царил зловещий покой, глуби кую тишину — такая тишина в тропических странах предшествует обычно ураганам — нарушало лишь потрескивал i к пламени, продолжавшего пожирать кедровые стропила на крышах галерей. В этом неестественном спокойствии Мириам чудилось, будто Яхве покидает дом, где обитал Его дух, и народ, который чтил Его лишь на словах, но в душе отвергал. Она смотрела на бескрайние своды вечернего лазурного неба, как будто ожидая увидеть крылья отлетающего Ангела, и её и без того истерзанные нервы трепетали от страха, в котором не было ничего земного. Но она не видела ничего, кроме теней сотен парящих в вышине стервятников. «Ибо, где будет труп, там соберутся орлы»
[53], — пробормотала она, и, вспомнив, что эти пожиратели мертвечины будут пировать не только на костях всего еврейского народа, но и на её собственных, она закрыла глаза и застонала.
Последние лучи света отпылали на храмовых башнях и бледных склонах гор, и вместо кружащих стервятников на чёрной мантии ночи, одна за другой, появились яркие звёзды.
Стиснув зубы, превозмогая боль, которую испытывало распухшее, ободранное тело, Мириам вновь принялась перетирать верёвку о грубый край скобы. Она была уверена, что верёвка вот-вот порвётся, но у неё не хватало сил и терпения дождаться, когда это наконец произойдёт. Но всё же она не останавливалась, зная, что у её ног лежит бутылка с вином и водой, а жажду она испытывала нестерпимую. Но вот и желанная награда — её руки свободны; онемевшие, отёкшие, кровоточащие, они упали к бокам, онемевшие плечевые мускулы вернулись на свои места, причинив ей такую боль, что она едва не лишилась чувств. Но руки свободны, их можно поднять и поднести к зубам, чтобы разгрызть туго стянувшие кисти обрывки верёвки, и тогда кровь снова без помех побежит по жилам. Она подождала, пока её — уже начинающие мертветь — пальцы обретут снова чувствительность. Опустилась на колени, зажала в ладонях кожаную бутылку и вытащила зубами затычку. Только тогда Мириам смогла напиться. Жажда её была так сильна, что она могла бы залпом осушить всю бутылку, но Мириам выросла в пустыне и знала, что это опасно для жизни. К тому же это весь её запас питья. Она медленными глотками выпила половину бутылки, заткнула её и поставила на крышу.
Однако вино, хотя и пополам с водой, ударило ей в голову, тем более что она долгое время не ела ничего, кроме заплесневелой корочки; в висках сильно застучало, и, прислонившись спиной к колонне, она впала в беспамятство. Очнулась она немного освежённая, и, хотя у неё было такое чувство, будто голова принадлежит не ей, а кому-то другому, размышлять она всё-таки могла. Руки не так болели, пальцы обрели чувствительность. «Если бы только снять эту ужасную цепь, — подумала она, — я могла бы бежать»; как ни сильна была её вера, но смерть, подступившая так близко, вплотную, отнюдь не представлялась ей привлекательной, да и была сопряжена с тяжкими мучениями. Быстро вознестись на небеса — не так уж и плохо, но умирать час за часом от голода, жары или холода, со сведёнными судорогой руками и ногами, с кружащейся головой, в нестерпимых муках, — это совсем другое. Она знала, что, даже будь она свободна, она не могла бы спуститься с крыши, ибо все двери крепко заперты и забаррикадированы, но если бы они и были открыты, она очутилась бы среди евреев в сводчатых комнатах внизу. Но, может быть, ей удастся спрыгнуть прямо на мостовую перед первой лестницей, а уж оттуда, если не разобьётся, перебежать или переползти к римлянам, которые могут дать ей убежище.
Мириам попробовала освободиться от цепи, но сразу поняла, что своими немощными руками она может с таким же успехом попытаться снести Никаноровы ворота. Убедившись в этом, она дала наконец волю слезам. Но если бы Мириам осуществила своё желание и спрыгнула на мостовую перед первой лестницей и даже за зубчатую стену, она переломала бы себе все кости и погибла бы мучительной смертью.
В этот миг Мириам услышала какой-то невнятный шум во дворе Израиля и при тусклом звёздном сиянии увидела, что там — с какой-то неизвестной ей целью — собираются евреи. Пока она пыталась угадать, что они задумали, большие ворота были тихо отворены, и евреи начали свою последнюю вылазку. Мириам стала свидетельницей последнего смертного боя, который народ Израиля дал своим врагам-римлянам. Перед мраморной лестницей они разделились: половина ринулась к галерее справа, другая половина к галерее слева. Они, видимо, намеревались перебить тех римских солдат, которые, по приказу Тита, всё ещё боролись с пожаром, пожиравшим прекрасные здания, и напасть на римский лагерь. Этот замысел был порождением чистейшего безумия, ибо римляне, настороженные утренней вылазкой, возвели вал поперёк двора Женщин и применили все средства защиты, употреблявшиеся в древних войнах. Как только первый еврей ступил на лестницу, часовые тотчас же предупредили об этом, и трубы призвали всех римлян к оружию.
Всё же евреи достигли галерей и убили немногочисленных, не успевших отойти римлян. Преследуя бегущих, они приблизились к валу и хотели было перебраться через него, но на его гребне и за ним появились тысячи людей, которых они предполагали уничтожить: все они были хорошо вооружены и выстроены в строгом боевом порядке. Евреи, заколебавшись, остановились, и в тот же миг поток закованных в сталь римлян хлынул через стену. Несчастных охватил неудержимый страх, и с криками отчаяния они побежали обратно во двор Израиля. Но на этот раз римляне уже не довольствовались тем, что отбили атаку, они бросились преследовать бегущих, а некоторые даже опередили их и первыми подбежали к воротам. Друзья и враги вместе взбегали по мраморным ступеням, вместе врывались в открытые ворота, и своём безумном натиске сметая оставленных охранять их солдат, вместе заполонили двор Израиля. Оставив у ворот небольшой отряд, получая всё новые и новые подкрепления из лагерей внутри и снаружи храмовых дворов, римляне бросились к воротам Священного Дома, разя на бегу своих врагов. Теперь уже никто не оказывал им сопротивления, даже отважнейшие из еврейских воителей, чувствуя, что настал их последний час и что Яхве отвратил от них Свой божественный лик, побросали оружие и обратились в бегство: меньшая часть — по направлению к Верхнему городу, большая часть — чтобы погибнуть на копьях римлян.
Некоторые укрылись в Священном Доме, и римляне кинулись за ними с факелами в руках. Мириам в ужасе видела, как плещется на ветру пламя их факелов. И вдруг из окна с северной стороны вырвался огромный язык пламени — такой яркий, что при его свете можно было видеть мельчайшие детали золотой отделки Храма. Оказалось, что какой-то солдат, взобравшись на плечи другого, не зная, что в своём безумии он воплощает дух разрушения, забросил в окно свой факел. Широким веером взметнулось яркое, всепожирающее пламя, и через несколько минут вся эта часть Храма походила на пылающий очаг. Меж тем римляне нескончаемым потоком вливались через Никаноровы ворота. Неожиданно послышался крик: «Освободите дорогу! Освободите дорогу!»
Мириам увидела внизу коротко стриженного человека в белой одежде и без доспехов, как будто бы он только что вскочил со своего ложа; он ехал на большом боевом коне, с жезлом из слоновой кости в руке, а перед ним несли Римских орлов. Это был сам Тит; он приказывал своим центурионам отозвать сражающихся легионеров и потушить огонь. Но отозвать их было уже невозможно. С таким же успехом можно было бы пытаться остановить сонмища исчадий ада, вырвавшихся из-под земли. Они совершенно обезумели от жажды крови и жажды наживы и не внимали даже голосу своего грозного повелителя.
Пламена взвились и в других частях громадного Храма, отныне обречённого на погибель. Золотые двери были распахнуты, и в сопровождении своей свиты Тит, спешившись, прошёл внутрь, чтобы в первый и последний раз увидеть Дом Яхве, еврейского Бога. Он проходил из придела в придел, зашёл даже в Святая Святых
[54], откуда по его повелению вытащили золотые подсвечники и золотой стол для хлебов предложения
[55], и грозный Бог не покарал его за это святотатство, ибо покинул уже Своё обиталище.
Тысячу сто тридцать лет простоял Храм на священной горе Мория, и вот он превратился в громадный огненный столп, свершается величайшее жертвоприношение из всех, что здесь творились.
Солдаты тащили всё, что могли, швыряли друг другу священные золотые сосуды, обрывали шёлковые занавеси святыни. Не обошлось это жертвоприношение и без человеческих жертв; объятые слепой яростью римляне убили более десяти тысяч людей, собравшихся во дворе Израиля: солдат и священников, горожан и женщин и детей; весь двор был запружен кровью, Скала Приношений чернела под грудами мёртвых тел. Но их смерть не осталась неотмщённой, ибо многие из римлян, нагруженные бесценным грузом золота и серебра, сокровищ, сохранившихся с незапамятных времён, падали, бездыханные, не выдержав адского пекла.
Над двором Израиля стоял сплошной стон убиваемых евреев. А из уст их убийц-римлян вырывался один торжествующий крик. За этим побоищем, сопровождаемым пожаром, с криками отчаяния наблюдали евреи из Верхнего города, и вместе с их стонами, как аккомпанемент какой-то адской музыки, приглушая все остальные звуки, вздымался яростный, торжествующий рёв огня. Его прямые и зазубренные языки достигали высоты в несколько сотен футов, и это был ещё не предел: по мере того, как рушились белые стены и позолоченные крыши, они взвивались всё выше и выше, пока весь Храм наконец не превратился в один колоссальный пылающий очаг, поблизости от которого не мог оставаться никто, кроме мертвецов, но и на тех вспыхивали одежды. Никогда ещё мир не видел и не увидит такого
устрашающего и величественного зрелища!
Истребив все живые существа на своём пути, римляне отступили, унося с собой драгоценные трофеи. Но несколько тысяч оставшихся в живых евреев бежали через мосты, которые они разрушили за собой, в Верхний город, откуда непрерывно доносился сплошной душераздирающий вопль. Силы Мириам были на исходе. Пламя слепило ей глаза, жар от огромного очага опалял её щёки, белая одежда побурела. С трудом переводя дух, Мириам пряталась за колонной. Она молила Небеса, чтобы они даровали ей смерть, но смерть всё не приходила. Вспомнив, что у неё ещё остаётся питьё в кожаной бутылке, она выпила всё до последней капли. Прислонилась к столбу — и почти сразу же провалилась в забытье.
Очнулась Мириам уже утром; над горой золы, что некогда была великолепнейшим зданием во всём мире, Храмом Ирода, клубилось густое облако чёрного дыма, кое-где пронизанное небольшими гневными вспышками пламени. Двор Израиля был сплошь усеян мёртвыми телами: местами солдаты расхаживали по ним, как по ковру, или же, чтобы избавиться от мертвецов, швыряли их в тлеющие руины. На алтаре, на Скале Приношений, можно было видеть нечто странное, похожее на древко копья, оплетённое змеями и увенчанное шаром, на котором восседал золотой орёл с распростёртыми крылами. Перед ним в преклонении собралось множество легионеров. Они приносили дань почитания римским боевым знакам, водружённым над алтарём Израиля. Окружённый блистательной свитой, появился всадник, которого все приветствовали громогласным криком: «Да здравствует император Тит! Да здравствует император Тит!» Здесь, на сцене его триумфа, победоносные легионы нарекли своего верховного военачальника цезарем!
Сражение, однако, ещё не окончилось: на крышах некоторых пылающих галерей ещё оставались самые отчаянные смельчаки: по мере того как крыши под ними рушились, они медленно отступали к Никаноровым воротам, всё ещё неповреждённым. Уставшие от долгой резни римляне потребовали, чтобы они спустились и сдались, но они ничего не ответили на это требование; среди этих людей Мириам с ужасом заметила и своего деда Бенони. Тогда римляне принялись обстреливать их из луков, и в скором времени все они, за исключением Бенони, которого, казалось, не берут стрелы, были убиты.
— Перестаньте стрелять, — прокричал чей-то голос, — и принесите лестницу. Это отважный человек, член синедриона. Попробуйте захватить его живым.
К стене, около Никаноровых ворот, приставили лестницу, и римляне стали быстро по ней взбираться. Преследуемый ими, Бенони отошёл к самому краю пропасти, где бушевал огонь. Затем он обернулся, чтобы посмотреть на римлян. И увидел Мириам — она, съёжившись, лежала около колонны на крыше ворот, — и, полагая, что она мертва, стал заламывать руки и рвать бороду. Она поняла его скорбь, но так обессилела от перенесённых мук и жары, что не могла выкрикнуть ни слова утешения, а только зачарованными глазами наблюдала за его концом.
Солдаты продвигались вдоль стены, пока не остановились, боясь провалиться сквозь крышу, на пылающие стропила.
— Сдавайся! — закричали они. — Сдавайся, глупец, не то ты погибнешь. Тит обещал сохранить тебе жизнь.
— Чтобы меня, старейшину Израиля, закованного в цепи, прогнали затем по улицам Рима, — презрительно отозвался старый еврей. — Нет, я не сдамся; и я молю Господа, чтобы ваш город и его дети претерпели от рук людей ещё более жестоких, чем вы сами, ещё более великие бедствия, чем те, что претерпел наш город и его дети.
Нагнувшись, он схватил лежавшее на стене копьё и метнул его с такой силой, что оно пробило щит одного из римских солдат и ранило его руку.
— Жаль, что я не пронзил тебе сердце, безбожник, как я хотел бы пронзить сердце всего твоего народа! — выкрикнул он и, воздев руки, точно взывая к Богу, головой вниз ринулся в пылающую бездну.
Так, до конца сохранив пылкость и отвагу, погиб еврей Бенони.
Мириам вновь лишилась чувств и вновь очнулась. Дверь, ведущая на крышу, распахнулась, и из неё выбежал человек с растрёпанными волосами и в чёрной от крови и дыма порванной одежде. Приглядевшись, Мириам узнала Симеона, да, Симеона, жестокого судью, который обрёк её на мучительную смерть. По пятам за ним, держа его за полы одежды, бежал римский центурион, грузный человек средних лет с добрым обветренным лицом, показавшимся Мириам смутно знакомым; за ним следовали ещё шесть солдат.
— Держите его! — запыхавшись, кричал он. — Мы должны схватить хотя бы одного из них, чтобы показать людям. — И он с такой силой дёрнул за полу одежды, что Симеон, надеявшийся сброситься с крыши ворот, упал.
Тотчас же на него навалились все шестеро солдат. Только тогда центурион заметил Мириам, которая лежала у подножия колонны.
— Совсем было запамятовал, — воскликнул он. — Это та самая девушка, которую мы видели вчера со двора Женщин; нам приказано её спасти. Неужели бедняжка умерла?
Мириам подняла голову и поглядела на него.
— Клянусь Вакхом, — воскликнул он, — я где-то видел это лицо: оно не из тех, что быстро забываются... А, вспомнил. — Он наклонился и с любопытством прочитал развёрнутый свиток на её груди:
Назареянка Мириам, изменница, волей Божией обречена на смерть на виду у своих друзей, римлян.
— Мириам! — повторил он вслух, вздрогнув.
— Смотрите, — закричал один из солдат, — у неё на шее жемчужное ожерелье, и, наверное, дорогое. Что вы скажете, если я его сниму?
— Нет, — сказал римский центурион. — Ни она сама, ни её жемчуга не для нас. Снимите с неё цепь, а не ожерелье.
С большим трудом расклепали они цепь.
— Можешь ли ты стоять, госпожа? — спросил центурион.
Мириам покачала головой.
— Тогда придётся тебя нести. — Он поднял её на руки с такой лёгкостью, будто она была дитя малое, и, приказав солдатам вести за собой Симеона, медленно и очень осторожно спустился по той самой лестнице, по которой Мириам провели вверх шестьдесят часов назад.
Выйдя через наружные двери, центурион направился к открытым большим воротам и, миновав их, повернул во двор Израиля, где солдаты делили захваченную добычу; обратившись в его сторону, они со смехом спросили, что за дитя он захватил в плен. Ничего не ответив, он пересёк двор, обходя груды мёртвых тел, и подошёл к уцелевшей галерее, где проходили взад и вперёд римские военачальники. Посреди галереи, сидя на стуле, Тит рассматривал священную храмовую утварь и другие сокровища, которые подносили к нему по одному. Заметив странную процессию, он велел, чтобы их всех привели к нему.
— Кого ты несёшь на руках, центурион? — спросил он.
— Девушку, цезарь, — ответил тот. — Она была прикована к колонне над воротами; по твоему повелению в неё не стреляли.
— Она жива?
— Чуть-чуть. Жажда и жара едва её не убили.
— Как она туда попала?
— Вот на этом свитке всё объяснено, цезарь.
Тит прочитал.
— Так она назареянка? — спросил он. — Вредная секта, ещё вреднее евреев, так по крайней мере полагал божественный Нерон. Да ещё и изменница. Стало быть, поделом наказана. А это ещё что:
«Волей Божией обречена на смерть на виду у своих друзей, римлян». Каким образом мы, римляне, оказались у неё в друзьях? Девушка, можешь ли ты говорить? Если можешь, объясни, кто приговорил тебя к такому наказанию.
Мириам подняла свою темноволосую голову с плеча центуриона и показала пальцем на Симеона.
— Верно ли она говорит? — спросил у него цезарь. — Отвечай правду, ибо я всё равно её выясню, если солжёшь, го будешь казнён.
— К этой казни её приговорил синедрион, среди членов которого был её собственный дед Бенони; там, на свитке, и его подпись, — угрюмо пробурчал Симеон.
— За какое же преступление?
— Она помогла бежать пленному римлянину, — с яростью ответил он. — Да будет её душа ввергнута навечно в пылающую геенну!
— Как зовут пленного римлянина?
— Не помню.
— Ну что ж, — сказал цезарь, — какая в конце концов разница? Или он сейчас в безопасности, или мёртв. Судя по твоему одеянию, ты тоже член синедриона. Так?
— Да, я Симеон. Ты, надеюсь, слыхал это имя.
— Симеон? Да вот она — твоя фамилия на свитке, самая первая. Ну что ж, Симеон, ты приговорил благородную госпожу к жестокой смерти за то, что она спасла — или пыталась спасти — римского солдата; поэтому будет только справедливо, если ты отведаешь своего собственного вина. Прикуйте его к колонне над воротами, пусть он там помучается, пока не умрёт. Твой Священный Дом разрушен, Симеон, и конечно же как верный священник ты не пожелаешь пережить Храм, где служил Богу.
— Ты прав, римлянин, — ответил он, — хотя я и предпочёл бы более быструю смерть, какая, я надеюсь, постигнет тебя.
Его увели, и скоро он уже стоял над воротами, прикованный всё той же цепью и с руками, связанными той же верёвкой.
— А теперь что касается этой бедной девушки, — продолжал Тит. — Она назареянка, а все люди говорят плохо об этой секте, ибо она подрывает законную власть и проповедует вероучение, пагубное для мира. Она предала свой собственный народ, что само по себе является преступлением, хотя в этом случае мы, римляне, не имеем оснований для недовольства. Но мы подали бы дурной пример, если бы её освободили, к тому же ей угрожает смерть. Я повелеваю, чтобы о ней хорошо заботились, а когда она выздоровеет, отослали бы её в Рим, где она украсит праздничное шествие, если благосклонные боги даруют мне триумф; затем пусть её продадут в рабство, а вырученные деньги распределят среди раненых солдат и бедноты. Кто позаботится о ней?
— Я, — вызвался центурион, который освободил Мириам. — У меня в шатре живёт старуха, которая для меня стряпает, она и присмотрит за больной девушкой.
— Запомни, друг, — ответил Тит, — эта девушка — моя собственность, и ей не должно быть причинено никакого вреда.
— Согласен, цезарь, — сказал центурион. — Я буду обращаться с ней, как с родной дочерью.
— Хорошо. Пусть все присутствующие запомнят и твои слова, и моё повеление. В Риме, если мы благополучно туда возвратимся, ты дашь мне отчёт об этой пленнице по имени Мириам. А теперь уведите её, у нас есть дела поважнее, чем заниматься судьбой этой девушки.
Глава IV
ЖЕМЧУЖИНА
Миновало много дней, но война продолжалась, евреи всё ещё удерживали Верхний город. В одной из атак центурион, спасший Мириам, был ранен копьём в ногу, да так тяжело, что не мог нести дальнейшую службу. Он пользовался особым доверием Тита; цезарь приказал, чтобы он отбыл с ранеными и больными в Рим, взяв с собой большую часть захваченных сокровищ, и центурион отправился в Тир, откуда отплывал корабль. Исполняя повеление цезаря, он отвёз Мириам в лагерь своего легиона на Масличной горе и поселил её у себя в шатре, где её выхаживала старая рабыня. Перенесённые девушкой мучения и всё, ею виденное, подорвали её здоровье так сильно, что некоторое время она была на краю смерти. И всё же сытная еда и забота вернули ей телесные силы. Однако все эти недели она была не в себе, постоянно бредила, заговаривалась.
Многие на месте этого римлянина, вероятно, утомились бы и вытолкали Мириам вон, чтобы она разделила участь сотен других бедных существ, которые бродили по стране, пока не погибали или попадали в плен к арабам. Но он свято соблюдал своё слово: будь Мириам и впрямь его родной дочерью, за ней не было бы лучшего ухода. Всё своё свободное время он сидел с ней, пытаясь исцелить её от помрачения ума; а после полученного им ранения он не отходил от неё с утра и до вечера; бедная девушка безумно к нему привязалась, обнимала его за шею и называла «дядюшкой», как в былые времена называла ессеев. Более того, она перезнакомилась со всеми солдатами легиона, которые, полюбив её, приносили ей фрукты и зимние цветы, а также всё, что могло бы ей понравиться. И получив приказ отправиться в Тир для сопровождения императорских сокровищ, он и его ординарец, взяв с собой Мириам, тут же тронулись в путь; путешествовали они медленно и добрались до города лишь на восьмой день.
Оказалось, их корабль ещё не готов к отплытию; они остановились на окраине Палетира, по странному совпадению в том самом саду, что принадлежал Бенони. Прибыли они туда на исходе дня, после заката; шатры Мириам и старой рабыни поставили на морском берегу, рядом с шатром её покровителя. В ту ночь она впервые крепко спала, а на заре, разбуженная плеском волн о скалы, подошла к двери шатра и выглянула наружу. Весь лагерь тихо спал, ибо здесь они могли не опасаться врагов; на море и на суше царило глубокое спокойствие. Но вот заревой туман рассеялся, из-за голубого моря поднялось солнце, озаряя серое до того побережье.
С этим ясным светом возвратился и свет в помрачившийся разум Мириам. Она узнала раскинувшиеся вокруг виды, узнала гордые очертания островной части древнего города. Вспомнила она и сам сад: вот под этой пальмой она часто сиживала, вот белые лилии под скалой, среди которых она отдыхала вместе с Нехуштой, когда римский центурион принёс ей письмо и дары от Марка. Мириам машинально протянула руку к шее. Жемчужное ожерелье — на месте; к нему привязан и перстень, найденный рабыней в её волосах и ею же сбережённый. Отвязав перстень, она надела его обратно на палец. Подошла к скале, села и стала думать. Но её разум ещё недостаточно окреп: её осаждали видения кровопролитных побоищ и пожаров. Если она могла достаточно ясно вспомнить всё, что происходило до осады, то всё последующее сливалось в какое-то красное марево.
И тут к ней, опираясь на костыль, подошёл римский центурион, он всё ещё хромал, и нога у него как-то странно ссохлась. Как только встал, он подошёл к шатру Мириам, чтобы спросить у старухи, как себя чувствует девушка, как привык делать каждое утро; узнав, что она вышла, он внимательно осмотрелся. И, увидев её сидящей в тени скалы, лицом к морю, поспешил к ней присоединиться.
— Доброе утро, дочка, — сказал он. — Как тебе спалось после долгого путешествия?
Он ожидал услышать в ответ несвязный лепет, обычный для больной Мириам. Она поднялась и встала перед ним со смущённым видом. Затем ответила:
— Благодарю вас, господин, я спала хорошо. Но скажите, не в Тире ли мы находимся и не сад ли это моего дедушки Бенони, где я так любила когда-то бродить? С тех пор случилось столько ужасных, ужаснейших событий, которых я не могу вспомнить! — Она прикрыла рукой глаза и застонала.
— И не вспоминай, — весело сказал он. — В жизни есть много такого, что лучше позабыть. Да, конечно, мы в Тире. Вчера было слишком темно, чтобы ты могла узнать город; а этот сад и впрямь принадлежал Бенони. А чей он сейчас — я не берусь сказать. Может быть, твой, а может быть, и цезаря.
Он говорил всё это, особенно не задумываясь, а сам внимательно за ней наблюдал, и всё это время Мириам не сводила с его лица глаз — как будто пыталась что-то припомнить. И вдруг её озарило:
— Я узнала вас. Вы римский центурион Галл, принёсший мне письмо от... — Она сунула руку за пазуху и, ничего там не обнаружив, всхлипнув, продолжала: — Письмо пропало. Кто-то его взял. Кто бы это мог быть — сейчас подумаю.
— Не стоит, — остановил её Галл. — На свете есть много такого, над чем лучше не задумываться... Да, ты права, я тот самый человек, что несколько лет назад принёс тебе письмо от Марка по прозвищу Счастливчик. Я никогда не забывал твоего милого личика и пришёл тебе на помощь, когда ты нуждалась в друге. Но не будем продолжать этот разговор. Тебя зовёт старуха. Пора тебе позавтракать, и мне тоже не мешает перекусить и сменить повязки. Потом поговорим обо всём.
В это утро Мириам больше не видела Галла, да и он старался не попадаться ей на глаза, опасаясь, как бы она не перенапрягла свой только что прояснившийся рассудок, который может повредиться уже окончательно. Она сидела на берегу одна, ибо солдатам было приказано оставить её в покое, и смотрела на море.
И вот, событие за событием, недавнее прошлое стало воскресать в её памяти. Теперь она припомнила всё: бегство из Тира, прибытие в Иерусалим, пребывание в подземелье с ессеями; всё случившееся в Старой башне, спасение Марка, судилище, то, как она отбывала приговор над воротами, и, наконец, ту страшную ночь, когда её обдавали нестерпимым жаром пламени пылающего Храма, а зрелище чудовищной резни отзывалось мучительной болью в её сердце. Помимо всего этого память рисовала ей лишь одно видение: на высокой галерее, на фоне чёрного дыма, стоит величественная фигура Бенони; он бросает последний вызов римлянам, прежде чем нырнуть в бушующее внизу море огня. Ни о том, как её сняли с крыши Никаноровых ворот, ни о том, как Галл, с нею на руках, предстал перед цезарем Титом, ни о его непререкаемом решении — она решительно ничего не помнила. А как она добралась до приморского сада в Тире — навсегда осталось зияющим провалом в её памяти.
Наконец старуха позвала Мириам на обед, но отвела не в её шатёр, а в шатёр Галла. Когда она шла, на её пути стояли группы солдат, которые как будто хотели перехватить её, и она хотела было уже бежать, ибо это зрелище напомнило ей все ужасы осады.
— Не бойся их, — улыбнулась старуха. — Пусть только кто-нибудь из них посмеет поднять палец против их Жемчужины.
— Жемчужины? — переспросила Мириам.
— Ну да, так они прозвали тебя за жемчужное ожерелье, которое ты носишь не снимая. Ведь они все помогали тебя выхаживать и очень тебя любят, бедняжка. Заслышав, что тебе получше, они собрались выразить тебе свою радость, вот и всё.
Мириам убедилась, что она говорит правду, грубые легионеры радостно её приветствовали и хлопали в ладоши, а один из них, зловещего вида малый со сломанным носом, совершивший, как говорили, немало жестокостей во время осады, вышел вперёд и с поклоном преподнёс ей букет диких цветов, собранных, вероятно, не без значительного труда, ибо в это время года их почти не бывает. Всё ещё чувствуя сильную слабость, она приняла букет и разразилась слезами.
— Почему вы так добры к бедной пленнице? — спросила она.
— Нет, нет, — ответил декурион с непристойным ругательством. — Это мы твои пленники, Жемчужина, и мы радуемся, что напавшее на тебя умопомрачение кончилось, хотя ты была так мила и больная, милее просто нельзя быть...
— О, друзья, друзья... — начала Мириам и вновь разрыдалась.
Выйдя на шум из шатра, Галл заковылял по направлению к ним и, увидев на её лице слёзы, разразился ругательствами, какие знают лишь бывалые служаки.
— Чем вы так доняли её, трусливые псы? — прокричал он. — Клянусь именем цезаря и нашими боевыми знаками, если хоть один из вас посмел ей сказать грубое словцо, я его засеку розгами, сдеру с него кожу заживо! — И с ощетинившейся от гнева бородой он добавил к своим словам несколько ужасающих проклятий на голову возможного обидчика, его ближайшей родственницы и её потомков.
— Извините, начальник, — сказал декурион, — но вы произносите много слов, не пригодных для слуха приличной девушки.
— Ты ещё смеешь со мной спорить, грязная свинья! — накинулся на него Галл. — Эй, стражники, привяжите его к дереву и отхлестайте хорошенько! Не бойся, доченька, это оскорбление ему так даром не сойдёт, он у нас запоёт другую песню или ему придётся проглотить свой грязный язык! — Он всё сыпал и сыпал проклятьями.
— О, господин, господин, — перебила его Мириам, — что вы собираетесь с ним делать? Он ни словом не оскорбил меня; да и ни от кого я не слышала ничего плохого, более того, они наговорили мне много приятного, даже подарили цветы.
— Почему же тогда ты плакала? — подозрительно спросил Галл.
— Я плакала потому, что они, победители, так добры к побеждённой, которой суждено стать рабыней.
— Вот как, — сказал Галл. — Ладно, не привязывайте его, но я не беру назад ни одного своего слова, ведь вы заставили её лить слёзы, а уж почему — это не важно. Как они смеют оскорблять тебя своей добротой! Запомните отныне вы всё, что эта девушка — собственность Тита, а я его доверенное лицо. Я не против того, чтобы вы делали ей подарки, но только через меня. У меня же для вас есть бочонок старого ливанского вина, купленного для путешествия. Если вы захотите выпить за здоровье нашей... нашей пленницы, милости прошу, оно ваше.
Взяв Мириам за руку, он повёл её к шатру, где уже был накрыт для них стол; всё ещё ворча на посмеивающихся солдат, он велел послать за вином. Они хорошо знали характер своего начальника, ибо провели с ним не одну кампанию, знали они также, что спасённая им безумная девушка обвилась лозой вокруг его сердца, как это случалось почти со всеми, кого судьба делала её защитниками и покровителями.
В шатре стояли два табурета: один — для Мириам, другой — для центуриона.
— Молча садись и ешь, — сказал он, — ибо за время своей болезни ты почти ничего не ела, а мы отплываем самое позднее завтра вечером, после чего, если ты не отличаешься в лучшую сторону от большинства женщин, ты вряд ли что-нибудь будешь есть в бушующем зимнем море, пока, с благословения богов, мы не достигнем берегов Италии. Вот устрицы, привезённые нарочным из Сидона, и я приказываю тебе съесть шесть штук, прежде чем ты произнесёшь хоть слово.
Мириам послушно съела устрицы, затем рыбу, затем грудку вальдшнепа. Но от осеннего барашка, целиком зажаренного, она вынуждена была отказаться.
— Отошлите его солдатам, — предложила она, и барашка отправили в подарок солдатам.
— А теперь, моя дорогая пленница, — сказал Галл, придвигая табурет поближе, — я хочу, чтобы ты рассказала мне о себе всё, что помнишь. Ты даже не знаешь, что много дней мы обедали с тобой вместе, ты сидела, обвив мою старую шею своей ручкой, и называла меня «дядюшкой». Не красней, дитя моё. Я достаточно стар, чтобы годиться тебе в отцы; тем не менее ты всегда будешь дорога мне, как родная дочь.
— Почему вы так добры ко мне? — спросила Мириам.
— На то есть несколько причин. Прежде всего, ты подруга моего приятеля, часто о тебе говорившего, хотя я и боюсь, что он погиб. Во-вторых, ты была так больна и беспомощна, когда я тебя спас среди всего этого побоища, с тех пор ты со мной почти не разлучаешься; в-третьих, — я не хотел бы говорить на эту тему, но всё же скажу, — у меня была дочь, рано умершая; останься она жива, она была бы твоей одногодкой. У вас с ней похожие глаза; по-моему, я назвал достаточно причин.
А теперь начинай рассказывать... Нет, погоди. Сперва я поведаю тебе всё, что знаю. Марк по прозвищу Счастливчик, которого, к сожалению, покинуло счастье, очень тебя любил — как и все мы. В Риме он часто говорил со мной о тебе, мы с ним приятельствовали, хотя он и занимает более высокое, чем я, положение; через меня он и послал тебе письмо, которое я передал тебе здесь, в этом саду, ожерелье, что ты носишь на шее, и, если память мне не изменяет, и перстень. Ещё тогда я хорошо тебя запомнил, и, когда увидел на Никаноровых воротах, хоть ты и была похожа на обгорелую головешку, я всё равно тебя узнал. Это я отнёс тебя к цезарю, который объявил тебя своей рабыней и велел мне доставить тебя в Рим. А теперь объясни мне, как ты очутилась на воротах?
Он терпеливо выслушал рассказ Мириам обо всём с ней происшедшем. Когда она кончила рассказ, он встал, прихрамывая, обошёл стол и, наклонившись, торжественно поцеловал её в лоб.
— Клянусь богами римлян, греков, христиан, евреев и варваров, у тебя благородное сердце, — сказал он, — и этот поцелуй — дань моего уважения. Ничего удивительного, что этот щенок Марк получил прозвище Счастливчик: он попал в плен живым, а это у нас, римлян, карается смертной казнью, и, надо же так случиться, — тут появилась ты и спасла его, пожертвовав своей свободой. Да, своей свободой, клянусь Венерой! Но что дальше, благородная изменница?
— Этот вопрос я вынуждена обратить к вам, Галл. Что дальше? Марк, — вы не должны говорить о нём плохо: в том, что он оказался в плену, нет его вины, он сражался, как настоящий герой, — исчез...
— Боюсь, что он на том берегу Стикса. Это для него самое лучшее, ибо попасть в плен живым для римлянина несмываемый позор!
— А я надеюсь, что он жив. Ради меня моя служанка Нехушта и ессеи, среди которых я жила, спасут его любой ценой, даже ценой собственной жизни. Если Марк не умер от раны, он должен быть жив.
— И ты хотела бы получить какие-нибудь весточки о нём или от него?
— Конечно, Галл. Но что ждёт меня по прибытии в Рим?
— Пока не вернётся Тит, ты будешь в полной безопасности. Ты примешь участие в его триумфальном шествии, после чего, если он не переменит своего решения, — а это маловероятно, ибо он гордится тем, что не пересматривает своих повелений, даже если они приняты впопыхах, — ты будешь выставлена на Форуме и продана в рабство тому, кто предложит самую высокую цену.
— Продана в рабство тому, кто предложит самую высокую цену? — вполголоса повторила Мириам. — Какая ужасная участь! Будь ваша дочь жива, вы, вероятно, не хотели бы для неё подобного.
— Не говори об этом, не говори, — пробормотал Галл себе в бороду, — будем надеяться, что всё как-нибудь уладится.
— Я хотела бы, чтобы Марк знал о том, что мне предстоит участвовать в триумфальном шествии, а затем меня выставят на Форуме и продадут с торгов.
— Ты хотела бы, чтобы Марк знал обо всём этом? Но, во имя богов, как его известить, если он всё ещё жив? Послушай, завтра вечером мы отплываем. Что я должен сделать?
— Пошли к Марку гонца с письмом от меня.
— Гонца? Откуда же мне его взять? Конечно, я мог бы послать солдата, но ведь Марк, скорее всего, у ессеев; если они вылечат его, то оставят у себя в заложниках. К тому же, по твоим собственным словам, ессеи живут в какой-то гиеньей норе, в иерусалимских катакомбах, если, конечно, их там давно уже не обнаружили и не убили. Как же сможет гонец отыскать это тайное убежище?
— Отыскать его он вряд ли сумеет, — ответила Мириам, — но в городе у меня есть друзья, среди них может отыскаться человек, который мне поможет. Вы же знаете, что я христианка, выросшая среди ессеев; приверженцы и той и другой веры подвергаются преследованию, но свои тайны они хранят. Если я найду подходящего христианина или ессея, если Марк жив, он передаст ему моё послание.
Пораздумав, Галл сказал:
— Если бы я, к слову, отправился в Тир и стал выспрашивать, кто из тирян христианин, а кто ессеи, мне бы ничего не удалось выяснить. С таким же успехом может подкликать к себе лягушку аист. Но вот старая рабыня, которая ухаживала за мной и тобой, женщина ловкая и хитрая, и если я пообещаю в случае успеха отпустить её на свободу, возможно, и найдёт Марка. Погоди, сейчас я её позову. — И он вышел из шатра.
Через несколько минут он возвратился вместе с рабыней.
— Я всё ей растолковал, — сказал он Мириам. — Она женщина понятливая и смышлёная и сумеет убедить любого, что он может без всякого страха войти в наш лагерь, никто его тут не задержит. Скажи же ей, куда она должна пойти и кого отыскать.
Мириам объяснила женщине:
— Скажи любому, какого ты отыщешь, ессею, что его
хочет видеть та, кого называют Царицей ессеев; если это его не удовлетворит, назови ему пароль: «Всходит солнце». Любому христианину, какого ты отыщешь, скажи, что в его помощи нуждается Мириам, их сестра, а если он попросит назвать пароль, скажи: «Восход грядёт». Ты поняла?
— Поняла, — ответила женщина.
— Тогда иди, — сказал Галл, — но чтобы к ночи ты была здесь; и помни, что в случае неудачи ты не только не получишь свободы, но отправишься со мной в Рим, откуда уже не вернёшься.
— Иду, иду, мой господин, — ответила женщина, прикладывая руку ко лбу и откланиваясь.
К полуночи она вернулась с новостями: в Тире как будто бы не осталось ни одного христианина, все бежали в Пеллу или ещё куда-нибудь. Но она нашла одного ессея, младшего брата по имени Самуил; узнав, что их Царица в плену, и выслушав названный ему пароль, он пообещал прийти после наступления темноты, хотя и прямо признался, что опасается, как бы ему не подстроили западню.
Когда опустилась тьма, он и в самом деле явился в лагерь, и старая рабыня ввела его в шатёр, где сидели Мириам и Галл. Этот Самуил был из самых низших братьев; Мириам никогда его не видела, хотя он и знал о ней. Ещё до того как ессеи покинули свою деревню, с разрешения совета он уехал в Тир — проститься со своей матерью, которая была при смерти. Услышав, что все братья бежали, и так как его мать была всё ещё жива, он остался в Тире, вместо того чтобы вернуться в Иерусалим, и таким образом избежал ужасов осады. Вот и всё, что он рассказал, добавив только, что уже схоронил мать и хочет присоединиться к общине, если хоть кто-нибудь из братьев ещё жив.
Тут Галл вышел, ибо Мириам не имела права разглашать тайны ессеев в присутствии посторонних, и, удостоверившись, что он и в самом деле принадлежит к общине, она рассказала ему всё, что ей было известно об их тайном убежище в древних каменоломнях, и спросила, хочет ли он отыскать братьев. Он сказал: да, он хочет их найти; что до неё, то его долг — оказать ей любую, какая в его силах, помощь; ибо, если братья узнают, что он отказался ей помочь, его тут же исключат из общины. Уверившись в его готовности честно выполнить её поручение, — разумеется, не требуя с него клятвы, считающейся среди ессеев противозаконной, а известным ей принятым у них тайным способом, — Мириам сняла подаренный ей Марком перстень, велела ему найти ессеев и, если их римский пленник ещё жив, передать ему этот перстень, а затем рассказать о её судьбе и о том, где она находится. Если же его нет в живых или он покинул убежище, пусть он, Самуил, вручит перстень ливийке по имени Нехушта, повторив то же самое послание. Если там не окажется и её, пусть он отдаст перстень её дяде Итиэлю, а если нет и его, старосте общины, сказав, что она умоляет их о помощи. Если будут какие-нибудь новости, пусть их сообщат центуриону Галлу в Рим, где она будет находиться на попечении его жены, пока её не передадут Титу для участия в его триумфальной процессии. На случай если брат забудет её поручение, она написала послание для передачи любому из всех, ею перечисленных. В этом послании Мириам вкратце изложила все с нею случившееся с тех пор, как её захватили в плен в Старой башне; затем Галл, позванный ею в шатёр, сообщил подробности её спасения и распоряжение цезаря относительно её. Послание кончалось такими словами:
Кто бы ни прочитал это письмо, поторопись, умоляю тебя, поторопись, будь на то воля Божия или твоя собственная, помочь мне избежать худшего, чем смерть, позора, ожидающего меня в Риме.
Подписалась она так:
Мириам из дома Бенони
Боясь, как бы письмо не попало в чужие руки, никаких имён она не упоминала, ибо не хотела, чтобы кто-нибудь попал из-за неё в беду.
Галл спросил Самуила, сколько денег ему понадобится на дорогу и сколько он возьмёт за свою помощь. Юноша ответил, что никаких денег за помощь он не возьмёт, ибо это противно обычаям его общины, а помочь он и так поможет; удивлённый Галл сказал, что в этой стране больше странных народов, чем в любой другой.
Поклонившись Мириам и особым пожатием руки изъявив ей свою преданность и верность, он оставил лагерь, и больше она его не видела. Но как впоследствии выяснилось, он оказался верным посланцем и она поступила правильно, что ему доверилась.
На другой день и Галл, по просьбе Мириам, с большим трудом накорябал письмо своему другу, служившему с ним вместе в Иерусалимской армии, вложив в это письмо и письмо к Марку — на тот случай, если он уже вернулся под римские боевые знаки.
— Ну, а теперь, дочь моя, — сказал он, — мы сделали всё, что в наших силах, остаётся лишь положиться на судьбу.
— Да, — вздохнула она, — остаётся только положиться на судьбу, как вы, римляне, именуете Бога.
Вечером того же дня они отплыли на корабле в Италию, увозя с собой захваченные сокровища, много больных и раненых и в сопровождении отряда солдат. Осенние бури уже отбушевали, зимние ещё не начались, поэтому плавание их оказалось скорым и благополучным, никаких трудностей, кроме разве что нехватки питьевой воды, они не испытывали. Через тридцать дней они причалили в Региуме
[56], откуда уже сушей отправились в Рим, и везде люди с большим любопытством расспрашивали их о военных новостях.
Глава V
КУПЕЦ ДЕМЕТРИЙ
Когда в ту роковую ночь Мириам метнулась, чтобы выбить фонарь из рук часового, Нехушта, волочившая за собой Марка, даже не заметила, что её госпожа осталась позади.
С большим трудом, пользуясь уклоном скалистого прохода, она втащила Марка внутрь и выпрямилась, чтобы немного передохнуть; тут-то она и услышала глухой стук закрывшейся каменной двери. Даже не догадываясь впотьмах, что Мириам с ними нет, она сказала:
— В какие только беды не попадаем мы, несчастные женщины, из-за этих мужчин. Кажется, мы успели как раз вовремя, никто нас не видел.
Ответа не последовало. Тишина стояла могильная.
— Госпожа! Во имя Христа, отзовись! Где ты, госпожа? — встревоженным шёпотом сказала Нехушта, но откликнулось ей только эхо, повторившее: «Где ты, госпожа?»
— Что случилось? — спросил очнувшийся Марк. — Где мы находимся, Мириам?
— Ты хочешь знать, что случилось, — зловещим шёпотом продолжала Нехушта. — Мы находимся в коридоре, ведущем в подземелье, Мириам осталась в Старой башне, в руках евреев, а дверь за нами прочно закрыта. Она пожертвовала собой ради спасения твоей жизни, проклятый римлянин! Понятно, как это случилось: она кинулась, чтобы выбить фонарь из рук часового, а в это время дверь захлопнулась. Теперь они распнут её за то, что она спасла тебя, римлянин!
— Замолчи! — свирепо перебил её Марк. — Отопри дверь. Ведь я мужчина и ещё в силах сражаться или же по крайней мере, — простонал он, вспомнив, что у него нет меча, — могу отдать жизнь за неё.
— Не могу отпереть, — выдохнула Нехушта, — отмычка, которой поднимают потайную щеколду, осталась у неё. Будь у тебя хотя бы твой меч, мы могли воспользоваться бы им, но его нет, римлянин.
— Пошли, — сказал Марк, — выломаем дверь.
— Да, да, римлянин, мы с тобой вдвоём выломаем каменную дверь толщиной в добрых полтора локтя.
Тогда-то и началась та удручающая сцена, о которой кое-что уже было рассказано. Нехушта пыталась дотянуться до щеколды пальцами, Марк, стоя на одной ноге, тщился высадить дверь плечом, но большой чёрный камень даже не шевельнулся. И всё же они, тяжело дыша, продолжали тужиться, хотя и понимали всю тщетность своих усилий; даже если удастся открыть дверь, Мириам уже не окажется в башне и, вероятнее всего, их самих захватят в плен. И вдруг Марк прекратил свои попытки.
— В лучшем случае она попала в плен, — простонал он. — И всё из-за меня. О боги! Из-за меня! — И звеня латами, он повалился на каменный пол, сотрясаясь в безумном хохоте.
Нехушта также отказалась от бесполезных попыток.
— Да поможет тебе Господь, — прошептала она, — ибо я ничего не могу для тебя сделать. Потерять тебя после стольких лет, и всё из-за этого человека! — И, в бешенстве зыркнув глазами на Марка, она подумала, не убить ли его.
«Нет, — сказала она себе, — Мириам его любит, и, узнай она о моём намерении, это причинило бы ей сильную боль, лучше покончить с собой; будь я уверена, что она мертва, я, конечно, так бы и поступила, хоть это и грех великий».
Она села, не зная, что делать, в полном отчаянии, и вдруг увидела поднимающийся по лестнице фонарь. К ней подошёл Итиэль. Нехушта встала с пола.
— Слава Богу, вы наконец здесь! — обрадовался он. — Трижды всходил я по этой лестнице, ожидая возвращения Мириам.
— Брат Итиэль, — ответила Нехушта, — Мириам не вернётся; она от нас ушла, оставив взамен этого вот человека, конного римского префекта Марка.
— Что это значит? Что это значит? — растерянно забормотал Итиэль. — Где же Мириам?
— В руках евреев, — объяснила Нехушта. И рассказала обо всём случившемся.
— Тут ничего не поделаешь, — простонал он. — Мы не можем отпереть дверь, это означало бы раскрыть тайну нашего убежища евреям или римлянам, ни те, ни другие не пощадят нас, евреи убьют нас, чтобы завладеть нашей едой, римляне — потому что мы евреи. Мы можем лишь уповать на Бога, не подвергая риску жизни наших людей.
— Будь на то моя воля, — ответила Нехушта, — то, уповая на Бога, я всё же постаралась бы спасти Мириам. Но ты прав: нельзя подвергать риску жизни стольких людей ради одной девушки. Но как быть с этим человеком?
— Мы сделаем для него всё, что в наших силах, — сказал Итиэль. — Таково несомненно было бы желание той, что пожертвовала собой ради него. К тому же много лет назад он был нашим гостем и оказал нам неоценимую услугу. Оставайтесь пока здесь, а я пойду за помощью.
Итиэль ушёл и скоро возвратился с несколькими братьями: они подняли Марка и понесли его по лестницам и переходам к той тёмной каморке, где спала Мириам, тем временем другие братья подпёрли потайную дверь большими камнями, чтобы никто не мог её открыть без величайшего труда.
В этой безмолвной, бессолнечной пещере Марк провалялся много дней, и, если бы не заботливый уход Нехушты и лекарей-ессеев, он наверняка бы умер. Но эти искуснейшие лекари, удалив маленькими железными крючками осколки кости, давившие на его мозг, сумели залечить глубокую рану, нанесённую мечом Халева, заодно они уврачевали своими целебными мазями и другую его рану — колено.
Между тем они узнали от своих людей, что и Храм и гора Сион захвачены. Узнали они также о суде над Мириам и о том, что её приковали к колонне над Никаноровыми воротами, однако о её дальнейшей судьбе им так ничего и не удалось выяснить. Поэтому они скорбели о ней, как об умершей.
К этому времени запасы еды у них почти истощились, римская охрана в городе ослабила свою бдительность, и оставшиеся в живых члены общины — многие из них умерли, а сам брат Итиэль был тяжело ранен — решили покинуть ненавистное подземелье, которое много месяцев служило им надёжным убежищем. Естественно, всплыл вопрос, что делать с Марком; от него осталась лишь тень, он всё ещё продолжал бредить, но самое тяжёлое время уже миновало, и он пошёл на поправку. Одни предлагали оставить его в подземелье, другие — отправить обратно к римлянам, но Нехушта убедила их, что мудрее всего оставить его заложником: при нападении на них, передав его римлянам, они смогут спасти свою жизнь. На том в конце концов и порешили — не столько ради каких-то выгод для себя, сколько ради той, кого они звали своей Царицей и кто пожертвовала жизнью ради спасения Марка.
И вот однажды, в дождливую непогожую ночь, когда на улицах не было ни души, группа людей с белыми, как у прокажённых, лицами — такого цвета бывают выросшие в полной темноте корни — покинули подземелье, где остались лишь трупы умерших от голода, и через отверстие под стеной выбрались наружу. Больных, и среди них Итиэля и Марка, они несли с собой на носилках. Никто не препятствовал их бегству, ибо римляне ушли из этой части разрушенного города и разбили лагерь среди башен поблизости от горы Сион, где уцелевшие евреи ещё продолжали оказывать сопротивление.
К утру они уже были на дороге в Иерихон; местность здесь и всегда-то пустынная, а теперь не было заметно даже и признаков жизни. Питаясь корнями и остатками сохранившейся у них пищи, они добрались до Иерихона; от города остались лишь развалины, где бродили несколько голодных людей. Оттуда они направились в свою деревню, почти целиком сожжённую. Но в склонах холма уцелело несколько пещер, которые использовались ими под кладовые, и в этих тайниках сохранились кое-какие запасы зерна и вина.
Здесь они поселились и сразу же принялись засевать поля, которые не могли уничтожить ни римляне, ни грабители; кое-как дотянули они до первого урожая, на их счастье, довольно обильного.
В этом сухом здоровом воздухе Марк, человек от природы очень сильный, быстро поправлялся. Как только он пришёл в себя и узнал Нехушту, он спросил у неё, что случилось. Она рассказала; её предположение о том, что Мириам нет в живых, повергло его в глубокую скорбь. Ессеи относились к нему с добротой, но дали понять, что он — их пленник. Но даже если бы они и отпустили его, при всём желании он не мог бы уйти, ибо, казалось бы, лёгкая рана оказалась достаточно тяжёлой: копьё или меч, пробив коленную чашечку, выпустили из неё всю смазку, поэтому эта рана заживала очень медленно, и много недель Марк не мог передвигаться без костыля. Долгими часами просиживал он на берегу Иордана, оплакивая прошлое и не питая никаких надежд относительно будущего.
Так, в полном одиночестве, под присмотром Нехушты, которая стала к этому времени очень мрачной и старой, Марк прожил четыре мучительно долгих месяца. Со временем, поднабравшись сил, он стал, прихрамывая, спускаться в деревню, где ессеи уже отстраивали некоторые дома; там он сидел в саду дома, где некогда жила Мириам. Сад густо разросся, но среди гранатовых деревьев всё ещё стоял навес, который она использовала под мастерскую; под этим навесом валялись незаконченные мраморные статуи, среди них и его собственная, начатая ещё до того мраморного бюста, который Нерон назвал божественным и велел выставить в храме. Это печальное сейчас место навевало на Марка множество воспоминаний, и он любил его, потому что все эти воспоминания были о Мириам.
Даже сюда доходили слухи, что после полного разрушения Иерусалима Тит перебросил свою армию то ли в Кесарию, то ли в Верит и проводил зиму в непрерывных празднествах, устраивая игры в амфитеатрах. Для этих игр он использовал множество пленных евреев, вынужденных сражаться друг с другом или, по жестокому римскому обычаю, против хищных зверей. Но сообщить ему о себе Марк не мог, не мог он и бежать, ибо ещё плохо себя чувствовал. А если бы и мог, то всё равно не бежал бы, боясь навлечь гибель на ессеев, которые неизменно проявляли к нему доброту и спасли ему жизнь. К тому же для римского солдата, тем более начальника высокого ранга, считалось большим позором попасть в плен; и эта мысль также останавливала Марка. Как сказал Галл Мириам, ни один римлянин не должен сдаваться в плен живым. Оставалось только терпеливо, превозмогая боль в сердце, ждать, что пошлёт ему судьба. Будь он совершенно уверен, что Мириам погибла, он, опозоренный солдат и пленник, покончил бы с собой. Никто из ессеев — за исключением Нехушты — не сомневался в её смерти, и только Марк испытывал сильные сомнения, какое-то внутреннее чутьё подсказывало ему, что Мириам жива. Поэтому Марк и продолжал жить среди ессеев, пока к нему не вернулись здоровье и сила; так, видимо, было предназначено самой судьбой. А затем наступило время действовать.
Оставив Тир, ессей Самуил, гонец Мириам, отправился в Иерусалим; прибыв туда, он обнаружил, что Священный город превратился в груды развалин, где гиены и стервятники пожирают бесчисленных мертвецов. Чтобы выполнить поручение Мириам, он целыми днями рыскал около старых Дамаскских ворот. Сам вход в пещеру он никак не мог отыскать, ибо тут валялись тысячи камней, под которыми шакалы вырыли себе норы, поэтому он так и не узнал, где вход, и не было никого, кто мог бы ему подсказать. И всё же Самуил продолжал поиски, надеясь, что в один прекрасный день появится какой-нибудь ессей и отведёт его в тайное убежище братьев. Но никто не показывался, ибо ессей давно уже покинули это место. В конце концов, заметив, что он всё время здесь рыщет, его задержал римский патруль. Когда его стали допрашивать, что он здесь делает, он ответил, что ищет съедобные травы, на что начальник патруля сказал, что они найдут ему и пищу, и какую-нибудь полезную работу. Вместе с толпами других пленников его заставили сносить крепостные стены, дабы Иерусалим никогда больше не был укреплённым городом. Здесь он трудился более четырёх месяцев, получая за свой труд лишь хлеб, а также многочисленные пинки и тычки, пока ему наконец не удалось бежать.
Среди пленников оказался один из членов общины; Самуил узнал от него, что все они вернулись на прежнее место, возле Иордана. Туда и направился Самуил, всё ещё сохранивший перстень Мириам. Благополучно добравшись до их поселения, он встретил самый радушный приём; всех ессеев очень обрадовало известие, что та, кого они звали своей Царицей, жива. Он спросил, нет ли среди них римского пленника по имени Марк, они ответили: да, он здесь, и тогда он сказал, что у него есть для этого римлянина послание. Его отвели в сад, где находилась мастерская Мириам, сказав, что там он его и найдёт.
Марк сидел под солнцем, с ним была и Нехушта. Разговаривали они о Мириам — это была почти единственная тема их бесед.
— Что-то подсказывает мне, что она жива, хотя у меня и нет полной уверенности, — говорил Марк. — Просто не представляю себе, как она могла пережить ту ночь, когда Храм был спален.
— Я тоже не представляю, — ответила Нехушта, — и всё же я почему-то верю, что она жива, как в глубине своей души веришь и ты. В своё время было предсказано, что ни один христианин не погибнет в этой войне.
— Докажи, что это так, женщина; тогда, может быть, и я обращусь в христианскую веру, но я устал от всяких туманных пророчеств и предсказаний.
— Ты станешь христианином лишь тогда, когда на тебя низойдёт благодать Божия, но не раньше, — сурово ответила Нехушта. — Этот свет рождается изнутри.
Кусты вдруг раздвинулись, перед ними предстал ессей Самуил.
— Кого ты ищешь? — спросила Нехушта, не узнавшая его.
— Благородного римлянина Марка, — ответил он, — у меня к нему послание. Это он?
— Да, я, — ответил Марк. — Кто тебя послал?
— Царица ессеев, Мириам, — ответил он.
И Марк и Нехушта вскочили на ноги.
— Чем ты можешь удостоверить, что это так? — медленно, с трудом выговаривая слова, спросил Марк.
Самуил вытащил из-под одежды перстень и вручил его Марку.
— Вы узнаете этот знак?
— Узнаю. Второго такого перстня на свете нет. Есть ли у тебя ещё что-нибудь?
— У меня было с собой письмо, но оно пропало. Римские солдаты сняли с меня одежду, в которую оно было зашито, и я так и не смог её отыскать. Но перстень, пока они меня обыскивали, я прятал во рту.
Марк горько застонал, но Нехушта быстро спросила:
— Она велела что-нибудь передать на словах? Рассказывай же, да побыстрее!
Самуил рассказал всё, что ему было известно.
— И сколько времени прошло с тех пор? — спросила Нехушта.
— Месяцев пять. Сто двадцать дней я вместе с другими пленниками работал над сносом стен.
— Пять месяцев? — повторил Марк. — Отправился ли домой Тит?
— Я слышал, что он уже отплыл из Александрии.
— Мириам проведут в триумфальном шествии, а затем продадут с торгов, — сказал Марк. — Нельзя терять времени!
— Нельзя. Но прежде всего мы должны поблагодарить этого верного гонца.
— Да, — сказал Марк. — Скажи, какой награды ты хотел бы. Ведь ты перенёс столько мук, чтобы выполнить поручение. Я заплачу тебе любую, какую назовёшь, сумму. Да, заплачу, хотя сейчас у меня нет с собой ни гроша.
— Мне не надобно никакой награды, — ответил ессей, — я только сдержал обещание и выполнил свой долг.
— И всё же Небо вознаградит тебя! — сказала Нехушта. — А теперь пошли к Итиэлю.
Они быстро вернулись к пещерам, где временно жили ессеи, занимаясь восстановлением своих домов. Итиэль лежал в небольшой, хорошо проветривавшейся хижине. Годы, перенесённые лишения и горести сделали своё дело: Итиэль уже не стоял на ногах и только лежал на тюфяке в ожидании конечного избавления. Выслушав их, он сказал:
— Господь милостив! Я боялся, её нет в живых, ибо зрелище подобного опустошения подрывает мои надежды.
— Возможно, — ответил Марк, — но как ни милостив ваш Господь, Он допускает, чтобы Мириам выставили на Форуме и продали с торгов. Лучше бы ей погибнуть на Никаноровых воротах, чем подвергнуться такой участи.
— Но ведь Господь, — слегка улыбнулся Итиэль, — спасёт её от подобной участи, как уже спас от множества тяжких бед. Чего же ты хочешь, мой господин Марк?
— Хочу получить свободу, в которой мне до сих пор отказывали, Итиэль. Не теряя времени я отправлюсь в Рим. Переплыву через моря, сяду на коня и, надеюсь, поспею к торгам. Я так богат, что могу выкупить Мириам — если, конечно, не опоздаю.
— Чтобы она стала твоей рабыней?
— Нет, моей законной женой.
— Но она не может выйти за тебя замуж, она христианка.
— Тогда я её освобожу; если, конечно, она об этом попросит. Уж лучше, согласись, она попадёт в мои руки, чем в руки первого встречного, которому приглянется её личико.
— Думаю, всё же лучше, — ответил Итиэль, — хотя кто я такой, чтобы высказывать своё суждение? Необходимо немедленно созвать совет и изложить существо дела. Допустим, с её согласия ты её купишь; обещаешь ли ты предоставить ей свободу?
— Обещаю.
Итиэль посмотрел на него каким-то странным взглядом.
— Искушение может быть очень велико, смотри не забудь своего обещания.
Созвали совет кураторов. Когда-то их было сто человек, но в живых осталось всего два десятка, не более; им-то Самуил и повторил свой рассказ. Затем Марк обратился к ним с просьбой об освобождении, чтобы он мог срочно выехать в Рим вместе с Нехуштой и постараться выкупить Мириам. Кое-кто из нерешительных кураторов высказался против освобождения столь ценного заложника, но лежавший на носилках Итиэль крикнул со своего места:
— Неужели соображения своей личной выгоды вы поставите выше блага этой девушки, всеми нами любимой! Сами мы не можем поехать в Рим, так отпустите же туда римлянина, пусть он попробует её спасти.
В конце концов они согласились его освободить и даже дали Марку немного денег из своих скудных сбережений, надеясь, что когда-нибудь он сможет погасить этот долг.
Вечером того же дня Марк и Нехушта простились с Итиэлем.
— Я умираю, — сказал старый ессей. — Ещё до того, как вы доберётесь до Рима, я буду покоиться под этими пустынными песками, я, чья душа давно уже жаждет вечного успокоения. Передайте моей племяннице Мириам, что моя душа будет наблюдать за её душой в ожидании, когда она вознесётся в страну, где нет ни тяжких лишений, ни войн; а пока я, нежно её любящий, прошу, чтобы она не теряла бодрости и ничего не страшилась.
Расставшись с Итиэлем, они помчались на конях в Иоппию; Марк изменил своё имя, чтобы избежать задержания. В Иоппии им посчастливилось сесть на корабль, отплывающий в Александрию, где они пересели на торговое судно, которое направлялось в Региум, и никто даже не поинтересовался, кто они такие.
В ту памятную ночь, когда был дотла сожжён Храм, Халев был оттеснён вместе с зелотом Симоном за мост в Верхний город. Мост они тут же сломали за собой. Халев порывался вернуться назад — в безумной надежде, что в этой дикой суматохе сможет добраться до Никаноровых ворот и освободить Мириам, но римляне уже вступили на мост, евреи торопливо рубили его с противоположной стороны, о возвращении не приходилось даже и думать; к тому же у него были все основания полагать, что Мириам погибла. Халев был в полном отчаянии, ибо при всём своём яростном и своевольном нраве любил Мириам больше всего на свете; и в течение шести дней он искал смерти, принимая участие во множестве заранее обречённых на неудачу вылазок. Но, казалось, смерть избегала его, а на седьмой день он узнал кое-какие новости о Мириам.
Рассказал эти новости человек, который спрятался среди развалин одной из галерей, а затем сумел бежать в Верхний город. Халев узнал от него, что девушку, найденную на Никаноровых воротах, отвели к самому Титу, который приказал заботиться о ней какому-то легионеру. Дальнейшего этот человек не знал. Кто-нибудь другой мог бы усомниться в правдивости его рассказа, но Халев сразу же уверился, что это была Мириам. С того времени он решил оставить — теперь уже совершенно безнадёжное — дело евреев и попытаться найти Мириам, где бы она ни была. Но прошло целых пятнадцать дней, прежде чем он смог исполнить своё намерение.
Наконец Халева поставили командовать отрядом, который охранял крепостную стену; дождавшись, когда его солдаты уснут от полного изнеможения, под прикрытием темноты он спустился в ров на верёвке, которую припас заранее. Во рву валялось множество мертвецов; с одного из них, недавно умершего крестьянина, он снял платье и длинную меховую накидку и тут же переоделся. Спрятав под плащом меч, он благополучно миновал во тьме римские сторожевые посты и бежал вглубь страны. С наступлением дня Халев отрезал себе бороду и накоротко остриг длинные волосы. Встретившись случайно с зеленщиком, которому разрешено было продавать овощи в римском лагере, Халев скупил весь его товар за один золотой, ибо денег у него было более чем достаточно, предупредив этого простого человека, чтобы тот держал язык за зубами, не то он, Халев, непременно его отыщет и убьёт. Довольно искусно подделываясь под речь и поведение крестьянина, ибо Халев вырос на берегах Иордана, он смело вошёл в ближайший же римский лагерь и предложил свои товары для продажи.
Лагерь был разбит перед Дженнатскими воротами, недалеко от Гиппиковой башни. Поэтому никого не удивляло, что, торгуя овощами, он интересовался судьбой девушки, захваченной на Никаноровых воротах. Но никто не мог удовлетворить его любопытство, ибо тот лагерь, где находилась Мириам, помещался на Масличной горе, с другой стороны Иерусалима. В тот день Халев потерпел неудачу, но на другой день, пополнив запасы овощей всё у того же крестьянина, он продолжал свои расспросы; на этот раз он обошёл лагерь, разбитый в долине Гимнона. Так изо дня в день он обходил войска, окружающие город, идя к северу от долины Гимнона, вдоль долины Кедрона; на десятый день он набрёл на небольшой больничный лагерь, размещённый на склоне горы напротив развалин Золотых ворот. Предлагая свои овощи, он разговорился здесь с поваром.
— Неплохие овощи, — с видимым удовольствием оглядывая корзину, похвалил повар. — Жаль, друг, что ты не притащил своего товара в то время, когда нам так нужны были овощи и фрукты, а найти их в этой пустынной, разорённой стране смерть как трудно.
— Почему? — с напускным равнодушием спросил Халев.
— У нас жила пленница; она была еле жива от перенесённых ею мук, даже в уме повредилась; есть она почти ничего не хотела, от мяса отворачивалась и просила рыбы, которой у нас, конечное дело, не было, да овощей и фруктов.
— Как её зовут? — спросил Халев. — Как она к вам попала?
— Не знаю, как её зовут. Мы звали её Жемчужиной, потому что она всегда носила жемчужное ожерелье и ещё потому, что она была бела и прекрасна, точно жемчужина. Прекрасна — и так мила и ласкова, хоть и больна, что все легионеры, даже самые среди них грубые, с проломленной головой, любили её. Тем более что этот старый медведь Галл следил за ней так, будто она была его дочкой.
— Да? И где же эта прекрасная госпожа? Я хотел бы продать ей свой товар.
— Покинула нас, покинула нас, мы так о ней жалеем.
— Уж не умерла ли? — спросил Халев встревоженно. — Неужели умерла?
Толстяк повар спокойно оглядел его.
— Странно, что ты так интересуешься нашей Жемчужиной, торговец, — сказал он. — И если присмотреться, ты не очень-то и похож на зеленщика.
Халев с усилием овладел собой.
— Ещё недавно я был не таким бедняком, как сейчас, друг, — ответил он. — Но как ты знаешь, в последнее время колесо фортуны сделало немало оборотов.
— Да, и многих раздавило.
— Я интересуюсь ею потому, — продолжал Халев, как бы не слыша его слов, — что упустил такую хорошую возможность распродать свои товары.
— Что верно, то верно, друг. Несколько дней назад Галл повёз Жемчужину в Тир, откуда она должна переправиться в Рим. Может быть, ты попробуешь её догнать и всучить ей свой нераспроданный лук.
— Может быть, — ответил. Халев. — После того как вы, римляне, уйдёте, продавать овощи будет некому, разве что совам и шакалам, но у них нет денег. Ни одного живого существа не останется.
— Что и говорить, — подтвердил повар, — цезарь у нас лихой метельщик, метёт дочиста. — И он с благодушным видом показал на развалины Храма. — Сколько за всю корзину?
— Возьми их так, друг, — ответил Халев, — можешь их перепродать за хорошую цену. И никому не говори, что они достались тебе даром.
— Хорошо, никому не скажу. Счастливо, господин Зеленщик, счастливо!
Повар провожал Халева внимательным взглядом, пока тот не исчез за большими стволами олив.
«Что это он так расщедрился? — недоумевал он. — Бесплатно отдал овощи, да ещё и римлянину! Уж не брат ли он Жемчужины? Нет, судя по глазам, нет, скорее её возлюбленный. Но это дело не моё, овощи, хоть и не он их выращивал, свежие и сочные, а это для меня главное».
В тот вечер, когда в сгущающихся сумерках Халев, всё ещё в крестьянской одежде, переваливал через холмы, рядом с дорогой в Тир, до него донёсся из Иерусалима тысячеголосый вопль, предсмертный вопль его родного народа. Над ещё не до конца разрушенными кварталами города взвивались высокие языки пламени. Тит захватил крепостные стены, и тысячи евреев гибли под мечами его легионеров или в огне ярко пылающих домов. Около девяноста тысяч ещё оставшихся в живых согнали, как скотину, во двор Женщин. Более десяти тысяч из них умерли от голода, ещё часть отобрали для участия в триумфальном шествии и в гладиаторских боях в Кесарии и Берите, но большинство отправили в Египет, где они были обречены, вплоть до самой смерти, трудиться в рудниках среди пустыни. Так свершилось окончательное разрушение Иерусалима и исполнилось пророчество: «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях... и там будете продаваться врагам вашим в рабов и рабынь, и не будет покупающего»
[57]. Так Ефрем возвратится в Египет
[58], откуда он отравился в Землю Обетованную, пока не наполнилась чаша его грехов. И превратилось это место в безлюдную пустыню; все её прелестные уголки разорены, все её укреплённые города разрушены, и над их руинами и костями их детей реют орлы цезаря. Война в Иудее закончилась, воцарился мир.
Solitudinem faciunt pacem apellant[59].
Достигнув Тира, в последних лучах закатного солнца Халев увидел белопарусную галеру, выходящую в море. Въехав в город, он тут же полюбопытствовал, кто отплыл на этой галере, и ему ответили: римский центурион Галл: он везёт с собой больных и раненых, многие сокровища Храма и красивую девушку — по слухам, внучку Бенони, купца этого города.
Поняв, что опоздал, Халев горько застонал. Затем он, однако, взял себя в руки и стал размышлять. При всей своей молодости человек он был умудрённый: ещё в самом начале этой долгой войны он распродал свои земли и дома, а всё золото и драгоценности спрятал в доме старого слуги отца, присовокупив к этому всю свою военную добычу, выкуп за захваченного им в плен богатого римского всадника, а также всё, им наторгованное. Забрав все свои богатства, он завернул их в сирийские ковры, так, чтобы они были похожи на обычные тюки с товарами.
С этого времени крестьянин, прибывший в Тир на муле, исчез, а вместо него появился египетский купец Деметрий, который по ночам закупил множество товаров и первым же попутным кораблём отплыл в Александрию. Здесь он закупил ещё большую партию товаров, пользовавшихся хорошим спросом на римском рынке; этого количества было достаточно, чтобы загрузить половину галеры, стоявшей в гавани около Фароса и отправлявшейся в Сиракузы и Региум.
Наконец галера взяла курс на Крит, но зимняя буря отогнала её к Пафосу, что на острове Кипр, где капитан и команда, невзирая на настойчивые упрашивания купца Деметрия, решили зазимовать, опасаясь продолжать плавание. Причалив к берегу, они отправились в большой храм, чтобы помолиться и принести жертвы Венере за то, что она спасла их от гибели в волнах, пополнив тем самым сонм её почитателей.
Но Деметрий, хоть и сопровождал их, боясь, как бы они не заподозрили, что он еврей, проклинал в глубине души Венеру, зная, что моряки продолжали бы путь, если бы не стремились снискать благорасположение богини, тогда как он поклонялся иной богине. Но других кораблей не было, и ему пришлось задержаться на острове более трёх месяцев, деля это время между Курием, Амафосом и Саламисом, с большой для себя выгодой торгуя с богатыми киприотами; купленным здесь вином и медью он загрузил всё ещё остававшееся место на галере.
Наконец после большого весеннего праздника — более раннее время капитан считал неблагоприятным для отплытия — они поставили паруса и добрались мимо Родоса до Крита, а оттуда — через Китеру — до Сиракуз в Сицилии и только потом уже до Региума. Там купец Деметрий перегрузил свои товары на корабль, отплывавший до порта Центум Целле, а оттуда уже доставил их в Рим, находившийся на расстоянии сорока миль.
Глава VI
ЦЕЗАРИ И ПРИНЦ ДОМИЦИАН
Достигнув окрестностей Рима, центурион Галл сделал привал, ибо не хотел в самый разгар дня вести Мириам по улицам Рима, опасаясь нежелательных расспросов. Отсюда, с места стоянки, он послал гонца к своей жене Юлии, поручив ему найти её, — если она, конечно, жива, — Галл отсутствовал несколько лет и не имел о ней никаких сведений, — и сообщить ей о своём скором прибытии вместе с девушкой, вверенной ему на попечение Титом. Гонец возвратился ещё до темноты, а с ним явилась и сама Юлия — женщина седоволосая, пожилая, но всё ещё красивая и статная.
Галл и Юлия были женаты почти тридцать лет, долгое время не виделись, и Мириам была растрогана теплотой их встречи, особенно радостной для Юлии, которая получила известие не о том, что её муж ранен, а о его смерти. От внимания Мириам не ускользнуло, что её друг и покровитель Галл поднял руки к небу и возблагодарил богов за то, что его жена жива и здорова, тогда как Юлия просто сказала: «Благодарю тебя, Господи!» — и притронулась к груди пальцами.
Устремив на неё внимательный взгляд, пожилая матрона не без некоторого сомнения спросила:
— Каким образом, муженёк, эта прелестная пленная еврейка — если она еврейка — оказалась на твоём попечении?
— Так повелел цезарь Тит, жёнушка, — ответил он, — которому я и должен передать её по его прибытии. Она была прикована к колонне над Никаноровыми воротами, приговорённая к смерти, как предательница еврейского народа и назареянка.
Юлия вздрогнула.
— Стало быть, ты христианка? — спросила она изменившимся голосом, как будто случайно скрещивая руки на груди.
— Да, матушка, — ответила Мириам, повторяя тот же знак.
— Хорошо, хорошо, муженёк, — сказала Юлия. — Историю этой девушки ты расскажешь мне потом. Кто она — предательница еврейского народа или христианка, — не наше с тобой дело. Во всяком случае, она на твоём попечении и я рада её приветствовать. — И подойдя к Мириам, стоявшей с опущенной головой, она поцеловала её в лоб и сказала:
— Приветствую тебя, милая и такая несчастная доченька, — и еле слышно добавила: — От имени
Того, кому ты поклоняешься.
Мириам с радостью поняла, что её будущая покровительница — христианка, и также возблагодарила Господа. За то время, пока цезари восседали на римском троне, христиане разного происхождения и положения в обществе сплотились в одну дружную семью.
С наступлением темноты они вошли в Рим через Аппиевы ворота. Здесь они разделились на две группы: Галл вместе с конвойными пошёл сопровождать привезённые сокровища, которые ему предстояло передать казначею, затем он должен был отвести своих солдат в предназначенный для них лагерь, а Юлия с Мириам с небольшим эскортом направились в небольшой дом Галла, находившийся на чистой, но узкой и многолюдной улочке над Тибром. У дверей своего жилища Юлия отпустила эскорт.
— Уходите. Я отвечаю за безопасность этой пленницы, а вы можете не тревожиться.
Солдаты с радостью повиновались, ибо мечтали отдохнуть после долгого и трудного путешествия. Слуга впустил обеих женщин в дом и запер за ними дверь; через маленький двор Юлия провела Мириам в гостиную в конце дома. Здесь горели висячие бронзовые лампы, и Мириам увидела, что комната чистая и уютная, хотя и не очень богато убранная.
— Это мой собственный дом, дочка, — объяснила Юлия. — Достался мне в наследство от отца. Тут я и жила все эти долгие годы, пока мой муж воевал на Востоке. Местечко довольно скромное, но тихое и безопасное и, как я надеюсь, уютное... Бедное дитя! — ласково договорила она. — Я, христианка, хоть и мой муж пока что ничего не знает об этом, приветствую тебя от имени Господа нашего!
— И я благодарю тебя от имени Господа, — ответила Мириам. — Здесь, в Риме, я бесправная рабыня, не имеющая никаких друзей.
— Такие, как ты, без друзей не останутся, — сказала Юлия. — И, если ты не возражаешь, я надеюсь быть в их числе. — По знаку старшей из них они преклонили колени и мысленно вознесли благодарственные молитвы: Юлия за то, что муж вернулся целый и невредимый, Мириам — за то, что судьба привела её в дом христианки.
Затем они поели; еда была простая, но хорошо приготовленная и поданная в красивой посуде. Когда они встали из-за стола, Юлия отвела Мириам в отведённую ей свежепобеленную, с беломраморным полом каморку. Освещалась она из внутреннего дворика через высокое решетчатое оконце. Здесь было так же опрятно и уютно, как во всём доме.
— Когда-то тут спала другая девушка, — вздохнула Юлия, глядя на белую кровать в углу.
— Да. Ваша единственная дочь по имени Флавия, — подхватила Мириам. — Не удивляйтесь, я так много о ней слышала, что как будто бы хорошо её знаю, хотя она и покинула этот мир.
— Тебе рассказал о ней Галл? — спросила Юлия. — Ом говорит о ней очень редко.
— Да, Галл, — кивнула Мириам. — Видите ли, он был очень добр ко мне, и мы подружились, да благословит его Небо за всё, что, он для меня сделал. Хотя и кажется, будто он грубоват в обхождении, но сердце у него доброе.
— Да благословит Небо всех нас, и живых и уже опочивших! — воскликнула Юлия. И, расцеловав Мириам, оставила её отдыхать.
Когда наутро Мириам вышла из своей спальни, первым, кого она увидела, был Галл: он стоял в своих начищенных до блеска, хотя и хранящих многие вмятины от ударов, доспехах, наблюдая за струёй воды, которая лилась из свинцовой трубы в небольшой бассейн.
Он поздоровался и сказал:
— Ты так долго ночевала в шатрах; надеюсь, ты хорошо отоспалась под моей крышей?
— Очень хорошо, — ответила она, — но почему вы надели свои доспехи здесь, в мирном Риме?
— Через час я должен предстать перед цезарем.
— Значит, Тит уже вернулся? — поспешно спросила она.
— Нет, я должен предстать не перед ним, а перед его отцом Веспасианом, для того чтобы доложить ему о положении дел в Иудее перед нашим отплытием, о привезённых мною сокровищах и о тебе.
— О, Галл, неужели он заберёт меня из вашего дома?
— Не знаю. Надеюсь, нет. Но кто может сказать с уверенностью? Всякое может прийти ему в голову. Но если он прислушается к моему мнению, ты навсегда останешься здесь, клянусь!
И, опираясь на копьё, ибо нога его так сильно усохла от раны, что уже не было надежды на исцеление, он побрёл ко дворцу цезаря.
Возвратился он часа через три. Обе женщины нетерпеливо его ожидали. Когда он прошёл через калитку в стене во двор, где они находились, Юлия внимательно всмотрелась в его лицо.
— Не бойся, — сказала она. — Когда Галл является с таким торжественным видом, значит, он принёс хорошие новости; если же новости плохие, он улыбается и шутит. — Она взяла своего мужа за руку и через привратницкую отвела его в атрий
[60].
— Какие новости, муженёк? — спросила она, затворив дверь, чтобы никто не мог подслушать их разговор.
— Прежде всего, хочу тебе сообщить, что я навсегда отвоевал: осмотрев мою ногу, врачи заявили, что ранение неизлечимое, и меня отправили в отставку. Почему ты не рыдаешь, жёнушка?
— Потому что я радуюсь, — спокойно ответила Юлия. — Тридцать лет кровопролитных сражений — более чем достаточно для любого. Ты уже выполнил свой воинский долг. Судьба пощадила тебя, и ты можешь теперь отдохнуть; в твоё отсутствие я тут кое-что сберегла, голодными не останемся.
— Да, да, жёнушка, но дела не так плохи, как ты полагаешь; Веспасиан — человек милостивый; довольный моим отчётом, он определил мне половинное жалование пожизненно, не говоря уже о том, что мне будет выдано наградное пособие и я получу свою законную часть добычи. И всё же мне жаль, что я никогда больше уже не подниму копья.
— Не сожалей, Галл, это к лучшему. Но что будет с девушкой?
— Выполняя свой долг, я доложил о ней; её тут же захотел видеть Домициан, сын цезаря; он попросил отца приказать, чтобы её доставили во дворец. Веспасиан уже готов был согласиться, но вдруг передумал. Воспользовавшись его молчанием, я поспешил сказать, что она всё ещё очень больна и нуждается в заботе и уходе и, если такова будет его воля, моя жена будет за ней присматривать вплоть до возвращения Тита, чьей законной добычей она является. Домициан снова хотел было вмешаться, но Веспасиан твёрдо сказал: «Эта девушка не твоя рабыня, Домициан, и не моя
рабыня. Она рабыня твоего брата Тита. Пусть она поживёт в доме этого достойного человека до его возвращения: он отвечает за неё и собой и всем своим имуществом; в случае же её смерти он обязан будет предъявить все необходимые доказательства». — Он махнул рукой, мол, это дело решённое, и стал расспрашивать меня о подробностях захвата Храма, а затем не поленился сравнить предъявленную мной опись сданного имущества с описью, сделанной казначеем, который его вчера принял... Итак, девушка, пока Тит не прибудет, ты в безопасности.
— Да, — вздохнула Мириам, — пока Тит не прибудет. А после его прибытия?..
— Это ведомо лишь богам, — нетерпеливо перебил Галл. — Но тебе придётся дать честное слово, что ты не попытаешься бежать, ибо я отвечаю за тебя головой.
— Даю слово, — улыбаясь, ответила Мириам. — Я скорее умру, чем навлеку беду на ваш дом. Да и куда мне бежать?
— Не знаю. У вас, христиан, много друзей, да и тайных убежищ больше, чем нор у крыс. И всё же я верю тебе, до прибытия Тита ты можешь пользоваться полной свободой.
— Да, — откликнулась Мириам, — до прибытия Тита.
Почти шесть месяцев, до середины лета, Мириам жила в доме Галла и его жены Юлии. Они относились к ней, как к родной дочери, но счастлива она не была. Да и кто мог бы быть счастлив в мирном сиянии Дня Нынешнего, идя по дороге между двумя тёмными всхолмьями горчайшего горя? Сзади маячила тень ужасного Прошлого, впереди вздымалась чёрная и зловещая тень Будущего, которое могло оказаться ещё более ужасным, если она станет рабыней неизвестного человека. Иногда, скромно одетая, прикрыв лицо от любопытных взглядов, она выходила вместе с Юлией на прогулку и видела богатых римских вельмож — в колесницах, на конях и в паланкинах, всех званий и рангов, надменных, с дерзкими глазами, суровых Государственных мужей или адвокатов, бывалых, жестокого вида военачальников, молодых хлыщей в щегольских одеждах, с надушенными волосами, и всякий раз, когда она думала, что один из них, может быть, станет её хозяином, её прохватывала дрожь. Уж не этот ли богатый, весь лоснящийся купец или этот низкородный вольноотпущенник с хитрой ухмылкой? Этого она не знала, знал только Бог, а ей оставалось одно: уповать на Него.
Однажды, когда она так прогуливалась с Юлией, появились пышно разодетые рабы с жезлами в руках; бранью и ударами они прокладывали себе путь через толпу. Следом шли ликторы с фасциями
[61] на плечах, ехала великолепная колесница, запряжённая белыми конями, которой управлял завитой, надушенный возничий. В ней, явно рисуясь перед всеми, стоял высокий, багроволицый молодой человек в царском облачении, глаза его, как бы в смущении, были потуплены, но он исподтишка рассматривал всех окружающих своими тусклыми, чуть притенёнными веками без ресниц, голубыми глазами. На миг его взгляд задержался на Мириам, и она поняла, что он отпустил какую-то шутку в её адрес; разряженный колесничий, к которому была обращена шутка, рассмеялся. Мириам овладел ужас перед этим человеком, и, когда он проехал, кланяясь в ответ на приветственные крики и, видимо, радуясь внушаемому им страху, Мириам спросила Юлию, кто это такой.
— Домициан, — ответила она, — сын одного цезаря и брат другого, ненавидящий их обоих и мечтающий возложить корону на свою голову. Человек он дурной, и, если случайно окажется на твоём пути, берегись, Мириам.
Мириам вздрогнула.
— С таким же успехом, матушка, вы могли бы посоветовать захваченной врасплох мыши остерегаться бродящего впотьмах кота, — сказала она.
— Некоторые мыши прячутся в норах, куда не может пролезть кот, — со значением ответила Юлия, поворачивая обратно к дому.
Всё это время Галл усердно расспрашивал всех прибывающих из Иудеи солдат, не слышал ли кто о Марке, но нет, никто ничего не слышал, и в конце концов Мириам уверилась, что Марк погиб, а вместе с ним и дорогая её сердцу, верная Нехушта, и ей остаётся только уповать, что и её тоже заберёт к себе Господь. Но среди этих мучительных тревог ей было ниспослано одно великое утешение. Правление Веспасиана отличалось сравнительной мягкостью; хотя места сбора христиан и были известны, до поры до времени их оставляли в покое. Вместе с Юлией и другими членами братства Мириам посещала по ночам катакомбы на Аппиевой дороге, и там, в мрачных пещерах, они молились и выслушивали проповеди священников. Великие апостолы, святой Пётр и святой Павел, уже приняли мученический венец, но после них осталось много проповедников, самые прославленные из них скоро узнали и полюбили бедную пленницу, обречённую на рабство. Поэтому и здесь Мириам нашла друзей и утешителей.
Со временем Галл узнал, что и его жена тоже исповедует новую веру, что привело его в большое уныние. В конце концов, однако, пожав плечами, он сказал, что она человек взрослый и может сама решать, какую веру ей исповедовать, он только надеется, что никакого вреда из этого не проистечёт. С большим интересом выслушал он изложение основных принципов христианства. До тех пор он никогда не слышал чудесной истории о воскресении и вечной жизни; тут было над чем подумать ему, человеку, лишившемуся своей единственной дочери. Но хотя он и посещал проповеди и совместные моления братьев, креститься он отказывался, говоря, что слишком стар, для того чтобы возлагать курения на новый алтарь.
Наконец возвратился Тит. Сенат, задолго до его прибытия решивший, что ему будут оказаны триумфальные почести, встретил его за крепостными стенами; там, после свершения древних обрядов, ему и было сообщено о принятом решении. В чествовании цезаря, который совершил великие подвиги в Египте, должен был участвовать и Веспасиан; говорили, что Рим никогда ещё не видел торжества, подобного тому, какое будет устроено в его честь. Тит проследовал в свой дворец, где уединился на несколько недель, чтобы отдохнуть, пока длятся приготовления к великому празднеству.
Однажды рано утром Галла призвали в императорский дворец; вернулся он оттуда с довольным видом, потирая руки, а это, как предупредила Юлия, верный знак дурных новостей.
— В чём дело, муженёк? — спросила она.
— Ничего, ничего, — ответил он. — Мне приказано после обеда отвести Мириам во дворец, где она предстанет перед нашими августейшими повелителями Веспасианом и Титом. Оба цезаря хотят её видеть, чтобы решить, надлежит ли ей участвовать в триумфальном шествии. Если они сочтут её достаточно красивой, ей будет отведено почётное место — она пойдёт одна. Слышишь, жёнушка, одна, перед самой колесницей Тита. Платье на ней будет самое изысканное, — продолжал он, явно нервничая, ибо ни одна из слушательниц не обрадовалась этому известию, — из чистейшего белого шёлка, расшитого серебряными кружочками, с золотым изображением Никаноровых ворот на груди.
При этих словах Мириам горько зарыдала.
— Утри слёзы, дочка, — сказал он с напускной грубостью, хотя хрипота в его голосе свидетельствовала, что он и сам, того гляди, расплачется. — Чему быть, того не миновать. Настало время, чтобы Бог, которого ты так чтишь, явил тебе свою милость. Это было бы только справедливо, ведь ты так часто и ревностно ему молилась в этих норах, куда и шакал не решился бы сунуть нос.
— Надеюсь на Его помощь, — перестав рыдать, ответила Мириам, и её душа смело воспарила в небеса истинной веры.
— Конечно же, Он наш заступник, — поддержала Юлия, ласково гладя её тёмные кудри.
— Тогда, — решительно сказал Галл, доводя свою мысль до её логического завершения, — чего тебе опасаться? Да, тебе предстоит долгая утомительная прогулка под жарким солнцем, среди кричащих толп, которые конечно же не причинят вреда такой прелестной девушке, как ты, а уж там произойдёт то, что назначит тебе твой Бог. Пойдём поедим, чтобы ты выглядела как можно лучше, когда предстанешь перед цезарями.
— Я хотела бы выглядеть как можно хуже, — ответила Мириам, вспомнив о Домициане и его блёклых глазах.
И всё же, в угоду Галлу, она постаралась поесть, а затем, в сопровождении его и Юлии, её отнесли в закрытом паланкине во дворец.
В скором времени — быстрее, чем ей хотелось, — она была уже там; рабы в императорских ливреях помогли ей сойти с паланкина. Она оказалась в большом мощёном дворе, наполненном военачальниками и вельможами, ожидающими аудиенции.
— Это и есть Жемчужина! — воскликнул один из них, и они все столпились вокруг неё и, томимые праздным любопытством, принялись громко её обсуждать.
— Слишком маленькая, — сказал один.
— Слишком худая, — сказал другой.
— У неё слишком крошечные ступни для таких лодыжек, — сказал третий.
— Глупцы! — перебил их четвёртый, хорошо сложенный молодой человек с тёмными обводьями вокруг глаз. — Напрасно вы пытаетесь сбить цену на товар в глазах знатоков. Я утверждаю, что Жемчужина столь же совершенна, как и ожерелье на её шее; может быть, она и невысока, но это не вредит её совершенству; согласитесь, что я тут лучший судья.
— Люций утверждает, что она само совершенство, — заметил один из них, как бы соглашаясь с тем, что его суждение окончательное и не может быть оспорено.
— Да, — продолжал скептически настроенный Люций, — взять хотя одно достоинство, на которое часто не обращают внимания. Посмотрите, какая свежая и упругая у неё кожа. Когда я на неё нажимаю, — он подтвердил свои слова соответствующим действием, — моя рука почти не оставляет никакого следа.
— Зато моя рука оставляет, — произнёс грубоватый голос совсем рядом, — и в следующий миг надушенный судья женской красоты получил от Галла удар локтем между глаз, в самую переносицу. С такой силой и ловкостью был нанесён этот удар, что в следующий миг Люций лежал на спине на мощёном дворе, а из его ноздрей хлестала кровь. Большинство засмеялись, но кое-кто и возмущённо зароптал.
— Расступитесь, друзья, расступитесь, — решительно потребовал Галл. — Мне велено привести эту госпожу к цезарям, проследив, чтобы ни один человек не посмел дотронуться до неё пальцем. Расступитесь же, прошу вас. А если этот скулящий щенок захочет удовлетворения, он знает, где найти Галла. Если ему надо сделать кровопускание, пусть приходит; предупреждаю только, что мой меч оставляет куда более глубокие меты, чем мой локоть.
Все с шутками и извинениями отошли. Мало кто из них не знал, что хромой старый Галл — один из самых неукротимых и опасных бойцов во всём его легионе. Поговаривали, будто он убил в поединках восемнадцать человек, а в молодости даже сразился со знаменитейшим гладиатором того времени, просто так, для забавы, либо потому, что побился об заклад, что победит его. И он действительно его победил, но не убил, а даровал жизнь. Они прошли через длинные, охраняемые солдатами залы и вступили в широкий проход, занавешенный великолепными шторами; здесь их окликнул начальник караула и спросил, какое у них дело. Галл объяснил; тот нырнул за шторы и тут же вернулся обратно, показав знаком, чтобы они следовали за ним. Они прошли через коридор, уставленный бюстами покойных императоров и их супруг, и оказались в круглом мраморном покое, прохладном и освещённом сверху, с потолка. В этой комнате находились три человека: Веспасиан, которого они узнали по спокойному, волевому лицу и седым волосам; Тит, его сын, «любимец всего человечества», худощавый, подвижной и утончённый, с не лишёнными доброты глазами, с саркастической улыбкой, затаённой в уголках рта; и — уже описанный в этой книге — его брат Домициан, на полголовы выше остальных и в более пышном одеянии. Перед тремя августейшими особами стоял церемониймейстер в тёмной мантии; он показывал им наброски отдельных частей триумфальной процессии и тут же, по ходу дела, учитывал высказываемые ими пожелания.
Присутствовали также казначей, несколько военачальников и два-три близких друга Тита.
При их появлении Веспасиан сразу же обратил на них взгляд.
— Приветствую тебя, достойный Галл, — произнёс он искренним, дружеским тоном человека, едва ли не всю жизнь свою проведшего в солдатских лагерях, — приветствую и твою жену Юлию. Так вот она, Жемчужина, о которой мы столько наслышались. Я не считаю себя знатоком женской красоты, но всё же могу сказать, что эта еврейская пленница вполне оправдывает своё прозвище. Узнаешь ли ты её, Тит?
— По правде сказать, нет, отец. Я видел её на руках у Галла; она была такая маленькая и вся закопчённая — ни дать ни взять кукла, вытащенная из пожара. Спору нет, она очень хороша собой и достойна лучшего места в процессии. И цену за неё надо назначить соответственную, тем более что вместе с ней будет продаваться её ожерелье и — запиши это, писец, — богатые владения в Тире и других местах. Эти владения, как особую милость, ей будет позволено унаследовать от её деда, старого рабби Бенони, члена синедриона, погибшего в огне.
Веспасиан вздёрнул брови.
— Каким образом рабыня может стать наследницей Бенони? — спросил он.
— Не знаю, — усмехнулся Тит. — Может быть, на твой вопрос ответит Домициан. Он ведь изучал юриспруденцию, так он, во всяком случае, утверждает. Но такова моя воля.
— Раб, — принял его вызов Домициан, — не обладает никакими правами, в том числе и правом собственности, но цезарь, Покоритель Востока, — тут он ухмыльнулся, — может объявить, что такие-то земли и такое-то имущество отойдут вместе с рабыней к её покупателю. Как я понимаю, цезарь Веспасиан, мой отец, именно так и хочет поступить цезарь Тит, мой брат, в этом конкретном случае.
— Да, — спокойно произнёс Тит, хотя лицо его вспыхнуло, — именно так я и намереваюсь поступить, Домициан. Стало быть, моего повеления достаточно?
— О, Покоритель Востока, — ответил Домициан. — Разрушитель горной твердыни, называвшейся Иерусалимом, куда более неприступной, чем Троя с её высокими башнями, истребитель великого множества заблудших фанатиков, твоего повеления вполне достаточно в любом деле. И всё же я прошу у тебя дара, о цезарь. Будь столь же великодушен, сколь ты велик. — И со скрытой усмешкой в глазах он опустился на колено перед Титом.
— Какого же дара ты просишь у меня, брат? — спросил Тит. — Ты же знаешь, что всё, чем я владею, твоё... или же будет твоим.
— Дара, которого ты мне только что пообещал, Тит. Из всего, чем ты владеешь, — а у тебя есть многое, — я прошу только эту Жемчужину, которая мне понравилась. Только девушку — и ничего больше: её имение в Тире ты можешь оставить себе.
Веспасиан поднял глаза, но, прежде чем он успел открыть уста, Тит уже ответил:
— Я же сказал, Домициан, «всё, чем я владею». Но этой девушкой я не владею, потому мои слова к ней не относятся. Я уже объявил, что вся выручка от продажи рабов будет разделена поровну между ранеными солдатами и римскими бедняками. Поэтому она составляет их собственность. Я не могу их ограбить.
— Какой благородный человек! Даже в угоду своему брату не хочет снять с продажи одну-единственную рабыню из тысяч! Не удивительно, что легионы так его обожают, — сыронизировал Домициан.
— Если тебе нужна эта девица, — продолжал Тит, не обращая внимания на оскорбление, — торги открыты для всех — купи её. Это моё последнее слово.
Домициан вдруг вспылил, выражение напускной скромности сбежало с его лица, он выпрямился во весь рост и, оглядывая всех своими недобрыми блёклыми глазами, прокричал:
— Я обращаюсь не к тебе, Цезарь Малый, а к тебе, Цезарь Великий, не к тебе, истребитель отважного варварского племени, а к тебе, завоеватель Мира! Цезарь Тит провозгласил, что всё, чем он владеет, моё. Но когда я прошу подарить мне одну-единственную пленницу, отказывает. Вели же ему, чтобы он сдержал своё слово.
Военачальники и писцы подняли головы, удивлённые тем, что ничтожное, казалось бы, обстоятельство обрело вдруг большую важность. Долгое время тлевшая вражда между двумя братьями прорвалась вдруг жгучим пламенем.
Лицо Тита сразу посуровело, помрачнело — он походил теперь на статую разгневанного Юпитера.
— Прошу тебя, отец, — сказал он, — огради меня от оскорблений брата. И вели, чтобы он перестал оспаривать мою волю во всех делах, значительных и незначительных, относящихся к моей собственной компетенции. И уж если он обращается к тебе как к цезарю, вынеси своё решение как цезарь не только по поводу этого дела, но и по поводу всех других, ибо между мной и братом есть много такого, что нуждается в ясном разграничении.
Веспасиан был в некотором смятении, но, видя, что не может уклониться от ответа и что эта ссора вызвана глубокими подспудными причинами, заговорил со свойственной ему решительностью и прямолинейностью.
— Сыновья, — сказал он, — поскольку вы должны унаследовать от меня мир, оба вместе или один за другим, ваша ссора представляется мне недобрым знаком, ибо от случайных проявлений вашей вражды могут зависеть ваши собственные судьбы и судьбы народов. Прошу вас: помиритесь! Достаточно уже сказанного. А что до этого конкретного дела, то вот вам моё решение. Эта прелестная девушка, как и вся военная добыча, захваченная Титом в Иудее, является собственностью Тита. Тит гордится тем, что никогда не отступает от своих слов, а он уже объявил, что она будет продана и вырученные за неё деньги будут разделены между ранеными солдатами и бедными. Следовательно, он не может её подарить даже родному брату. Поэтому, как и Тит, я говорю тебе, Домициан: если тебе так нужна эта девушка, прикажи одному из своих слуг купить её на торгах.
— Хорошо, я куплю её, — взорвался Домициан, — но клянусь, что рано или поздно Тит за это заплатит куда более высокую цену, чем ему хотелось бы. — Он повернулся и, сопровождаемый своим писцом и старшим телохранителем, оставил зал для аудиенций.
— Что он хотел сказать? — спросил Веспасиан, встревоженно оглядываясь.
— Он хотел сказать... — начал было Тит и тут же замолк. — Время покажет миру, что он хотел сказать, время — и моя судьба. Да будет так. Что до тебя, Жемчужина, так дорого обошедшаяся цезарю, то ты ещё прелестнее, чем я полагал, и тебе будет отведено лучшее место в процессии. Ради твоего же блага я надеюсь, что найдётся человек, который предложит за тебя более высокую цену, чем Домициан. — И в знак того, что аудиенция закончена, он махнул рукой.
Глава VII
ТРИУМФ
Миновала ещё неделя, и вот уже подошёл день Триумфа. Накануне этого великого дня в дом Галла явилась швея, она принесла с собой платье для Мириам. Платье было великолепно — из белого шёлка, с нашитыми на него серебряными кружочками и с изображением Никаноровых ворот, но с таким глубоким вырезом, что Мириам было стыдно его надеть.
— Ничего, ничего, — подбодрила её Юлия. — Швея скроила его так, чтобы все видели жемчужное ожерелье, которому ты обязана своим прозвищем. — Но про себя она подумала: «Какой чудовищный век! Как чудовищны люди, чьи глаза могут упиваться унижением бедной одинокой девушки! Видно, моему народу суждено до дна испить чашу подлости!»
В тот же день пришёл и помощник церемониймейстера, он передал Галлу распоряжение относительно его подопечной. Он принёс также пакет, где оказался дивный золотой поясок-цепочка. На аметистовой застёжке были вырезаны слова: «Дар Домициана той, что завтра будет принадлежать ему».
Мириам отбросила поясок, как змею.
— Я не надену его, — заявила она. — Ни за что не надену. Сегодня я по крайней мере ещё принадлежу себе.
Юлия застонала, Галл пробурчал какое-то проклятие.
Вечером, в знак сочувствия к Мириам, оказавшейся в столь отчаянном положении, её посетил один из старейшин христианской церкви в Риме, епископ Кирилл, друг и ученик апостола Петра. Бедная девушка излила ему всё своё горе.
— О мой отец, мой отец во Христе, не принадлежи я к лону нашей священной веры, я лучше покончила бы с собой, чем подвергнулась такому унижению. Пока в опасности было лишь моё тело, это только полбеды. Но когда в опасности... Вы, внимавший слову самого Господа, сжальтесь надо мной, подскажите мне, что делать.
— Дочь моя, — ответил этот задумчивый, исполненный смирения человек, — ты должна уповать на Господа нашего. Не Он ли спас тебя в Тире? Не Он ли спас тебя на улицах Иерусалима? Не Он ли спас тебя на Никаноровых воротах?
— Да, спас, — ответила Мириам.
— Точно так же, дочь моя, спасёт он тебя и на невольничьем рынке здесь, в Риме. У меня есть к тебе доверительное послание, вот оно: ты будешь избавлена от всякого позора. Ступай же своей тропой, испей приготовленную для тебя чашу и ничего не бойся: пока Господь не призвал тебя к себе, в трудную минуту Он всегда будет посылать тебе своего Ангела.
Мириам смотрела и смотрела на него; на её душу низошли покой и мир, покой и мир засияли в её кротких глазах.
— Я слышала слово Господа, переданное мне устами Его посланца, — сказала она, — и отныне не боюсь ничего и никого, даже Домициана.
— Уж кого-кого, а этого отродья Сатаны, которому Сатана заплатит его собственной монетой, ты можешь не бояться.
Подойдя к двери, он подозвал Юлию, и они оба долго и ревностно молились вместе с Мириам; стоя снаружи, Галл внимательно наблюдал за ними. По окончании молитвы епископ поднялся с колен и благословил её.
— Я оставляю тебя, дочь, — сказал он на прощание, — но моё место незримо займёт другой. Веришь ли ты в это?
— Я уже сказала, что верю, — прошептала Мириам. В те времена ещё жили люди, воочию зревшие Христа; Его голос ещё звучал живым эхом по всему миру, и Его последователи с их незыблемой верой не сомневались, что по слову своего повелителя Его ангелы низойдут на землю, для того чтобы снасти Мириам.
Епископ Кирилл ушёл, и в ту ночь из многих катакомб возносились к Небесам молитвы за Мириам, которая была в великой опасности. И эту ночь она проспала мирным сном.
За два часа до рассвета Юлия разбудила девушку и помогла облачиться в сверкающее, но столь ненавистное ей платье. Когда всё уже было готово, она со слезами простилась со своей дорогой гостьей.
— Ах, дитя, дитя, — сказала она, — ты стала мне как родная дочь, но я не знаю, как и когда мы увидимся снова.
— Это может случиться скорее, чем ты думаешь, — ответила Мириам. — Но если нам не суждено больше свидеться и я говорю с тобой в последний раз, благословляю тебя за то, что ты относилась по-матерински к беспомощной и чужой тебе девушке. Да, я благословляю тебя и Галла, моего верного защитника...
— Который надеется, дорогая, и впредь быть твоим верным защитником, — перебил её Галл. — В твоём присутствии я не могу клясться своими богами, но я клянусь нашими Римскими орлами, что не дам тебя в обиду даже Домициану. Ему-то я не обязан хранить верность, пусть он поостережётся: меч возмездия, случается, настигает даже и принцев.
— Да, Галл, — кротко сказала Мириам. — Но если такое и произойдёт, пусть это будет не твой меч; надеюсь, у тебя не будет повода помышлять о возмездии.
Носильщики, сопровождаемые стражниками, внесли во двор паланкин, Мириам села в него, и они отправились на общее сборное место, около Триумфальной дороги. Ещё стояла ночная темнота, но весь Рим уже пробудился. Повсюду сверкали факелы, изо всех домов, со всех улиц слышался громкий гомон; огромный город готовился к величайшему празднеству, которое когда-либо доводилось видеть его обитателям. Уже в это раннее время на улицах была сильная толкучка, и солдатам кое-где приходилось прокладывать себе путь силой; люди спешили занять лучшие места вдоль всего маршрута шествия, на деревянных помостах, у окон, на балконах снятых для этой цели домов или на их крышах.
По блеску воды внизу и по особенно густой толпе Мириам поняла, что они пересекли узкий мост через Тибр. Дальше они пошли по сравнительно открытой местности, пока не остановились у ворот какого-то большого здания, где ей приказали слезть с паланкина. Галл под расписку передал её распорядителям празднества. Брясь, видимо, расчувствоваться, тем более в присутствии официальных лиц, он повернулся и, не сказав ни одного прощального слова, зашагал прочь.
— А ну пошли, — велел Мириам один из стражников, но писец, оторвав глаза от таблички, поспешил его осадить:
— Эй, ты, обращайся поласковей с этой девушкой, а то как бы не пришлось тебе горько пожалеть о своей грубости. Это та самая пленница Жемчужина, из-за которой цезари поссорились с Домицианом; о ней говорит сейчас весь Рим. Так что, повторяю, будь с ней поласковей; много свободнорождённых принцесс стоят нынче куда дешевле, чем она.
Поклонившись чуть ли не с уважением, стражник попросил Мириам следовать за ним в отведённое ей место. Она повиновалась, и они протиснулись через густую толпу людей; в предутренних сумерках Мириам могла только разглядеть, что все они, как и она, пленники. Стражник ввёл её в небольшую каморку и оставил одну. В зарешеченное оконце просачивались первые лучи света, доносился многоголосый гул, перемежаемый горестными всхлипами и рыданиями. Дверь отворилась, вошёл слуга с хлебом на блюде и кувшином молока. Она взяла это с благодарностью, ведь ей надо было подкрепить силы перед долгим, утомительным шествием, но едва она принялась за еду, как вошёл раб в императорской ливрее; он нёс поднос, уставленный серебряными блюдами с изысканными яствами.
— Госпожа Жемчужина, — сказал он, — мой хозяин Домициан посылает тебе свои приветствия и эти дары. Блюда отныне твои, их сберегут для тебя, но он велел мне добавить, что сегодня вечером ты будешь ужинать на золотых блюдах.
Мириам ничего не ответила, хотя ответ и вертелся у неё на языке, но после ухода лакея она тут же опрокинула пинком поднос, и все яства вывалились на пол, а блюда со звоном раскатились в разные стороны. Затем она продолжила свою скромную трапезу, досыта наевшись хлеба и молока.
Едва она поела, как появился распорядитель и вывел её на большую площадь, где её поставили среди многих других пленников. К этому времени уже взошло солнце, и она увидела перед собой красивое здание, а под ним — римских сенаторов в пышных тогах, патрициев, всадников
[62], принцев из разных стран с их свитами — изумительное и впечатляющее зрелище. Перед галереями, примыкавшими к зданию, стояли два трона из слоновой кости, вправо и влево от них, насколько хватал глаз, уходили шеренги в тысячи и тысячи солдат; Мириам находилась на возвышенном месте и хорошо видела, что сенат, всадники и принцы стоят перед ними и двумя тронами. Немного погодя из галереи в шёлковых тогах и лавровых венках показались цезари Веспасиан и Тит, а также Домициан, все со своими свитами. Солдаты приветствовали их громким торжествующим криком, подобным реву моря, пока цезари усаживались на свои троны, этот крик всё набирал и набирал силу и замолк только после того, как Веспасиан встал и поднял руку.
Наступила тишина; прикрыв голову краем тоги, Веспасиан помолился; то же самое сделал и Тит. Затем Веспасиан обратился к солдатам, поблагодарил их за проявленную отвагу и обещал им всем награды, на что они ответили таким же громовым, как и в первый раз, криком, после этого солдат увели на приготовленное для них пиршество. Цезари скрылись, и распорядители начали выстраивать процессию, ни начала ни конца которой Мириам не видела. Она только знала, что перед ней, по восемь в ряду, пойдёт большая, в две тысячи человек колонна связанных между собой пленных евреев, за ними — несколько женщин, она, Мириам, будет одна, а за ней, также один, последует смуглый, мрачного вида человек в белом одеянии и пурпурной тоге, с золотой цепью на шее.
Его лицо показалось Мириам знакомым. Она напрягла память — и мысленно увидела синедрион, восседающий в храмовой галерее, а перед ним — самое себя. Этот человек, вспомнила она, сидел рядом с Симеоном, который смотрел на неё с такой ненавистью и осудил её на жестокую смерть; кто-то из окружающих назвал его Симоном, сыном Гиоры, значит, он не кто иной, как не знающий пощады предводитель, которого евреи впустили в город, чтобы он укротил зелота Иоанна Гисхальского. С того дня она ничего о нём не слышала, и вот они встретились, палач и его жертва, пойманные в одну сеть. В тесноте они оказались совсем близко друг от друга, и он её узнал.
— Ты Мириам, внучка Бенони? — спросил он.
— Да, я та самая Мириам, — ответила она, — которую ты и твои присные, Симон, осудили на жестокую смерть, однако я была спасена...
— Чтобы участвовать в триумфальной процессии? Лучше бы ты умерла, девушка, от рук своего собственного народа!
— Лучше бы ты сам погиб, Симон, от своих собственных рук или от рук римлян!
— Я ещё успею умереть. Не бойся, женщина, ты будешь отомщена.
— Я не ищу мести, — сказала Мириам. — Как ты ни жесток, я всё равно скорблю, что человека, столь высоко вознесённого судьбой, постигла подобная участь.
— Я тоже скорблю об этом. Твой дед, старый Бенони, избрал себе лучшую долю.
Их разъединили солдаты, и больше они не разговаривали.
Через час процессия двинулась по Триумфальной дороге. Мириам видела лишь небольшую её часть: перед ней ряд за рядом шли связанные пленники, позади неё императорские прислужники несли на больших блюдах и подносах золотую храмовую утварь, семисвечник и священную древнюю книгу — Еврейский канон. Другие высоко вздымали на руках образы Победы, изваянные из слоновой кости и золота. До Триумфальных ворот цезари, сопровождаемые ликторами с фасциями, перевитыми лавром, ехали, не присоединяясь к общей процессии. Впереди на великолепной раззолоченной колеснице, запряжённой четвёркой белых коней, которых вели ливийские солдаты, ехал Веспасиан. За ним неотступно шёл раб в скромной, неприметной одежде, надетой для предотвращения сглаза и отвлечения внимания завистливых богов; держа корону над головой императора, он вновь и вновь шептал ему на ухо зловещие слова: «Respice post te, hominem memento te» («Оглянись на меня и вспомни, что ты смертен»). За отцом, в серебряной колеснице, с нарисованной на передке картиной Священного дома евреев, объятого пожаром, ехал цезарь Тит. Как и отец, он был облачен в расшитую золотом тогу и тунику, отделанную серебряными листьями; в правой руке — лавровая ветвь, в левой — скипетр. И за ним тоже поспешал раб, нашёптывая ему слова о бренности рода человеческого.
За колесницей Тита, чуть в стороне и настолько близко, насколько позволял обычай, в пышном одеянии и на великолепном скакуне ехал Домициан. Затем следовали трибуны и всадники, на конях, а за ними большой, в пять тысяч человек, отряд легионеров с копьями, увитыми лавром.
Процессия уже пересекала Тибрский мост и назначенным маршрутом двинулась по широким улицам, мимо дворцов и храмов, направляясь к конечной своей цели — святыне Юпитера Капитолийского, в самом начале Священной дороги, за Форумом. Все боковые улочки, прилегающие дома, деревянные помосты и ступени храмов были забиты толпами зрителей. Только сейчас Мириам поняла, какое великое множество людей может вместить большой город. Их были тысячи, десятки тысяч; насколько достигал взгляд, простиралось белое море лиц. Впереди было тихо, но по мере того как продвигалась процессия, сперва поднимался негромкий гул, гул перерастал в общий крик, затем — в рёв, когда же на своих сверкающих колесницах появлялись цезари, этот рёв достигал такой силы, что стены окружающих домов содрогались, как от могучих раскатов грома. И так продолжалось до бесконечности; глаза Мириам заболели от ослепительного сверкания и блеска, голова закружилась от несмолкающего шума и криков.
Процессия часто останавливалась, потому что впереди возникали какие-нибудь помехи её движению или для того, чтобы некоторые её участники могли утолить жажду приносимыми им прохладительными напитками. Тогда зрители, прекращая свои приветствия, принимались отпускать — часто очень злые — шуточки в адрес тех участников процессии, что оказывались рядом. Не щадили они Мириам — так по крайней мере ей казалось. Почти все знали её под прозвищем «Жемчужина» и показывали друг другу на её жемчужное ожерелье. Многие слышали также кое-что об её истории и с любопытством рассматривали изображение Никаноровых ворот, вышитое на её платье. Но большую часть интересовала только её утончённая красота; из уст в уста передавался рассказ о ссоре Домициана с двумя цезарями и о высказанном им намерении купить пленницу с торгов. Разговор шёл всегда один и тот же, только временами более грубый и откровенный, вот и вся разница.
Однажды они остановились на улице, где было много дворцов, недалеко от терм Агриппы. И здесь тоже Мириам подвергли обсуждению, но она, не желая ничего слышать, смотрела по сторонам. Слева стоял беломраморный дом с благородным фасадом; Мириам обратила внимание, что его ставни закрыты и что он не увит цветочными гирляндами, и даже слегка подивилась, что бы это могло значить. Недоумевали и другие, и, когда им надоело обсуждать её внешность, один из плебеев спросил у своего соседа, чей это дом и почему он закрыт в такой торжественный день. Тот ответил, что не помнит имени владельца; это какой-то богатый вельможа, павший на Иудейской войне, а закрыт дом потому, что ещё не ясно, кто его наследник.
Её внимание отвлекли послышавшиеся позади неё стоны, а затем смех. Обернувшись, она увидела, что злосчастный предводитель евреев Симон упал: то ли получил солнечный удар, то ли не выдержал нестерпимых душевных мук или боли, причиняемой ударами прутьев, которыми — на потеху всем собравшимся — его непрерывно угощали жестокие стражники. Теми же ударами прутьев они приводили его в чувство, вот почему зрители смеялись, а жертва горько стонала. С тяжёлым сердцем отвернулась Мириам от этого ужасного зрелища — и вдруг услышала, как какой-то человек в богатой одежде восточного купца — он стоял к ней спиной, и лица его она не видела, — с заметным акцентом расспрашивает одного из распорядителей, верно ли, что пленную Жемчужину продадут вечером с торгов на Форуме. Распорядитель ответил: да, таково повеление относительно её и других женщин, ибо нет такого места, где их можно было бы разместить, поэтому наиболее желательно продать их как можно скорее, чтобы о них позаботились их будущие владельцы.
— Она вам нравится, господин? Вы хотели бы её купить? — поинтересовался он. — В таком случае у вас будут очень высокопоставленные соперники.
— Может быть, может быть, — пожав плечами, пробормотал купец и скрылся в толпе.
И вот тогда, в первый раз за весь этот день, мужество, казалось, изменило Мириам. Сильное утомление, которое она испытывала, гнусные разговоры зрителей, их — ещё более гнусная — жестокость, безразличие, с которым они говорили о продаже человеческих существ, как будто речь шла об овцах или свиньях, страх за себя — всё это таким бременем навалилось на неё, что она почувствовала искушение упасть, словно Симон, сын Гиоры, на мостовую и лежать, распластавшись, пока её не поднимут ударами прутьев. Надежда померкла, вера ослабла. Она горестно размышляла, почему одни люди ради своего удовольствия заставляют так страдать и без того несчастных людей, и раздумывала о том, есть ли у неё хоть какая-нибудь возможность спастись.
И вдруг, точно луч, пробившийся сквозь тучи, мрак её горьких мыслей пронизало чувство радости, столь же сладостное, сколь и неожиданное. Она не знала, ни откуда возникло это чувство, ни что оно предвещает, и всё же это чувство осенило её, и казалось, что его источник где-то совсем рядом. Она обвела взглядом лица толпы: одни выражали жалость, другие — их было больше — любопытство, лица мужчин чаще всего были полны грубого восхищения, лица женщин — презрения к её несчастьям или зависти к её красоте. Ясно было, что это чувство радости исходит не от них. Она возвела глаза к Небесам, полунадеясь узреть там Ангела Божия, который по молитве епископа Кирилла оберегает её от всех бед. Но Небеса глядели на неё таким же пустым бесстыдным взглядом, каким глазели римляне: ни одного облачка не было видно на них, тем более Ангела.
Опустив глаза, она посмотрела на одно из окон мраморного дома налево от неё. Она помнила, что ещё несколько минут назад ставни этого окна были закрыты, но теперь виднелись две тяжёлые шторы из голубого расшитого шёлка. «Странно!» — подумала Мириам и исподтишка внимательно пригляделась к окну. Зрение у неё было острое, и она увидела между штор длинные коричневые пальцы. Медленно, очень медленно шторы раздвинулись, и в просвете показалось лицо — благородное лицо старой темнокожей женщины с седыми волосами. Даже издали Мириам сразу его узнала.
О Небеса! Это Нехушта, Нехушта, которую она считает погибшей или, во всяком случае, навсегда исчезнувшей. Мириам остолбенела. Уж не галлюцинация ли это, порождённая тревогой и возбуждением, которое она испытывает в этот ужасный день? Нет, конечно же, не галлюцинация, сама живая Нехушта смотрит на неё любящими глазами, вот она начертала знак креста в воздухе, символ надежды и знак приветствия, а теперь положила палец на губы, призывая её хранить тайну. Через миг шторы сомкнулись, и Нехушта скрылась так же внезапно, как и за пять секунд до того таинственно появилась.
Мириам почувствовала, что ноги у неё подкашиваются, вот-вот она упадёт, тогда как распорядители громко призывают процессию продолжать путь. Мириам и в самом деле упала бы, если бы какая-то женщина из толпы не протянула ей кубок с вином, сказав при этом:
— Выпей, Жемчужина, и твои бледные щёчки засияют ещё ярче, чем прежде.
Слова были грубоватые, но Мириам, присмотревшись, узнала женщину: то была христианка, с которой они вместе молились в катакомбах. Поэтому она не колеблясь взяла кубок и выпила. Тотчас же её силы возродились, и вместе с другими она продолжала этот мучительный и бесконечный путь.
И всё же, примерно за час до захода солнца, шествие закончилось. За день они прошли многие мили, прошли всю Священную дорогу, по обеим сторонам которой стояли бесчисленные святыни и статуи на высоких пьедесталах, и поднимались уже по крутому склону холма, увенчанного прославленным храмом Юпитера Капитолийского, когда в их ряды ворвались стражники и за свободный конец цепи, висевший на шее Симона, отволокли его в сторону.
— Куда они вас ведут? — спросила его Мириам, когда он на миг оказался рядом.
— Куда я хочу, на лобное место, — ответил он.
Цезари сошли со своих колесниц и заняли трон, поставленный для них на самом верху мраморной лестницы, около алтарей, а ниже их, ряд за рядом, на отведённых им местах выстроились все участники триумфального шествия. Наступила долгая тишина. Все чего-то ждали, но Мириам не знала, чего они ждут. Затем от Форума, вверх по оставленной среди толпы тропе, побежали какие-то люди, один из них нёс в руке что-то, завёрнутое в кусок ткани. Добежав до цезарей, он быстро развернул свёрток и высоко — так, чтобы все видели, — поднял перед ними седую голову Симона, сына Гиоры. Эта публичная казнь отважного предводителя их врагов послужила сигналом к окончанию триумфального празднества; при виде этого алого свидетельства победы затрубили трубачи, знаменосцы замахали боевыми знаками, а полмиллиона людей издали победный клич, от которого, казалось, содрогнулись небеса, ибо большинство из них были в упоении от зрелища этого жестокого возмездия.
Последовал призыв к общему молчанию, перед храмом Юпитера закололи жертвенных животных, и цезари возблагодарили богов, даровавших им великую победу.
Так завершилось триумфальное празднество в честь Веспасиана и Тита и была окончательно дописана летопись борьбы еврейского народа против железного клюва и когтей Римского орла.
Глава VIII
НЕВОЛЬНИЧИЙ РЫНОК
Если бы Мириам случайно выглянула из паланкина, когда в предутренних сумерках, в сопровождении Галла и вооружённого эскорта, её проносили мимо храма Исиды, и если бы эти сумерки вдруг рассеялись, она могла бы увидеть двоих людей, скачущих в Рим со всей быстротой, с какой их могли нести измученные кони. Но хотя у обоих была мужская посадка, под восточной одеждой одного из всадников пряталась женщина.
— Судьба благоволит нам, Нехушта, — хриплым голосом произнёс мужчина. — Мы могли опоздать на триумфальное шествие, но поспели вовремя. Смотри, вот они уже собираются за Октавиановым парком. — И он показал на отряды солдат, спешивших к месту своего сбора.
— Да, да, господин Марк, мы поспели вовремя. Это они, Римские орлы, а вот и их добыча. — И, в свою очередь, Нехушта показала на окружённый эскортом паланкин, где скрывалась та самая, любимая ими обоими женщина, которую они искали. — Но куда теперь? Ты тоже хочешь принять участие в триумфальном шествии Тита?
— Нет, женщина, слишком поздно. К тому же я не знаю, как примет меня Тит.
— Как примет? Но ведь ты же его друг, а он, все говорят, верен своим друзьям.
— Может быть, и верен, но только вряд ли тем из них, кто побывал во вражеском плену. В самом начале осады такое случилось с одним знакомым мне человеком. Он попал в плен вместе с напарником. Напарника евреи убили, но, когда они собирались обезглавить его на крепостной стене, он вырвался из рук палача, спрыгнул вниз и бежал, отделавшись небольшими ушибами. Тит пощадил его, но изгнал из легиона. Вряд ли я могу надеяться на что-нибудь лучшее.
— Но ведь ты был захвачен в плен не по своей вине. Ты лишился чувств от удара, да и врагов было слишком много, чтобы ты мог с ними справиться.
— Да, но это не оправдание. Закон, справедливый закон требует, чтобы ни один римский солдат не сдавался в плен. Если же он захвачен в беспамятстве, то, очнувшись, должен покончить с собой, как, без сомнения, поступил бы и я, окажись я в руках евреев. Но судьба судила иное. И всё же, говорю тебе, Нехушта, если бы не Мириам, я ни за что не вернулся бы в Рим — по крайней мере до тех пор, пока Тит не простил бы меня.
— Что же ты предполагаешь делать, господин Марк?
— Вернуться в свой собственный дом, около терм Агриппы. Триумфальное шествие должно пройти мимо моего дома, и, если Мириам среди пленников, мы её увидим. Если же её не окажется среди них, стало быть, её нет в живых или же она продана в рабство, а возможно, и подарена кому-нибудь из друзей цезаря.
На этом им пришлось прекратить разговор, ибо скопление народа было уже так велико, что им приходилось ехать один за другим, впереди Марк, а позади Нехушта. Они пересекли мост через Тибр и проехали много улиц, по
большей части красиво убранных для празднества. Наконец Марк осадил коня возле своего мраморного дома на Виа Агриппа.
— Странное возвращение домой, — шепнул он. — Следуй за мной. — И, объехав дом, он спешился около маленькой боковой двери и постучал. На стук никто не откликнулся, и Марк постучал ещё раз. Через некоторое время кто-то чуть-чуть приотворил дверь, и дребезжащий ворчливый голос произнёс изнутри:
— Кто бы ты ни был, убирайся прочь. Это дом Марка, который погиб на Иудейской войне. Кто смеет меня беспокоить?
— Наследник Марка.
— У Марка нет никаких наследников, кроме цезаря, который несомненно наложит руку на всё его имущество.
— Открой, Стефан, — повелительным тоном сказал Марк и, не дожидаясь ответа, широко открыл дверь и вошёл. — Глупец! — добавил он. — Как же ты, мой домоправитель, не узнаешь голоса своего хозяина?
Сморщенный человечек в коричневой одежде писца, который придерживал дверь, пробуравил его своими острыми глазками и, всплеснув руками, попятился назад.
— Клянусь Марсовым копьём, — запричитал он, — это господин Марк, воскресший из мёртвых. Приветствую вас, господин, приветствую!
Марк провёл своего коня через сводчатый проход во двор и, пропустив Нехушту, запер за ней калитку.
— Почему ты был уверен, что я погиб, друг? — спросил он.
— О, господин, — ответил домоправитель, — потому что все возвратившиеся с войны в один голос уверяли, что вы пропали без вести во время осады этого еврейского города, скорее всего, убиты или взяты в плен. Я хорошо знал, что вы не опозорите свой древний род, своё благородное имя и Орлов, которым вы служите, враги ни за что не возьмут вас живым. Поэтому я не сомневался, что вы погибли.
С горьким смешком Марк повернулся к Нехуште.
— Слышишь, женщина, слышишь? Если таково убеждение моего вольноотпущенного управителя, то каково же будет мнение цезаря и его двора? — сказал он и добавил: — Итак, случилось то, что ты считал невозможным, да я и сам так считал. Хотя и не по моей вине евреи взяли меня в плен.
— Если так, — сказал старый управитель, — скрывайте это, господин, скрывайте от всех. Два несчастных пленника, которых нашли в еврейской темнице, приговорены к позорному наказанию: они пойдут в триумфальной процессии, руки — связаны за спиной, вместо мечей — прялки, а на груди — таблицы с такой надписью: «Я римлянин, который избежал смерти ценой собственного позора». Вряд ли вы захотели бы быть в их компании, господин.
Марк сперва побагровел, затем побледнел.
— Друг, замолчи, — сказал он, — этот разговор не приведёт ни к чему хорошему. Или ты хочешь, чтобы я закололся мечом у тебя на глазах? Прикажи рабам приготовить для нас ванну и еду. Мы должны помыться с дороги и поесть.
— Рабам, мой господин? Здесь нет никого, кроме одной старухи, помогающей мне следить за домом.
— Где же они тогда? — сердито спросил Марк.
— Здесь им нечего было делать, и я послал их обрабатывать ваши поля, а лишних продал.
— Ты всегда был очень бережлив, Стефан. — И, подумав, он спросил: — В доме есть деньги?
Управитель подозрительно покосился на Нехушту и, увидев, что она возится с конями достаточно от них далеко, шёпотом ответил:
— Деньги? У меня их столько, что я не знаю, что с ними делать. Наш тайник — вы о нём знаете — просто набит золотом, а оно всё идёт и идёт, У меня хранится доход от ваших больших поместий за три года, деньги, вырученные от продажи рабов и кое-какого имущества, и большая сумма наконец-то взысканных мной старых долгов, оставшихся ещё со времён господина Кая. Уж в чём, в чём, а в деньгах у вас недостатка не будет.
— Деньги — это ещё не самое ценное, — вздохнул Марк. — И всё же они могут пригодиться. Привяжи лошадей около бассейна и дай нам что-нибудь поесть, ибо мы проскакали тридцать часов без передышки. Потом поговорим.
Был полдень. Марк выкупался, умастился и надел приличествующие его положению одежды; теперь он стоял в одном из великолепных покоев своего мраморного дома, глядя в щель между ставнями на проходящую мимо процессию. К нему присоединилась и старая Нехушта. Она также переоделась в чистое белое платье, принесённое ей служанкой-рабыней.
— Есть ли какие-нибудь новости? — с нетерпением спросил Марк.
— Кое-какие, господин. Я сопоставила то, что известно рабыне, с тем, что известно твоему управителю. Прекрасная еврейская пленница будет участвовать в триумфальной процессии, а затем её продадут с торгов на Форуме. Говорят также, что между Домицианом, его братом Титом и Веспасианом была из-за неё ссора.
— Ссора? Какая ссора?
— Твои слуги мало что об этом знают, но они слышали, будто Домициан потребовал, чтобы брат подарил ему девушку, на что Тит ответил, что, если она ему нужна, он может купить её с торгов. Последнее слово осталось за Веспасианом, который поддержал Тита. Домициан ушёл в ярости, объявив, что он всё равно купит девушку, но нанесённого ему оскорбления не простит.
— Стало быть, мой соперник — Домициан? — сказал Марк. — Поистине, против меня ополчились сами боги.
— Почему, господин? Твои деньги ничуть не хуже его, и, может быть, ты предложишь больше, чем он.
— Я отдам всё, до последней монеты, но ведь это не спасёт меня от гнева и ненависти Домициана.
— Ему не обязательно знать, что ты будешь участвовать в торгах вместе с ним.
— О, в Риме знают всё, иногда даже истинную правду.
— Зачем тревожиться заранее? Может быть, всё обойдётся. Сначала надо убедиться, что эта девушка — Мириам. Надо подождать.
— Да, — ответил он, — надо подождать, ничего другого нам и не остаётся.
С нетерпением и тревогой наблюдали они за шествием. Они видели колесницы с изображёнными на них картинами взятия Иерусалима и статуи богов из слоновой кости и золота. Они видели пурпурные вавилонские гобелены, диких зверей и макеты кораблей на колёсах. Они видели храмовые сокровища, и образы Победы, и многое другое; шествию, казалось, не будет конца, а пленники и императоры ещё не появлялись.
И вдруг Марк заметил двух несчастных римских солдат, которые были в плену у евреев; они шли в окружении насмехавшихся над ними шутов и жонглёров. При виде этого зрелища он отшатнулся, будто в лицо ему полыхнуло пламенем. Солдаты шли со связанными за спиной руками, в полных боевых доспехах, но с прялками вместо мечей и с возвещающими об их позоре таблицами на шее. Грубая римская толпа с её приверженностью к жестоким, низменным зрелищам громко улюлюкала и кричала: «Трусы!» Один из двоих, черноволосый малый с бычьей шеей, терпеливо сносил все издевательства, помня, что вечером его отпустят на свободу. Другой — голубоглазый, с более тонкими чертами лица, видимо благородного происхождения, в бешенстве озирался и скалил зубы, точно дикий зверь. Развязка наступила как раз напротив дома Марка.
— Пёс! Трусливый пёс! — завопила какая-то женщина, бросив в него камень, который угодил ему в щёку.
Голубоглазый остановился и, обернувшись, прокричал в ответ:
— Неправда, я не трус; своими руками я убил десять человек, из них пятерых — в поединках. Это вы, глумящиеся надо мной, трусы. Враги одолели меня, потому что их было много; в тюрьме я не покончил с собой, так как думал о своей жене и детях. Но сейчас я покончу с собой, и моя кровь будет на вашей совести.
Следом за ним, влекомый восемью белыми быками, ехал макет корабля с экипажем на палубе. Вырвавшись из рук своего стражника, голубоглазый бросился на мостовую как раз перед большой колесницей, колесо переехало ему шею.
— Молодец! Молодец! — кричала толпа, радуясь неожиданному развлечению. — Молодец! Теперь все мы убедились, что ты не трус.
Тело тотчас же оттащили в сторону, и процессия продолжала свой путь. Марк, видевший всю эту сцену, закрыл лицо руками, а Нехушта возвела глаза к небу и помолилась за душу умершего.
Теперь мимо них, по восемь в ряду, шли сотни и сотни пленников, и толпа разразилась радостными кликами при виде этих несчастных, чьё единственное преступление состояло в том, что они сражались за свою родную страну до конца. Прошли последние ряды, и чуть поодаль показалась лёгкая фигурка устало бредущей девушки в белом шёлковом, с золотым шитьём платье. Её склонённая голова с длинными, почти до пояса косами была открыта жгучим лучам солнца, и на обнажённой груди сверкало снизанное из крупных жемчугов ожерелье.
— Жемчужина! Жемчужина! — ревела толпа.
— Смотри, — сказала Нехушта, кладя руку на плечо Марка.
Прошло много лет с тех пор, как он в последний раз видел Мириам; хотя он и слышал её голос в Старой башне в Иерусалиме, её лицо тогда было скрыто от него темнотой. Перед ним была та самая девушка, с которой он некогда простился в деревне около Иордана, та самая, но сильно изменившаяся. Тогда совсем юное, беззаботное лицо теперь носило на себе печать пережитых страданий и мук. Черты стали тоньше; глубокие кроткие глаза смотрели испуганно и укоряюще; красота была такого рода, какая нам только грезится во сне, не от этой земли.
— Родная моя, родная моя! — зашептала Нехушта, протягивая к ней руки. — Благодарение Христу, я нашла тебя, дорогая!
Она повернулась к Марку, который не отрывал глаз от Мириам, и спросила его с неожиданной яростью:
— Теперь, когда ты её увидел опять, скажи, римлянин, ты всё ещё любишь её, как и прежде?
Он не отозвался, и она повторила свой вопрос. Тогда он ответил:
— Зачем ты досаждаешь мне пустыми словами? Когда-то она была женщиной, чью любовь я хотел завоевать, теперь она дух, который я боготворю.
— Женщина она или дух либо женщина и дух, ты должен оберегать её как зеницу ока; смотри, римлянин, если что... — прорычала Нехушта ещё более яростно и схватилась за кинжал, спрятанный у неё на груди.
— Успокойся, успокойся же, — увещевал её Марк, и в эту минуту процессия остановилась прямо перед их окнами. — Какой у неё утомлённый и какой печальный вид! — продолжал он, как бы говоря сам с собой. — Впечатление такое, будто её душа сломлена испытаниями. А я должен прятаться от неё, не смею даже показать ей своё лицо! Если бы она только знала! Если бы только знала!
Нехушта оттолкнула его и сама встала на его место. Устремив взгляд на Мириам, она чудовищным усилием воли постаралась дать ей знать о своём присутствии. Всё её тело дрожало от напряжения. И пленница почувствовала её взгляд и подняла голову.
— Отойди в сторону! — шепнула Нехушта Марку и медленно открыла ставни. Теперь между ней и улицей не было ничего, кроме шёлковых штор. Осторожно раздвинув их руками, она на мгновение выглянула наружу. Затем, приложив палец к губам, отодвинулась, и шторы тотчас же сомкнулись.
— Хорошо, — сказала Нехушта, — теперь она знает.
— Дай же и мне показаться ей, — попросил Марк.
— Нет, она и без того в полубеспамятстве, вот-вот упадёт.
Горько терзаясь, смотрели они на Мириам, которая и в самом деле была в полубеспамятстве. Какая-то женщина протянула ей чашу с вином, она выпила вино, и её глаза прояснились, силы, видимо, вернулись к ней.
— Запомни эту женщину, — шепнул Марк, — чтоб я смог её вознаградить.
— Она не нуждается в вознаграждении, — ответила Нехушта.
— Странно для римлянки, — с горечью обронил он.
— Она не столько римлянка, сколько христианка. Прежде чем передать чашу, она сделала ею знак креста.
Заскрипели оси колёс, закричали распорядители, процессия двинулась дальше. Прячась за шторами, Марк и Нехушта провожали глазами Мириам, пока она не скрылась в облачках пыли, среди толпы. После её исчезновения уже ничто не задерживало на себе их внимания, даже появление цезарей в сияющих облачениях.
Марк подозвал управителя.
— Стефан, — сказал он. — Иди и выясни, когда и где будут продавать пленницу по прозвищу Жемчужина. И, не задерживаясь, вернись домой. Держи язык за зубами, постарайся, чтобы никто не заподозрил, из чьего ты дома или каковы твои цели. От этого зависит твоя жизнь. Ступай.
Солнце быстро садилось, его пологие лучи окрашивали в кроваво-алый цвет мраморные храмы и колоннады Форума. После окончания празднества сотни тысяч римлян, довольные и усталые от радостного возбуждения, разошлись по домам, чтобы предаться там пиршествам, а в этом, одном из красивейших в городе, квартале стало безлюдно. Только вокруг мраморной арены, огороженной верёвкой, где должны были продавать с торгов пленниц, собралась пёстрая толпа, состоящая как из покупателей, так и праздных зевак.
Сами пленницы находились в небольшом доме, примыкающем к арене. Перед началом торгов покупатели внимательно осматривали предлагающийся к продаже товар. В дверях дома появилась убого одетая, закутанная с головой в покрывало старая женщина; на спине у неё была тяжёлая корзина, в каких обычно носят фрукты на базар.
— Что тебе надо? — спросил привратник.
— Я хочу осмотреть рабынь, — ответила она по-гречески.
— Уходи, — грубо ответил он. — Они тебе не по карману.
— А может быть, и по карману, лишь бы товар был подходящий, — ответила она, суя ему золотую монету.
— Проходи, госпожа, проходи, — сказал привратник уже другим тоном. Нехушта вошла в дверь, которая тут же за ней закрылась, и оказалась среди рабынь.
Внутри, для удобства покупателей, были зажжены факелы. При их свете Нехушта увидела несчастных пленниц, — их было всего пятнадцать, — которые сидели на мраморных скамьях; рабыни благоухающей водой мыли им руки, ноги и лица, причёсывали волосы, стряхивали пыль с одежд, чтобы они выглядели привлекательнее в глазах покупателей. Последних было несколько десятков; они переходили от одной пленницы к другой, обсуждая их достоинства и недостатки, прося некоторых из них встать, повернуться, показать руки и ноги, чтобы лучше их рассмотреть. Когда Нехушта вошла, какой-то толстяк с засаленными кудрями, по-видимому человек восточный, пытался убедить темноволосую красавицу еврейку показать ногу. Притворяясь, будто ничего не понимает, она сидела неподвижная и суровая, но, когда он наклонился и приподнял подол её платья, она с такой силой пнула его в лицо, что под общий смех зрителей он опрокинулся на пол, а когда поднялся, все увидели, что лоб у него ободран и кровоточит.
— Ну, погоди, красотка, — процедил он злобным голосом. — Не пройдёт и двенадцати часов, как ты заплатишь мне за всё это.
Но девушка продолжала сидеть, мрачная и неподвижная, прикидываясь, будто ничего не понимает.
Большинство покупателей собрались, однако, вокруг Мириам, которая сидела отдельно от всех, на кресле: руки скрещены, голова опущена, и вся она — печальное воплощение поруганной скромности. Покупатели, с разрешения служителя, подходили к ней один за другим, внимательно её осматривали, но Нехушта обратила внимание, что притрагиваться к ней никому не разрешали. Стоя в самом конце очереди, она прислушивалась и приглядывалась. И её внимательность была вознаграждена. Высокий человек в одежде египетского купца подошёл к Мириам и наклонился над её ухом.
— Молчать! — гаркнул служитель. — Говорить с рабыней по прозвищу Жемчужина строго запрещено. Проходи, господин, проходи.
Купец поднял голову, и, хотя в полутьме Нехушта не могла разглядеть лицо, она всё же узнала его. Окончательное подтверждение своей догадке она получила, когда он шевельнул рукой и она увидела, что у него не хватает сустава на одном пальце.
«Халев, — окончательно убедилась она. — Халев жив и находится в Риме. Стало быть, у Домициана есть ещё один соперник». Подойдя к привратнику, она осведомилась, как зовут египетского купца.
— Это александрийский купец Деметрий, — ответил он.
Нехушта вернулась на своё место. Перед ней стояли два посредника, которые покупали рабов и всякую всячину для своих богатых клиентов.
— Это место подходит скорее для продажи собак, — сказал один из них, — чем для продажи одной из самых прелестных женщин, которую когда-либо выставляли на торгах. Да и время выбрано такое позднее, после заката.
— Не всё ли равно, — сказал другой, — всё это чистый фарс. Домициан торопится заполучить девушку, поэтому торги и проводятся так поздно.
— Он собирается её купить?
— Разумеется. Я слышал, его доверенный человек Сатурий имеет полномочия заплатить, если понадобится, миллион сестерциев
[63]. — И он показал кивком на высокомерного вида человека в одежде из богатой тёмной материи, который стоял в углу, надменно взирая на остальных.
— Миллион сестерциев! За рабыню! О боги! Миллион сестерциев!
— Её продают вместе с жемчужным ожерельем. Продавец получит также имущество в Тире.
— Имущество в Тире? — язвительно переспросил другой. — А может быть, на луне?.. Пойдём поищем что-нибудь подешевле. Я дорожу своей головой и не такой дурак, чтобы связываться с самим принцем.
— Я думаю, таких дураков здесь не найдётся. Принц получит свою красотку задешево.
Эти двое ушли, и через минуту настала очередь Нехушты.
— Странная покупательница, — заметил один из тамошних служителей.
— Не суди о вкусе плода по его кожуре, молодой человек, — наставительно сказала Нехушта. Услышав её голос, Жемчужина впервые подняла голову и тут же её опустила...
— Она недурна, — громко произнесла Нехушта, — но во времена своей молодости я встречала женщин и покрасивее; да я и сама, хоть и смуглокожая, была хоть куда. — При этих словах окружающие посмотрели на её костлявую старческую фигуру, согнутую под бременем корзины, и громко прыснули, — Подыми голову, миленькая, — продолжала она, взмахами руки поощряя Мириам поднять подбородок.
Попытки эти были бесплодными, но только для непосвящённых, ибо в них было тайное значение. На пальце Нехушты сверкал хорошо знакомый пленнице перстень.
И она, видимо, узнала его, грудь и шея у неё вдруг порозовели, по лицу пробежала судорога, заметная даже под ниспадающими волосами.
Перстень дал знать Мириам, что Марк жив и Нехушта — его посланница. Тут, во всяком случае, не оставалось никаких сомнений.
Привратник оповестил всех о начале торгов, и покупатели бросились наружу. На помост уже поднимался гладколицый, бойкий на язык аукционист. Призвав всех к молчанию, он сделал небольшое вступление. В этот праздничный вечер, сказал он, он должен быть по необходимости краток. Лоты, которые он предлагает собравшимся здесь избранным знатокам, составляют собственность императора Тита; его долг — информировать их, что все вырученные деньги поступят не в казну цезаря, а будут поровну разделены между римской беднотой и достойными воинами, раненными или потерявшими своё здоровье на войне, поэтому все патриотически настроенные граждане должны проявлять особую щедрость. Эти лоты, уполномочен он сказать, обладают большой ценностью: пятнадцать красивейших девушек самого благородного, как полагают, происхождения, отобранных среди многих тысяч захваченных в плен во время взятия Иерусалима, чтобы украсить триумф великого победителя. Ни один истинный знаток, который хотел бы иметь столь очаровательное свидетельство великой победы, одержанной его страной, не захочет пренебречь подобной возможностью, к тому же, по имеющимся у него сведениям, еврейские женщины очень привязчивы, кротки, искусны во многих ремёслах и чрезвычайно трудолюбивы. Остаётся остановиться на одном — нет, на двух обстоятельствах. Прежде всего он должен выразить сожаление, что эти важные торги происходят в столь необычный час. Это объясняется тем, что нет удобного места, где можно было бы расположить пленниц в полной уверенности, что они не подвергнутся грубому обхождению и не убегут; лучше всего, если они как можно скорее окажутся в уединении своих новых домов: эта поспешность, по его убеждению, соответствует и желаниям самих покупателей. Затем он считает своим долгом отметить, что среди лотов есть один, представляющий особый интерес, а именно девушка, известная под прозвищем Жемчужина. Эта молодая женщина, не старше двадцати трёх — двадцати четырёх лет, последняя представительница знатнейшего еврейского рода. Её нашли прикованной к колонне на воротах иерусалимского святилища, такое наказание она понесла за нарушение каких-то их варварских законов. Всеобщее восхищение римлян в этот день подтвердило, что она и в самом деле наделена редкостной, изысканной красотой, а ожерелье из крупных жемчужин на её шее свидетельствует о её принадлежности к высокому сословию. Если он правильно разбирается во вкусах своих соотечественников, цена, которая будет за неё предложена, окажется самой высокой из всех, когда-либо уплаченных на этом рынке. Он, аукционист, осведомлен, что среди плебеев эта пленница связывается с великим, почти божественным именем. Правда это или нет, он не берётся судить, но заранее уверен, что обладатель этого имени, как подобает щедрой и великодушной натуре, обретёт желаемый лот в честных и открытых торгах. Участвовать в торгах может любой, самый скромный покупатель, если, конечно, располагает требуемой суммой, он же, со своей стороны, должен предупредить, что никому, кроме хорошо известных ему особ, таких, как сам цезарь, не будет предоставлено даже часовой отсрочки для платежа. А сейчас, поскольку уже темнеет, он приказывает зажечь факелы и начать торги. Остаётся лишь добавить, что прекрасная Жемчужина — лот № 7.
Служители зажгли факелы, вывели первую жертву и поставили её на мраморную стойку, в самом центре пылающего кольца. Это была темноволосая девочка лет шестнадцати, которая всё время испуганно озиралась.
Изначальная цена составляла пять тысяч сестерциев, в ходе торгов дошла до пятнадцати тысяч, около ста двадцати фунтов стерлингов в наших деньгах; по этой цене она и была продана греку, который отвёл её в контору, заплатил счетоводу требуемую сумму золотом и увёл её с собой, горько рыдающую. Ещё четыре пленницы были проданы по более высокой цене. Лотом № 6 оказалась та самая смуглая красавица, которая пнула в лицо восточного человека с засаленными кудрями. Как только она появилась на постаменте, этот негодяй выступил вперёд и предложил за неё двадцать тысяч сестерциев. Какой-то седобородый старик накинул ещё пять тысяч. Кто-то выкрикнул: «Тридцать тысяч!» Восточный человек назвал сорок тысяч. Цена дошла до шестидесяти тысяч; восточный человек прибавил ещё две тысячи; по этой окончательной цене, среди общего смеха, она и была продана.
— Ты знаешь меня, за мной не пропадёт, — сказал восточный человек аукционисту, — завтра ты получишь всё сполна, у меня есть, что тащить с собой, кроме золота. Пошли, красотка, в твой новый дом, я должен свести с тобой кое-какие счёты. — И, схватив её за кисть левой руки, он стащил её с постамента и повлёк через толпу в тёмную тень; девушка не сопротивлялась.
Уже вызвали лот № 7 и аукционист приготовился произнести свою небольшую речь, как из темноты послышался ужасающий вопль. Несколько человек из присутствующих схватили факелы с их подставок и бросились в ту сторону. На мраморной мостовой лежал восточный человек, умирающий или уже умерший, а над ним, с окровавленным кинжалом в руке, стояла статная еврейка; её гордое лицо было исполнено мстительного ликования.
— Держите её! Держите эту ведьму, которая убила человека, забейте её до смерти прутьями! — закричали они; и по приказу аукциониста к ней бросились служители-рабы.
Подождав, пока они приблизятся, не издав ни единого звука или слова, красавица подняла сильную белую руку и вонзила кинжал себе в сердце. Какой-то миг она стояла неподвижно, затем лицом вниз рухнула на тело убитого ею негодяя.
Толпа дружно ахнула; среди общего безмолвия один из них, болезненного вида патриций, прокричал:
— Как хорошо, что я пришёл! Какое это было зрелище! Какое зрелище! Благословляю тебя, отважная девушка, ты доставила Юлию новое, ещё не изведанное удовольствие!
Последовало смятение, недолгая возня, и слуги унесли оба тела. Аукционист вновь поднялся на свой рост и в трогательных выражениях живописал только что происшедшую трагедию.
— Кто бы мог подумать, — сказал он, — что женщина, столь прекрасная, способна на такой отчаянный поступок?! Со слезами на глазах я думаю о судьбе благородного покупателя, чьё имя, к сожалению, выскользнуло из моей памяти, но чьё имущество является залогом за не выплаченные им деньги, который так внезапно перенёсся из объятий Венеры в царство Плутона, хотя трудно отрицать, что причина случившегося — его собственное поведение. Что ж, господа, наша скорбь не может его воскресить, поэтому мы, оставшиеся в живых под этими звёздами, должны продолжать своё дело. Все вы можете засвидетельствовать, что я не несу никакой ответственности за происшедшее. А теперь, рабы, выведите нашу бесценную Жемчужину.
Глава IX
ХОЗЯИН И РАБЫНЯ
Толпа замерла в ожидании; два слуги с факелами в руках вывели пленную Жемчужину. Она шла с опущенной головой; багровый свет факелов играл на её белом платье, мерцал в каждом округлом камне её ожерелья, вырисовывая светящийся полукруг на её груди; так хороша была она собой, что даже эта пресыщенная публика захлопала в ладоши при её появлении. Через мгновение она поднялась по двум ступеням на мраморный постамент. Покупатели придвинулись ближе; среди них были и египетский купец Деметрий, и закутанная с головой в покрывало женщина с корзиной, сопровождаемая теперь небольшим, одетым, как раб, человеком с ещё одной корзиной, видимо, очень тяжёлой, потому что он поминутно стонал и перекладывал её с плеча на плечо. Домоправитель Сатурий, чувствуя за собой поддержку своего господина Домициана, перешагнул через верёвку и против всех правил начал ходить вокруг пленницы, внимательно её разглядывая.
— Посмотрите на неё, — пригласил всех аукционист, — посмотрите на неё. Слова замирают у меня на устах, я могу сказать лишь одно. Более двадцати лет занимаюсь я своим делом и за это время продал с молотка пятнадцать — шестнадцать тысяч молодых женщин. Они были изо всех частей мира: с Дальнего Востока, с греческих гор, из Египта и с Кипра, с испанских равнин, из Галлии, из Тевтонии, с острова бриттов и из других варварских стран, лежащих ещё севернее, среди них было много самых разнообразных красавиц на любой вкус, но скажу откровенно, господа, я не помню ни одной, чья красота могла бы сравниться совершенством с красотой той девушки, которую я имею честь продавать сегодня. Повторяю: посмотрите на неё, посмотрите на неё и скажите, можете ли вы найти хоть какой-нибудь изъян.
Что вы сказали? Да, могу вас заверить, что все зубы у неё совершенно здоровые, без единой щербинки, а волосы — собственные. Этот господин высказывает мнение, что она мала ростом. Что ж, о ней и в самом деле не скажешь, что она женщина крупная; что до меня, то это только придаёт ей привлекательности. Мала и хороша собой, вы знаете, мала и хороша собой. Обратите внимание, как пропорционально она сложена. Знаменитейшие ваятели, и древние и нынешние, были бы счастливы иметь её своей натурщицей; и в интересах истинных ценителей искусства, — тут он посмотрел на домоправителя Сатурия, — мы будем надеяться, что её будущий счастливый хозяин не окажется эгоистом, способным отказать им в этом удовольствии.
Итак, я уже сказал всё необходимое, остаётся лишь добавить, что по особому повелению её теперешнего хозяина, императора Тита, она продаётся вместе с чудесным ожерельем, украшающим её шею. Я попросил своего друга ювелира оценить это ожерелье, разумеется, издали, не прикасаясь к нему руками, что запрещено, и он считает, что оно стоит по меньшей мере сто тысяч сестерциев. С этим лотом продаётся также ценное недвижимое имущество, находящееся в Тире и его окрестностях, которое унаследовала бы пленница, будь она свободной женщиной. Вы можете сказать, что Тир далеко отсюда и не так-то просто будет вступить во владение этим имуществом, — это вполне обоснованное возражение. И всё же это приобретение вполне надёжное, ибо я держу в руках документ, скреплённый подписью самого цезаря Тита, требующий, чтобы все должностные лица, от кого это зависит, полностью, без каких-либо исключений, передали будущему владельцу лота всё имущество покойного Бенони, тирского купца, члена синедриона, который был дедом пленницы. Покупателю необходимо только вписать в купчую своё имя или имя доверенного лица, и сделка обретает свою законную силу. Кто-нибудь хотел бы видеть этот документ? Нет? Тогда будем считать, что он вам зачитан. Я знаю, что в таких делах, господа, моего слова для вас вполне достаточно.
Прежде чем перейти к самим торгам, я хотел бы заметить, что чем большую щедрость вы проявите, тем более удовлетворён будет наш славный полководец цезарь Тит, тем лучше будет для наших бедных покалеченных солдат, тем лучше будет для самих девушек, которые, я уверен, сумеют вознаградить того, кто высоко оценит их достоинства, тем лучше будет для меня, вашего скромного друга и слуги, ибо, скажу вам по секрету, я получаю не постоянное жалованье, а комиссионные.
Итак, господа, приступаем к делу. Миллион сестерциев для начала? Не смейтесь, я ожидаю куда большей суммы. Что? Пятьдесят тысяч. Вы шутите, мой друг? Но ведь жёлудь вырастает в высокий дуб, и говорят, что исток Тибра можно заткнуть шляпой; начну с пятидесяти тысяч. Пятьдесят тысяч — сто тысяч. Набавляйте, господа, а то мы не поспеем домой к ужину. Двести тысяч, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот — так-то оно лучше. Почему вы остановились? — спросил он у мужчины с грубым, словно вырубленным топором лицом, который перелез через верёвочное ограждение.
Мужчина со вздохом покачал головой:
— Такая цена уже не для меня, уступаю место более богатым людям.
Его соперники, очевидно, разделяли это мнение, ибо они тоже перестали набавлять цену.
— Уж не уснули ли вы, друг Сатурий, — спросил аукционист, — или вам больше нечего сказать? Набавляйте сотнями тысяч, господа, только сотнями тысяч, если я не сделаю особой оговорки. Благодарю вас, девятьсот тысяч. — И с довольно равнодушным видом он оглянулся, ожидая, видимо, что эта цена окажется последней.
Шагнув вперёд, александрийский купец поднял палец.
— Клянусь богами, миллион!
Сатурий возмущённо уставился на него. Этот человек смеет соперничать с Домицианом, третьим человеком во всей Римской империи, сыном Цезаря, братом Цезаря, который и сам, того и гляди, станет цезарем? И всё же он предложил миллион сто тысяч.
Деметрий вновь поднял палец.
— Миллион двести тысяч! — со сдержанным возбуждением в голосе воскликнул аукционист; все присутствующие ахнули от изумления, никто даже не слышал о таких баснословных ценах.
— Миллион триста тысяч, — отозвался Сатурий.
Опять поднялся палец Деметрия.
— Миллион четыреста тысяч. Последнее предложение — миллион четыреста тысяч. Что скажете, достойный Сатурий? Продолжайте, я должен продать этот лот, хотя и рискую навлечь на себя немилость человека, которого я не могу упомянуть. Не скупитесь же, друг, в вашем распоряжении огромная мошна, вся Римская империя. Итак? Благодарю вас, миллион пятьсот тысяч. Теперь вы, друг... Что? Вы исчерпали свои возможности? — Он показал на александрийского купца, который со стоном отвернулся и закрыл лицо руками.
— Продаётся, продаётся... — провозгласил аукционист. — Я бы не сказал, что это так уж много за девушку, столь же прекрасную, сколь и прославленную, но всё же я вряд ли могу ожидать... — И он обвёл унылым взглядом всех присутствующих.
И вдруг старая женщина с корзиной подняла голову и спокойным деловым голосом с чуть заметным иностранным выговором произнесла:
— Два миллиона.
Ответом ей был общий смех.
— Могу ли я вас спросить, уважаемая госпожа, — с сомнением взирая на неё, проговорил аукционист, — вы хорошо понимаете, что речь идёт о двух миллионах сестерциев, а не каких-либо других монет.
— Да, я готова заплатить два миллиона, — повторил деловой голос с иностранным выговором.
— Ну, ну, — сказал аукционист, — я не имею оснований отвергнуть это предложение. Друг Сатурий, предложено два миллиона.
— Я не могу больше набавлять, — в ярости ответил Сатурий. — Неужели все владыки мира хотят заполучить эту девушку? Я уже превысил свои полномочия на пятьсот тысяч. И не могу продолжать.
— Не огорчайтесь, Сатурий, — подбодрил его аукционист. — Называть цену — одно, платить — другое. Последнее, внушающее полное доверие предложение — миллион пятьсот тысяч. Если эта щедрая неизвестная госпожа не располагает наличными, на этом предложении я и остановлюсь. Ты поняла, госпожа?
— Вполне, — ответила старуха в покрывале. — Я чужестранка и поэтому принесла все деньги с собой, поскольку, как известно, чужестранцы не могут рассчитывать на кредит.
— Вы принесли все деньги с собой? — выдохнул аукционист. — Принесли с собой два миллиона сестерциев? И где же они?
— Где? В корзинах — моей и моего слуги. Даже больше двух миллионов. Но я сделала своё предложение. Не хочет ли почтенный господин, мой соперник, набавить ещё?
— Нет, — выкрикнул Сатурий. — Она вас дурачит, аукционист; конечно же у неё нет при себе таких денег.
— Если он не хочет набавить и никакой другой почтенный господин не хочет набавить, вы должны объявить, что лот продан, — продолжала старуха. — Извините, что я тороплю вас, уважаемый продавец рабов, но я должна сегодня же ночью выехать из Рима в Центум Целле, где меня ждёт корабль, у меня нет лишнего времени.
Аукционист понял, что у него нет другого выхода, кроме как принять предложение покупательницы: таковы правила торгов, и нарушить их он не вправе.
— За лот номер семь, пленную еврейку, известную под прозвищем Жемчужина, продаваемую по особому повелению императора Тита вместе с жемчужным ожерельем и имуществом, которое принадлежало бы ей, будь она свободной женщиной, предложено два миллиона сестерциев. Кто-нибудь может предложить больше? — И он посмотрел на Сатурия, который отрицательно мотнул головой. — Нет? Продаётся... продаётся... продана! Я объявляю, что этот лот продан и будет передан покупателю по выплате всей суммы наличными. Как вас зовут, госпожа?
— Мулиер
[64].
Собравшиеся разразились громким хохотом.
— Мулиер? — повторил аукционист. — Мулиер — женщина?
— Да, ведь и я женщина, и какое имя может быть лучше того, которым зовут весь наш пол.
— Ты так закуталась в покрывало, что я должен поверить тебе на слово, — ответил аукционист. — Но пора кончать эту комедию. Если у тебя есть деньги, пошли со мной в контору — я сам лично должен заняться этим делом — и заплати требуемую сумму.
— С удовольствием, господин, но, пожалуйста, захватите со мной мою собственность. Она слишком дорого стоит, чтобы я решилась оставить её одну, без защиты, среди этих достойных, но разочарованных господ.
Мириам ввели в контору; за ней последовали аукционист, Нехушта и её слуга, сгибавшиеся под тяжестью корзин на их спинах. Дверь заперли, и с помощью своего слуги Нехушта со вздохом облегчения поставила свою корзину на стол.
— Считайте же, — сказала она аукционисту, отвязывая крышку.
Он откинул крышку и увидел слой аккуратно сложенных побегов латука.
— Клянусь Венерой! — вскипел аукционист.
— Тише, друг, тише, — утихомирила его Нехушта. — Этот салат из тех, что растут лишь на жёлтой почве. Смотри. — И, подняв овощи, она показала ровные ряды золотых монет. — Проверь их, прежде чем сосчитать.
Он закусил зубами несколько монет по выбору, затем бросил их на мраморный стол, прислушиваясь к звону.
— Чистое золото, — сказал он.
— Совершенно верно. Считай.
Покупательница поманила к себе стоявшего в тени человека, и он подтащил вторую корзину, уже снятую им с плеч. И здесь тоже был латук, а под ним — золото. После того как были отсчитаны два миллиона сестерциев, более пятнадцати тысяч фунтов в наших деньгах, во второй корзине осталась ещё целая треть золота.
— Надо было поднять цену ещё выше, — сказал аукционист, впиваясь жадными глазами в остающиеся золотые монеты.
— Да, — спокойно ответила она, — но вы не догадались. Правду знала только я.
— Уж не колдунья ли ты?
— Может быть. Не всё ли равно. Деньги, однако, не растают. И тащить такую груду золота обратно — дело не из лёгких. Не хотели бы вы взять пару пригоршней для себя и десяток монет для своего счетовода? Вы не прочь? Тогда будьте любезны, впишите в документ имя, которое я вам назову, и моё собственное как свидетельницы. «Мириам, дочь Демаса и Рахили, рождённая в год смерти Ирода Агриппы». Благодарю вас. Вы подписались, и ваш счетовод, надеюсь, тоже? А теперь я забираю свиток...
Последний вопрос перед уходом: есть ли отсюда другой выход? С вашего позволения, я предпочла бы воспользоваться им, так как приобретённая мною рабыня сильно устала, и на сегодняшний день с неё больше чем достаточно общего интереса. Задержитесь на несколько минут, прежде чем вернуться на своё место, а ваш счетовод любезно выведет нас из Форума. Берите же деньги! Берите больше, не стесняйтесь. На эти деньги вы сможете хорошенько отдохнуть летом. С вашего позволения, я заберу этот плащ, что здесь висит, чтобы укрыть свою рабыню от вечерней прохлады. На случай, если кто-нибудь его хватится, оставляю за него пять золотых монет. Ещё раз благодарю вас, о достойнейший, учтивейший господин... Молодая женщина, набрось этот плащ на плечи и голову; боюсь, как бы бесчестные люди не прельстились твоим ожерельем.
А теперь, если наш проводник готов, мы пойдём. Раб, возьми эту корзину, теперь она куда легче, чем была; а ты, молодая женщина, забери другую, ту, что пуста; тебе пора уже приучаться к выполнению своих домашних обязанностей; я наслышалась о том, какие хорошие хозяйки — вы, еврейки, и купила тебя, чтобы ты стряпала для меня и следила за моей причёской. Прощайте, господин, прощайте, надеюсь, мы никогда больше не увидимся.
— Прощайте, — ответил удивлённый аукционист, — прощайте, госпожа Мулиер, достаточно богатая, чтобы выложить два миллиона сестерциев за повариху. Желаю вам удачи, и, если вы всегда будете такой же щедрой, я готов встречаться с вами хоть раз в месяц. Но не бойтесь, — со значением добавил он. — Я человек благодарный, ценю хорошее к себе отношение и не стану вас искать — даже в угоду самому цезарю.
Через три минуты счетовод, столь же осторожный, как и его начальник, без каких-либо помех провёл их мимо тёмных колоннад и вверх по мраморным лестницам.
— Форум остался позади, — сказал он, — теперь вы можете идти своей дорогой.
Счетовод провожал их взглядом, пока они не свернули за угол, ибо он был молод и любопытен и происшедшее казалось ему страннейшей комедией, когда-либо разыгрывавшейся на невольничьем рынке.
Повернувшись, чтобы пойти в контору, он столкнулся лицом к лицу с высоким человеком; присмотревшись, он узнал египетского купца Деметрия, который готов был выложить за Жемчужину огромную сумму в миллион четыреста тысяч сестерциев.
— Друг, — спросил Деметрий, — в какую сторону направились твои недавние спутники?
— Не знаю, — ответил счетовод.
— Попробуй вспомнить, куда они свернули — налево или направо? Может быть, вот это просветлит твою память. — И удачливый счетовод почувствовал, что в руку ему сунули ещё пять золотых монет.
— Боюсь, что я всё равно не смогу вспомнить, — сказал он, желая сохранить честность.
— Глупец! — проговорил Деметрий уже другим тоном. — Вспоминай быстрее. У меня тут есть ещё кое-что для просветления твоей памяти. — И он показал сверкающий кинжал. — Уж не хочешь ли ты разделить участь еврейки и этого восточного человека, которого унесли прочь?
— Они повернули направо, — мрачно ответил счетовод. — Это правда; но за то, что ты угрожаешь ножом честным людям, я желаю тебе самому разделить их участь!
Деметрий побежал вперёд; счетовод проследил и за ним взглядом.
«Странная история, — размышлял он, — но, может быть, мой начальник прав: эта старуха — колдунья, да и молодая — тоже колдунья: все мужчины готовы выложить громадные суммы, не меньше, чем дань, которую берут с целого племени, только чтобы её заполучить. Странная история, хотел бы я знать, что всё это значит: принц Домициан также, должно быть, сильно заинтересуется, когда услышит эту историю. У его домоправителя Сатурия, что и говорить, место очень тёплое, но сегодня я ни за что не хотел бы оказаться на этом месте, даже если бы мне его навязывали».
Когда молодой человек возвратился на торги, его начальник как раз продал лот № 13, очень милую девушку, самому Сатурию, который, хотя и с тяжёлым сердцем, намеревался предложить её своему повелителю взамен Жемчужины.
Тем временем Нехушта, Мириам и переодетый рабом управитель Стефан быстро приближались к дворцу Марка на Виа Агриппа. Обе женщины молча держались за руки: радость, переполнявшая их сердца, была слишком сильна, чтобы изливать её в разговорах. Только старый управитель бормотал себе под нос: «Два миллиона сестерциев! Сбережения многих лет! Два миллиона, сестерциев за такую щуплую девицу! Несомненно боги лишили его разума».
— Да замолчи ты, глупец! — наконец перебила его Нехушта. — Уж меня-то боги не лишили разума, я рассуждаю вполне здраво и могу с полным основанием сказать, что она принесёт с собой больше денег, чем те, что за неё уплачены.
— Да, да, — сказал удручённый Стефан, — но как может это возместить ущерб, понесённый моим хозяином? Ты ведь внесла в купчую её имя. Да, ладно, дело не моё; по крайней мере эта проклятая корзина стала много легче.
Они подошли уже к боковой двери, когда Нехушта сказала:
— Быстро! Я слышу шаги.
Они были уже по ту сторону порога, когда кто-то торопливо прошёл мимо, успев заглянуть внутрь.
— Кто это был? — встревоженно спросил Стефан.
— Тот, кого называют александрийским купцом Деметрием, но кого я некогда знавала под другим именем, — тихо ответила Нехушта, пока Стефан задвигал засов.
Через сводчатый проход обе женщины прошли в прихожую, освещённую одним-единственным светильником. Нехушта резким движением сорвала с себя покрывало и плащ. И в следующий миг с негромким
ласковым восклицанием обвила Мириам своими длинными руками и принялась осыпать её поцелуями.
— Моя дорогая, — стонала она, — моя дорогая.
— Объясни же мне, что всё это значит, Ну? — тихо попросила бедная девушка.
— Это значит, что Бог внял моим молитвам: мало того, что мои старые ноги поспели вовремя, но и в руках у меня оказалось несметное богатство, чтобы спасти тебя от ужасной участи.
— Чьё это богатство? Где я? — спросила Мириам.
Нехушта ничего не ответила, только спустила корзину со спины Мириам и сняла плащ с её плеч. Затем, взяв её за руку, провела через хорошо освещённый коридор в большую, великолепную комнату, застланную коврами и заставленную богатой мебелью и мраморными изваяниями. В конце комнаты стоял стол, освещённый двумя лампадами, за столом сидел человек, он как будто дремал, закрыв лицо руками. Увидев его, Мириам, дрожа, прильнула к Нехуште.
— Тс-с-с, — шепнула её проводница, они остановились в тени.
Человек поднял голову, и при свете лампад Мириам увидела, что это Марк. Он уже не так молод; на виске у него, там, где прячется рубец от меча Халева, поблескивает проседь; вид у него крайне измученный, — и всё же это Марк.
— У меня нет сил больше терпеть, — говорил он сам с собой. — Трижды подходил я к воротам и трижды убеждался, что там никого нет. Видимо, наш замысел сорвался и она уже во дворце Домициана. Пойду узнаю правду, какова бы она ни была. — И он поднялся из-за стола.
— Заговори с ним, — шепнула Нехушта, выталкивая вперёд Мириам.
Мириам вошла в круг света, но Марк всё ещё не видел её, так как подошёл к окну, чтобы взять лежавшую там тогу. И только тогда повернулся и увидел Мириам. Она стояла перед ним в белом платье, сияя своей кроткой красотой.
— Уж не сон ли это? — спросил Марк, удивлённый.
— Нет, Марк, — ответила она своим нежным голоском, — это и в самом деле я, Мириам.
В то же мгновение он был возле неё и держал её в объятиях; она не сопротивлялась: так много страданий и страхов перенесла она за это время, что у неё было такое чувство, будто она обрела наконец свой дом.
— Прошу тебя, отпусти меня, — наконец выговорила она, — или я сейчас упаду в обморок.
Он помог ей опуститься на мягкий диван рядом.
— А теперь расскажи мне всё, — попросил он.
— Пусть тебе расскажет Нехушта, — сказала она, откидываясь. — У меня нет сил.
Подбежав к ней, Нехушта стала растирать ей руки.
— Потом будешь задавать свои вопросы, Марк, — сказала она. — Пока тебе достаточно знать, что я купила её. О цене можешь спросить этого старого скрягу Стефана. Но прежде всего, во имя милосердия, вели её накормить. После всего, что она перенесла сегодня, ей надо подкрепить силы.
— Еда здесь, вся здесь, — растерянно сказал Марк. И, взяв светильник, подошёл к стоявшему в тени столику, уставленному блюдами с мясом и фруктами, кувшинами с темно-красным вином и чистой водой и неглубокими серебряными чашами для питья.
Обвив рукой Мириам, Нехушта подвела её к столику и усадила на одну из стоявших там кушеток. Она поднесла к её губам чашу с вином, нарезала мясо ломтями и накормила её досыта. Её щёки снова зарумянились, глаза ярко засверкали; лёжа на кушетке, она слушала, как Нехушта рассказывает Марку о невольничьем рынке.
— Ловко было сделано, — рассмеялся он своим прежним беззаботным смехом. — Очень даже ловко... Какой милосердный бог внушил этому честному старому скупцу Стефану мысль откладывать каждый год весь доход на непредвиденный случай!
— Эту мысль внушил ему наш с Мириам Бог, — торжественно заявила Нехушта, — которому ты должен быть благодарен — в отличие от своего домоправителя, огорчённого тем, что столько твоих денег ухлопано за один час.
— Твоих денег? — повторила, подняв глаза, Мириам. — Это ты купил меня, Марк?
— Да, любимая, — неуверенно подтвердил он.
— Стало быть, я твоя рабыня?
— Нет, Мириам, — нервно ответил он. — Ты хорошо знаешь, что это я твой раб. Я только прошу, чтобы ты согласилась стать моей женой.
— Это невозможно, Марк, — всхлипнула она. — Ты знаешь, что это невозможно.
Его лицо побледнело.
— После всего, что произошло между нами, ты всё ещё отказываешься, Мириам?
— Всё ещё отказываюсь.
— Ты готова отдать за меня свою жизнь, но не согласна отдать мне свою жизнь?
— Да, Марк.
— Но почему? Почему?
— Я уже объясняла тебе на берегах Иордана, потому что мои родители запретили мне выходить замуж за нехристианина. Как же я могу стать твоей женой?
Марк на мгновение задумался.
— Это запрещает твой закон? — спросил он.
Она покачала головой.
— Нет, это запретили мои покойные родители, и я скорее присоединюсь к ним, чем нарушу их последнюю волю.
Марк вновь задумался.
— Ну что ж, значит, я должен стать христианином.
Печально взглянув на него, она ответила:
— Этого недостаточно. Ещё давным-давно, в деревне ессеев, я говорила тебе, что, для того чтобы стать христианином, мало возложить курения на алтарь, необходимо перерождение души. Ты должен воззвать к Господу не только устами, но и всем сердцем, только тогда Он внемлет тебе, но если Господь не вразумит тебя, ты не сможешь стать христианином, а я не смогу стать твоей женой.
— Как же ты собираешься поступить?
— Я? У меня ещё не было времени подумать. Наверное, уйти.
— К Домициану? — спросил он. — Прости меня, боль в сердце порождает горькие слова.
— Я рада, Марк, что ты попросил прощения, — сказала она, вся дрожа. — Какая необходимость оскорблять рабыню?
Слово «рабыня», видимо, изменило ход мыслей Марка.
— Да, — сказал он, — рабыня... моя рабыня, купленная по дорогой цене. Почему же я должен отпускать тебя? Почему не могу оставить здесь?
— Ты можешь оставить меня здесь, Марк, но тогда ты согрешишь против своей чести даже больше, чем ты согрешишь против меня.
— В чём же мой грех? — страстно произнёс он. — Ты говоришь, что не можешь выйти за меня замуж — если я понимаю тебя правильно — не потому, что не хочешь, но по другим, имеющим для тебя значение причинам. Но ведь твои покойные родители не оставили завещания, кого именно тебе любить.
— Нет, я могу любить кого хочу, но если эта любовь незаконна, её можно сдерживать.
— Но зачем? — мягко спросил он, подходя к ней. — Ведь между нами и так крепкие узы. Не ты ли, отважная, да благословят тебя боги, рискуя своей жизнью, спасла меня в Старой башне в Иерусалиме? Не из-за этого ли ты оказалась на Никаноровых воротах, приговорённая к мучительной казни? Но ведь и я тоже, пусть немногое, но кое-что для тебя сделал. Как только твоё послание дошло до меня, я тут же отправился в Рим, пожертвовав тем, чем я дорожу больше жизни, — своей честью.
— Своей честью? — переспросила она. — Но почему?
— Потому что те, кто был во вражеском плену и бежал, считаются среди римлян трусами, — с горечью ответил он. — Такой же позор ожидает, может быть, и меня.
— Неужели кто-нибудь осмелится назвать трусом тебя, Марк?
— Почему бы и нет? Если распространится весть о том, что я жив, враги, конечно, назовут меня трусом, не буду же я рассказывать всем, что остался жить только ради тебя, Мириам, ради отвергнувшей меня женщины?
— Да, — сказала она, — поистине горька уготованная тебе судьба. Теперь, вспоминая слова Галла, я понимаю, что он хотел сказать.
— Но продолжаешь меня отвергать? Стало быть, тщетны все перенесённые мной муки? Только ради тебя я и приехал сюда, тогда как самое для меня разумное было бы пожить вдалеке от Рима, пока вся эта история не позабудется, если бы, конечно, я решил остаться в живых, но ради тебя я приехал, а ты продолжаешь меня отвергать. — Он обвил её руками и прижал к груди.
У неё не было сил сопротивляться, она только ломала руки и в слезах причитала:
— Что же мне делать? Горе мне, горе, что же мне делать?
— Что тебе делать? — Голос Нехушты прозвучал, словно зов рожка в сумерках. — Исполнять свой долг, девочка, положившись на волю Господню.
— Молчи, проклятая! — прикрикнул на неё Марк, бледнея от гнева.
— Нет, — ответила Нехушта, — я не замолчу. Послушай, римлянин; я дала тебе много доказательств своего доброго отношения: достаточно мне было бы отлучиться на час, когда ты лежал раненый в катакомбах, и всё было бы кончено. И у меня нет более заветного желания, чем увидеть вас обоих рука в руке, мужем и женой. Но сейчас я говорю тебе прямо: ты трус, куда худший трус, чем о тебе могут подумать римляне, ибо ты пользуешься слабостью любящего сердца этой бедной девушки, чтобы в час её отчаяния отвратить её от исполнения если не буквы, то духа своего долга. Ты такой бессовестный трус, что даже напоминаешь ей, что она твоя рабыня, да ещё и угрожаешь обойтись с ней, как у вас, язычников, принято обходиться с рабами. Ты пытаешься подсластить горькую правду, пытаешься стянуть тайком плод, который не можешь сорвать открыто, ты говоришь: «Ты не вправе выйти за меня замуж, но ты моя собственность, а уступить своему господину — отнюдь не грех». А я утверждаю, грех, двойной грех, ибо ты взваливаешь его бремя не только на свою, но и на её спину; и рано или поздно вас обоих постигнет неминуемая расплата.
— Ты всё сказала? — холодно произнёс Марк, размыкая, однако, объятия, так чтобы Мириам могла лечь на кушетку.
— Нет, не всё: я только говорила о плодах угрожающего вам Зла; но сердце мне подсказывает, что вы можете обрести и плоды Добра. В твоей власти освободить эту женщину, сними же оковы с её шеи и возмести все свои затраты, до последнего сестерция, она обладает достаточным для этого имуществом, оно записано на её имя, но может быть переведено на твоё. Затем изучи Священное писание, возможно, ты найдёшь там послание и себе. Если именно так и произойдёт, прекрасно, женись на ней с чистым сердцем и будь счастлив. Если ты не найдёшь там послания к себе, не беда, оставь её с чистым сердцем и прими сужденные тебе мучения. Но берегись двуличия: оно погубит и тебя и её, и твоих и её детей. Вот теперь я сказала всё: изволь же, господин Марк, милостиво объявить свою волю твоей рабыне Жемчужине и её служанке, ливийке Нехуште.
Марк расхаживал взад и вперёд по комнате: из света в тень, из тени в свет. Наконец он остановился, и обе женщины увидели, что его лицо стало мрачным и пепельно-серым, как у старика.
— При чём тут моя воля? — рассеянно сказал он. — Странно даже слышать это слово, тем более его произносить. Ну что ж, Нехушта, твои доводы убедили меня. Всё, что ты говоришь, совершенно справедливо, хотя ты и сгущаешь слегка краски. Разумеется, Мириам вправе не выходить за меня замуж, если у неё есть сомнения, и, разумеется, я поступил бы очень дурно, если бы воспользовался тем случайным обстоятельством, что купил её на невольничьем рынке. Вот и всё, что я хотел сказать. Я освобождаю тебя, Мириам, как и обещал ессеям. Поскольку никто не знает, что ты принадлежишь мне, думаю, нет никакой надобности в формальностях. Считай, что ты получила вольную, хотя сделка и заключена «Inter amicus»
[65], как говорят стряпчие. Что до имения в Тире, то я принимаю его в уплату долга, но прошу, чтобы ты продолжала владеть им по-прежнему, ибо при переводе на моё имя могут возникнуть неожиданные трудности. А теперь спокойной ночи. Нехушта отведёт тебя в твою комнату, Мириам, и завтра ты можешь отправиться куда хочешь. Желаю тебе всего доброго, но почему ты меня не благодаришь? Учитывая все обстоятельства, мне кажется, что я вполне заслужил признательность.
Мириам разразилась потоком слёз.
— Что ты будешь делать, Марк? Что ты будешь делать? — запричитала она.
— Что-нибудь такое, о чём тебе лучше не знать, — с горечью ответил он. — Может быть, я даже приму предложение нашей общей подруги Нехушты и засяду за изучение Священного писания, о котором столько наслышался; это ваше Священное писание для того, видимо, и сочинено, чтобы препятствовать счастью мужчин и женщин. — И он в ярости добавил: — Уходи, девушка, уходи сейчас же, ибо, если ты будешь продолжать лить слёзы, я переменю своё решение и, как говорит Нехушта, ввергну в опасность и твою душу, и мою собственную — на что мне наплевать.
Мириам, пошатываясь, побрела через комнату к задёрнутому шторами дверному проёму. Нехушта последовала за ней. Когда она проходила мимо, Марк поймал её за руку.
— У меня большое желание убить тебя, — спокойно произнёс он.
Но старая ливийка лишь рассмеялась.
— Я сказала тебе сущую правду, и ради твоего же блага, Марк, — сказала она. — И когда-нибудь ты это поймёшь.
— Куда ты собираешься её отвести?
— Пока ещё не знаю, но у нас, христиан, везде есть друзья.
— Ты сообщишь мне о ней?
— Конечно, если это будет безопасно.
— Особенно, если ей понадобится моя помощь...
— Да, и если тебе понадобится её помощь, я приведу её, если смогу, к тебе.
— Надеюсь, её помощь понадобится мне как можно скорей, — сказал он. — Уходи.
Глава X
НАГРАДА САТУРИЮ
Между тем в одном из дворцов цезарей, недалеко от Капитолия, разыгрывалась другая, ещё более бурная сцена. Это был дворец Домициана, куда принц возвратился с пышного триумфального чествования отнюдь не в умиротворённом настроении. В этот день случилось много для него досадного. Час за часом, в течение всего долгого празднества, он думал о том, что вся честь покорения Иудеи принадлежит не ему, даже не его отцу Веспасиану, а его брату. Тита он всегда ненавидел уже за одно то, что он всеми любим за свои добродетели, а его, Домициана, проклинают за его пороки. За блистательную военную кампанию Тита увенчали короной цезаря, он разделил вместе с отцом императорскую власть. А он, Домициан, вынужден был — почти никем не замечаемый — следовать за колесницей своего брата, которого все встречали рукоплесканиями. Приветственный рёв толпы, поздравления Сената, всадников и вассальных принцев, богатые дары чужеземных царей, складывавшиеся к ногам Тита, наполняли сердце Домициана почти исступлённой завистью. Гадатели, правда, давно уже предсказали, что его час ещё грядёт, и Веспасиан, и Тит сойдут в подземное царство, и Римом будет править он, Домициан. Но даже если их предсказания и сбудутся, то придётся долго ещё ждать наступления этого счастливого часа.
Были и другие раздражающие обстоятельства. На великом жертвоприношении в честь Юпитера ему отвели слишком далёкое место, где его не могли видеть; на пиру, который последовал за жертвоприношением, церемониймейстер не счёл нужным или забыл провозгласить здравицу в его честь.
К тому же пленная Жемчужина не пожелала украситься посланным ей пояском, и в довершение всех неприятностей на него дурно подействовала смесь разных вин, и то ли поэтому, то ли из-за жары у него — как это нередко с ним бывало — болела голова, его поташнивало.
И только мысль о скором появлении домоправителя Сатурия с прекрасной еврейкой, которая ему так понравилась, смягчала сильное раздражение. Уж тут-то не может быть никаких осечек: он договорился, что торги будут проведены сегодня же вечером, и велел своему домоправителю купить её, сколько бы это ни стоило, хоть миллион сестерциев. Да и какой наглец посмеет соперничать тут с ним, Домицианом!
Узнав, что Сатурий ещё не возвратился, он зашёл в свои покои и, чтобы скоротать время, велел, чтобы перед ним танцевали самые красивые рабыни; глядя на их танец, он тешил себя самым любимым вином. Винные пары на какое-то время утишили головную боль. В скором времени он был уже пьян и, как всегда в пьяном виде, очень жесток. Одна из танцовщиц споткнулась, в растерянности сбилась с ритма, и он тут же приказал, чтобы другие танцовщицы отстегали полунагую девушку. Но прежде чем те успели взяться за розги, раб доложил о возвращении Сатурия.
— Один? — спросил принц, вспрыгивая на ноги.
— Нет, господин, — ответил раб, — он с какой-то девушкой.
Дурное настроение тут же улетучилось.
— Отпустите рабыню, — приказал он, — и пусть в другой раз не спотыкается. И вы всё также уходите, я хочу остаться один. Раб, введи достойного Сатурия с купленной им рабыней.
Шторы раздвинулись, появился Сатурий, он потирал руки и смущённо улыбался; с ним была женщина в длинном покрывале. Домоправитель начал с обычных приветствий, но Домициан резко его оборвал.
— Встань, — приказал он. — Все эти церемонии необходимы на людях, но не здесь. Стало быть, ты всё же её купил? — добавил он, обозревая женщину в покрывале.
— Да, — неуверенно подтвердил Сатурий.
— Хорошо, ты получишь щедрое вознаграждение. Ты всегда был расторопным и преданным слугой. Велика ли цена?
— Чу-чудовищно велика, господин. Я ещё никогда не видел таких торгов. — И он протянул руки.
— Какой же это наглец посмел соперничать со мной?.. — заметил Домициан. — И сколько же ты заплатил?
— Пятьдесят тысяч сестерциев, господин.
— Пятьдесят тысяч, — с облегчением вздохнул Домициан. — Недёшево, конечно, но, случалось, за красивых рабынь платили и больше... Кстати, моя дорогая, — продолжал он, обращаясь к закутанной женщине, — ты, верно, очень устала от этого глупого, нудного спектакля.
«Дорогая» не проронила ни слова, и Домициан заговорил вновь:
— Скромность, конечно, украшает девушку, но я прошу тебя: веди себя свободнее. Сними с себя покрывало, красавица, ведь я столько дней мечтал вдоволь налюбоваться тобой. Но нет, я сделаю это сам. — И он, пошатываясь, направился к своей новой рабыне.
И вот тогда Сатурий решил, что для него настала благоприятная минута. Домициан был в таком сильном опьянении, что втолковать ему что-либо в этот вечер было невозможно. Благоразумнее всего улизнуть — и как можно быстрее.
— О благороднейший принц и мой повелитель, — начал он, — я исполнил данное тобой поручение и, с твоего позволения, хотел бы удалиться.
— Ни в коем случае, ни в коем случае, — проикал Домициан. — Я знаю, ты превосходный знаток женской красоты, о умнейший Сатурий, и я хочу обсудить с тобой все достоинства этой девушки. Ты знаешь, почтенный Сатурий, что я отнюдь не ревнив, да и, откровенно сказать, кому может прийти в голову ревновать к такому старому сморчку, как ты? Конечно же, не мне, справедливо считающемуся красивейшим мужчиной во всём Риме, куда красивее, чем Тит с его титулом цезаря... Но где застёжка, Сатурий, где застёжка? Зачем ты запеленал бедную девушку, как египетскую мумию? Я, её господин и хозяин, хочу её видеть.
Рабыня протянула руку к затылку, что-то расстегнула, и покрывало упало на пол. Домициан увидел перед собой очень красивую и статную, хотя усталую и напуганную, девушку. Он недоумённо уставился на неё своими злобными блёклыми глазами.
— Очень странно! — воскликнул он. — Она так переменилась, просто не узнать! Я-то думал, что у неё голубые глаза и вьющиеся чёрные волосы. А оказывается, глаза у неё карие, а волосы прямые. А где её ожерелье? Где ожерелье? Где твоё ожерелье, Жемчужина? И почему ты не надела посланный мной поясок?
— Господин, — ответила еврейка, — у меня никогда не было ожерелья.
— Мой повелитель Домициан, — с нервным смешком начал Сатурий, — я должен объяснить это недоразумение. Эта девушка не Жемчужина. Цена за Жемчужину оказалась так высока, что я не смог её купить — даже для вас...
Он не договорил, ибо Домициан неузнаваемо изменился. Всякие следы опьянения исчезли с лица, и теперь оно походило на свирепую, жестокую маску, в прорезях которой сверкали блёклые глаза. В этот миг Домициан предстал в своём истинном обличии: полусатир-полудемон.
— Недоразумение? — повторил он. — Недоразумение? Вот уже несколько недель я считаю её своей, но какой-то наглец посмел встать между ней — и мной, принцем Домицианом. А ты... ты посмел явиться ко мне с дурацкими россказнями, да ещё приволок с собой какую-то шлюху вместо Жемчужины... — Он едва не зарыдал от пьяного разочарования и бешенства. Он сделал шаг назад, захлопал в ладоши и громко позвал своих слуг и стражников.
Тут же сбежалось множество людей, решивших, что их господин подвергается опасности.
— Уведите и убейте эту женщину, — приказал он, — но нет, это может повлечь за собой нежелательную огласку, ведь она была пленницей Тита. Не убивайте её, просто вышвырните на улицу.
Девушку схватили за руки и увели.
— О мой повелитель... — начал Сатурий.
— Молчать! Сейчас я займусь и тобой... Разденьте его догола... я знаю, что ты свободный человек и гражданин Рима. Но в скором времени, помяни моё слово, ты будешь гражданином преисподней! Принесите розги, да потяжелей, и засеките его насмерть.
Некоторое время не было слышно ничего, кроме громких ударов и приглушённых стонов несчастного Сатурия.
— Ах, негодяи, — завопил озверевший Домициан, — вы стегаете его вполсилы, в шутку, что ли? Сейчас я вам покажу, как это делается, — и, вырвав у одного из рабов розгу, он бросился к распростёртому домоправителю; все отодвинулись в сторону, чтобы их повелитель мог явить всё своё палаческое искусство.
Увидев, что к нему подбежал Домициан, Сатурий понял, что должен немедленно что-нибудь предпринять, иначе принц засечёт его до смерти. Он кое-как поднялся на колени.
— Принц, — вскричал он, — выслушайте меня. Ваш гнев справедлив, вы можете меня убить, хотя я и не заслуживаю чести умереть от ваших рук. Но вспомните, грозный господин: если вы меня убьёте, вы никогда не сможете найти столь желанную вам Жемчужину.
Домициан остановился: даже в гневе он не терял соображения. «Несомненно, — подумал он, — плут знает, где она находится. Может быть, он даже припрятал её для себя».
— «Розга — лучшая наставница», — процитировал он вслух грубоватую поговорку, — так можешь ли ты найти мне Жемчужину?
— Да, конечно, если у меня будет время... Человека, который может выложить два миллиона сестерциев за одну рабыню, не так уж и трудно найти.
— Два миллиона сестерциев? — воскликнул Домициан, изумлённый. — А ну-ка расскажи мне всю эту историю. Рабы, верните Сатурию его одежду и отойдите, но не слишком далеко: он человек вероломный.
Домоправитель набросил одежду на свои окровавленные плечи и застегнул её дрожащей рукой. Затем он рассказал обо всём, заключив свой рассказ словами:
— Что я мог поделать, мой господин? У меня не хватало денег, чтобы заплатить такую огромную сумму.
— Что ты мог поделать, глупец? Ты мог купить её в кредит, а о цене я договорился бы потом. Что там Тит, уж его я как-нибудь перехитрил бы. Но глупость уже сделана, остаётся только её исправить, если, конечно, она поддаётся исправлению. — И он заскрипел зубами.
— Это я смогу узнать завтра, господин.
— Завтра? Что же ты сделаешь?
— Выясню, по крайней мере попробую выяснить, где скрывается девушка, тогда тот, кто купил, умрёт, а уж завладеть девушкой будет нетрудно.
— Конечно же тот, кто посмел отобрать у Домициана красавицу, дорогую его сердцу, заслуживает немедленной смерти, — с бранью сказал принц. — Послушай, Сатурий, так и быть, я тебя пощажу, но если ты ещё раз упустишь её, то будешь предан мучительнейшей смерти. А теперь ступай прочь. Завтра мы ещё посоветуемся. О боги, за что вы так жестоко караете Домициана! Моя душа вся истерзана, ей может помочь только целительная сила поэзии. Разбудите грека и пришлите его ко мне. Он прочитает мне описание гнева, который охватил Ахилла, когда у него похитили его рабыню Брисеиду, ибо судьба героя «Илиады» — моя собственная.
И, проливая лживые слёзы разочарованной страсти, новоявленный Ахилл отправился утешать свою «истерзанную душу» бессмертными строками Гомера, ибо этот зверь воображал себя поэтической натурой. Для его душевного покоя, вероятно, было хорошо, что он не видел, с каким выражением лица Сатурий растирал свои избитые плечи целебной мазью, и не слышал клятвы, которую произнёс этот ловкий и предприимчивый слуга, когда улёгся ничком на постель. То была ужасная клятва: Сатурий поклялся именами всех богов, каким поклонялись в Риме, не исключая еврейских и христианских, что когда-нибудь отомстит Домициану кинжалом за его розги. Будь принц наделён даром провидения, он, возможно, смог бы представить тебе ту, ещё далёкую, но уже вписанную в свитки судьбы ночь, когда свершится возмездие. Вот он, лысый, тонконогий толстяк в императорской мантии, катается по полу своей опочивальни в смертельной схватке с неким Стефаном, а старый домоправитель Сатурий вновь и вновь вгоняет ему кинжал в спину, крича при каждом ударе:
— На, получай! Это тебе за твои розги, цезарь. Ты помнишь Жемчужину? Это тебе за розги, цезарь. И ещё... и ещё... и ещё...
Но Домициан слушал перед сном повесть о злоключениях богоравного Ахилла, чья судьба в какой-то мере предвосхищала его собственную, в полном неведении об ожидающем его возмездии.
На другой день после великого дня Триумфа купец Деметрий из Александрии, то бишь Халев, сидел в конторе склада, нанятого им под свои товары, на одной из оживлённейших улиц Рима. Он был всё так же красив, такой же благородной наружности, как и всегда, но на его лице лежала мрачная тень печали. Весь предыдущий день он час за часом пробивался через густую толпу, вдоль улиц Рима, держась как можно ближе к Мириам, которая следовала путём великолепного позора.
Чтобы приготовиться к вечерним торгам, где вместе с другими рабынями должны были выставить и Мириам, он распродал все свои товары, обратив их в наличность, ибо знал, что ему придётся соперничать с самим Домицианом, и предвидел, что цена за прекрасную Жемчужину, о которой толковал весь город, будет очень высока. Что произошло на торгах, мы уже знаем. Он предложил всё, что у него было, до последней монеты, и всё же Жемчужину у него перекупили. Таинственная женщина в крестьянской одежде перекупила её даже у посредника Домициана. Женщина была переодета, говорила не своим голосом, со странным акцентом, но он узнал её с первого взгляда. Казалось просто невероятным, что Нехушта в Риме, и всё же это Нехушта, а никто иной.
Вообще-то это неплохо, думал Халев, что Мириам купила именно Нехушта, но где она могла раздобыть здесь, на чужбине, столько денег? Кто же стоит за её спиной? Кто? Это может быть только один человек — Марк. Но Халев навёл справки: его нет и не должно быть в Риме. Есть все основания полагать, что его соперник давно уже мёртв, а его кости валяются вместе с десятками тысяч скелетов среди развалин Священного города в Иудее. В последний раз он видел Марка тяжело — скорее всего смертельно — раненным, ибо удар нанёс он сам, Халев: он лежал без памяти в Старой башне в Иерусалиме. Затем он исчез, и вместо него появилась Мириам. Но куда он мог скрыться? Даже если Мириам и удалось спрятать его в какой-то тайной норе, как смог бы он выжить без еды и без ухода? А если он жив, то почему не показывается на людях? Почему такой богатый патриций и прославленный солдат не участвовал в триумфальном шествии Тита?
С чёрным отчаянием в груди видел Халев, как Мириам продали таинственной незнакомке с корзиной, как она ушла вместе с аукционистом и слугой незнакомки, который также тащил на себе корзину, в контору. Под каким-то предлогом он попробовал сунуться туда, но его остановил сторож. Он долго ждал около двери, и когда вернулся один аукционист, он сразу же догадался, что и покупательница, и та, кого она купила, вышли через задний ход — по всей вероятности, чтобы избежать слежки. Он обежал здание и увидел перед собой пустые, озарённые звёздным мерцанием площади Форума. Ему почудилось, что далеко вдали мелькнула небольшая: группка людей: они поднимались по чёрной мраморной лестнице в тёмной тени какого-то храма. Он перебежал через площадь, быстро поднялся по лестнице и на самом её верху увидел счетовода, помощника аукциониста: он смотрел вдоль широкой улицы, такой же пустынной, как и лестница.
Остальное уже известно нашим читателям. Халев устремился за беглецами, дважды ему удалось видеть фигурки в тёмной одежде, заворачивающие за отдалённые углы. Однажды он потерял их из виду, но случайный прохожий, торопившийся на ночное пиршество, подсказал ему, где их искать. Он ринулся вперёд почти наугад и был вознаграждён за своё неустанное преследование зрелищем беглецов, заходящих в узкий дверной проем. Он даже торкнулся в массивную дверь и убедился, что она заперта. Он хотел было постучать, но спохватился, подумав, что достаточно будет ему изложить своё дело, — и ему уже не уйти живым. В этот ночной час тот, кто купил прекрасную рабыню, наверняка держит меч наготове против несчастливого соперника, который осмелится преследовать его добычу.
Халев обошёл дом, точнее, мраморный дворец, который казался совершенно безлюдным, хотя в одном из окон, через щель в ставнях, как будто и мелькнул огонёк. Теперь он узнал этот дом — тот самый, перед которым останавливалась триумфальная процессия, а римский солдат, не выдержав насмешек толпы, бросился под колеса. Да, сомнения нет, его кровь всё ещё темнеет на пыльных камнях, тут же лежит кусок сломанной прялки, которую вместо меча дали этому бедняге. Благороднейшие люди эти римляне! Если так подходить к вопросам чести, то следует наказать и его соперника Марка, взятого в плен им, Халевом. При этой мысли Халев улыбнулся: он хорошо знал, что среди солдат нет никого отважнее Марка. За этой мыслью последовал целый поток других. Где-то в этом необитаемом на вид доме должна быть сейчас Мириам: совсем рядом, но так же далеко, как если бы она всё ещё была в Иудее. Да, Мириам наверняка здесь, но кто же с ней? Новообретённый господин, который уплатил за неё два миллиона сестерциев.
Халев едва не захлебнулся от ярости. До сих пор в его жизни господствовали две страсти: честолюбие и любовь к Мириам. Он мечтал быть правителем евреев, может быть, даже их царём; поэтому-то и вступил в ряды заговорщиков и сражался за изгнание римлян из Иудеи. Он участвовал в доброй сотне отчаянных стычек. Вновь и вновь рисковал своей жизнью, вновь спасался бегством. Для человека молодого он достиг достаточно высокого положения, стал одним из высших военачальников евреев.
Наступил конец, последний ужасный бой — окончательный разгром. А он всё ещё жив, погибли сотни тысяч его соотчичей, а он не только жив, но и в безопасности — не потому что очень дорожит своей шкурой, а потому что стремится спасти Мириам. Ему удалось не только спрятать свои деньги, но и со свойственным его единоплеменникам финансовым талантом даже и приумножить их, и вот прославленный военачальник, государственный муж превратился в торговца восточными товарами. Но все эти блистательные возможности уже в прошлом; он может стать ещё богаче, но для него, еврея, отныне закрыт путь к величию, он уже не может насытить свою душу столь желанной ей славой. Остаётся только эта страсть к одной-единственной женщине среди многих миллионов, обитающих под солнцем, к подруге его детских игр, которую он любит, сколько помнит себя, и будет любить до конца без всякой надежды на взаимность.
Но почему она его не любит? Потому что на его пути соперник, проклятый римлянин Марк, которого он вот уже несколько раз покушается убить, но тот неизменно ускользает от него. Каждый раз, сжав пальцы, он обнаруживает, что песок просыпался. Одно утешение: если она недостижима для него, то точно так же недостижима и для Марка. Но утешение очень слабое, в эти мучительные часы в его душе бушуют все пламена геенны. Он потерял Мириам, в чьих же она руках?
Всю долгую ночь Халев бродил вокруг холодного, пустого на вид дворца, терпя невероятные муки, заслуживающие сострадания и богов и людей. Наконец забрезжил рассвет, струя своё тусклое мерцание на великолепную улицу, группы усталых, ещё не протрезвевших кутил, возвращающихся домой с ночных пирушек: нарумяненных мужчин и растрёпанных женщин. Появились скромные труженики, среди них и метельщики, которые вышли на работу пораньше, надеясь найти после триумфального шествия какие-нибудь ценные вещи, оброненные его участниками или зрителями. Двое метельщиков принялись мести около Халева; чтобы развлечься, они подтрунивали над ним, спрашивая, не провёл ли он всю ночь в канаве и не забыл ли он дорогу домой. Он отвечал, что ждёт, пока откроются двери этого дома.
— Какого дома? — спросили они. — «Счастливого дома»? — И показали на мраморный дворец Марка, с золотой надписью над портиком, которую Халев только сейчас рассмотрел.
Он кивнул.
— Тебе придётся долго ждать, — сказал один из метельщиков. — Этот дом давно уже не оправдывает своего названия. Его хозяин убит на войне, и никто не знает, кому он достанется.
— Кто был его хозяином?
— Марк, любимец Нерона, по прозвищу Счастливчик.
С горькой бранью на устах Халев повернулся и пошёл прочь.
Глава XI
СУД ДОМИЦИАНА
Прошло два часа, а полный ярости Халев всё ещё сидел в своей конторе. Одно желание раздирало его сердце — убить своего удачливого соперника Марка. Никаких сомнений не может быть: Марк спасся и возвратился в Рим. Это он, один из богатейших патрициев Рима, поручил Нехуште купить Мириам на торгах. А затем велел привести свою новую рабыню в дом, где он её ждал. Вот чем завершилось их длительное соперничество, вот ради чего он, Халев, сражался, наживал деньги, вынашивал всякие замыслы и страдал. «Уж лучше бы она досталась этому негодяю Домициану, — в горьком ожесточении думал Халев, — Домициана она по крайней мере ненавидела бы, а Марка любит».
Выход оставался один — отомстить. Он, Халев, должен отомстить за себя, но как, каким образом? Выследить и убить Марка? Но тогда в опасности окажется его собственная жизнь: он хорошо знал, какая судьба ожидает чужеземца, особенно еврея, который осмелится поднять руку на римского вельможу; прибегнуть же к помощи наёмных убийц тоже очень рискованно: они могут выдать того, кто их нанял. А умирать Халев не хотел; жизнь — единственное сохраняющееся у него ценное достояние, думал он. К тому же, пока он жив, ещё остаётся надежда, что после смерти своего соперника он сможет завладеть Мириам. Тогда её, без сомнения, продадут вместе с другими рабами, и он купит её по дешёвой цене, как товар, уже бывший в употреблении. Нет, нет, он не должен подвергать себя опасности. Необходимо ждать, пока представится благоприятная возможность.
А возможность представилась очень скоро, ибо в те дни, как и во времена нынешние. Царь Зла всегда спешил прийти на помощь тем, кто взывал к нему с достаточной страстностью. В дверь неожиданно постучали.
— Войдите, — грубо крикнул Халев, и в контору вошёл человечек с коротко стриженными волосами и проницательным суровым лицом, которое показалось ему знакомым. Но узнать его было не так-то легко: один глаз заплыл, висок залеплен пластырем. К тому же человечек хромал и непрестанно передёргивал — по-видимому, сильно болевшими — плечами. Но как только он открыл рот, чтобы заговорить, Халев сразу же его узнал. То был домоправитель Домициана, который, как и он, потерпел поражение на торгах.
— Приветствую тебя, благородный Сатурий, — сказал он. — Прошу тебя, присаживайся, я вижу, тебе трудно стоять.
— Да, да, — ответил домоправитель, — и всё же я лучше постою. Вчера вечером со мной произошёл несчастный случай, пренеприятнейший случай. — И вместо дальнейших объяснений он кашлянул. — И у вас тоже, почтенный Деметрий, — если не ошибаюсь, так вас зовут, — такой вид, будто вы провели бессонную ночь.
— Со мной тоже случился несчастный случай; никаких, правда, следов, небольшое внутреннее повреждение, которое может оказаться весьма болезненным... Итак, благородный Сатурий, чем я могу вам услужить? Не хотите ли приобрести восточные шали?
— Благодарю вас, друг. Я пришёл говорить не о шалях, а о плечах. — И он опять передёрнул плечами. — О женских плечах. О прелестных плечах еврейской пленницы, в которой вы принимали столь большой интерес, что готовы были уплатить миллион четыреста тысяч сестерциев.
— Да, — ответил Халев, — плечи у неё и впрямь прелестные.
Последовала пауза.
— Поскольку я человек деловой, к тому же очень занят, не перейдёте ли вы прямо к делу?
— Разумеется, я только и ждал вашего позволения. Как вы, возможно, слышали, я являюсь представителем весьма знатного вельможи...
— Который также принимал большой интерес в пленнице и готов был уплатить полтора миллиона сестерциев.
— Совершенно верно. К сожалению, этот его интерес отнюдь не убавился, только, я бы сказал, перешёл на другого человека...
— Глубокие чувства побудили его заплатить на пятьсот тысяч больше.
— Совершенно верно. Какой вы догадливый человек! Истинный сын Востока.
— Не могли бы вы говорить более ясно?
— Пожалуйста, превосходный Деметрий. Знатный вельможа, о котором я упомянул, был столь огорчён этой потерей, что разрыдался и даже позволил себе упрекнуть меня, которого он любит сильнее, чем родного брата...
— Если всё, что о нём говорят, верно, это вполне естественно, — сухо отозвался Халев и добавил: — Тогда-то с вами и случился этот... пренеприятнейший случай?
— Да, да. Видя, в каком горе мой царственный хозяин, я вдруг упал...
— И вероятно, провалились в колодец, ибо повредили себе и глаз, и спину, и ногу? Но я понимаю, такое бывает в домах знатнейших вельмож, где полы столь гладкие, что может поскользнуться и упасть самый осторожный человек. Но ведь это слабое утешение для пострадавшего.
— Весьма, — прорычал Сатурий, — но поскольку переложить полы не в его власти, ему остаётся лишь мелить подошвы своих сандалий и натирать спину маслом... Я хочу знать имя покупателя, ибо старуха скрылась, а этот дурак аукционист ничего не знает.
— Зачем вам его имя?
— Домициан требует его головы. Желание, по-моему, противоестественное, но, по некоторым соображениям, честно сказать, я склонен способствовать его удовлетворению.
В голове у Халева, наподобие свечи в тёмной комнате, вспыхнул неожиданный огонёк.
— Ах так, — сказал он. — И если я смогу подсказать, как получить эту голову, да ещё и без особого шума, то взамен я могу рассчитывать на руку этой девушки. Видите ли, я знал её ещё во времена юности и питаю к ней чисто братский интерес.
— Ну, конечно, так же, как и Домициан, и человек с двумя миллионами сестерциев, и половина всех мужчин в Риме, которые испытывали то же самое родственное чувство, когда видели её вчера. Тут нет ничего удивительного. Должен сказать, что моего хозяина интересуют лишь безупречные светлые жемчужины, он никогда не восхищался девушками или женщинами со сколько-нибудь ущербной репутацией. Но у него странно ревнивый характер, он требует не руки девушки, а головы своего соперника.
— Не уточните ли вы одно обстоятельство, прежде чем мы продолжим этот разговор? — спросил Халев. — Если нет, я вряд ли возьмусь за столь щекотливое и опасное дело.
— С удовольствием. Может быть, вы изложите мне свою просьбу письменно. И ответ, как я понимаю, вы тоже хотите получить письменный.
Халев взял пергамент, стиль и написал:
Халеву, сыну Хиллиэля, даётся полное письменное, заверенное всеми надлежащими подписями прощение за его участие в Иудейской войне, а также предоставляется свобода жить, путешествовать и торговать в пределах всей Римской империи.
Кроме того, заинтересованное лицо письменно обязуется передать еврейскую рабыню по прозвищу Жемчужина в полную и неоспоримую собственность александрийскому купцу Деметрию, если последний, в свою очередь, передаст в его руки виновника причинённой ему обиды.
— Вот и всё, — сказал Халев, вручая пергамент Сатурию. — Этот Халев, упоминаемый в записке, — мой еврейский друг; я хочу оказать ему важную услугу, ибо без его помощи и показаний я не смогу осуществить предлагаемую мной сделку. Будучи очень застенчив и робок, этот Халев, чьи нервы подверглись сильному испытанию во время осады Иерусалима, не станет действовать без письменного прощения, которое, кстати сказать, потребует должным образом заверенной подписи самого цезаря Тита. Но это моя дань нашей дружбе, для себя же лично я прошу, чтобы мне передали госпожу, которую я хочу отвезти в Иудею, к тоскующим по ней родственникам.
— Всё понял, — сказал Сатурий, — никаких дальнейших объяснений не требуется. Вести дело с александрийскими купцами — одно удовольствие. Я думаю, что управлюсь за два часа.
— Только приходите один. Я уже вам говорил, что всё зависит от Халева; в случае, если что-нибудь его встревожит, всё может сорваться. А он — единственный обладатель ключа к тайне. Утратив этот ключ, ваш повелитель никогда не получит головы своего соперника, как и Халев — руки девушки.
— Успокойте робкого Халева, ему нечего опасаться. Кому нужен грязный предатель своего дела и народа? Пусть он спокойно вылезает из своей сточной канавы и наслаждается солнцем. Цезари не сражаются с трупными крысами. Но я ухожу, достойнейший Деметрий, ибо должен поспешать, чтобы быстрее вернуться со всем, чего вы просите.
— Прекрасно, благороднейший Сатурий, и ради нас обоих не забывайте, как скользки полы во дворцах, ещё одно падение может оказаться для вас роковым.
«Мой корабль — в глубоких водах, — подумал Халев, когда за его посетителем захлопнулась дверь. — Но я уверен, что благополучно достигну гавани. Во всяком случае, это мой единственный шанс. Принц, ясное дело, хочет мести, а не любви. Что для него Мириам? Мимолётная прихоть, игрушка, кем-то похищенная. Несомненно, он хочет убить этого похитителя, но цари брезгливо отворачиваются от увядших роз, достойных украшать лишь голову александрийского купца. Итак, я бросаю кости в последний раз, и пусть они определят мой жребий».
Начатая им игра продолжалась в Домициановом дворце. Смиренно, даже униженно доложил верный домоправитель Сатурий о своих розысках августейшему повелителю Домициану, жестоко страдавшему от печёночных колик; обычно багроволицый, теперь весь жёлтый, с ещё более неприятным, чем всегда, взглядом своих бледных глаз, сидел он на диване среди подушек, наслаждаясь благоуханием розового масла и обрызгивая уксусом лоб.
Он равнодушно выслушал рассказ своего шакала, пока наконец его отупевший ум не осознал всё значение
условий, предложенных таинственным восточным купцом.
— Так, значит, — произнёс он, — этот человек хочет завладеть Жемчужиной, а мне, на мою долю, предлагает жизнь купившего её человека, кто бы он ни был. Да как ты смеешь излагать мне его предложение, в своём ли ты уме? Неужели ты не понимаешь, что мне нужна и сама эта женщина, и кровь того, кто осмелился похитить её у меня?
— О, божественнейший принц, я всё хорошо понимаю; но мы можем подсечь эту рыбу только после того, как она заглотнёт наживку.
— А почему бы не схватить его и не предать пыткам?
— Я уже думал об этом, но евреи — народ очень неподатливый. Пока мы будем вытягивать из него истину, птичка может упорхнуть с кем-нибудь другим. Гораздо лучше обещать ему всё, что он просит, а затем...
— А затем?
— Затем можно забыть свои обещания. Это проще простого.
— Но он хочет иметь письменное подтверждение?
— Ну и что? Я напишу это подтверждение своей рукой, а мой божественный повелитель может в любой момент сказать, что он его не подписывал. Только прощение Халеву — это, верно, и есть сам Деметрий — должно быть подписано Титом. Велика ли беда, если ещё один еврей получит право торговать в Римской империи, ведь ценой такой уступки вы можете заручиться его помощью в чрезвычайно важном для вас деле. А когда наступит подходящий час, вы сможете поймать в свои сети и неизвестного соперника и девушку, и пусть тогда наш друг Деметрий известит об этом её родственников в Иудее, о которых, по его словам, он только и заботится.
— Сатурий, — оживился Домициан, заинтересованный, — ты, оказывается, не так глуп, как я предполагал. После вчерашнего происшествия ты соображаешь куда быстрее и лучше. Только перестань дёргать плечами, это меня раздражает, и скажи, чтобы тебе замазали белилами синяки. Ты знаешь, что я терпеть не могу тёмных цветов, наводящих на меня, человека по-детски радостного и весёлого, дурное настроение. А теперь напиши от моего имени обязательство вернуть Жемчужину этому Деметрию; сам же и подпишись. Затем передай мои приветствия Титу и попроси его подписать грамоту, дарующую прощение некому Халеву, еврею, сражавшемуся против него в Иерусалиме, с меньшим, к сожалению, успехом, чем хотелось бы; скажи, что этот человек под моим покровительством.
Спустя три часа Сатурий вторично появился в конторе александрийского купца.
— Достойнейший Деметрий, — сказал он, — поздравляю тебя. Все твои пожелания выполнены. Вот грамота, подписанная Титом и должным образом заверенная: она дарует тебе, я хочу сказать, твоему другу Халеву, прощение за всё, совершённое им в Иудее, и разрешение жить и торговать везде, где он пожелает, в пределах всей Римской империи. Должен сказать, что получить эту грамоту было очень нелегко, ибо, измученный своими тяжкими трудами и подвигами, Тит сегодня уезжает на приморскую виллу, где по настоянию своих лекарей проживёт три месяца, не занимаясь решительно никакими делами. Итак, ты удовлетворён грамотой?
Халев внимательно изучил подписи и печати.
— Всё как будто бы в порядке, — с сомнением сказал он.
— Конечно, в порядке, превосходный Деметрий. Халев, если хочет, может появиться на Форуме и публично поведать плебеям о падении Иерусалима. А вот и письмо божественного — точнее, полубожественного Домициана, заверенное мной и скреплённое печатью. В этом письме говорится, что если ты окажешь существенную помощь в задержании негодяя, который сорвал намерения Домициана, речь, разумеется, идёт не о тебе, пленница будет передана тебе бесплатно или по разумной цене, не превышающей пятнадцати тысяч сестерциев. Такова была бы сейчас её цена на торгах. Ты удовлетворён и этим письмом?
Халев так же внимательно изучил и его.
— Ваша подпись подозрительно смахивает на подпись Домициана, — заметил он.
— Ничего удивительного, — отмахнулся Сатурий. — В домах особ царской крови принято, чтобы домоправители копировали подпись своих повелителей.
— И их нравы, даже если они самые распущенные, а также их манеру держаться, — съязвил Халев.
— Во всяком случае, — продолжал Сатурий, — вы видите, что печати подлинные.
— Ну, их-то можно было взять без разрешения. Как бы то ни было, я готов рискнуть: даже если в этих бумагах что-нибудь не так, принцу Домициану вряд ли пришлось бы по вкусу, если бы их предъявили в суде.
— Хорошо, — сказал Сатурий, не в силах сдержать облегчённый вздох. — А теперь назовите имя этого негодяя.
— Имя негодяя, — перегнувшись вперёд, медленно произнёс Халев, — Марк — один из конных префектов Тита в Иудейской войне. Это он купил госпожу Мириам, известную под прозвищем Жемчужина, с помощью старой ливийки Нехушты; сейчас она, без сомнения, находится в его доме на Виа Агриппа.
— Марк? — переспросил Сатурий. — Но ведь было сообщение о том, что он убит, и сейчас как раз обсуждается дело о его наследстве, доставшемся ему от дяди, проконсула Кая, который нажил большое состояние в Испании. Марк был любимцем покойного божественного Нерона, который назначил его хранителем какого-то очень понравившегося ему бюста. Он важная особа, и даже Домициану не так-то легко с ним справиться. Но откуда ты знаешь всё это?
— От друга Халева. Он видел своими глазами, как эту черномазую ведьму Нехушту и прекрасную Жемчужину отвели в дом Марка. Ещё там, в Иудее, Марк был её возлюбленным.
— Дальнейшее меня не интересует, я и так догадываюсь. Но ты не знаешь, находится ли сам Марк в Риме, а если и находится в Риме, то, что он перекупил рабыню у Домициана, свидетельствует о его дурном вкусе, но само по себе не является преступлением.
— Да-а, но ведь Марк совершил преступление, которое строго карается законом.
— Какое же?
— Он был захвачен в плен евреями, но бежал; по особому эдикту Тита, подобному законам мидийцев и персов, это рассматривается как преступление, наказуемое смертной казнью либо разжалованием и изгнанием.
— А кто может это доказать?
— Халев. Ибо это он захватил Марка в плен.
— И где? — вскипел Сатурий. — Где находится этот трижды проклятый пёс Халев?
— Перед вами, о трижды благословенный домоправитель Сатурий.
— Ну что ж, — сказал Сатурий, — это упрощает дело. А теперь, друг Деметрий, — ты, видимо, предпочитаешь это имя, — скажи, что ты предлагаешь?
— Я думаю, для твоего господина будет нетрудно раздобыть все необходимые документы, затем Марк будет арестован, судим и осуждён, а Жемчужина будет передана мне, и я немедленно увезу её из Рима.
— Хорошо, — сказал Сатурий. — Перед отъездом Тит поручил Домициану вести все дела по военному ведомству, это облегчает дело, хотя любой приговор и должен быть утверждён цезарем. А теперь прощай! Если преступник здесь, в Риме, он будет схвачен сегодня же ночью, и завтра может понадобиться твоё свидетельство.
— А девушка будет передана мне?
— Я полагаю, — ответил Сатурий, — но конечно же не могу ручаться полностью, так как могут возникнуть юридические препятствия для её немедленной перепродажи. Но положись на меня: я сделаю всё, что в моих силах.
— Твои услуги будут достойно вознаграждены, — со значением ответил Халев. — Скажем... пятьдесят тысяч сестерциев... по получении мною рабыни?
— Если тебе так угодно, если тебе гак угодно; дары — это цемент, скрепляющий дружбу. Небольшой аванс. Ну что ж, тому, у кого большие расходы, пригодятся и пять тысяч сестерциев. Ты, думаю, представляешь себе, что такое жить в этих роскошных дворцах на небольшое жалованье и на широкую ногу. Благодарю тебя, дорогой Деметрий. Когда ты получишь девушку, на твои деньги я устрою ужин в твою и её честь... «Если, конечно, ты её получишь»... — мысленно добавил он, выходя из конторы.
Когда на следующее утро Халев явился к себе в контору, его уже ожидали два человека в ливреях Домицианова дома, которые потребовали, чтобы он отправился вместе с ними во дворец принца.
— Зачем?
— Чтобы дать необходимые показания на суде.
Так он узнал, что его замысел удался, соперник схвачен, и его сердце, томимое мучительной ревностью, какую могут испытывать лишь люди Востока, взыграло от радости. И всё же, проходя по поблескивающим в утренних лучах мостовым, Халев почувствовал вдруг сильные угрызения совести: нет, не так одолевают своих соперников, он, собирающийся обвинить отважного Марка в трусости, — сам трус; ложь в словах и поступках не может никому принести ни счастья, ни покоя. Но он — слепой безумец. Может думать лишь о том, что Мириам, которую он любит всем своим страстным сердцем и чью жизнь он спас, рискуя своей собственной, находится в руках соперника. И он вырвет её из его рук даже ценой своей чести или навсегда повергнув её в отчаяние, — и сделает всё, что в его силах, чтобы эти руки навсегда охладели. После смерти Марка она, может быть, простит его. Во всяком случае, он окажется на его месте. Она будет его рабыней, которую он, невзирая на всё, что было, возвысит до положения жены. А через некоторое время его доброта и нежность вытеснят из её души воспоминания об этом римлянине, который покорил её девичье сердце, и она полюбит его, Халева.
Они вошли во дворец. В первом же зале их встретил Сатурий; он показал рабам жестом, чтобы они отошли от Деметрия.
— Значит, вы их схватили? — с нетерпением спросил Халев.
— Точнее говоря, одного из них. Девушке удалось бежать.
Халев сделал шаг назад.
— Она бежала? Куда же?
— Хотел бы я знать. А я-то надеялся, что вы знаете. Мы нашли в доме только Марка: он готовился отправиться к Титу. Но пошли, нас ожидают судьи.
— Но если она бежала, для чего мне выступать свидетелем в суде? — спросил Халев, пятясь.
— Не знаю, но тебе придётся дать показания. Эй, рабы, проводите свидетеля.
Поняв, что пути назад нет, Халев махнул рукой, показывая, что в эскорте нет никакой необходимости, и последовал за Сатурием. Они вошли в высокий, но не очень просторный зал. В самом его конце, в пурпурной мантии, какие носят лишь особы царской крови, сидел Домициан; слева и справа от него за узкими столами, с непокрытыми головами, но в доспехах, расположились пять-шесть его телохранителей. Тут же находились два писца со своими табличками, человек в судейском одеянии, видимо обвинитель, и несколько стражников.
Багроволицый Домициан, как раз беседовавший с обвинителем, был явно в прескверном настроении; устремив взгляд на вошедшего Халева, он спросил:
— Это и есть тот самый свидетель-еврей, Сатурий?
— Да, мой повелитель. И ещё один свидетель ожидает за дверью.
— Хорошо. Введите обвиняемого.
Услышав за спиной шаги, Халев обернулся и увидел Марка: он держался гордо, с военной выправкой. Их глаза встретились, и на мгновение Марк остановился.
— А, — сказал он. — Халев. Теперь я понимаю. — Он прошёл вперёд и по-солдатски отсалютовал принцу.
Домициан посмотрел на него с ненавистью в бледных глазах и бесстрастно спросил:
— Это и есть обвиняемый? В чём же он обвиняется?
— Обвиняемый — Марк, конный префект, который служил под началом цезаря Тита в Иудее, командуя большим отрядом римских войск. В нарушение наших воинских традиций и эдикта цезаря Тита, он позволил захватить себя в плен евреям. Эдикт же, утверждённый цезарем Титом в самом начале осады Иерусалима, требует, чтобы ни один солдат не сдавался в плен живым, и если он всё же захвачен врагами, а затем спасён нашими войсками или бежал, то он подлежит смертной казни либо разжалованию и изгнанию. Господин Марк, признаете ли вы себя виновным?
— Прежде всего я хотел бы знать, — спросил Марк, — какое право вы имеете меня судить. Я требую, чтобы меня судил, если уж есть такая необходимость, мой непосредственный начальник Тит.
— Тогда, — сказал обвинитель, — вам следовало обратиться к нему сразу же по прибытии в Рим. Теперь же он находится там, где его запрещено беспокоить; ведение же всех дел но военному ведомству он поручил своему царственному брату, принцу Домициану, который, вместе со своими телохранителями, и является вашим законным судьёй...
— Вероятно, господин Марк был слишком занят делами, — язвительно перебил его Домициан, — чтобы сразу же по прибытии в Рим потрудиться объяснить своё поведение цезарю Титу.
— Я как раз собирался отправиться к нему, когда меня задержали, — сказал Марк.
— Вам следовало сделать это раньше. А теперь извольте объяснить своё поведение здесь, перед нами.
Заговорил обвинитель. В ходе следствия установлено, сказал он, что обвиняемый в сопровождении старой женщины вернулся на коне в Рим рано утром, в день Триумфа, и тут же направился прямо в свой дом, который именуется «Счастливым домом». Вечером он послал оттуда в Форум старую женщину и раба с большими суммами денег в корзинах на спине; на эти деньги они купили на торгах прелестную еврейскую пленницу, прозываемую Жемчужиной. Жемчужина была отведена к нему домой, но утром, при его задержании, ни её, ни старухи в доме не оказалось. Обвиняемый заявил, что он как раз хотел отправиться к цезарю Титу, чтобы доложить ему о своём прибытии, но тот уже уехал. В конце своей речи обвинитель заявил, что для подтверждения обвинения он вызвал в суд еврея по имени Халев, который получил прощение всех совершенных им преступлений от самого цезаря Тита и в настоящее время находится в Риме, где под именем Деметрия занимается торговлей.
Затем выступил вперёд и дал свои показания Халев. Отвечая на задаваемые вопросы, он рассказал, что командовал отрядом евреев, которые сражались с римлянами около Старой башни за несколько дней до захвата Храма. В ходе этого сражения ему довелось вести переговоры с префектом Марком, стоящим сейчас здесь, перед ним; в конце этих переговоров он вызвал его на поединок. Марк отказался и хотел бежать, поэтому он плашмя ударил его по спине мечом. Начался поединок, в котором он, свидетель, одержал верх. Будучи ранен, обвиняемый выронил меч, упал на колени и запросил пощады. За поединком последовала общая схватка; поэтому он, Халев, втащил своего пленника в Старую башню и вернулся на место сражения.
Когда он получил возможность вновь зайти в башню, пленник уже успел скрыться, оставив вместо себя девушку, которую римляне знают под прозвищем Жемчужины; позднее эта девушки была захвачена в плен и выставлена для продажи на Форуме, где её купила старая женщина, в которой он опознал вырастившую её служанку. Пойдя за ними следом, он выяснил, что они укрылись в доме на Виа Агриппа, принадлежавшем, по его сведениям, обвиняемому Марку. Вот и всё, что он знает.
Затем обвинитель вызвал солдата, который показал, что в тот самый день он сражался иод командованием Марка и видел, как предводитель евреев — этот самый Халев — в конце переговоров ударил обвиняемого мечом по спине. В последующем сражении римляне вынуждены были отойти. Он только успел заметить, что их префекта Марка уводят в плен, меча у него нет, из головы хлещет кровь.
После того как были заслушаны показания свидетелей, слово предоставили самому Марку, спросив его, что он может сказать в своё оправдание.
— Очень многое, — гордо заявил тот, — но только перед беспристрастным судом. Я требую, чтобы выслушали показания легионеров, которые были со мной в Иудее, здесь же я не вижу никого из них, кроме этого шельмы, которого в своё время приказал высечь за воровство и изгнать из легиона. Но, к сожалению, это невозможно, ибо все они в Египте. Что до Халева, то он мой заклятый враг, который ещё в юности совершил убийство своего же еврейского стражника и которого я ещё тогда победил в поединке, но сохранил ему жизнь. Верно, что он нанёс мне удар плашмя по спине, а когда я ринулся на него, ударил меня по голове, отчего я лишился сознания. В таком состоянии меня и взяли в плен. Несколько недель я пролежал полуживой-полумёртвый в катакомбах одной из еврейских сект, где меня лечили. Оттуда я бежал в Рим, намереваясь донести обо всём своему повелителю цезарю Титу. К цезарю Титу я и взываю о беспристрастном разбирательстве моего дела.
— В его отсутствие я являюсь его полномочным представителем, — заявил Домициан.
— В таком случае, — сказал Марк, — я требую, чтобы моё дело было передано на разбирательство цезарю Веспасиану; я выскажу ему всё, что считаю нужным. Я римский аристократ, из самых знатных, и имею право, чтобы меня судил сам цезарь, а не с пристрастием подобранный суд, председатель которого питает ко мне личную неприязнь по обстоятельствам, которые я не хотел бы здесь затрагивать.
— Наглец! — истошно завопил Домициан. — О твоей просьбе будет доложено цезарю — если, конечно, он пожелает её выслушать. А теперь скажи, где находится купленная на торгах женщина, ибо нам требуются её показания.
— Этого я не знаю, принц, — ответил Марк. — Да, она приходила в мой дом, но я тут же предоставил ей вольную, и она ушла со своей бывшей служанкой — куда, я и в самом деле не знаю.
— Я-то полагал, что ты только трус, — усмехнулся Домициан, — но, оказывается, ты ещё лгун. — И, посоветовавшись с остальными членами суда, он сказал:
— Мы считаем, что выдвинутое против тебя обвинение доказано: ты действительно опозорил честь римского оружия, ибо не покончил с собой, как это сделали многие люди куда более низкого происхождения, и вполне заслуживаешь наказания. Но вынести приговор имеет право только сам цезарь. А пока, до вынесения приговора, я повелеваю заключить тебя в одиночную камеру военной тюрьмы около храма Марса; предупреждаю, что при попытке бежать ты будешь убит. Но тебе предоставляется право письменно изложить свои оправдания для передачи моему отцу вместе с показаниями свидетелей.
— Я испытываю непреодолимое искушение покончить с собой, как, по вашим словам, мне давно уже следовало поступить, — сказал Марк в своём последнем слове, — это куда предпочтительней, чем терпеть весь этот позор и унижения. Но моя честь запрещает мне самоубийство. Если я и умру, то не ранее того, как цезарь Веспасиан и цезарь Тит, мой непосредственный начальник, вынесут мне обвинительный приговор. Вы, принц, и вы, телохранители, никогда ещё не обнажавшие меча в защиту Римской империи, смеете называть трусом меня, участника пяти кампаний, опытнейшего солдата, на основании показаний этого предателя-еврея, моего личного врага, и солдата, которого я приказал выпороть за воровство. Посмотрите же на мою грудь. — И, разодрав одежду, Марк показал на четыре белых рубца. — Позовите моих боевых товарищей, с кем я сражался в Галлии, Сицилии, Египте и в Иудее, и спросите их, впрямь ли Марк — трус? Спросите хотя бы этого пощажённого мной еврея: трус ли Марк?
— У нас нет времени слушать твои похвальбы, — оборвал его Домициан. — Убери свои царапины. Достаточно того, что ты был взят в плен евреями. У тебя есть право обжаловать наше решение, твоё дело будет передано на утверждение самому цезарю. Если подтвердится, что ты говорил правду, тебе придётся доставить сюда эту женщину, которая якобы спасла тебя от евреев и которую ты купил на торгах. Тогда мы сможем выслушать и её показания. А пока я отправлю тебя в тюрьму. Эй, стражники, уведите Марка по прозвищу Счастливчик, бывшего конного префекта римской армии в Иудее.
Глава XII
ЕПИСКОП КИРИЛЛ
На другое утро после дня Триумфа Юлия, жена Галла, сидела в своей спальне, глядя на жёлтые воды Тибра, струившиеся почти под самым её окном. Встала она чуть свет, переделала все домашние дела и теперь готовилась помолиться. Накануне, смешавшись с толпой зевак, она видела, как её любимицу Мириам проводили по улицам Рима. Это зрелище так её расстроило, что она отправилась домой, а её муж остался наблюдать за последним актом происходившей в тот день драмы. Около девяти часов вечера и он тоже возвратился домой и рассказал, что Мириам за большую сумму продали с торгов: стоя в сторонке, он наблюдал за всем происходящим. Жемчужину купил не Домициан, сказал он жене, а какая-то старая ведьма с большой корзиной на спине, после чего её тут же увели. Ничего более определённого он не знал. Юлия была недовольна скудостью сообщённых им сведений и упрекнула его за то, что он не проявил большей расторопности. Но хотя и выказывала раздражение, в глубине души она всё же радовалась. Самое главное — девушка не попала в руки этого негодяя Домициана.
Пока она молилась, Галл разгуливал по городу, пытаясь выведать что-нибудь новенькое. Когда скрипнула калитка, Юлия подумала, что это возвратилась ушедшая на рынок служанка. Стоя на коленях, она продолжала молиться, как на неё вдруг упала тень, и она увидела возле себя Мириам, а с ней — незнакомую смуглую пожилую женщину.
— Каким образом ты здесь очутилась? — удивилась она.
— Матушка, — тихим трепетным голосом ответила Мириам, — матушка, по милости Божией, с помощью вот этой Нехушты, о которой я тебе часто рассказывала, и ещё одного человека я спаслась от Домициана и не только избежала уготованного мне позорного жребия, но и стала свободной женщиной.
— Расскажи мне подробно обо всём, — попросила Юлия. — Я ничего не понимаю. Какая-то невероятная история.
Когда Мириам закончила свой рассказ, Юлия заметила:
— Этот Марк, хоть он и язычник, должно быть, великодушнейший человек — да вознаградят его Небеса!
— Да, — со вздохом отозвалась Мириам. — Да вознаградят его Небеса, как и я, если бы только могла, вознаградила бы его!
— Не останови я тебя, ты бы не преминула это сделать, — вставила Нехушта. Голос её звучал сурово, но на её мрачном лице Юлия подметила что-то похожее на улыбку.
— Ничего, почтеннейшая, ничего, — сказала Юлия. — Кто из нас не испытывал в своей жизни соблазнов?
— Извини меня, госпожа, — ответила Нехушта, — но говори, пожалуйста, только о себе. Я слишком хорошо знаю мужчин, чтобы, общаясь с ними, испытывать какие-либо соблазны.
— Тогда, любезнейшая, — сказала Юлия, — возблагодари Небеса за то, что они защитили тебя надёжной броней мудрости. Что до меня, то я считаю, что эта девушка, как и господин Марк, поступили хорошо, и я молюсь, чтобы им была дарована заслуженная награда.
— А я молюсь, — сказала Нехушта, — чтобы Марк избежал мести Домициана, который наверняка попытается его выследить.
При этих словах Мириам сильно помрачнела. Тут как раз возвратился Галл, и Мириам пришлось повторить весь рассказ.
— Поразительно, — воскликнул он, — просто поразительно! Никогда в жизни не слышал ничего подобного. Два любящих человека, когда наконец настаёт час их соединения, расстаются из-за приверженности разным религиям, точнее говоря, из-за запрета, наложенного на одного из них давно уже покойной матерью. Поразительно, хотя я и сомневаюсь в мудрости их поведения; будь я на месте этого мужчины, я поступил бы по-другому.
— И как же ты поступил бы, муженёк?
— Не теряя ни минуты, немедленно покинул бы Рим вместе с этой госпожой и уехал бы куда-нибудь подальше; лучше всего в другую страну, где госпожа могла бы спокойно предаваться своим благородным размышлениям. Видишь ли, Домициан так же, как и Марк, нехристианин, а наша госпожа ненавидит Домициана и любит Марка. Дело уже сделано, переубеждать вас всех поздно, но я опасаюсь, как бы вам, христианам, не пришлось причислить двух новых святых к сонму великомучеников. А теперь пошли завтракать, после долгого ночного бдения все, должно быть, проголодались.
За завтраком Галл был очень молчалив, как и обычно, когда он обдумывал какое-нибудь важное дело. Наконец он произнёс:
— Скажи, Мириам, никто не видел тебя и твою спутницу, когда вы сюда входили?
— Как будто бы нет, — ответила она. — Калитка была не заперта, и мы свободно вошли.
— А где наша служанка? — спросил Галл.
— Ещё не вернулась, — ответила Юлия.
— Хорошо, — сказал он, — когда она вернётся, я ушлю её с каким-нибудь поручением потруднее — чтобы она не скоро его выполнила.
— Почему? — спросила жена.
— Никто не должен знать, что они у нас. Пока они не уйдут.
— Пока они не уйдут? — изумлённо переспросила Юлия. — Уж не хочешь ли ты прогнать эту девушку, которую мы любим, как свою родную дочь?
— Именно это я и собираюсь сделать — ради её же собственной безопасности. — Он взял руку Мириам в свою огромную ладонь и сжал её. — Послушай, — продолжал он, — все прекрасно знают, что Мириам, будучи ещё пленницей, провела много месяцев у нас в доме. Если кто-нибудь захочет её найти, как по-вашему, где её будут искать?
— Да, где её будут искать? — переспросила Нехушта.
— Почему её должны искать? — сказала Юлия. — Она была куплена на торгах господином Марком, который сам, по собственной воле, отпустил её на свободу. Теперь она свободная женщина, к которой никто не смеет прикоснуться и пальцем.
— Свободная женщина? — презрительно процедил Галл. — Какая женщина в Риме может считать себя свободной, если имела несчастье понравиться Домициану. Вы, христиане, слишком простодушны для этого мира. Нет, нет, помолчите, у нас нет времени на спор. Юлия, пойди и найди этого вашего епископа Кирилла, который тоже любит эту девушку. Если он хочет спасти её от большой опасности, пусть подыщет ей и её спутнице какое-нибудь надёжное убежище среди их единоверцев, где они смогут переждать некоторое время, пока их не посадят на корабль. Что ты скажешь по поводу этого плана, почтеннейшая ливийка?
— Я думаю, он вполне разумен. С одной оговоркой. Нам следует отправиться вместе с твоей женой, ибо кто знает, когда по нашему следу будут пущены ищейки.
— А что скажешь ты, Мириам? — спросил Галл.
— Я? Я благодарю вас за вашу заботу. Что до меня, то я готова укрыться в любой дыре, лишь бы спастись от Домициана.
Через два часа в скромном, тесно населённом квартале города, где жили бедные ремесленники, производившие предметы роскоши для своих более удачливых сограждан, некий плотник Септим сидел за своим обедом в небольшой каморке над мастерской. У него были заскорузлые от труда руки, его одежды и длинная седая борода — обильно припорошены пылью, и в нём нелегко было признать епископа Кирилла. И всё же это был он, один из высших священников римской христианской Церкви.
В комнату вошла какая-то женщина, видимо служанка, и что-то тихо сказала.
— Юлия, жена Галла, и ещё две женщины? — переспросил он. — Тех, кто приходит с ней, можно не опасаться, введи их сюда.
В каморку вошла Юлия, за ней — две закутанные с головой в покрывала женщины. Епископ поднял руки, чтобы их благословить, но в последний миг передумал.
— Кто эти люди, что с тобой, дочь моя? — спросил он.
— Откройте ваши лица, — сказала Юлия.
Узнав Мириам, епископ слегка вздрогнул.
— А кто поручится за эту женщину? — спросил он, переведя взгляд на Нехушту.
— Я сама за себя поручусь, — ответила Нехушта. — Я христианка, крещённая многие десятки лет назад святым Иоанном, одна из тех, кто был на арене амфитеатра в Кесарии.
— Это правда? — спросил епископ у Мириам.
— Сущая правда, — подтвердила она. — Эта ливийка была служанкой ещё у моей бабушки. Она вынянчила и мою мать и меня и много раз спасала мою жизнь. Она — человек верный.
— Извини, — сказал епископ с невесёлой улыбкой и, обращаясь к Нехуште, добавил: — Ты женщина старая и должна знать, что в каждом незнакомце, которого принимаем мы, христиане, может скрываться Дьявол. — И, воздев руки, он благословил их от имени самого Господа.
— Стало быть, милая Мириам, — сказал он, всё ещё улыбаясь, — я всё же истинный провидец; ты участвовала в Триумфальном шествии и, как я слышал, была продана на торгах, и всё же Ангел Господень тебя не покинул.
— Нет, не покинул, — сказала она. — Более того, он привёл меня сюда.
Они подробно рассказали ему обо всём случившемся и о том, как Мириам спаслась от Домициана. Епископ смотрел на неё, поглаживая свою длинную бороду.
— Умеешь ли ты что-нибудь делать? — спросил он. — Что-нибудь полезное? Или я задал глупый вопрос: женщин из богатых семей не обучают ремёслам.
— Меня обучали, — слегка покраснев, сказала Мириам. — Я даже слыла неплохой ваятельницей: я слышала, что ваш император Нерон требовал, чтобы одному из высеченных мной бюстов оказывали божественные почести.
Епископ громко рассмеялся.
— Император Нерон? Бедный безумец отправился туда, где его давно ждали; не будем о нём говорить. Но я слышал об этом бюсте, даже сам видел его; это поясной портрет Счастливчика Марка, работа и впрямь примечательная. Но у нас здесь таких вещей не делают, мы ремесленники, а не художники.
— Ремесленники бывают и художниками, — возразила Мириам.
— Обычно нет. Могла бы ты делать светильники?
— С величайшим удовольствием. Если только я не должна буду повторять один образец.
— В таком случае, — сказал епископ, — я думаю, смогу предоставить тебе возможность зарабатывать на жизнь; а искать тебя тут никто не будет.
Менее чем в ста шагах от плотницкой, где работал Септим, находилась другая мастерская, где формовали из глины и обжигали вазы, миски, светильники и тому подобные изделия. Постоянные покупатели, большей частью оптовые торговцы, видели теперь в этой мастерской новую работницу в груботканом халате — вероятно, молодую и привлекательную; она сидела одна в самом углу, под окном. Люди со вкусом в скором времени заметили, что среди светильников, которые изготавливались в мастерской, появились довольно необычные, превосходно задуманные и сделанные; хотя за них и брали более высокую цену, чем за другие, закупщики всё равно получали на них хорошую прибыль. Весь день Мириам лепила эти светильники, а старая Нехушта, которая поднатаскалась в этом деле ещё в те времена, когда они жили возле Иордана, замешивала для неё глину и обжигала уже готовые изделия.
Никто и не догадывался, что в этой мастерской работали только христиане; все ими заработанное складывалось в одну общую кассу, откуда старшие выдавали им необходимые на пропитание деньги, а оставшиеся делили между нуждающимися братьями и больными. К мастерским примыкали жилые дома, на вид довольно невзрачные, но внутри чистые и опрятные. В одном из них, в мансарде, куда вела лестница в три пролёта, и жили Мириам с Нехуштой; когда над крышей стояло солнце, здесь было очень душно и жарко, когда дули сильные ветры и лили зимние дожди — наоборот, очень холодно. И всё-таки жизнь в этой мансарде была не лишена приятности, сюда почти не проникали шум и зловоние, а залетавший в окно ветерок приносил с собой свежесть и аромат загородных земель.
Разумеется, никому даже не приходило в голову искать столь дорогостоящую прекрасную Жемчужину в этих убогих домишках, где ютилась беднота, поэтому жили они тихо и спокойно. Днём работали, по вечерам отдыхали, молились и слушали проповеди в христианской общине, и, хотя их снедали страхи и тревоги за самих себя и за судьбу ещё одного человека, они много лет не были уже так счастливы. А время, неделя за неделей, всё шло и шло.
Христиане знали обо всём, что происходило в большом городе; по вечерам, особенно в дни Божии
[66], когда они обычно встречались в катакомбах, Юлия сообщала им все новости. Оказалось, что они поступили мудро, оставив дом Галла. Через три часа после их ухода, ещё до возвращения Юлии, нагрянули стражники: они выспрашивали, не видел ли кто-нибудь еврейскую пленницу по прозвищу Жемчужина, проданную накануне на Форуме и, по их словам, бежавшую от своего покупателя. Не будучи христианином, Галл обманул их заведомой ложью, поклявшись, что не видел девушки с того дня, как передал её слугам цезаря в утро Триумфа. Ничего не заподозрив, стражники ушли и больше не появлялись.
Из дворца Домициана Марка отконвоировали в тюрьму около храма Марса. Человек он был богатый и знатный, обвинение ещё не было утверждено цезарем, поэтому обращались с ним хорошо. Отвели две просторные камеры и разрешили домоправителю Стефану обеспечивать его вкусной пищей и всем необходимым. После того как он дал слово, что не попытается бежать, ему позволили гулять в садах около тюрьмы и храма и даже в любой час дня принимать своих друзей. Первым его, однако, посетил домоправитель Сатурий, который начал ему выражать своё сочувствие по поводу незаслуженно постигших его бед.
— Скажите, почему я очутился здесь? — перебил его заключённый.
— Потому что, о благороднейший Марк, вы имели несчастье снискать немилость чрезвычайно могущественного человека.
— Так за что же Домициан меня преследует?
— Что за простодушный народ вы, солдаты! — сказал домоправитель. — Позвольте ответить вам вопросом на вопрос. Зачем вы купили прекрасную пленницу, приглянувшуюся царственной особе?
— Есть ли какой-нибудь выход из этого положения? — спросил Марк, призадумавшись.
— Конечно, мой господин Марк. Для того я и явился сюда, чтобы подсказать этот выход. Само собой, никто не верит, что именно вы, из всех людей, нарушили свой долг там, в Иерусалиме. Обвинение совершенно нелепое, и даже придворные шаркуны, что присутствовали на суде, хорошо это знают. И всё же вы в чрезвычайно уязвимом положении. Против вас есть свидетельские показания — пусть и спорные. Веспасиан знает, что это личное дело Домициана, и не станет вмешиваться; поссорившись уже однажды со своим сыном из-за Жемчужины, он не захочет ещё одной ссоры — из-за человека, её купившего. Он скажет; этот префект — друг и соратник Тита, пусть Тит и решает сам его судьбу по возвращении в Рим.
— Но уж Тит-то вынесет справедливое решение.
— Да, без сомнения. Но каково оно будет, это справедливое решение? Нарушил ли он когда-нибудь изданные им эдикты — хотя бы и ради друзей? Тит приказал объявить по всем своим лагерям, что римляие, захваченные в плен евреями, заслуживают смертной казни или по меньшей мере разжалования; двоих таких пленных римлян в назидание всем провели в триумфальной процессии. Вы побывали в еврейском плену и вернулись оттуда живым, да ещё и имели несчастье навлечь на себя неудовольствие Домициана, он-то и разворошил это дело, которое никто другой даже не стал бы затрагивать.
«Я жду от тебя, — скажет он Титу, — такого же беспристрастия и справедливости, какую ты проявил в случае с пленной Жемчужиной: отказался продать её даже родному брату, так как, согласно твоему повелению, она должна быть продана». Даже если Тит очень вас любит, а я полагаю, что так оно и есть, что, по-вашему, мой господин Марк, ответит на этот довод Тит, тем более что он стремится избежать дальнейших ссор с Домицианом?
— Вы говорите, что пришли подсказать мне выход, но предрекаете только позор и смерть. Может быть, вы хотите сказать, что я должен вымостить свой путь золотом?
— Нет, — сухо ответил Сатурий, — вы должны вымостить его жемчугом. Буду говорить прямо. Отдайте нам девушку в жемчужном ожерелье. Отвечайте же!
Марк наконец понял, и в его памяти всплыло изречение, некогда слышанное от Мириам, хотя он и не знал его источника.
— Могу только сказать, — произнёс он с решительным лицом и сверкающими глазами, — «не бросайте жемчуга вашего пред свиньями»
[67].
— И такие слова заключённый обращает к своему судье? — со странной улыбкой ответил управитель. — Однако не бойтесь, благородный Марк, я не передам ваших слов. Мой царственный господин платит мне не за то, чтобы я доносил ему правду. Подумайте ещё.
— Мне нечего думать, — сказал Марк. — Я не знаю, где находится сейчас эта девушка, и не могу и не хочу выдать её Домициану. Лучше уж публичный позор и смерть.
«Это и есть, верно, настоящая любовь», — подумал Сатурий, а вслух произнёс:
— Я восхищен вашим истинно римским благородством! Мой господин Марк, я не выполнил данного мне поручения, но я заклинаю Фатум не только избавить вас от преследования ваших врагов, но и в воздаяние за всё, вами перенесённое, вернуть вам любимую девушку целой и невредимой, Я, однако же, должен продолжать её поиски. Прощайте.
Два дня спустя управитель Стефан, прислуживавший Марку в тюрьме, доложил, что его хочет видеть посетитель по имени Септим, но какое у него дело — не говорит.
— Впусти его, — сказал Марк. — Хоть душу отведу, а то все один да один. — И, подперев голову руками, он стал смотреть в зарешеченное оконце.
Услышав позади себя шаги, он оглянулся и увидел старого человека с мозолистыми руками и в грубой одежде мастерового, составлявшей странный контраст с его чистыми, благородными чертами лица.
— Присаживайтесь, — учтиво пригласил его Марк. — Что вас привело ко мне?
Посетитель поклонился и сел.
— Моё призвание, господин Марк, — сказал он голосом, каким говорят обычно люди образованные и утончённые, — нести слово Божие страждущим.
— Ну что ж, господин, — печально ответил Марк, — вы как раз пришли в дом страданий, а я и есть страждущий.
— Я знаю, и знаю, почему вы страждете.
Марк бросил на него любопытный взгляд.
— Вы христианин? — спросил он. — Не бойтесь отвечать, у меня много друзей-христиан. — Тут он вздохнул. — И я не мог бы причинить вам зло, даже если бы и хотел, а я не хочу никому причинять зло, тем более христианам.
— Господин Марк, я не боюсь никакого зла, исходящего от людей; к тому же времена Нерона навсегда миновали, и нынешний император Веспасиан не преследует нас. Я Кирилл, епископ римских христиан; и если вы пожелаете склонить слух к моим словам, я постараюсь изложить вам основы моего вероучения, которое, возможно, станет и вашим.
Марк изумлённо уставился на него: не странное ли дело, что этот проповедник готов потратить столько своего красноречия на незнакомца?
Заподозрив какой-то подвох, он спросил:
— Сколько денег вы берёте за ваши уроки?
Бледное лицо епископа вспыхнуло.
— Господин, — ответил он, — вы можете просто отклонить моё предложение, без всяких оскорблений. Я не торгую милостью Божией.
Его слова вновь произвели сильное впечатление на Марка.
— Простите, — сказал он, — мне приходилось встречать жрецов, берущих деньги, правда, никто из них не принадлежал к вашей религии. Кто вам сказал обо мне?
— Одна женщина, Марк, которая питает к вам глубокую признательность, — серьёзно ответил Кирилл.
Марк вскочил.
— Уж не хотите ли вы сказать, что это... — начал он и опасливо оглянулся вокруг.
— Да, — шёпотом сказал Кирилл, — это Мириам. Не бойтесь, она и её служанка — обе на моём попечении и сейчас, как я полагаю, вне опасности. Больше не расспрашивайте меня, ибо их тайну могут вырвать у вас под пытками. Я и её братья во Христе будем защищать её до последнего.
Марк принялся изливать свою благодарность.
— Не стоит меня благодарить, — остановил его епископ, — за то, что не только является моим прямым долгом, но и доставляет мне радость.
— Друг Кирилл, — сказал Марк, — девушка — в величайшей опасности. Я только что слышал, что соглядатаи Домициана ищут её по всему Риму, если её найдут, то тут же препроводят в его дворец; нетрудно догадаться, какая участь там её ожидает. Она должна срочно уехать из Рима. Лучше всего — в Тир, где у неё будут друзья и свой дом. Там, если она будет вести себя тихо, никто её не схватит.
Епископ покачал головой.
— Я уже думал об этом, — сказал он, — но это неосуществимо. Стражники в каждом порту имеют приказ обыскивать все суда, отплывающие с пассажирами, и задерживать любую женщину, отвечающую приметам Жемчужины. Это я знаю совершенно точно, ибо и у меня свои соглядатаи, более верные, чем те, что служат цезарю. — И он улыбнулся.
— Неужели нет никакого способа отправить её из Рима?
— Я знаю только один, но он требует больше денег, чем можем собрать мы, бедные христиане. Допустим, какой-то купец, наш человек, покупает корабль, и мы набираем верных матросов, я знаю, где таких найти. Ночью Мириам перевозят на этот корабль, где её вряд ли отыщут и, уж конечно, не выдадут.
— Подыщите же корабль и верных матросов, — сказал Марк. — У меня осталось ещё немало денег, и в случае надобности я знаю, где их раздобыть.
— Хорошо, я всё разузнаю, — ответил Кирилл, — и тогда мы продолжим этот разговор. Вообще-то денег уйдёт не так уж много, и они могут принести большую прибыль, если корабль загрузить товарами, которые пользуются спросом на Востоке. Пока же вы можете не тревожиться: девушка находится под покровом самого Господа и наших братьев.
— Надеюсь, она в полной безопасности, — с признательностью произнёс Марк. — А теперь, если у вас остаётся ещё свободное время, поведайте мне о том Боге, о котором вы, христиане, так много говорите, но который, как мне кажется, вознёсся слишком высоко над людьми.
— Один из великих апостолов, мой наставник, говорил: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда он близко»
[68]. А теперь слушайте: и да будет ваше сердце открыто словам моим!
И до самого захода солнца, когда запирались тюремные ворота, он неустанно просвещал Марка.
— Приходите ко мне снова, — пригласил его Марк перед уходом. — Я хотел бы послушать ещё...
— О Мириам — или моё наставление? — с улыбкой спросил епископ.
— И о Мириам — и ваше наставление, — сказал Марк.
Вернулся Кирилл через четыре дня. То были тяжёлые дни для Марка, Сатурий оказался прав: Веспасиан приказал отложить разбирательство его дела до возвращения Тита. Тем временем Марк должен был находиться в тюрьме. Здесь он и остался сидеть, словно лев в клетке.
Кирилл сказал ему, что Мириам чувствует себя хорошо и передаёт ему свои приветствия, написать же, по вполне понятным причинам, не решается. Далее он сказал, что нашёл подходящего капитана, грека по имени Гектор, римского подданного и твёрдого в своей вере христианина. Этот капитан берётся довести корабль до берегов Сирии. Он уверен, что сможет набрать надёжный экипаж из христиан и евреев. И он знает о нескольких продающихся небольших судах. Наиболее пригодно для их целей очень хорошее, почти новое судно «Луна». Ещё Кирилл сказал, что видел Галла и его жену Юлию и эти добрые люди, которых ничто не привязывает к Риму и которые очень любят Мириам, готовы продать и дом и всё
достояние и отплыть в Сирию.
Марк спросил, сколько денег понадобится, и, когда Кирилл назвал требующуюся сумму, тотчас послал за Стефаном, велев выплатить означенную сумму под расписку ремесленнику Септиму. Стефан охотно согласился, ибо полагал, что деньги предназначаются для спасения его господина. Уладив таким образом все мирские дела, Кирилл с большим рвением и убедительностью снова принялся за наставление Марка, повествуя ему о Спасителе.
Кирилл посещал Марка каждые две-три недели: сообщал ему свежие новости и продолжал его наставлять.
«Луна» была уже куплена, почти весь экипаж — нанят, товары для продажи в Сирии — загружены в трюм. Стояла она в Остии. Капитан Гектор заявил властям, что судно принадлежит ему и нескольким купцам. Репутация его не вызывала сомнений, он торговал со многими странами, поэтому никто не выказал ни удивления, ни каких-либо подозрений, ибо никто не знал, что всё это предприятие оплачивается домоправителем заключённого в тюрьму Марка через посредство мастерового Септима. Но не знала этого и Мириам, ибо по особой просьбе Марка даже ей не открыли эту тайну; а если Нехушта и догадывалась о правде, то держала язык за зубами.
Прошло два долгих месяца. Марк всё ещё томится в тюрьме, хотя Домициану уже и поднадоели бесплодные поиски Мириам, он всё ещё не оставляет намерения отомстить сопернику, похитившему у него девушку.
«Луна» уже полностью загружена и готова к отплытию; если ветер и погода окажутся благоприятными, она Отчалит в течение ближайшей недели.
Галл и Юлия, распродав всё своё имущество, уже переехали в Остию, куда Мириам должны привезти тайно в самую ночь их отплытия.
Сердцем Марк уже принял христианскую религию, но пока ещё отказывается креститься.
В это самое время Кирилл принёс ему прощальное послание Мириам. Оно отличалось предельной краткостью.
— Передайте Марку, — попросила она сказать, — что я уезжаю только потому, что он так настаивает, но я не знаю, свидимся ли мы снова. Может быть, это и к лучшему, ибо, даже если он по-прежнему хочет на мне жениться, это невозможно. И ещё передайте, что, останусь ли я в живых или погибну, я принадлежу ему, ему одному; до последнего часа моей жизни все мои мысли будут о нём, а все молитвы — за него. Да вызволит его Господь из всех жестоких бед, невольной виновницей которых я являюсь. Пусть он простит мне эту вину; я надеюсь, что моя любовь и благодарность послужат небольшим возмещением за всё, им перенесённое.
В свою очередь, Марк попросил передать Мириам:
— Скажите ей, что я от всего сердца благодарю её за это послание; но я хочу, чтобы она как можно быстрее уехала из Рима, где её на каждом шагу подстерегает опасность. И ещё скажите ей, что, хотя моя к ней любовь принесла мне позор и горе, на её чувство я отвечаю не менее верным и пылким чувством; если мне посчастливится выйти живым на свободу, я тут же последую за ней в Тир; там мы и поговорим о дальнейшем. Если же я умру, моей предсмертной молитвой будет, чтобы ей всегда сопутствовало счастье; пусть только иногда она посвящает час-другой своего времени размышлениям о духе, который некогда был Марком.
Глава XIII
СВЕТИЛЬНИК
В отличие от Домициана Халев вкладывал в поиски Мириам всю свою душу и, естественно, проявлял куда большую изобретательность. И всё же он никак не мог напасть на её след. Уверенный, что если она в Риме, то несомненно посетит своих друзей и покровителей, Галла и его жену, он прежде всего установил наблюдение за их домом. Но Мириам так и не появилась у них, наблюдение за самим Галлом и Юлией также ничего не дало, так как Юлия встречалась с Мириам только в катакомбах, куда ни сам Халев, ни его соглядатаи не смели последовать. В скором времени Галл заметил, что и за его домом, и за его обитателями следят; именно это в первую очередь и подтолкнуло его к решению покинуть Рим и переселиться в Сирию: он сказал, что не желает жить в городе, где даже по ночам его самого и его домочадцев выслеживают, точно шакалов. Но когда он выехал в Остию, где должен был ждать, когда «Луна» будет готова к отплытию, Халев последовал за ним, и в этом маленьком городке ему удалось очень быстро узнать о его намерении уехать вместе с женой. Но о самой Мириам не было никаких сведений, и Халев поспешил вернуться в Рим.
Если в конце концов Халев и разыскал Мириам, то только благодаря чистой случайности, а не своему уму. Однажды ему понадобился светильник, он зашёл в лавку, где торговали подобными изделиями, и осмотрел всё, что только мог предложить ему хозяин. Особенно поразил его один замысловатый светильник: две пальмы с переплетающимися стволами и перистыми верхушками, к каждой из которых на небольшой цепочке была прикреплена небольшая плошка. Что-то в очертаниях этих пальм показалось ему знакомым; его взгляд тут же сбежал к их широкому основанию. Как он и предполагал, пальмы росли на берегу реки, и под складками воды можно было видеть длинный, гладкий, заострённый с одной стороны камень. И в тот же миг, во внезапном озарении, Халев узнал это место: часто по вечерам, сидя на заострённом камне, они с Мириам ловили рыбу в мутных водах Иордана. Сомнений быть не могло: да, вот тот самый камень, а вот самая большая, какую ему только удалось поймать, рыбина; её спинной плавник повреждён, и это исключает всякую возможность ошибиться.
Туманная дымка заволокла глаза Халева, память возвратила его в те дальние мальчишеские годы. Он стоит на берегу реки, тростниковое удилище в его руке согнуто, тонкая леска натянута туго, до обрыва, а в иорданской воде плещет, перекатываясь, большая рыбина.
— Я не могу её вытащить, — кричит он, — леска наверняка порвётся, да и берег слишком крутой.
Девочка рядом с ним с громким плеском бросается в стремнину. Вода, доходящая ей по самое горло, гонит её вниз по течению, но она крепко прижимает к своей юной груди большую скользкую рыбину, а её зубы вцепляются в спинной плавник.
С большим трудом вытащил он тогда Мириам на берег.
— Я куплю светильник, — сказал Халев. — Мне нравится работа этого художника. Кто он, кстати сказать?
— Не знаю, господин, — пожал плечами купец. — Эти светильники поставляет нам вместе со статуэтками и столярными изделиями некий подрядчик Септим, верховный христианский жрец, в его мастерских работают много ремесленников из бедного квартала. Недавно мы получили от него несколько очень красивых светильников.
Кто-то позвал к себе торговца, Халев заплатил за светильник и удалился.
В тот же вечер, с первыми сумерками, Халев со светильником в руке отправился в мастерскую Септима, но оказалось, что та её часть, где производят светильники, уже закрыта. Готовившаяся к уходу мастерица, заметив его растерянность, спросила, не может ли она чем-нибудь ему помочь.
— Девушка, — сказал он, — я хотел найти ту, что сделала этот светильник, чтобы заказать ей ещё несколько штук, но, говорят, она уже ушла домой.
— Да, — сказала девушка, глядя на светильник, который она, очевидно, узнала. — Красивая вещь, не правда ли? Не могли бы вы зайти завтра?
— Завтра я покидаю Рим, боюсь, мне придётся заказать светильники в другом месте.
Подумав, что будет жаль, если мастерская потеряет выгодный заказ, а она лишится полагающихся ей комиссионных, мастерица сказала:
— Вообще-то установленные у нас правила не разрешают показывать, где живут наши девушки, но я всё же покажу. Вечерами эта мастерица никуда не выходит, и вы наверняка застанете её дома и сможете высказать ей свои пожелания.
Халев поблагодарил девушку, и она отвела его через узкие, извилистые улочки на небольшую площадь, окружённую старыми домами.
— Зайдите вот в этот подъезд. — Она показала на наружную дверь. — Поднимитесь по лестнице на самый верх, то ли три, то ли четыре пролёта, не помню, — там и находится мансарда, где живёт та, что сделала эту лампу... О, благодарю вас, господин, я ничего от вас не ждала. Спокойной ночи.
С большим трудом Халев вскарабкался впотьмах по крутым ступеням на шаткую лестничную площадку, которая замыкалась небольшой, плохо подогнанной дверью. Внутри горел свет, слышались голоса. Зная, что этажом ниже никто не живёт, Халев спокойно подкрался к двери. Наклонившись, он увидел большую щель между дверью и косяком. Сердце его замерло. Прямо перед ним, освещённая мерцанием лампады, сидела Мириам. Она была одета в чистое белое платье, а её грубый рабочий халат лежал рядом, на табурете. Локтем она опиралась о подоконник. Тут же, согнувшись над небольшой плитой, готовила ужин Нехушта.
— Подумай, — говорила Мириам, — только подумай, Ну, это наша последняя ночь в этом проклятом городе, завтра мы покинем душную мастерскую, взойдём на борт корабля и выйдем в открытое море, полной грудью дыша свежим солёным воздухом; наши сердца освободятся наконец от страха перед Домицианом, если в них и останется какой-нибудь страх, то только страх Божий. «Луна»! Какое прекрасное название! Я как будто вижу этот корабль, весь в лунном серебре!..
— Тише, — остановила её Нехушта, — ты разговариваешь так громко, будто спятила с ума. Я как будто бы услышала какой-то шорох на лестничной площадке.
— Это только крысы, — весело ответила Мириам. — Кого может занести сюда нелёгкая? Говорю тебе, если бы только Марк всё ещё не сидел в тюрьме, я плакала бы от радости.
Халев быстро соскользнул вниз на несколько ступеней, а затем стал подниматься, громко ворча на темноту и крутизну лестницы. Широко распахнув дверь, прежде чем её успели запереть, он ввалился в комнату.
— Простите, — извинился он и спокойно добавил: — Когда мы расстались на Никаноровых воротах, Мириам, кто мог бы предположить, что мы не только останемся в живых, но ещё и встретимся здесь, в мансарде римского дома? С тобой же, Нехушта, мы виделись в последний раз во время сражения за воротами Храма, если не считать встречи на торгах на Форуме.
— Халев, — глухо проговорила Мириам, — Что тебе здесь надо?
— Я хотел заказать, Мириам, копию этого светильника, который очень напоминает мне одно место, знакомое ещё с детства. Ты, конечно, хорошо его помнишь. Теперь, когда я знаю, кто сделал этот светильник...
— Перестань дурачиться! — оборвала его Нехушта. — Ты хочешь утащить свою добычу, стервятник, обратно к позору и смерти, которых она с таким трудом избежала?
— Меня не всегда называли стервятником, — вспыхнул Халев. — Кто, как не я, Мириам, спас тебя из твоего дворца в Тире, кто, как не я, рискуя своей жизнью, забросил тебе еду на Никаноровы ворота?! А теперь я пришёл спасти тебя от Домициана...
— В надежде завладеть ею для себя, — продолжала Нехушта. — О, у нас, христиан, зоркие глаза и чуткий слух. Мы знаем, что у тебя на сердце, подлый предатель. Знаем мы и о твоей грязной сделке с домоправителем Домициана, по которой тело рабыни должно было стать платой за жизнь её покупателя. Мы знаем, как ты оговорил Марка в своих показаниях и как ты изо дня в день рыскал по улицам Рима, словно гиена в поисках добычи. Да, сейчас она беззащитна, но Господь всесилен, и да низвергнется Его гнев на тебя и твою душу!
Вознёсшийся высоко вверх голос Нехушты вдруг пресёкся: она стояла как воплощение возмездия, яростно горящими глазами вглядываясь в лицо Халева и грозя ему своими костлявыми кулаками.
— Успокойся, женщина, — сказал Халев, невольно отступая перед ней. — Побереги свои упрёки для кого-нибудь другого; если я и виноват перед ней, то потому, что очень её любил...
— И ещё сильнее ненавидел, — отпарировала Нехушта.
— О, Халев, — вмешалась в разговор Мириам, — ты говоришь, что любишь меня, почему же ты так со мной поступаешь? Ты ведь хорошо знаешь, что я не люблю тебя ответной любовью и никогда не смогу полюбить, даже если ты убережёшь меня от Домициана, который использует тебя как своё орудие. И на что тебе нужна женщина, чьё сердце отдано другому? К тому же я не могу стать твоей женой по той же самой причине, по которой я не могу выйти замуж за Марка: мы с тобой исповедуем разные религии; неужели ты хочешь превратить в бесправную рабыню свою бывшую подругу по детским играм, Халев? Неужели ты хочешь низвести её до уровня танцовщицы? Прошу тебя: оставь меня в покое.
— Чтобы ты уехала на «Луне»? — мрачно промолвил Халев.
Стало быть, он знает все их планы, ужаснулась Мириам.
— Да, — ответила она в отчаянии, — чтобы я отплыла на «Луне» навстречу своей судьбе. Что бы ни послало мне Небо, я надеюсь обрести мир и свободу. Отпусти же меня, Халев, ради самого себя! Много лет назад ты поклялся, что никогда не будешь насиловать мою волю. И сегодня ты нарушишь эту клятву?
— Я также поклялся, Мириам, что убью всякого, кто встанет между тобой и мной. Ты предлагаешь, чтобы и эту клятву я нарушил? Предайся же мне по своей собственной воле, ради спасения Марка. Если ты отвергнешь меня, я погублю твоего возлюбленного. Выбирай же между мной и его жизнью.
— Только жалкий трус может поставить меня перед таким выбором, Халев.
— Оскорбляй меня как хочешь. Выбирай.
Сжав руки, Мириам возвела глаза, как бы взывая к Небесам. И во внезапном наитии ответила:
— Я выбрала, Халев. Делай что хочешь. Судьба Марка не в моих и не в твоих руках, а в руках Божиих, без его веления ни один волос не падёт с его головы. Ни ты, ни Домициан не властны над его судьбой. Ибо в нашей священной книге написано: сердце царя в руке Господа... куда захочет, Он направляет его
[69]. Но моя честь — моё неотъемлемое достояние, и, если на неё ляжет несмываемое пятно, отвечать перед Небом и — живым или мёртвым — Марком буду я одна. Не сомневаюсь, что Марк проклянёт меня, если я попытаюсь купить его безопасность такой ценой.
— Это твоё последнее слово, Мириам?
— Да. Если ты хочешь лживыми показаниями и с помощью наёмных убийц погубить человека, который некогда пощадил тебя, даже если Господь Бог и потерпит такое надругательство над всем, что есть святого, поступай как знаешь, но помни, что ты ещё пожнёшь плоды своего предательства. Я не намерена договариваться с тобой ни о своём, ни о его спасении — делай же своё чёрное дело!
— Ну что ж, — с горькой усмешкой сказал Халев, — боюсь, что на борту «Луны» не будет самой прелестной её пассажирки.
Обхватив лицо руками, Мириам опустилась на табурет; невзирая на свои смелые слова, она не могла побороть отчаяния и ужаса. Халев подошёл к двери и остановился. Нехушта стояла около мангала с углями, сверля их обоих своими яростными глазами. Вдруг Халев пристально посмотрел на Мириам, сидящую сгорбясь у окна, и на его лице появилось странное, новое выражение.
— Я не могу этого сделать, — произнёс он. Каждое слово, казалось, падало с его уст, как тяжёлая дождевая капля или капля крови из смертельной раны.
Мириам отняла руки от лица.
— Мириам, — сказал он, — ты права, я виноват перед тобой и Марком. И я искуплю этот грех. Я никому не раскрою твоей тайны. Если ты питаешь ко мне такую ненависть, Мириам, ты никогда меня больше не увидишь. Мы видимся в последний раз. Если я смогу, я постараюсь добиться освобождения Марка и помогу ему добраться до Тира, куда направляется «Луна». Прощай!
Он вновь повернулся, чтобы идти, и то ли глаза его плохо видели, то ли от нестерпимых душевных мук у него закружилась голова, но он споткнулся о неровный старый пол и тяжело грохнулся ничком. С приглушённым криком ненависти одним кошачьим прыжком Нехушта была возле него. Придавив коленями его спину, она левой рукой схватила его за затылок, а правой вытащила кинжал.
— Не смей! — остановила её Мириам. — Только прикоснись к нему, и я навеки расстанусь с тобой. Да, клянусь: я сама предам тебя в руки стражников, даже если меня отведут к Домициану.
Нехушта поднялась на ноги.
— Дура, — сказала она, — какая же ты дура, что доверяешь этому двуличному негодяю; сегодня он как будто проявляет к тебе милосердие, а завтра предаст тебя на поругание. Ты обречена! Увы, ты обречена!
Встав, Халев окинул её презрительным взглядом.
— Если бы ты пустила в ход кинжал, она и впрямь была бы обречена, — сказал он. — В этой твоей седой голове, Нехушта, так же мало мудрости, как и в былые времена; ненависть мешает тебе разглядеть, что в моём сердце есть не только зло, но и добро.
Он подошёл к Мириам, поднёс её руку к губам и поцеловал. Неожиданным движением она подставила ему свой лоб.
— Нет, — сказал он, — не искушай, твой лоб не для меня. Прощай!
И в следующее мгновение он исчез за дверью.
Халев, по-видимому, сдержал своё слово, ибо спустя три дня «Луна» без каких бы то ни было помех вышла из Остии под командованием греческого капитана Гектора; на её борту находились Мириам, Нехушта, Юлия и Галл.
По прошествии недели Тит наконец вернулся в Рим. Как только представилась возможность, друзья Марка обратились к нему с просьбой о проведении нового открытого суда для восстановления его чести. Тит, по каким-то своим соображениям отказавшийся видеть Марка, терпеливо их выслушал, а затем сообщил своё решение.
Для него большая радость, сказал он, узнать, что его близкий друг и превосходный военачальник, которому он доверяет, жив, тогда как он думал, что тот погиб. Он выразил сожаление, что в его отсутствие Марка предали суду, обвинив в том, что он вернулся из еврейского плена живым; доложи ему Марк о своём прибытии в Рим, ничего подобного не могло бы произойти. Он отмёл все обвинения, возводимые против воинской чести и доблести Марка, как совершенно беспочвенные, заявив, что тот сотни раз доказывал, что он один из отважнейших римских воинов, к тому же он кое-что знает об обстоятельствах его пленения. Тем не менее, считаясь с общественным мнением, он не может отменить приговор военного суда под председательством принца Домициана, где Марк обвиняется, что в нарушение приказа своего верховного начальника позволил взять себя в плен живым. Это было бы несправедливо, заявил Тит, ибо он строго покарал других за подобный же проступок, к тому же это могло бы быть воспринято как личное оскорбление его братом, который был уполномочен вести все дела в его, Тита, отсутствие и счёл нужным предать Марка суду. Однако о суровом наказании в этом случае не может быть и речи. Поэтому он повелевает, чтобы, оставив тюрьму, Марк ночью же отправился к себе домой, чтобы не вызывать лишних разговоров и избежать проявления каких-либо нежелательных чувств его друзьями. Далее, он повелевает, чтобы в течение десяти дней Марк уладил все свои дела и оставил Италию на три года, если этот срок не будет изменён каким-либо дополнительным указанием. По истечении трёх лет он может свободно возвратиться в Рим. И это его окончательное, не подлежащее обжалованию решение.
Случаю угодно было, чтобы первым об этом императорском повелении заключённому сообщил домоправитель Сатурий. Он прибежал в тюрьму прямо из дворца.
— Ну, — подняв глаза, спросил Марк. — Ты принёс мне ещё какие-то недобрые вести? Выкладывай.
— На этот раз я принёс вам превосходные вести, потому и прибежал так быстро, — ответил Сатурий. — Благодаря моим тайным стараниям наказание ограничилось трёхлетним изгнанием. — И с хитрой усмешкой он добавил: — Вам даже оставлено всё ваше имущество, что позволяет вам вознаградить усилия друзей, которые старались вызволить вас из тюрьмы.
— Расскажи мне обо всём, — велел Марк. С каменным лицом выслушал он рассказ придворного плута.
— Почему Тит принял именно такое решение? — спросил он, когда Сатурий закончил. — Говори откровенно, если хочешь получить вознаграждение.
— Потому что, благородный Марк, у него побывал Домициан и предупредил его, что если он отменит его приговор, это будет повод для открытой ссоры между ними. Этого цезарь, который побаивается своего брата, не хочет. Вот почему он не пожелал вас видеть: опасался, что чувства к другу возобладают над доводами рассудка.
— Стало быть, принц всё ещё мой враг?
— Да, тем более ожесточённый, что он так и не смог найти Жемчужину и уверен, что вы устроили её тайный побег. Послушайте же мой совет: немедленно покиньте Рим, или с вами случится какая-нибудь беда.
— Конечно же я немедленно покину Рим, — сказал Марк. — Как я могу здесь жить, обесчещенный? Но твоему господину, вероятно, будет любопытно знать, что та, кого он разыскивает, уже давно далеко за морем. А теперь проваливай, лиса. Я хочу побыть один.
Черты лица Сатурия исказила злоба.
— Это всё, что вы хотите мне сказать? Я не получу никакого вознаграждения за свои добрые услуги?
— Если ты останешься здесь, то получишь такое вознаграждение, о котором и не мечтал.
Сатурий вышел. За дверью он остановился, повернулся и погрозил кулаком оставшемуся в камере Марку.
— Лиса! Он посмел обозвать меня лисой, — пробормотал он. — И не дал никакого вознаграждения: Ну что ж, может быть, настанет час, когда лиса обглодает его косточки.
Дорога во дворец лежала мимо конторы купца Деметрия. Сатурий остановился и посмотрел на его контору.
«Может быть, этот окажется пощедрее», — подумал он и вошёл.
Халев сидел один, закрыв лицо руками. Усевшись без приглашения, домоправитель Домициана подробно рассказал обо всём; в самом конце он извинился за то, что Марк отделался довольно лёгким наказанием.
— На более суровое наказание Тит так и не согласился, — сказал он. — Если бы он не хотел избежать ссоры с Домицианом, то и вообще простил бы Марка, ибо очень любит префекта своих телохранителей и глубоко огорчён необходимостью обесчестить его. И всё же Марк обесчещен и сильно переживает своё бесчестие, поэтому я льщу себя надеждой, что ты, о щедрейший Деметрий, его ненавидящий, вознаградишь услуги человека, который стремился тебе помочь.
— Не бойся, — спокойно произнёс Халев, — ты будешь щедро вознаграждён, ибо сделал всё, что от тебя зависело.
— Благодарю тебя, друг, — потирая руки, сказал Сатурий. — В конце концов положение может оказаться куда лучше, чем кажется. Этот наглый глупец только что обмолвился, что девушка, причина всей этой сумятицы, тайком увезена за море. Когда Домициан узнает об этом, он будет вне себя от бешенства; вполне вероятно, что он захочет отомстить благородному Марку, так его одурачившему. Ко всему, Марк гак и не получит Жемчужину, ибо принц велит разыскать её и отдать... тебе, о достойный Деметрий.
— В таком случае, — медленно произнёс Халев, — ему придётся искать её не за морем, а на его дне.
— Что ты имеешь в виду?
— По моим сведениям, Жемчужина отплыла на корабле «Луна» около месяца назад. Сегодня утром в Рим прибыли капитан и несколько матросов с галеры «Императрикс»
[70]. Они были уже около Региума, когда разразился сильный шторм. На их глазах утонул корабль. Им удалось подобрать моряка, который уцепился за доску; он сообщил им, что корабль назывался «Луна» и что он пошёл ко дну вместе со всем экипажем и пассажирами.
— Ты видел этого моряка?
— Он был так истощён, что умер вскоре после спасения. Но я видел других матросов с этой галеры, которые сообщили о кое-каких моих товарах, находившихся в её трюме. Я слышал всё это из их собственных уст.
«Стало быть, эта девушка, которой домогались так много мужчин, принадлежит теперь Нептуну, как и подобает Жемчужине, — размышлял Сатурий. — Домициан не может отомстить Нептуну, тем более зол он будет на того, кто отослал её к этому богу. Пойду-ка я, расскажу ему все эти новости, посмотрим, что он скажет».
— Ты вернёшься и расскажешь мне обо всём, что узнаешь во дворце? — спросил Халев, поднимая взгляд.
— Да, конечно. Без всякого промедления. Ведь мы ещё не расквитались, о щедрейший Деметрий.
— Нет, — ответил Халев, — мы ещё не расквитались.
Через два часа домоправитель возвратился.
— Ну что? — спросил Халев. — Какие новости?
— Для Марка очень плохие, но для тех, кто его ненавидит, — в том числе тебя и меня, — новости просто отличные. О, я ещё никогда не видел моего царственного господина в таком бешенстве. Когда он узнал, что корабль, на котором уплыла Жемчужина, утонул и что он больше никогда не увидит её по эту сторону Стикса, он так разбушевался, что я вынужден был держаться на расстоянии. Он проклинал Тита за слишком мягкосердечный, по его мнению, приговор, он проклинал тебя — и даже меня. Но я постарался направить его гнев в другое русло. Я доказал ему, что во всём происшедшем повинен только Марк, и никто другой, а трёхлетнее изгнание, которое к тому же может быть очень скоро сокращено, — слишком мягкое наказание за столь тяжкую вину. Говорю тебе, Домициан просто рвал и метал при одной мысли об этом, пока я не предложил ему один план, который, без сомнения, понравится тебе, друг Деметрий.
— Какой план?
Сатурий поднялся, проверил, плотно ли закрыта дверь, подошёл к Деметрию и шепнул ему на ухо:
— Послушай, сегодня после захода солнца, через два часа, Марк будет выпущен из тюрьмы и препровождён к своему дому, где ему велено оставаться вплоть до отбытия из Рима. В доме никого нет, кроме старого домоправителя Стефана и рабыни. Ещё до его прихода несколько верных парней, — Домициан умеет подбирать таких, — заберутся к нему в дом, свяжут домоправителя и женщину, заткнут им рты и будут дожидаться прихода самого Марка. О последующем нетрудно догадаться. Неплохо придумано?
— Превосходно, — ответил Халев, — но не падут ли подозрения на твоего господина?
— Нет, нет. Кто посмеет заподозрить самого Домициана? Подумают, что это какая-то личная месть. У богачей столько врагов.
Сатурий, однако, умолчал, что подозрения не падут на Домициана прежде всего потому, что наёмным убийцам в масках было велено сообщить домоправителю и рабыне, что они наняты неким торговцем Деметрием, то бишь евреем Халевом, который имеет старые счёты с Марком и, чтобы отомстить, уже давал ложные показания перед военным судом.
— Ну а теперь, — продолжал Сатурий, — мне пора отправляться, у меня ещё немало дел, а время не ждёт. Может быть, расквитаемся, друг Деметрий?
— Конечно, — сказал Халев и, вытащив мешочек с золотом, положил его на стол.
Сатурий разочарованно покачал головой.
— Я ожидал вдвое большей суммы, — сказал он. — Вспомни, как сильно ты его ненавидишь и какое удовольствие ты получишь, когда посчитаешься с ним. Один из лучших солдат и отважнейших военачальников сперва несправедливо разжалован, а теперь будет убит наёмными головорезами в своём собственном доме. Какой ещё мести ты желаешь?
— Но ведь пока, — сказал Халев, — он ещё не убит. Фатум, бывает, играет странные шутки с нами, смертными, друг Сатурий.
— Ещё не убит? Это упущение будет скоро исправлено.
— Всё остальное я заплачу после того, как увижу его тело. Я хочу удостовериться, что тут не будет никакой ошибки.
«Любопытно, — подумал Сатурий, покидая контору и наше повествование, — любопытно, как я успею рассчитаться с ним до того, как моего еврейского друга схватят за шиворот? И всё же это можно устроить, можно устроить».
После его ухода Халев, который, видимо, также должен был спешно уладить какие-то дела, написал короткое письмо. Затем он позвал своего служащего и велел доставить его через два часа после захода солнца — не раньше.
Затем он вложил его в другой, больший конверт, без адреса. Некоторое время он сидел неподвижно, шевеля губами, словно в молитве. Дождавшись часа захода, он встал, закутался в длинную тёмную тогу и вышел.
Глава XIV
КАК МАРК ПРИНЯЛ ХРИСТИАНСТВО
Известие о гибели судна «Луна» около Региума дошло не только до Халева, но и до епископа Кирилла. Убедившись в его верности от самого капитана галеры «Императрикс», епископ поспешил в тюрьму близ храма Марса. Марк не желал никого видеть, но Кирилл, невзирая на это запрещение, открыл дверь и вошёл в камеру. Марк стоял с коротким римским мечом в руке. Увидев Кирилла, он с досадой бросил меч на стол, рядом с письмом на имя Мириам.
— Мир тебе! — произнёс епископ обычным кротким тоном, внимательно глядя на Марка.
— Благодарю тебя, друг, — с загадочной улыбкой ответил Марк. — Я очень нуждаюсь в мире.
— Если не секрет, что ты собирался сделать, сын мой, когда я вошёл?
— Хотел покончить с собой. Добрые люди, заботясь о моей чести, прислали мне этот меч и тогу.
Кирилл схватил меч со стола и швырнул его в дальний угол.
— Господь привёл меня сюда вовремя, чтобы упасти тебя от смертного греха. Если Господь пожелал отнять у неё жизнь, это ещё не значит, что ты вправе покончить с собой.
— Отнять у неё жизнь? О чём ты говоришь?
— Я пришёл поведать тебе, сын мой, что галера «Луна» пошла ко дну во время шторма вместе со всем своим экипажем и пассажирами. Утонула и Мириам.
Марк раскачивался из стороны в сторону, точно во хмелю. Затем схватился за голову и упал лицом на стол.
— Оставь меня одного, друг, — глухо простонал он. — Если Мириам нет в живых, на что мне эта жизнь? Тем более что я обесчещен. Декрет Тита заклеймил меня как труса. Тит, бок о бок с которым я сражался во многих битвах, Тит, которого я берёг от многих смертельных ударов, изгнал меня из Рима.
— Расскажи об этом, — попросил Кирилл.
Марк рассказал. Кирилл выслушал его молча, затем сурово сказал:
— И поэтому-то ты хотел покончить с собой? Неужели декрет, вынесенный на основании лжесвидетельства и но соображениям политическим, может нанести действительный урон твоей чести? Неужели ты утратил честь, потому что другие поступили бесчестно? Нет, Марк, ты солдат, а солдат не должен удирать с поля сражения. Вот теперь ты и в самом деле заслуживаешь упрёка в трусости.
— Как я могу жить обесчещенный? — страстно спросил Марк. — Друзья прислали мне этот замотанный в тогу меч, потому что понимают это. К тому же Мириам умерла.
— Этот меч тебе прислал сам Сатана, Марк; твоя глупая гордыня — лестница, ведущая прямо в ад. Отбрось лживое понятие о чести, встреть постигшие тебя беды как настоящий мужчина, — одолей их с помощью душевной чистоты и веры.
— Но ведь Мириам... Мириам...
— Подумай лучше, как приняла бы тебя Мириам там, в лучшем мире, если бы ты явился к ней с руками, обагрёнными собственной кровью. Неужели не понимаешь ты, сын мой, что это ниспосланное тебе испытание? Господь унизил тебя для того, чтобы ты мог выше воспрянуть. Ещё недавно ты владел всем, что может дать этот мир. Богат, знатен, высокое положение — люди даже называли тебя Счастливчиком. Но когда Христос воззвал к тебе, ты не внял его зову, ты отверг заветы распятого плотника из Галилеи. Но вот козни твоих врагов низвергли тебя. Ты уже не занимаешь прежнего почётного места в своём кровавом ремесле. Ты разжалован и приговорён к ссылке. Жизнь обошлась с тобой сурово, поэтому ты хочешь бежать от неё, вместо того чтобы исполнять свой жизненный долг и в радости и в горе, не слушая людских пересудов и ища мира в суждениях собственной совести. Пусть же низойдёт к тебе Тот, Кого ты отверг во дни своего возвышения. Неси же свой тяжкий крест, как его нёс Он. Ищи свет в Его свете, мир — в Его мире. Неужто мой дух всуе беседовал с твоим духом все эти недели, сын мой. Ты уже мне сказал, что веруешь, почему же при первом столкновении с бедой ты отрекаешься от уже признанной тобой Истины? Послушай же меня! Да отверзнутся очи твои, пока не поздно.
— Говори, я слушаю, — со вздохом сказал Марк.
Кирилл убеждал его с истинным вдохновением, пока он не почувствовал, что его сердце смягчилось, а мысли отвращаются от самоубийства.
— Я знал всё это и раньше, я верил во всё это и раньше, — наконец сказал он, — но я не хотел принять крещение и стать членом вашей Церкви.
— Почему, сын мой?
— Потому что, крестись я, она, может быть, подумала бы, и ты, может быть, подумал бы, и даже я сам подумал бы, что сделал это только ради той, которая дороже мне всего на свете. Но теперь её нет в живых, и я могу принять крещение. Исповедуй же меня, отец, и крести.
Кирилл взял воду и тут же принял римлянина Марка в лоно христианской Церкви.
— Что мне теперь делать? — спросил Марк, поднявшись с колен. — До сих пор моим повелителем был цезарь, теперь его голосом говоришь ты. Повелевай же.
— С тобой говорю не я, сам Христос. Послушай. Дела Церкви призывают меня в Александрию, и через три дня я отплываю. Готов ли ты, изгнанный из Рима, отплыть вместе со мной? Там я найду тебе работу.
— Я уже сказал, что теперь ты мой повелитель, — сказал Марк. — Уже свечерело, я свободен, — прошу тебя, проводи меня домой, ибо там меня ожидает много дел; чтобы их решить, мне необходим совет.
Как приказал Тит, его выпустили, и они отправились на Виа Агриппа, сопровождаемые небольшим эскортом из двух человек.
Наружная дверь дома оказалась открытой. Они вошли и закрыли за собой дверь.
— Не очень-то хорошо охраняется твой богатый дом, сын мой. В Риме каждая открытая дверь нуждается в привратнике, — сказал Кирилл, входя в сводчатый проход.
— Мой домоправитель Стефан, наверное, где-то рядом; тюремщик должен был сообщить ему о моём освобождении, хотя я и не собирался возвращаться сюда, — начал Марк — и тут же замолк, споткнувшись о что-то, лежащее на земле.
— Что это? — спросил Кирилл.
— Кажется, то ли пьяный, то ли мёртвый. Может быть, какой-нибудь попрошайка забрался сюда, чтобы отоспаться после выпивки.
Кирилл был уже во внутреннем дворике.
— В окне горит свет, — сказал он. — Пошли в дом. Мы ещё успеем вернуться к этому попрошайке...
— Который спит подозрительно крепким сном, — сказал Марк, подходя к двери конторы, где домоправитель держал свои книги и спал. И эта дверь тоже была открыта. На столе горел светильник — тот самый, что они видели со двора. При его мерцании они увидели странную картину. Железный сундук, прикованный цепями к стене, был взломан, лежавшие в нём бумаги — выброшены, и тут же на полу лежал пустой кожаный мешок, где хранились деньги. Мебель была тоже перевёрнута, как будто здесь происходила какая-то схватка; в углу комнаты под тяжёлым мраморным столом лежали два человека — мужчина и женщина.
— Здесь побывали убийцы, — со стоном сказал Кирилл.
Марк схватил светильник со стола и поднёс его к лицу мужчины в углу.
— Это Стефан, — сказал он, — связанный и с кляпом во рту, но живой, а эта женщина — рабыня. Подержи светильник, а я развяжу их. — И, вытащив свой короткий меч, он тут же освободил обоих пленников.
— Говори, говори скорее, — поторопил он Стефана, когда тот с трудом поднялся на ноги. — Что здесь произошло?
Несколько мгновений старый управитель растерянно хлопал своими круглыми, испуганными глазами.
— Это вы, господин, — наконец выдохнул он. — Они сказали, что пришли убить вас по приказу того самого Халева, который дал показания на суде.
— Они? Кто? — спросил Марк.
— Не знаю, четыре человека в масках. Они сказали, что должны убить вас, но им велено не причинять никакого зла мне и старой рабыне — только связать и заткнуть рты. Так они и сделали и, забрав все деньги, пошли подстерегать вас. Затем я услышал какой-то шум в аркаде и едва не умер от отчаяния, ибо я не мог ни предупредить вас, ни помочь вам, и был уверен, что вы погибнете от их кинжалов.
— Возблагодарим Господа за твоё чудесное спасение! — сказал Кирилл, воздевая руки.
— Мы ещё успеем принести свою благодарность, — сказал Марк. — Идите за мной. — И со светильником в руке он вернулся в аркаду.
Там, лицом к земле, лежал человек — тот самый, о которого Марк споткнулся; он был весь в крови от многочисленных нанесённых ему ран. Они молча перевернули его. Когда свет упал на его лицо, Марк отшатнулся в изумлении: перед ним лежал Халев, весь в крови, смуглый и красивый в своём смертном сне.
— Но это же тот самый человек, — сказал он Стефану, — чей приказ якобы выполняли убийцы. Видимо, он попал в свои собственные сети.
— Ты в этом уверен, сын мой? — спросил Кирилл. — Как ты можешь узнать его в таком окровавленном виде?
— Обнажите его руку, — ответил Марк. — Если я прав, у него не хватает сустава на одном пальце.
Кирилл повиновался и поднял окоченелую руку убитого. Сустава на пальце не хватало.
— Попался в свои собственные сети, — повторил Марк. — Я знал, что он ненавидит меня, несколько раз мы пытались убить друг друга в битвах и поединках, но я никогда не поверил бы, что еврей Халев может унизиться до убийства. Он получил поделом, вероломный пёс!
— Не судите, да не судимы будете
[71], — ответил Кирилл. — Ты же не знаешь, как и почему умер этот человек. Может быть, он хотел предостеречь тебя...
— От нападения нанятых им же самим убийц? Нет, отец, я знаю Халева лучше, но он оказался подлее, чем я предполагал.
Они внесли тело в дом и стали обсуждать, что делать дальше. Опасность, казалось, подстерегала их со всех сторон, и они никак не могли принять какое-нибудь решение. И тут послышался стук в дверь аркады. Пока они раздумывали, открыть или не открыть, стук повторился.
— Я пойду, господин, — сказал Стефан. — Мне-то, человеку незначительному, нечего бояться.
В скором времени он возвратился.
— Кто там? — спросил Марк.
— Молодой человек, который сказал, что его хозяин, александрийский купец Деметрий, приказал вручить письмо точно в этот час. Вот письмо.
— Деметрий, александрийский купец? — повторил Марк, беря письмо. — Под этим именем здесь в Риме скрывался Халев.
— Читай, — сказал Кирилл.
Марк разрезал шёлковую ленточку, сломал печать и прочитал:
Благородному Марку.
Во времена минувшие я причинил тебе много зла и не раз покушался на твою жизнь. Но до моего слуха дошло, что Домициан, ненавидящий тебя ещё более лютой ненавистью, нежели я, хотя и с меньшим на то основанием, тайно замыслил убить тебя на пороге твоего собственного дома. Поэтому во искупление лживых показаний, которые я дал против тебя, ибо на свете нет более отважного человека, чем ты, Марк, я решил явиться к тебе в «Счастливый дом», одетый в обычную для римских военачальников одежду. Там, прежде чем ты прочитаешь это письмо, мы, возможно, и встретимся. Но не скорби обо мне, Марк, не восхваляй меня за благородство: ибо Мириам нет в живых; всю жизнь я следовал за ней и хочу последовать за ней и в мир иной, надеясь найти там более радушный приём или же по крайней мере забвение. Ты же, кому предстоит долгая жизнь, должен пить горький яд воспоминаний. Прощай, Марк. Уж если я должен умереть, я предпочёл бы умереть от твоего меча, в открытом поединке, но судьба, которая хотя и подарила мне богатства, не явила мне истинной благосклонности, обрекла меня умереть от кинжалов наёмных убийц, охотящихся за другим человеком. Да будет так. Оставайся здесь, на земле, а я отправлюсь к Мириам. И мне ли жаловаться, что дорога трудна?
Халев
Писано в Риме в ночь моей смерти.
— Отважный, но ожесточившийся человек, — сказал Марк, дочитав письмо. — Знай, мой отец, что я никогда так сильно не ревновал его, как сейчас. Если бы не ты и твои проповеди, — добавил он гневно, — Халев нашёл бы меня уже рядом с Мириам. Но кто знает, что будет теперь.
— Прекрати эти языческие речи, — остановил его епископ. — Неужто ты и впрямь полагаешь, будто страна духов такова, какой её описывают ваши поэты, и будто усопшие взирают друг на друга очами, исполненными земных страстей? И всё же, — добавил он уже мягче, — я не хотел бы укорять тебя, ибо, как и этот бедный еврей, ты с детства воспитывался в предрассудках. Пристало ли тебе, друг Марк, страшиться его соперничества в небесных полях, где ни женятся, ни выходят замуж
[72], верить, будто самоубийство может принести хоть какое-то благо. До сих пор ещё не ясно, чем закончится вся эта история, и всё же я уверен в том, что Халев ничего не выиграет от своей преждевременной смерти, если только он не ставил перед собой более благородную цель, чем та, о которой он пишет в своём письме, а я лично предполагаю, что так оно и было.
— Надеюсь, да, — ответил Марк, — хотя, честно говоря, мне совестно, что другой человек отдал свою жизнь за меня. Я предпочёл бы, чтобы он предоставил меня моей собственной участи.
— Свершилась воля Господня, ибо пути человеческие определяются самим Господом, как же может человек судить о своих делах, — со вздохом сказал Кирилл. — Но закончим этот разговор, ибо у нас очень мало времени, и сдаётся мне, тебе лучше покинуть Рим, прежде чем Домициан узнает, что вместо Марка убили Халева.
Прошло почти три месяца, прежде чем однажды, после захода солнца, галера медленно вошла в александрийскую гавань и бросила якорь в тот самый миг, когда над морем блеснул луч Фаросского маяка. Плавание в эту зимнюю непогоду было достаточно тяжёлым, галере приходилось долгими неделями укрываться во многих портах. Несмотря на недостаток еды и воды, галера всё же благополучно добралась до своей конечной цели, за что епископ Кирилл, римлянин Марк и другие христиане, что были на борту, стоя на коленях в своей небольшой каюте на баке, вознесли благодарственную молитву, но было уже слишком поздно, чтобы подойти к пристани. Они все высыпали на палубу, ибо запасы пищи у них истощились, а вода оставалась только затхлая, и, прислонясь к фальшборту, жадными глазами смотрели на берег, где горели тысячи огней огромного города. Недалеко от них, на расстоянии не большем, чем полёт стрелы, стояло другое судно. Глядя на его чёрные обводы, они услышали, что на его палубе поют и звуки пения разносятся над тихими, озарёнными лунным светом водами гавани. Они слушали не очень внимательно, пока не вникли в слова этой песни. Прислушавшись, они переглянулись.
— Это не матросская песня, — сказал Марк.
— Нет, — ответил Кирилл, — это христианский гимн, который я хорошо знаю. Слушайте. Каждый стих кончается словами: «Мир душе твоей».
— Стало быть, — сказал Марк, — это христианский корабль, иначе они не решились бы запеть этот гимн. Ночь спокойная, почему бы нам не спустить лодку и не отправиться к ним? Я хочу пить, а у этих добрых людей, наверное, есть свежая вода.
— Как хочешь, — ответил Кирилл. — Может
быть, у них есть не только свежая вода, но и свежие новости.
Немного погодя маленькая лодка подошла к борту незнакомого корабля, и её пассажиры попросили у вахтенного разрешения подняться на борт.
— Каков ваш опознавательный знак? — спросил он.
— Знак креста, — ответил Кирилл. — Мы члены христианской общины Рима и услышали ваш гимн.
Им сбросили верёвочный трап, и вахтенный радушно пригласил их подняться.
Они взошли на палубу и направились к капитану, который находился под парусиновым навесом, растянутым на юте. Здесь, озарённая светом фонарей, стояла женщина в белом платье, она очень мелодичным голосом пела припев гимна, а все остальные подхватывали.
— Я восстал из мёртвых, — пропел голос. В его тоне и тембре было что-то очень знакомое, что-то, проникавшее в самое сердце Марку.
Вместе с Кириллом он прошёл мимо скамей для гребцов; певица услышала их неуверенные впотьмах шаги и замолкла. Затем шагнула вперёд, вглядываясь во мглу, и её лицо оказалось на ярком свету. Никого не видя, она продолжала петь:
— О, нечестивцы, я восстал из мёртвых.
— Смотри, смотри! — выдохнул Марк, хватая Кирилла за руку. — Смотри, это Мириам либо её дух.
Через какой-то миг и он тоже очутился на свету, и его глаза встретились с глазами певицы. Она негромко вскрикнула и упала без чувств.
Так подошла к окончанию эта длинная история. Они узнали, что весть о гибели «Луны» была ложной. «Луна» перенесла сильный шторм, но её искусный капитан Гектор сумел благополучно укрыться в одной из гаваней на их пути. Оттуда она направилась в Сицилию, здесь её подремонтировали, подновили оснастку, и она продолжала путь. Восемь недель «Луна» простояла в одном из греческих портов в ожидании хорошей погоды и наконец с попутным ветром благополучно добралась до Александрии, всего на два дня раньше, чем галера Марка. Отсюда следовало, что корабль, крушение которого видели матросы «Императрикс», также назывался «Луной», название тогда довольно распространённое, или же просто произошла ошибка. Возможно, умирающий моряк в бреду назвал знакомое ему имя другого корабля. Так, по благоволению Провидения, «Луна» с Мириам и другими избежала всех опасностей и достигла гавани Александрии.
Прежде чем расстаться в эту счастливую ночь, они поведали друг другу всё, что знали. Мириам узнала, как Халев сдержал данное ей слово; хотя он и считал её мёртвой, яростная гордыня и ревность не позволили ему упомянуть об этом в письме Марку. Она узнала также, как Марк был спасён Кириллом от самоубийства и как он присоединился к христианскому братству. И как же в последующие годы были они рады, что он принял крещение, уверенный, что её нет в живых! Теперь никто не мог обвинить его в том, что он переменил веру ради женщины; их совесть могла быть совершенно спокойной.
Наконец-то они поняли, что Божий Промысл провёл их через многие испытания, опасности и искушения. Ради их же собственного блага.
Наутро там же, на корабле «Луна», Марк и Мириам, которую римляне называли Жемчужиной, были обвенчаны епископом Кириллом. Шафером невесты был центурион Галл, а седовласая, яростноглазая Нехушта благословила их от имени покойной матери, чьё запрещение так и не было нарушено.
Леонард Грен
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИЕРУСАЛИМА
Придут дни, в которые из того, что
вы здесь видите, не останется камня
на камне; всё будет разрушено.
Евангелие от Луки, XXI, 6
Потому что это дни отмщения,
да исполнится всё написанное.
Евангелие от Луки, XXI, 22
I
В конце декабря 65 года по Рождестве Христовом накануне праздника Обновления храма бесчисленные массы народа стекались отовсюду в Иерусалим.
По большой северной дороге двигались огромные караваны богомольцев из Галилеи, Сирии, Египта и Вавилона, даже из самых отдалённых стран царства парфян и персов.
Караваны шли при пении напутственных гимнов, под звуки барабана и тамбуров. Дети, старики, женщины, закутанные покрывалами, ехали верхом на мулах, ослах и верблюдах, а мужчины, одетые в бурнусы из верблюжьей шерсти, с длинными посохами в руках, вели на поводу вьючных животных.
Нередко этих усталых, покрытых пылью богомольцев обгоняли богатые караваны купцов из Цезареи и корабельщиков из портовых городов Приморской области. Мелькали яркие уборы, пёстрые ковры, и раздавался нестройный звон серебряных колокольчиков. Чем ближе к Иерусалиму, тем многолюднее становилась дорога и от Бирофа, вплоть до укреплённых стен Везефы, представляла оживлённую, своеобразную картину. По всем просёлкам, прилегавшим к большой дороге, также двигались толпы народа. Тысячи конных и пеших людей, вереницы обозов, многочисленные стада быков и овец то и дело вступали на главный путь. Здесь они производили невообразимую суматоху, сталкиваясь с плавно идущими караванами, поднимали облака пыли, оглашали воздух криками, рёвом и блеяньем.
У стен Иерусалима, как вода в половодье, беспрерывно прибывающий люд образовал необозримый табор. Давка происходила под тяжёлыми сводами городских ворот, где люди и животные, стиснутые в единую толпу, проталкивались вперёд неудержимым натиском.
Огромный и без того многолюдный город походил теперь на кишащий муравейник. В его переполненных домах и гостиницах не хватало более места для бесчисленных гостей. Поэтому на улицах раскинули шатры, устроили шалаши из пальмовых ветвей и виноградных лоз, а к стенам домов приделали навесы, где разместили животных и людей, создав таким образом город в городе. Однако, несмотря и на эти меры, десятки тысяч народа остались без приюта и окружили лагерем стены Иерусалима.
Шумны, кишащие народом улицы представляли живописное зрелище; тут как в калейдоскопе, пестрела и беспрерывно менялась смесь всех племён и национальностей древнего мира. Среди коренных правоверных иудеев, суровых, неприветливых, замкнутых в себе, как и негостеприимная, каменистая их страна, поминутно встречались весёлые, открытые лица белокурых граждан геннисаретских городов. Забубённые головы — ремесленники и матросы из промышленных и портовых местностей Финикии — толклись среди благочестивых иерусалимлян, неприлично переругиваясь и горланя языческие песни. Евреи с берегов Тибра, Ефрата и Нила, богатые судовщики из Цезареи, Сидона, Александрии, изнеженные сиро-греки, эллины попадались в толпе рослых пастухов и поселян нагорной галилейской страны, в грубых одеждах из козьих шкур, и среди полудиких сынов пустыни, разбойничьих идумеян.
Тут были гордые чванные саддукеи в богатых шёлковых одеждах, учёные фарисеи и книжники в шерстяных белых талифах с кистями, в широких филоктериях и аскеты эссеяне в убогих одеждах из грубого синдина
[73]. Толпа деловых левитов, учеников закона и простых храмовых служителей смешивалась с толпой торговцев, с солдатами римского гарнизона и храмовой стражи, но более всего здесь было босоногой иерусалимской черни и нищих.
Говор этой разноплеменной толпы, выкрикиванье торговцев медовыми лепёшками, голубями и ягнятами, монотонное мычание выпрашивающих милостыню, хохот и галденье праздной черни, пение старцев, исполнявшие священные гимны, визг и крик затёртых в толпе женщин и детей, рёв жертвенных быков, блеянье овец, скрип неуклюжих каррук — весь этот хаос разнородных звуков нестройным гулом разносился по улицам и рынкам Везефы и нижнего города, вплоть до самых стен аристократического, молчаливого Сиона. Сливаясь вдали в одно общее гуденье, он походил на жужжанье пчелиных роёв.
Священный, воспетый царственным поэтом город был не только столицей Иудеи, но главою и сердцем Израиля, рассеянного по всему лицу земли. В качестве религиозного и политического центра привлекал он на свои годовые праздники бесчисленное множество верующих. Но из всех иерусалимских празднеств более всего выделялся праздник Обновления Храма, учреждённый в память избавления от чужеземной тирании. Это радостное торжество в честь Иуды Маккавея внушало народу патриотические чувства и привлекало прозелитов самой торжественной в году службой во храме Бога евреев.
Здесь отсутствовали только самаряне. Великий спор о том, гора ли Гаризин в Самарии, с которой Иисус Навин благословил народ и где сохранились развалины храма Манасейны, разрушенного Гирканом, или гора Мориа в Иудее, где стоял храм Соломонов, были настоящей святыней Палестины, положил непреодолимую преграду вражды между униженной Самарией и гордой Иудеей.
Однако в этом году праздник не имел радужного отпечатка прежних лет. Со смерти Ирода Великого времена постепенно изменялись к худшему и тёмные тучи заволокли ясное небо Палестины. Холодный ветер гнал их с вершин далёких Аппенин, и они, выплывая из-за светлых вод Восточного моря, грозно сгущались в чёрную пелену и нависали похоронным балдахином над священной столицей Израиля.
Положение иудейского государства было печально. В палестинских домиках развевалось римское знамя, а в городах звучала греческая речь. В самом Иерусалиме ненавистный вид римского орла на башнях замка Антония жестоко оскорблял священные чувства иудеев, во всей стране чужеземная культура вытеснила их национальную самобытность.
Народ, погрязший в косной неподвижности вековых предрассудков, был груб, суеверен и совершенно неспособен управлять собою. Налоги росли, производительность падала, бедность увеличивалась, а спорящие между собою секты сеяли плевелы внутренней розни и обостряли отношения с враждебным языческим миром.
Общество разделилось на два лагеря, одушевлённых непримиримой взаимной ненавистью. Просвещённые евреи и прозелиты, живущие за границей, граждане галилейских промышленных городов, большинство саддукейской аристократии и располагающая военной силой страны иродианская партия стремились к государственным и социальным реформам в эллино-римском духе, к объединению Палестины под скипетром тетрарха Ирода Агриппы II, видя спасение и будущность еврейской нации в культурной солидарности с высокообразованным античным миром.
С другой стороны, напротив, фарисеи и зилоты, опираясь на иерусалимскую чернь и народную массу, твёрдо стояли за самобытность, стремились к возврату в доиродианский период и видели спасение в усиленной преданности искажённому талмудом Моисееву закону.
Все они, отвергшие и распявшие Иисуса Христа, веровали в пришествие обещанного пророками Мессии, который должен водрузить знамя иудейской гегемонии над всеми народами и утвердить свой престол в Иерусалиме, как в столице мира...
Считая античный мир гнилым, они мнили себя его обновителями, проповедовали религиозное и национальное изуверство, раздували пламя фанатизма. Взаимная вражда сторон усиливалась, росла и грозила при первой искре вспыхнуть пламенем междоусобия.
Солнце склонялось уже к закату, когда запылённый путник, прибывший в этот день с галилейским караваном, пройдя Акру, спустился с холма в квартал Сыроваров.
Мальчик, погонщик осла, навьюченного кладью приезжего, весело бежал впереди, помахивая длинной хворостиной и покрикивая.
Путник был молод, и звали его Марк бен-Даниил. Из Дамаска, где его отец занимался выгодной торговлей шёлковыми товарами, этот юноша прибыл в Иерусалим с целью изучать закон в школе Гиллеля, во главе которой стоял внук знаменитого раввина, Симон бен-Гамалиил, председатель синедриона. Отец бен-Даниила, отправляя сына, снабдил его письмом к своему дальнему родственнику, Веньямину бен-Симону, потомку знаменитого певца победных гимнов Нехании Гискана.
Главная улица, по которой шёл юный путник, соединяла между собою два караванных пути и тянулась через весь город от северных ворот Везефы вплоть до укреплений Офеля, пересекая дугообразно в южном направлении нижний город и разделяя на две части квартал Сыроваров, расположенный в Теранеатской долине между Сионом и горой Мориа. Медленно пробираясь сквозь толпу народа, обходя то крестьянские возы, то мирно лежащих посредине улицы верблюдов, бен-Даниил добрался наконец до переулка, пролегавшего от северных сионских ворот к горе Мориа. Он остановился у гостиницы «Колодец Иакова», на углу переулка, со стороны Сиона. Здесь, по уговору, должен был встретить его Веньямин.
Юноша снял с головы белый тюрбан и, отирая вспотевшее лицо, озирался вокруг. Толстый хозяин гостиницы Абнер заметил путника и, чуя в нём постояльца, бросил торг с крестьянином, продававшим ему ячмень и зимние плоды.
— Ты ищешь пристанища, господин? — обратился трактирщик к бен-Даниилу, внимательно осматривая его костюм и кладь, навьюченную на осла.
— Нет, добрый человек, я жду здесь знакомого, — ответил юноша.
— Пока придёт твой знакомый, ты можешь подкрепить силы в лучшей во всём городе гостинице, — посоветовал Абнер и добавил с любопытством: — А кто твой знакомый? Если он знатен, то я его наверно знаю.
— Его зовут Веньямин бен-Симон.
— Что живёт в доме Тискана? Как же, как же, господин! Ещё бы не знать! Ты что же, родственник ему? Э, да вот он сам сюда идёт, наш почтенный Веньямин!
Трактирщик указал на саддукея, поспешно шедшего по переулку. Бен-Марк поспешил ему навстречу.
Бледный, худощавый, с типичным иудейским лицом внук Нехании Тискана смотрелся очень невзрачным в роскошной саддукейской одежде. Узкий, доходивший до пят белый хитомен из плотного виссона и такой же пояс, «эмиам», с карминовым узором, искусно обвитый вокруг груди, талии и бёдер, причём концы его с карминовыми кистями спускались почти до полу, резко обрисовывали впалую грудь и костлявое тело. Верхняя же одежда «меяр» из шёлковой материи гиацинтового цвета с широкими, ниспадавшими до земли рукавами, застёгнутая на груди золотой застёжкой, сидела мешком на угловатых плечах, между тем как белый тюрбан из индийской ткани с гиацинтовыми полосами, нахлобученный поверх головной сетки «масна-эмертес», при всей своей воздушной лёгкости, как будто пригнетал Веньямина, заставляя его ходить согнувшись. Бен-Даниил низко поклонился саддукею.
— Мне сказали, что ты Веньямин бен-Симон. Я бен-Даниил из Дамаска.
— A-а! Давно желанный гость, приветствую тебя во святом городе Израиля!
Саддукей обнял и трижды облобызал юношу.
— Надеюсь, ты принёс хорошие вести от моего друга и покровителя, твоего почтенного отца? — спросил он.
— Отец шлёт тебе привет! Вот его письмо, — ответил юноша, доставая из сумки на груди свиток папируса, обмотанный шёлком и запечатанный голубым воском.
Веньямин взял письмо с видом глубочайшего почтения и бережно спрятал за пазуху, говоря:
— Да благословит его Господь Израиля! Мы прочтём это после, на досуге, а теперь поспешим домой, где мать и сестра ждут тебя к ужину.
Миновав переулок, Веньямин с бен-Даниилом поднялись по выложенной каменными плитами дороге к стенам верхнего города; здесь они остановились на площадке у великолепных иродовых ворот с коринфским портиком и мраморными ступенями, чтобы взглянуть на открывшийся перед ними вид Иерусалима.
У ног их расстилался нижний город с плоскими крышами домов и с бесчисленными башнями по стенам, охватывавшим его каменным поясом. На хребте холма Акры, представлявшего форму полумесяца, стояли дворцы царей Адиабейских, называвшиеся дворцами Елены. Рядом с ними возвышалось здание городской ратуши, Археион, где помещался архив города и была зала для заседаний синедриона.
Далее — к северу и северо-западу — высились три роскошные башни Ирода Великого. Первую из них он соорудил в память своего друга Гиппикоса и назвал его именем; вторая, выстроенная по образцу фаросского маяка в Александрии, была названа именем его зятя Фасаила; а третья, башня Марины, носила имя любимой супруги царя. Последняя башня была меньше всех, но отличалась самым роскошным убранством внутренних покоев.
За этими башнями виднелись укрепления Везефы, или нового города, где находился водоём Вифезда и гробницы царей е чеканными саркофагами. С севера горизонт замыкали неприступные твердыни бастиона Псефин с исчезающей в облаках восьмиугольной башней. На востоке, на конусообразной вершине горы Мориа, величественное здание храма Иеговы блистало в лучах заходящего солнца, а рядом с ним на фоне вечернего неба, отливавшего пурпуром и тёмным кобальтом, мрачно выделялись чёрные силуэты зубчатых стен и башен замка Антония. Замок этот был построен на отдельной скале в пятьдесят локтей высоты. Крытая галерея на арках соединяла его с храмом. Глубокий ров отделял замок от Акры. За его стеной, укреплённой по углам башнями, были расположены колоннады и многочисленные здания, где помещались казармы, арсенал и магазины римского гарнизона, образуя как бы отдельный город. Между Сионом и Акрой раскинулся квартал Сыроваров. На южном отроге горы Мориа стояли укрепления Офеля, у подножия которых проходила караванная дорога, пересекавшая Иерусалим. Перекинутый через Тераиеатскую долину виадук на арках соединял храм с Сионом. На вершине Сиона с юго-западной стороны нижнего города возвышались, господствуя над плоскими кровлями домов, беломраморные дворцы Ирода Великого.
Эти роскошные, горделивые здания с золотыми крышами, с тонкими башнями, с коринфскими портиками, колоннадами и великолепными ассирийскими архитравами утопали в изумрудной зелени цветущих и благоухающх в вечернем воздухе садов. Рядом с ними стояли дворцы князей Асмоиейских и древний дворец Соломона у северных иродовых ворот. За этими зданиями простиралась аристократическая часть города — верхний рынок с палатами первосвященника и домами знатных родов. Напротив дворца Асмонея, в северо-восточном углу верхнего рынка, находилась обстроенная изящными галереями, вымощенная мозаикой площадь Ксистос, через неё проходили ко вторым иродовым воротам, ведущим к виадуку. За этим плацем были ещё третьи иродовы ворота — восточные. Через них проходили к ручью Силоа, у которого оканчивался квартал Сыроваров, а через долину Теранеатскую вела дорога к Водяным воротам храма.
За верхним рынком находились остальные кварталы Сиона, где были рынки: железный, платяной, шерстяной и мясной. Главная улица пересекала. Сион в южном направлении, начиная от северных ворот до южных, вблизи которых стоят гробница царя Давида и скромный домик Тайной Вечери.
Вокруг Иерусалима расположилась амфитеатром живописная цепь зелёных холмов и крутых отвесных скал, образуя то светлые долины, то мрачные ущелья и зияющие чёрные пропасти. На скатах холмов и у подножия скал ютились под тенью сикомор, стройных пальм и вечнозелёных дубов деревни и местечки с белеющими среди виноградников домиками. Эти цветущие, многолюдные селения окружали серые стены города наподобие венка из цветов.
Дорога, усаженная старыми масличными деревьями, извиваясь вдоль берега Кедронского потока, вела к зеркальным прудам Соломона. Далеко, через изумрудную равнину Иерихонскую, где катятся светлые воды Иордана, до синеющих на горизонте вершин Эбала и Гаризина, блуждали восторженные взоры бен-Даниила, и он долго стоял, созерцая чудный вид священного города, где каждый камень, каждый клочок земли имели свою историю и были неразрывно связаны с прошлым Израиля. Недаром о нём так горько плакали изгнанники у вод Вавилонских, когда снимали с прибрежных ив свои арфы, чтобы пропеть полную скорби песнь.
— Воистину Иерусалим ещё прекраснее, чем рисовало мне воображение! — воскликнул юноша, обращаясь к Веньямину. — Недаром его называют «красой Иудеи».
— Да, только эта краса унижена и запятнана! — возразил тот, указывая на замок Антония.
— Отчего вы не прогоните чужеземцев? — с жаром продолжал дамаскинец. — Смотри, какими крепкими стенами и неприступными башнями защитили наши отцы не только весь город, но и каждую его часть в отдельности. Разве их руки трудились, сооружая эту сильнейшую в мире крепость, для того только, чтобы она послужила логовищем шакалов? Разве мы не можем задушить язычников в их берлоге? Разве обессилели рамена у народа израильского и заржавел славный меч Маккавея?
— Ты не знаешь римлян! — грустно ответил Веньямин. — Они хитры, как лисицы, и мощны, как львы пустыни. Они подавляют нас превосходством своего государственного строя и военным искусством. Сам Ирод Великий был не в силах бороться с ними.
— Ирод, нечестивец, беззаконно захвативший престол Асмонеев! Разве мог этот тиран и осквернитель святынь быть героем? Нет, только Маккавей, а не чужеземный проныра, презренный гер, изверг Автюха Эпифана! Неужели ты полагаешь, что надменный сириец был менее могуществен, чем римский император? Македоняне покорили мир прежде римлян. И, однако, горсть храбрых людей уничтожила одним ударом высокомерную гордыню презренного тирана! Поверь мне, исполнится пророчество: «Не отнимется скипетр от Иуды и законоположник от чресл его, пока не придёт Примиритель, и ему покорятся народы».
— Дай Бог, чтобы твои надежды сбылись как можно скорее, пылкий юноша! Но кто знает, насколько правильно школа Шамая толкует это пророчество? Ведь скипетр и ныне находится в колене иудином, а законоположник происходит от чресл его. В жилах нашего государя течёт кровь Асмонея. Вон высится башня Мариамны, супруги Ирода Великого. Её внук, Ирод Агриппа II, царствует теперь в Палестине.
Бен-Даниил широко раскрыл глаза. Озадаченный словами саддукея, он смотрел на него с изумлением. Тот снисходительно улыбнулся и потрепал его по плечу.
— Ты ретив и горд, как необъезженный конь, но узда времени и науки укротят твои порывы. Тогда страсти подчинятся рассудку, и ты о многом переменишь мнение.
II
Дом Тискана стоял против иродовой претории на южной стороне верхнего рынка.
Дойдя с бен-Даниилом до каменной ограды своего жилища, Веньямин отпер массивную дубовую калитку и пропустил гостя на четырёхугольный двор, гладко вымощенный разноцветными кирпичами и обнесённый вокруг деревянной галереей на колоннах. Здесь были расположены кладовые и хозяйственные помещения.
Одноэтажное здание дома помещалось в центре двора и было выстроено частью из кирпича, частью из камня. Его стены, выкрашенные красной краской и расписанные синими арабесками, были украшены благочестивыми надписями и мудрыми изречениями. Кедровые балки поддерживали плоскую крышу, выложенную глиняной черепицей и снабжённую деревянными перилами. С переднего фасада возвышался искусно сооружённый павильон, окнами на рынок. Павильон служил для помещения гостей, а также домашних на случай их болезни. Широкие сени на колоннах, выстроенные из масличного и сандального дерева, вели внутрь дома, куда входили через трое дверей. Левая дверь вела в помещение женщин, недоступное для мужчин; правая — в комнаты хозяина, между тем как средняя — двустворчатая, резная, из драгоценного кипарисового дерева — вела в центральную залу.
В сенях Веньямин собственноручно снял с гостя дорожный плащ Служанки разули ему тяжёлую обувь, обмыли ноги ароматной водой и надели мягкие финикийские туфли. Теперь хозяин настежь распахнул двери в залу, потом с низким поклоном просил гостя войти и считать себя своим в его доме.
Выложенная драгоценным кедровым деревом зал, была расписана по стенам и потолку голубыми с золотом арабесками, цветами и виноградными лозами. Пол из гипсового цемента устилали пёстрые дамасские ковры, а вдоль стен стояли широкие скамейки. На них были разостланы финикийские узорчатые покрывала и лежали набитые пахучими травами подушки. Широкие тирские окна, снабжённые деревянными решётками и двустворчатыми ставнями в защиту от слишком яркого солнечного света и палящего зноя, были открыты настежь, и из них виднелся цветущий сад с фонтаном посредине, с тенистой смоковницей, под которой, по древнему обычаю, совершалась ежедневная молитва «крашма».
Середину залы занимал длинный стол, ярко расписанный голубыми и красными цветами, на массивных низеньких ножках в виде древесных стволов, обвитых плющом. С трёх сторон стола было расставлено девять стульцев, которые при торжественных трапезах заменялись ложами для возлежаний, а стол обращался в триклиний. В восточных углах залы стояли два серебряных семиветвенных светильника чеканной работы на мраморных кубической формы постаментах.
Веньямин предупредительно пригласил гостя пока отдохнуть до ужина. Между тем узорчатая занавесь левой боковой двери тихо распахнулась, и в залу вошла почтенная матрона, мать хозяина. За нею следовала её дочь, Фамарь, со служанками, нёсшими серебряные блюда с яствами и каменные кувшины с напитками.
Увидя Фамарь, бен-Даниил изумился.
Он никогда не думал, чтобы сестра некрасивого Веньямина была так хороша собой. И как к ней шёл домашний костюм иудейских девушек! Как мила и грациозна была она в этой белой из тонкого виссона тунике с широкими рукавами и светло-фиолетовой каймой. Как рельефно обрисовывал нежные формы девического бюста пурпурный золототканый пояс «кишурим». Её маленькие ножки с узкой пяткой и высоким подъёмом были обуты в сандалии из дорогой ташейской кожи с доходящей до половины икры шнуровкой из фиолетовых лент и золотого позумента, причём эти завязки были унизаны миниатюрными серебряными колокольчиками. Золотая повязка, осыпанная сапфирами и серым индийским жемчугом, удерживала на лбу её чёрные волосы, благоухающие и завитые я длинные локоны, а прикреплённое к этому головному убору покрывало из тончайшего прозрачного виссона окружало воздушную фигуру Фамари белым облаком.
Очарованный юноша не мог оторвать глаз от сионской красавицы, которая смело поглядывала на него, сверкая чёрными глазами, как будто её забавляла неловкость застенчивого гостя. Видя, что он, поздоровавшись с матерью, не решается подойти к ней, девушка первая приблизилась к нему и приветливо протянула узкую руку с тонкими пальцами.
Тем временем служанки уставили стол блюдами и принесли серебряные сосуды для омовения. Каждому из присутствующих подносили таз и поливали ему на руки воду из кувшина. По совершении этого важного обряда хозяин громко произнёс затрапезную молитву и все заняли места за столом: гость посередине, хозяин с правой, а женщины с левой стороны триклиния. Служанки прислуживали, ставили и убирали кушанья с четвёртой стороны стола, которая оставалась свободной.
Проголодавшийся Марк не заставил долго угощать себя и оказал должное внимание кулинарному искусству вдовы покойного Симона бен-Нехания. Жареный ягнёнок с рисом, крупитчатый пирог, обильно политый оливковым маслом, и блюдо «либбан» из печёных овощей подверглись сильному нападению со стороны гостя. Пока он утолял свой голод, Веньямин деликатно молчал, а женщины не смели первые начать разговора. Но когда служанки, убрав со стола остатки ужина, поставили десерт из сочных фруктов и различных, приготовленных на мёду сластей, а хозяин наполнил вином чашу гостя, беседа оживилась.
Бен-Даниил сообщил новости из Дамаска, и разговор зашёл о свадьбе, предстоящей в доме Гиллеля. Симон бен-Гамалиил выдавал старшую дочь, Имму, за сына богача Гиркана. Жених с невестой были обручены ещё в детстве, и теперь, когда Имме исполнилось восемнадцать лет, и жених Элиезер занял почётную должность, на днях должна была состояться их свадьба, к которой делались большие приготовления. Старинная дружба между домами Гиркана и Гиллеля придавала разговору живой интерес; особенно в глазах женщин предстоящее семейное торжество имело значение мирового события, и они, забыв должную сдержанность в присутствии мужчин, трещали без умолку о великолепных нарядах, чудных тканях и драгоценных уборах, выписанных женихом для невесты из Сидона, Александрии и Дамаска. Прислушиваясь к серебристому голосу прелестной Фамари, Марк упивался её созерцанием. Часы летели для него точно минуты, и он не заметил, как прошло время.
Поднявшись в павильон, где ему был приготовлен ночлег, юноша открыл окно и долго мечтал о чёрных, подернутых томной негой глазах Фамари. Над Сионом светила луна, озаряя серебристым светом сонные дворцы и пустынную площадь. Вдали постепенно затихал шум засыпающего города.
III
Утром до восхода солнца левиты возвестили спящему городу трёхкратным трубным звуком начало «ханнукког», великого праздника Обновления храма.
Сион пробудился. Калитки домов с шумом растворялись, из них выходили на улицу в белых одеждах мужчины и закутанные белыми покрывалами женщины. В предрассветном сумраке они двигались по пустынной площади при свете слабо мерцающих светильников длинным торжественным шествием, подобно теням, восставшим из гробов. Между тем на противоположном конце площади вспыхивало багровое пламя факелов, слышалось бряцанье оружия, хриплая команда и мерный шаг римлян, заблаговременно усиливавших гарнизон претории и караулы у городских ворот.
Семейство Веньямина, пройдя восточные ворота, спустилось по извилистой каменистой тропе к священному источнику Силоа, где остановилось, чтобы зачерпнуть из него воды. В то время первые лучи восходящего солнца осветили окутанную мраком вершину горы Мориа, и на его конусе зарделось и заблистало беломраморное здание храма с золотыми крышами. Веньямин с гордостью указал на блистающую в лучах солнца святыню, которая как будто отделялась от горы и парила в воздухе.
— Чудесное зрелище, не правда ли? Сердце радуется, как взглянешь на этот лучезарный храм Бога живого. Незабвенно имя государя, воздвигшего из соломоновых развалин такое великолепие! Благодаря Ироду Великому, храм восстал из своего пепла, подобно фениксу.
— Да, но в глазах сведущего человека этому храму недостаёт самого существенного: тех шести утерянных сокровищ, некогда украшавших скромный сравнительно с настоящим храм Соломона, — холодно возразил Марк бен-Даниил, недовольный похвалой иноземца.
— Наша вера не нуждается в вещественных атрибутах и не должна быть прикована к одному месту, хотя бы и самому святому. Наши сердца — вот истинный храм Бога живого, а наши души его святая святых, — скромно заметила Фамарь.
Юноша взглянул на сестру Веньямина, удивлённый её замечанием. Но Веньямин кивнул головой в знак согласия с мнением девушки.
— Я не буду против этого спорить, прекрасная бат-Симон, — продолжал дамаскинец, — однако в понятиях нашего народа место с его преданиями неразрывно связано с верой. Оторви народ от священного места, и в нём увянет вера, подобно листьям на дереве, с корнем вырванном из почвы. Потому нам необходим закон, связывающий веру с местом, и потому всё баснословное великолепие иродовых сооружений не заменит нам ни первоначального храма Соломона, ни его скромных сокровищ.
— Ты прав в глазах людей, которые ставят народ на первый план, а неразумные «предания старцев» выше книг Моисея, — желчно возразил саддукей, — но хотел бы я знать, какой в том прок, что вы сами спускаетесь до низменного уровня толпы? Народ до сих пор не заслужил ничего хорошего. Это всё тот же неразумный ребёнок, который роптал в пустыне и плакал возле золотого тельца.
Бен-Даниил промолчал, не желая резко возражать почтенному другу своего отца. Молча перешли они Теранеатскую долину и медленно поднялись по скалистому склону горы Мориа к наружной стене храма.
Пятеро ворот с массивными колоннами и портиками вели через наружную стену во внутренние дворы, расположенные террасами один над другим. Вдоль стены с внутренней её стороны шли галереи, крытые кедровым деревом, опиравшиеся на колонны из цельного мрамора; последние были выкрашены снизу на одну треть в синий, сверху на две третьих в тёмно-красный цвет и упирались на цоколи с густой позолотой.
В этих галереях, вымощенных пёстрой мозаикой, собирался народ и учителя закона для поучений и деловых совещаний. За галереями находился двор язычников с широкими рядами коринфских колонн и с роскошными аркадами. Шесть металлических досок с греческими и латинскими надписями оповещали каждого, что иноверцам под страхом смертной казни воспрещён доступ в следующие дворы. Первоначально, по примеру храма Венеры на горе Эрике и сирийской богини в Гиерополисе, здесь дозволялось иностранным купцам производить торговлю красным и галантерейным товарами, за что с них взималась в пользу храма известная арендная плата. Но вскоре к иноземным купцам присоединились иудейские мытари и менялы. Их присутствие обусловливалось тем обстоятельством, что священники при собирании податей и пожертвований, отменив ходячую монету с языческими эмблемами, принимали только мелкую серебряную иудейской чеканки. Менялы разменивали ходячую монету, причём брали «калбан», то есть пять процентов суммы. Таким образом, в Иерусалиме при храме Иеговы зародилась современная биржа с присущим ей гвалтом и мошенничеством. Но дело этим не ограничилось. Двор язычников искушал людскую жадность. Местные торговцы голубями и ягнятами считали себя обиженными предпочтением, оказанным иностранцам, и подняли вопль, требуя для себя одинаковых с ними прав.
Некий Баба бен-Бута первый пригнал на великолепный двор три тысячи овец. При таком обороте дел иностранные гости поспешили убрать свои товары и очистить место евреям.
Съестные лавки мелких торгашей, палатки менял и столики мытарей непосредственно примкнули к священной ограде и от восточных ворот протянулись по обеим сторонам вплоть до портика Соломона. Внутри же двора язычников целые стада быков и овец томились от жары, заражая воздух зловонием. Под тенью аркад, на мозаичном дорогом полу, расположились люди с огромными плетёными корзинками, битком набитыми голубями. Тут же сидели менялы со стопками монет, и звонко раздавалась крупная брань за бесчестную торговлю. Таким образом двор язычников иудеи превратили в скотный двор и место ярмарки. Невообразимый гам, смешанный с рёвом животных, неприлично заглушал торжественное пение левитов и молитвы священников, а страшное зловоние его нечистот, не имевших стока, оскорбляло религиозное чувство набожных молельщиков.
Собственно Святыня имела сто восемьдесят семь локтей в длину, сто двадцать пять в ширину и была обнесена отдельной стеной. К ней вели девять ворот с мраморными ступенями, сплошь выложенными золотом и серебром. С каждой стороны ворот стояло по цельной мраморной колонне в двенадцать локтей окружности. Над воротами были надстройки в виде башен с различными помещениями. Перед беломраморным зданием храма, горделиво возвышавшимся на колоссальном каменном основании, размещались отдельные дворы: женщин, евреев и священников. Из этих дворов через открытый портал храма была видна вся его внутренность. Над порталом вилась знаменитая, гигантских размеров золотая лоза из литого золота с виноградными гроздьями в человеческий рост.
Перед порталом на священническом дворе стояла умывальница, а перед ней большой жертвенник всесожжения, с северной стороны которого были вделаны в мозаичный помост двора шесть рядов колец для привязывания жертвенных животных и восемь низких столбов с перекладинами для снятия шкур с убитых. Между столбами стояли мраморные столы для мяса. За порталом в предхрамии стояли два стола: один золотой для тука, другой серебряный для инструментов, употребляемых при жертвоприношениях. Здание храма представляло резкое смешение восточных, позднейших греческих и римских архитектурных форм. Вокруг него были расположены в галереях у стен различные помещения: хранилища музыкальных инструментов и риз левитов, зал собраний, погреба, кладовые, арсеналы с оружием и экипировкой для храмовой стражи. Под самым зданием были подземелья, куда не имел доступа никто, кроме священников, и где находился «корван», сокровищница храма с несметными, накопленными веками богатствами.
В верхнем этаже был целый лабиринт комнат и зал. Плоская золотая крыша, обнесённая вокруг перилами, была снабжена по углам золотыми тонкими шпилями в защиту от птиц, которые пугались их ослепительного блеска и отлетали прочь.
Бен-Даниил, поражённый всем этим великолепием, пожирал глазами грандиозное сооружение, любуясь террасами дворов, сверкавшими на солнце разноцветной мозаикой.
Веньямин обратил его внимание на замечательные двустворчатые ворота, обложенные массивным серебром и золотом; те из них, которые выходили на восток, были покрыты толстым слоем коринфской латуни, ценившейся дороже всех драгоценностей. Саддукей указывал юноше на красивые портики, двойные переходы, дивные колонны с золотыми цоколями, на роскошь скульптурных украшений и на сменяющиеся глыбы розового и белого мрамора, напоминавшие гребень и бездну морских волн. Но великолепнее всего была Святыня, которую сравнивали по форме с лежащим львом и которая своей мраморной белизной и своими золотыми крышами походила издали на снеговую гору с позолоченной солнцем вершиной. При этом Веньямин объяснил бен-Даниилу, что над постройкой храма трудились в продолжение сорока шести лет десять тысяч наёмных рабочих, тысячи упряжек лошадей, беспрерывно доставлявших строительный материал, и, сверх того, целая тысяча священников. Облачённые в белые ризы, они неусыпно работали, кладя своими руками на предназначенное место отёсанные камни.
Между тем город проснулся, зашумел, улицы оживились и через все девять блистающих ворот храма повалили густые массы народа, который столпился, голова в голову, перед величественным портиком Соломона с беломраморной колоннадой, украшенной гирляндами цветов и трофеями в честь Иуды Маккавея.
Священники и левиты собрались в предназначенных для них дворах, готовясь к жертвоприношению.
Теперь на площади верхнего рынка распахнулись настежь ворота палат первосвященника. Оттуда вышла торжественная процессия и направилась через Ксистос по виадуку в храм. Шествие открывал отряд храмовой стражи в белых талифах поверх кожаных лат с медным прибором и в белых тюрбанах с остроконечной железной тульёй Вслед за отрядом священники несли обвитый гирляндой из дубовых листьев щит Асмонея, за которым шёл, окружённый своими офицерами, храмовый военачальник, Элиазар бен-Ганан. Далее шли левиты в длинных белых одеждах и стройно пели торжественные гимны под звуки лютней, арф и флейт. За ними шествовал сам первосвященник Матфей бен-Феофил в сопровождении членов синедриона, саддукейской аристократии, фарисеев и старейшин народа.
Он шёл под пурпурным балдахином с золотой бахромой. Нубийские рабы несли вокруг него опахала из павлиньих хвостов и страусовых перьев. Торжественное облачение первосвященника состояло из белого с фиолетовой каймой хитомена с узкими рукавами, опоясанного пурпурным эмиамом с золотыми кистями. Подол его пурпурного шёлкового меира был расшит голубым и карминовым шёлком и золотом, а сверх того унизан круглыми кистями и золотыми бубенчиками в виде гранатовых яблок. Поверх меира был надет эфод из драгоценной материи, протканной тёмно-фиолетовыми, ярко-красными и золотыми нитями. Он застёгивался на плечах золотыми застёжками. На груди первосвященника блистал золотой щит с двенадцатью каменьями, на которых были вырезаны имена двенадцати колен израилевых. Щит этот заменил утерянный древний урим и тумим. На голове первосвященника поверх сетки масна-эмертес был надет головной убор кидар, род тюрбана, украшенный диадемой с пурпурными лентами и с надписью: «Свят для Иеговы». Блестящее шествие замыкали раввины, книжники и отряд воинов.
Бледное, серьёзное лицо Матфея со впалыми щеками носило следы утомительных приготовлений к торжеству.
За семь дней до праздника он уже уединялся от своего семейства, и к нему никто не имел доступа, исключая одних старейшин и книжников. Глава церкви в это время жил как узник, проводя дни и ночи в посте и молитве. Старейшины строго наблюдали за исполнением обрядности, а книжники беспрерывно читали ему вслух тексты закона. Его окропляли святой водой и к нему подводили в установленном порядке жертвенных животных, тщательный осмотр которых лежал на его обязанности Последние же сутки первосвященник окончательно проводил без сна, без капли воды и куска хлеба. И теперь после стольких испытаний он должен был идти в процессии, совершать многочисленные обряды и жертвоприношения самого торжественного в году богослужения.
На ступенях предхрамия Святыни появилась высокая статная фигура Матфея во главе пятисот священников в блестящих белых одеждах.
Грянул резкий звон огромного медного гонга. Народ пал ниц. В воцарившейся тишине нежно зазвучали струны арф и раздалось тихое пение левитов. Священники закадили, и благовонный дым из пятисот кадильниц окутал синими облаками Святыню. По принесении ежедневной жертвы священники провозгласили: «Услышь, Израиль: твой Бог был и есть один Бог!» «Аминь! Аминь!» — грянуло в толпе из тысячи уст так мощно и дружно, что дрогнули стены, встрепенулись колонны. Сонм священников, благословляя народ, простёр руки и трижды громко произнёс только в этот день произносимое страшное имя Иеговы, причём хором запел древнюю, как сам Израиль, песнь: «Да воссияет лик Иеговы и да помилует Он тебя. Да обратит свой лик к тебе Иегова и дарует мир тебе».
Торжественно и плавно неслись звуки песни под сводами и портиками храма среди мёртвого молчания, в которое был погружен коленопреклонённый народ. Все замерли, притихли, внимая этому гимну, к звукам которого некогда прислушивались седые от древности пирамиды фараонов.
Теперь первосвященник, переоблачённый в длинную белую тунику, приступил к приношению жертвы покаяния. Возложа руки на голову беспорочного тельца, он громко произнёс формулу покаяния и долго стоял с поникшей головой, как будто ожидая чего-то ужасного. Народ, объятый суеверным страхом, пал ниц и с трепетом ждал решения грозного Бога. Но вот первосвященник радостно воспрянул, выпрямился во весь рост и объявил: «Радуйся, Израиль, ты чист перед Господом!» Обрадованный народ огласил храм ликующими криками.
На южной стороне предхрамия двое козлищ отпущения одинаковой величины и чёрной масти ожидали своей участи, бодаясь и блея. Первосвященнику подали урну с золотыми жребьями; вынув жребий, он определил, которое из козлищ предназначалось в жертву Богу и которое злому духу пустыни Азазель. Рога последнего Матфей
обвил алой лентой и сдал его на руки храмовому служителю, который должен был отвести козла в пустыню и низвергнуть его со скалы в пропасть, дабы козел с грехами Израиля никогда больше не возвратился назад.
Приступив затем к тельцу, первосвященник ещё раз возложил ему на голову руки, вторично произнёс формулу покаяния и, схватив каменный нож, заклал тельца на больших неотёсанных камнях подножия алтаря всесожжения, огромного мраморного куба с рогатыми углами. Кровь, вытекающую из перерезанного горла жертвы, первосвященник собрал в золотой сосуд и передал на хранение молодому священнику, обязанность которого состояла только в том, чтобы предохранять эту кровь от свёртывания. Затем, набрав в кадильницу горячих углей и посыпав на них тончайшего ладану, Матфей, окружая себя облаком благовонного дыма, торжественно направился во Святая Святых. Разделявшие святыню на две половины царские двери, резной греческой работы из слоновой кости и чёрного дерева, были настежь распахнуты, так что народу стала видна великолепная вавилонская занавесь, расшитая золотом и отливающая цветами радуги. Перед ней виднелся золотой алтарь для хлебов предложения, такой же жертвенник для курений и серебряный семиветвенный светильник.
Первосвященник с видимым страхом приблизился к занавеси.
Предание гласило, что в этот день Иегова спускается во Святая Святых и витает там, во гневе вспоминая страшное осквернение его святыни Антиохом Эпифаном. Случалось иногда, что первосвященник, войдя в обитель грозного Бога, падал на месте мёртвым, за грехи свои сражённый Иеговой.
Святая Святых оставалась без всяких украшений со времени разрушения первоначального храма. Она была доступна только для одного первосвященника, и то один раз в году, в первый день праздника Обновления храма.
Матфей бен-Феофил быстрым движением распахнул занавесь и переступил роковой порог. Окадив Святая Святых, он поставил кадильницу на неотёсанный камень, составлявший всё её убранство, и возвратился, чтобы взять от своего ассистента сосуд с кровью тельца и окропить ею Святая Святых. Он исполнил этот обряд, кропя пальцем один раз вверх и семь раз вниз.
Теперь дошла очередь до козлищ. Предназначенного Богу первосвященник заклал у подножия алтаря и его кровью окропил обитель Бога, а предназначенного злому духу послал в пустыню.
Толпа любопытных отправилась вместе с храмовым служителем, чтобы присутствовать при свержении козла в пропасть и быть очевидцами чуда, которое заключалось в следующем: если Израилю предстоял счастливый год, то алые ленты на рогах животного должны были изменить свой цвет на белый.
Отправив козла, первосвященник громко прочёл народу из книг Моисея текст, относящийся к этому обряду, а затем в последний раз вошёл в Святая Святых — взять остававшуюся там кадильницу и окадить народ её священным дымом. Потом он затеплил семиветвенный светильник и совершил омовение рук и ног.
Во время свершения этих обрядов народ с суеверным любопытством следил глазами за всем происходившим, и в храме царила глубокая тишина. Когда же первосвященник в последний раз благополучно возвратился из Святая Святых, народ встретил его ликующими криками, и робкое молчание сменилось шумным говором толпы.
Теперь многие, особенно женщины, утомлённые продолжительной службой, оставили внутренние дворы, чтобы подышать свежим воздухом под аркадами и галереями южного двора. Здесь собралась многочисленная публика, состоящая преимущественно из молодёжи, которая пользовалась случаем для устройства своих сердечных дел.
В числе прочих и юный бен-Даниил направился туда, где развевались воздушные покрывала иерусалимских красавиц. Он встретил Фамарь в обществе дочерей Симона бен-Гамалиила. Дамаскинец, как неопытный новичок, остановился поодаль и с завистью смотрел на счастливцев, разговаривавших с Фамарью. Хорошенькая сестра Веньямина, смеясь, кокетничала, искусно маневрируя покрывалом, и дарила своих поклонников огненными взглядами.
Чувство ревности вспыхнуло в сердце юноши. Фамарь не могла его не заметить, а между тем она ни разу не обратила на него внимания, очевидно, увлёкшись разговором с каким-то сионским франтом. Бен-Даниилу сделалось вдруг досадно, что он так глупо стоит тут, прячась за колонну, точно вор, и украдкой любуется этой пустой, тщеславной девчонкой. Он круто повернулся и быстро пошёл по направлению к верхней террасе.
По мраморным ступеням восточных ворот спускался ему навстречу Веньямин, оживлённо разговаривая с тремя молодыми людьми, учениками массоры. Увидев Марка, саддукей махнул ему рукой.
— А я тебя искал: думал, ты в проходе Хель поджидаешь сестру.
— Бат-Симон там в обществе своих знакомых! — с напускным равнодушием ответил бен-Даниил, указывая на колоннаду галереи.
— A-а!.. Ну так она отправится с нами домой. Девушки спешат заблаговременно занять места на Ксистосе, чтобы видеть обратное шествие первосвященника, а мы, друг Марк, пойдём своей дорогой. Этот мошенник Абнер вчера забыл прислать мне вино, купленное мною. Вот мы и заглянем к нему по пути.
Веньямин разгладил бороду и полувопросительно взглянул на трёх юношей.
— А что, уважаемый Веньямин бен-Симон, ты уж пробовал то вино, которое купил у Абнера?.. — лукаво спросил один из них, Филипп из Румы галилейской; другой был его старший брат Натира, а третий, малый громадного роста и неимоверной силы, Элиезер бен-Самаиос из Сааба в Галилее.
При вопросе Филиппа Веньямин с ужасом вспомнил, что совершенно положился на слово Абнера и заплатил ему часть денег вперёд, даже не зная толком названия купленного вина. Между тем хозяин «Колодца Иакова» не отличался добросовестностью, и Веньямин увидел своё спасение только в поддержке Друзей.
— Э, я почти не пью вина, — отвечал он, — а держу его в доме больше для гостей. Получив весть, что ко мне едет на побывку вот этот дорогой гость, я заказал Абнеру доставить мне запас хороших вин ко дню праздника и дал ему задаток, а он до сих пор что-то медлит, — с беспокойством добавил Веньямин.
— Ну, это к счастью, что он не прислал тебе вина, — заметил Филипп. — Я знаю Абнера, это такая бестия! Вот что, почтенный бен-Симон, пойдём-ка вместе к трактирщику, попробуем сначала заказанных тобою вин, и если они окажутся плохими, то Элиезер расправится по-своему со старой лисицей. Он вытрясет из него твой задаток!
— Сделай милость, сделай милость! — поклонился Веньямин Филиппу, бросая умоляющий взгляд на верзилу Элиезера, который добродушно улыбался, очевидно, польщённый предложенной ему ролью.
Они весело двинулись всей гурьбой. У Марка стало вдруг легко на душе. Понимая замысел Филиппа, он предвидел, что поход на Абнера закончится хорошей выпивкой. Вот и отлично: за пренебрежение он отплатит Фамари пренебрежением! Пусть она ждёт его дома с трапезой. Он предпочёл компанию лихих товарищей её обществу!
Однако Веньямин попросил бен-Даниила сходить во двор женщин, где молилась благочестивая матрона Руфь, его мать, и предупредить её, чтобы она не ждала их и возвращалась домой с Фамарью. Исполнив поручение, юноша догнал ушедших вперёд. Проходя мимо колоннады, где стояла с подругами сестра Веньямина, всё ещё продолжая болтать с молодым франтом, он крикнул ей мимоходом:
— Бат-Симон, брат не велел тебе уходить домой без матери!
— Кто этот нахал? — раздалось ему вслед сердитое восклицание кавалера Фамари.
IV
— Привет высокочтимому Веньямину бен-Симону, щедрому благодетелю бедных, могущественному покровителю слабых! — раскланивался толстый Абнер, разодетый в праздничный талиф с огромными кистями и украшенный неимоверными цицифами.
Он поспешил встретить знатного саддукея в воротах своей гостиницы.
— И тебе привет, благочестивый Абнер! — ответил тот, с тревогой заглядывая в маленькие хитрые глазки трактирщика. — Я зашёл сюда по дороге из храма, чтобы узнать, когда ты послал ко мне вино.
— Вино? Какое вино, господин? — спросил Абнер таким невинным тоном, что Веньямин содрогнулся.
— Нечего с ним много толковать! — вмешался Элиезер Самаиос, надвигаясь на трактирщика всем своим мощным телом. — Отправляйся-ка, приятель, в погреб да принеси оттуда бурдюки, за которые получил задаток. Я сказал. Слышишь?
Абнер с достоинством отступил перед Голиафом и продолжал, вкрадчиво улыбаясь:
— Ах, да! Ты говоришь про то вино, которое я тебе рекомендовал! Как же, как же! Оно приготовлено, и я только ждал возвращения домой работника, чтобы навьючить бурдюки на осла и препроводить к тебе.
— Отлично! Я захвачу их с собой! — воскликнул обрадованный Веньямин.
Теперь он совершенно успокоился; у него были свидетели, и Абнер не мог теперь отказаться от заключённого торга. Саддукей уселся на камень и хладнокровно приготовился ждать возвращения работника.
— Ну, а что же проба? Неужели ты возьмёшь вино у этого архиплута, не отведав его предварительно?.. — воскликнул Филипп, которого мучила сильная жажда.
— Да, Абнер, и в самом деле его надо попробовать. Пожалуй, вино кислое, — согласился Веньямин.
— Тащи сюда настоящую пробу. Да вот что, я сам спущусь с тобой в погреб и вынесу сюда бурдюки, мы тут и попробуем, каково твоё винцо, — рассмеялся Элиезер, кладя на плечо трактирщика широкую ладонь.
Его повелительный жест не требовал пояснений. Бросив на Самаиоса свирепый взгляд, толстяк волей-неволей двинулся к винному складу, находившемуся по ту сторону двора.
В то же время на улице за стеной послышался гвалт собравшейся толпы, причём один громкий голос заглушал беспорядочные отрывистые возгласы остальных.
— Кажется, там собрался народ. Вероятно, какой-нибудь зилот или уличный пророк устроил сходбище, — произнёс Веньямин, насторожив слух.
— Интересно было бы его послушать, — заметил Марк, с любопытством выглядывая за ворота.
— Не советую тебе вмешиваться в уличное сборище, — предостерёг его саддукей. — Ты ещё не знаешь Иерусалима... Да и слушать-то этих проповедников не стоит, — презрительно прибавил он.
— Ну, не скажи, — возразил Филипп, — иногда пророки говорят дельно, в особенности те, которые из назарян.
Из винного погреба вышел Элиезер с Абнером, таща два огромные бурдюка. При виде такого изобилия Филипп воскликнул от радости и бросился им на подмогу. Перетащив мехи с вином в обширные сени гостиницы, молодые люди послали Абнера за чашами. Началась проба вина, и Веньямин с каждой новой минутой убеждался, что попал из огня в полымя.
— Ну, друзья мои, теперь, я полагаю, вы достаточно убедились, что вино действительно от лоз садов Бофия, как уверял Абнер, — с затаённой тревогой сказал он, замечая, что его бурдюки из пузатых становятся что-то уж слишком тощими.
— О, такому обманщику нельзя верить! — поспешно перебил Филипп. — Ну-ка, Элиезер! Налей мне в чашу вон из этого меха; в нём вино как будто отзывается железом.
— Не железом, а кожей! — авторитетно заявил Негира с лукавой улыбкой по адресу дамаскинца.
Между тем новый яростный крик толпы заглушил слова Веньямина, решившегося энергично вступиться за свои бурдюки. Очевидно, скопище за оградой гостиницы увеличивалось, и молодые люди взобрались на галерею, выходившую на главную улицу квартала Сыроваров.
Шагах в двадцати от угла переулка стояла каррука крестьянина, продавшего Абнеру ячмень и зимние плоды. Сам владелец карруки и пара его мулов расположились тут же, в раскинутом наскоро шалаше. Шалаш и карруку обступила толпа народа. На карруке стоял высокий худой старик в белой убогой одежде, опоясанный кожаным поясом, он говорил проповедь. Лицо проповедника, обтянутое жёлтой, как пергамент, кожей и выдающиеся лицевые кости говорили о глубокой старости. Его длинная фигура и белые, развевавшиеся по ветру волосы делали его похожим на привидение из долины Иосафата, но глубоко запавшие глаза горели лихорадочным огнём одушевления, а экзальтированный голос звучал сильно и речь лилась, как у юного оратора.
— Не я, а пророк Исайя глаголет моими устами!— прогремел проповедник, простёр над толпою руку и выразительно умолк.
Волнение, вызванное его речью, понемногу улеглось.
— Исайя, пророк Господа, порицает ваши курения, молитвы и кровавые жертвы, превращающие святыню в бойню. Он вопиет против беззаконий ваших князей и старейшин, которые питаются кровью и потом бедняков тружеников. Эти сребролюбцы и злодеи утопают в роскоши, ходят разодетые в виссон и пурпур, а тебе, несчастный народ, нечем покрыть наготу, ты терпишь нужду и лишения!
— Ей-ей, он говорит правду! — послышалось из толпы.
Старик обвёл слушателей торжествующим взглядом и, грозя пальцем в сторону Сиона, воскликнул:
— Горе саддукеям, чванным, жестокосердным саддукеям! Горе сынам Бефия и Кантария, этим неверующим в загробную жизнь эпикурейцам! Горе временщикам, незаконно захватившим власть. Вопфузинам и Камгитам! Горе ехидному дому Ганана и Фаби! Сами они первосвященники, сыновья их хранители корвана, зятья — военачальники, а их рабы и слуги избивают бедняков палками, взимая подати и десятины! Вон из храма бесстыдных тунеядцев, долой ростовщиков и кровопийц саддукеев!
Толпа рукоплескала, восхищенная нападками на богатую и гордую аристократию.
— Однако же нечего сказать, старик не церемонится! — заметал, смеясь, Филипп.
Бен-Даниил молчал: его возмущали злорадные рукоплескания черни.
Между тем проповедник воодушевился ещё более. Он поднял руки и покрыл своим голосом шумное одобрение толпы.
— Горе вам, книжники и фарисеи — лицемеры! Сторонись, народ, ханжей с поддельной добродетелью. Подобно Сихему, они исполняют обряды только ради земных благ, которые надеются заполучить при жизни в награду от Бога! Подлые, скудные духом лицемеры! Они спотыкаются, ибо в избытке смирения не в силах отделить подошвы от земли при ходьбе! Они стукаются лбами в стены, ибо от избытка целомудрия ходят по улицам, зажмуривая глаза, чтобы не соблазниться при виде встречной женщины.
— Не дело говоришь, старец: фарисеи воистину благочестивые мужи! — возразили из толпы.
Проповедник сурово нахмурил брови.
— Господи, — воскликнул он, воздевая руки кверху, — когда же наконец огнь небесный изойдёт с неба на главы книжников, искажающих закон твой?
— Заврался, старик! Фарисеи и книжники друзья народа. Законы они пишут верно, по преданиям старцев. Не станет огнь небесный пожирать их! — неожиданно гаркнул дюжий ткач, стоявший в первом ряду.
Толпа заволновалась. Нападки на любимую и влиятельную секту возбудили неудовольствие слушателей. Однако противоречие только подстрекнуло рвение оратора.
— Безрассудные вы! Фарисеи, подобно омерзительным, злобно шипящим гадам, обвили ваше тело. Они заражают вас ядом коварства, самомнения, соблазняют примером жизни напоказ.
— Довольно! Молчать!
— Да, они заражают тебя, Израиль, чумным духом самохвальства и гордости; они оскверняют святыню клятв, и вам не верят нынче язычники, убедившись, что вы, наученные раввинами, прибегаете к игре слов в договорах. Остерегайтесь, говорю вам, широких филоктерий, толстых кистей и длиннополых талифов: под ними скрываются сердца убийц.
— Замолчи, старик, пока говорят тебе добром! — заревел ткач, злобно поднимая кулак и топая ногами.
Проповедник простёр руку, собираясь продолжать обличительную речь, но его голос заглушили свистки и шиканье недовольных.
Элиезер и Филипп, внимательно слушавшие до тех пор, вступились за него. Элиезер Самаиос выпрямился во весь рост и крикнул со стены:
— Эй, вы там! Не мешайте ему говорить! Он почтенный старец, и мы хотим его послушать.
— Он поносит фарисеев! — ответили юноше снизу.
— Так что ж? Разве это воспрещено законом?
— Ведь вы молчали, когда он громил духовенство? — прибавил Марк бен-Даниил.
— Верно, верно, пусть и фарисеям достанется! — согласились многие из народа.
Толпа разделилась на две партии. Предводителем сторонников маститого оратора явился оборванный носильщик. Между ним и ткачом поднялась перебранка. Элиезер и Филипп с хохотом науськивали вожаков друг на друга. Им вторила публика. Толпа, собравшаяся вокруг проповедника, с нетерпением ждала уличной драки.
Между тем бен-Даниил крикнул проповеднику, чтоб продолжал тот свою прерванную проповедь. Старик, рассерженный на слушателей, энергично требовал слова. При содействии Марка и его товарищей ему удалось наконец опять сосредоточить на себе внимание толпы. Наградив презрительным взглядом защитника фарисеев, ткача, он опять загремел, обращаясь к народу:
— Горе, восьмеричное горе убийцам — фарисеям! Они осуждают отцов за убиение пророков, а сами, проникнутые духом убийства, пролили Праведную Кровь на Голгофе Иисуса Христа.
При этих словах в толпе произошло смятение; подняв руки к небу, она разразилась жалобным воплем:
— Горе нам и нашим детям!
Дело в том, что люди, сопровождавшие козла отпущения в пустыню, возвратились и разнесли по всему городу печальную весть, что чудо не совершилось: ленты на рогах козла не изменили цвета при свержении его в пропасть. Благодать Божия отступила от Израиля. Но проповедник истолковал по-своему смятение толпы, объятой суеверным страхом. Спеша воспользоваться, как ему казалось, благоприятной минутой и пылая апостольским рвением, он поразил взволнованную чернь окончательным громом:
— Да, горе вам и Иерусалиму! Облако славы отошло от храма и повисло над Елеонской горой. Солнце меркнет, тучи чернеют, сверкает пламя кровавых зарниц! Летит ангел смерти на чёрных крыльях, он несёт истребление. Плачь, Иерусалим, близок день, когда и город и храм падут во прах, когда враги стеснят тебя со всех сторон, побьют в тебе детей твоих и не оставят камня на камне в тебе!
При этом зловещем предсказании толпа глухо застонала. Лица исказились ужасом, и среди гробового молчания торжественно прозвучал призыв проповедника обратиться к новой вере и покаянию.
— Покайтесь, пока не поздно! Господь не требует от вас ни крови белых агнцев, ни тука беспорочных тельцов. Нет, Ему нужны только дела милосердия и любвеобильные сердца. Услышите! Моими устами глаголет истинный Мессия, посланный Богом и распятый вами! «Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не восхотели! Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен грядый во имя Господне».
Проповедник умолк. Указывая рукою на небо, он смотрел на толпу с просветлённым лицом и радостной надеждой во взоре.
С угрюмыми лицами, злобно стиснув зубы, стояли перед ним иудеи. Вдруг раздался резкий, крикливый голос: «Он богохульствует! Смерть ему!»
Из толпы вынырнул маленький востроносый человечек, храмовый служитель, зилот Анания.
— Я знаю этого зловещего ворона! — вопил он, размахивая руками. — Он предатель и богоотступник.
Толпу охватил один из тех приступов внезапного стихийного бешенства, которым был подвержен этот город во все века при своих религиозных столкновениях. С поднятыми кулаками, с лицами, искажёнными злобой, двинулась толпа на проповедника. Несчастный старик, ошеломлённый этим внезапным взрывом народной ненависти, испуганно озирался на разъярённую чернь, окружившую его с пеной у рта.
Дюжий ткач, багровый от ярости, злорадно оскалил зубы и, схватив старика за кожаный пояс, зверски рванул его с карруки. Тот беспомощно взмахнул руками и вниз головой полетел наземь. В одну минуту он был заплёван, избит пинками.
— Камнями его, камнями — по закону! — кричал Анания.
Ткач ухватил за волосы проповедника, лишившегося чувства.
— Расступитесь, правоверные, место дайте!
Толпа отодвинулась, образуя полукруг. Орава полунагих мальчишек во всю прыть понеслась за камнями к строящемуся поблизости зданию.
В это время бен-Даниил, потрясённый заключительными словами проповеди, спрыгнул со стены и стремительно бросился на ткача. Сильный удар кулаком в лицо ошеломил забияку. Он пошатнулся и бессознательно выпустил свою жертву. Смелый поступок юноши сначала озадачил его товарищей. Но видя, как опомнившийся от удара ткач накинулся на Марка и после короткой борьбы повалил его навзничь, они, недолго думая, бросились на выручку дамаскинцу. Спустившись со стены, братья из Румы наскоро вооружились топором и киркой; эти орудия послужили крестьянину при устройстве шалаша и лежали вместе со сбруей мулов на карруке, из которой силач Элиезер выломал дышло за неимением другого оружия.
— Мамзер
[74]! Свинья! — хрипел ткач, упираясь коленом в грудь Марка и занося над ним кулак.
— Держи его, держи! Этот тоже назарянин! Обоих камнями, правоверные! — визжал зилот Анания.
Толпа бросилась вперёд.
Но тут над головой ткача блеснул топор Филиппа. Под его лезвием из раскроенного черепа брызнула кровь и мозг. Убитый, как сноп, свалился на бок. Толпа беспорядочно отхлынула назад перед страшными размахами тяжёлого дышла в руках голиафа Элиезера. Освобождённый от своего противника, бен-Даниил вскочил на ноги. Видя, что его товарищи оттеснили толпу от переулка, он подхватил под мышку бесчувственного старика и потащил его к воротам гостиницы. К нему подоспел на помощь Филипп, и юноши, подняв на руки проповедника, поспешно понесли его дальше. Элиезер с Натирой прикрыли их отступление. На месте свалки рядом с трупом убитого ткача лежал ещё труп другого человека, убитого наповал ударом дышла. Несколько человек, раненных и ушибленных, охая, поднимались с земли.
Вид трупов и стоны пострадавших возбудили в народе жажду мщения. Зилот Анания, благоразумно державшийся в стороне во время свалки, выступил теперь вперёд и, остановившись над убитыми, ломал руки, рвал на себе одежду, волосы и страшно вопил, призывая народ к возмездию богохульникам, отступникам от святых отечественных преданий и убийцам.
— Смерть им, мамзерам! — ответили из толпы, и несколько человек бросились в соседние дома, чтоб, вооружившись там чем попало, осадить гостиницу Абнера. Из ближайших улиц доносился топот сбегающегося народа; плоские кровли домов быстро унизывались людьми.
V
Веньямин с полным равнодушием относился к происходившему и спокойно сидел в сенях, предоставляя молодым людям интересоваться уличными сценами.
Но Абнер, знавший по опыту, чем иной раз кончаются подобные сборища бурной черни, присоединился к братьям, предварительно заперев крепко-накрепко ворота. Когда бен-Даниил спрыгнул со стены и к нему присоединились остальные, трактирщик в ужасе прибежал к Веньямину.
— Их надо спасти! Дамаскинец Марк — сын моего друга, слышишь, Абнер! — засуетился саддукей.
— Да, и все они хорошие ребята и мои лучшие посетители, — согласился хозяин «Колодца Иакова». — Но что мы тут поделаем?.. Ох, какая у них идёт свалка!
И Абнер схватился обеими руками за голову.
— Боже великий, эти ам-га-арецы растерзают наших учеников! — в ужасе воскликнул Веньямин.
— Ну, не очень-то, — возразил трактирщик, — не в первый раз им приходится участвовать в драке. Послушай, как ревёт этот буйвол Элиезер, и как жалобно воет чернь. Пойдём выглянем в калитку! Пожалуй, они скоро пробьются сюда, а не то, может быть, мы увидим возвращающихся домой моих работников или постояльцев.
Они побежали к воротам и, растворив калитку, высунули головы. По переулку сновали мальчишки. Абнер окликнул одного из них.
— Пошлём его в преторию за солдатами! — шепнул саддукей; трактирщик отрицательно покачал головой.
— Как можно? Ни один из них не сунется туда: языческие солдаты сейчас осквернят еврейского мальчика! Сефер-гиль-гулим, — обратился он к малышу, подбежавшему на его зов, — хочешь заработать целый сикль?
При этом Абнер показал ребёнку издали две блестящие серебряные монеты. Глаза мальчишки засверкали жадностью.
— Знаешь дом Гилл ел я на верхнем рынке?
Тот утвердительно кивнул курчавой головёнкой.
— Отлично! Так ты сбегай туда и скажи, что народ грозит побить камнями Веньямина бен-Симона и учеников массоры. Вот тебе полсикля в задаток.
Мальчишка поднял брошенную монету.
— Ну, что же ты стоишь, паршивый! — закричал Абнер, видя, что тот не двигается с места.
— Ты обещал целый сикль! — отвечал оборвыш, грызя зубами монету и ковыряя землю босой ногой. Абнер вспыхнул от злости и цапнул было его за вихор. Но мальчишка ловко увернулся, готовый задать стрекача.
— Сефер-гиль-гулим, — вкрадчиво заговорил опять трактирщик, — другую монету ты получишь, когда исполнишь поручение.
— Обманешь! Давай теперь, а не то я убегу.
Взбешённый Абнер попотчевал его метким плевком, но делать было нечего. В переулке показался бен-Даниил, тащивший проповедника, и хозяин гостиницы с отборной руганью швырнул мальчишке другую монету. Тот поймал её на лету, засунул в рот и, как заяц, пустился к воротам Сиона.
Мальчик моложе 12 лет.
Внеся проповедника во двор, юноши перевели дух.
— Позови-ка сюда женщин, пусть приберут его! — произнёс Марк, указывая на распростёртое на земле тело еле живого старика.
— Уф! Едва дотащили!
— Ну, что его прибирать! Это богоотступник! — возразил Абнер, с ужасом отворачивая лицо и как будто отталкивая кого-то ладонями. — Лучше выбросить эту собаку за ворота. Тогда народ побьёт его камнями, а нас оставит в покое.
Бен-Даниил взглянул на окружающих. Его товарищи стояли молча, как бы отчасти соглашаясь с трактирщиком. Один только Веньямин участливо смотрел на бедного старца. Марку стало досадно. Разве он для того только вырвал этого человека из рук разъярённой черни, рискуя собственной жизнью, чтобы хладнокровно смотреть, как он испустит дух под градом камней, или чтобы малодушно выдать его врагам из боязни насилия над самим собою? Нет, этому не бывать! Юноша нагнулся, приподнял старика с земли, взвалил себе на плечи и решительно направился к дому. Товарищи последовали за ним.
— Безумцы! — простонал Абнер. — Теперь народ разнесёт мою гостиницу, а вас побьёт камнями!
Между тем переулок наполнился чернью и ворота затрещали под ударами секир. Трактирщик сделал попытку вступить в переговоры с атакующими, но ему ответили ругательствами и новыми ударами в толстые брусья ворот. Дрожащий от страха Абнер приподнял длиннополый талиф и, наметив себе убежище в овечьем хлеву, обратился в постыдное бегство.
Марк с помощью Веньямина устроил избитого проповедника в зале гостиницы, где в ожидании посетителей и возвращения постояльцев были расставлены триклинии.
Старик едва дышал. Но когда ему освежили холодной водой лицо и влили в рот несколько капель вина, он пришёл в чувство и настолько ожил, что попросил пить. Саддукей поднёс к его запёкшимся губам глиняную чашку с водой. Отпив несколько глотков, проповедник хотел что-то сказать, но приступ мучительного кашля прервал его слова. Выплёвывая сгустки крови, он жалобно стонал и хватался рукой за правый бок, где было переломано несколько рёбер. Когда кашель немного утих, Веньямин предложил ему вина.
— Выпей, это подкрепит тебя, Никодим, — сказал он проповеднику, но тот бессильно поник головой и, шевеля бескровными губами, принялся хрипеть.
— Разве ты знаешь его? — спросил Марк, с участием смотря на умирающего.
— Да, ещё бы не знать! — отозвался Веньямин. — Этот несчастный некогда был членом синедриона и одним из лучших учителей закона. И вот до какого состояния довели его назаряне, в секту которых он вступил.
Саддукей с презрительным состраданием взглянул на Никодима. Тот неподвижно лежал, устремив на него взгляд потухших глаз. Он умер за свою веру!
Выломав ворота, толпа ворвалась во двор и окружила дом.
Последовал яростный штурм. Однако, высадив двери, атакующие наткнулись на баррикаду, за которой стояли храбрые защитники. Первый смельчак, перескочивший за порог, полетел навзничь, сражённый тяжёлой киркой Нетиры. Осаждающие отступили. У них пропала охота рисковать собой. На дворе перед домом послышалось галденье: поднялись крики и споры о том, как добыть отчаянных злодеев. Юркий Анания выручил из затруднения толпу, посоветовав сжечь живьём изменников Израиля вместе с осквернённым домом нечестивого Абнера. Предложение зилота было принято с восторгом, и толпа, не долго мешкая, приступила к делу. Под рукой горючего материала было вполне достаточно. Стоило только разобрать с десяток шалашей в соседних улицах. Чернь работала с лихорадочным рвением и нагромоздила перед домом Абнера громадный костёр из хвороста и сухих жердей. Кончив работу, она разразилась ликующими криками и, схватившись за руки, принялась плясать, громко притопывая ногами.
Явился Анания с зажжённым факелом в руке. Его приветствовали радостным воем.
— Заткни нос, Израиль, сейчас запахнет жареной свининой! — острил зилот, размахивая факелом, чтоб он лучше разгорелся.
Потом обратился к народу с краткой речью, в которой уподобил себя пророку, посланнику Божию, призванному очистить Израиль от назарян, и свой факел сравнил с огнём небесным, Анания бросил его в костёр.
Мирные обыватели и женщины облепили крыши соседних домов и с тревогой следили за происходившим. Жена и служанки Абнера, ломая руки, громко вопили со своей кровли. Огонь быстро разгорался, сухое топливо затрещало, из него полетели искры, пахнуло дымом... Вдруг между публикой на крышах произошла суматоха. Оживлённо жестикулируя, люди поворачивали головы в сторону северных ворот Сиона и указывали на что-то друг другу. Наконец они подняли руки кверху и разразились зловещим для черни криком:
— Горе вам: войско идёт!
Озадаченная чернь остановилась и притихла. Среди воцарившейся тишины ясно слышались фанфары труб и гулкий шаг железной колонны римлян.
— Спасайтесь, люди! — раздались за оградой двора отчаянные крики.
Переулок загудел от топота бегущего в смятении народа. Трубы звучали всё ближе и громче; наконец раздалась отчётливая команда офицеров и боевой клик римских солдат.
Толпа, охваченная паническим страхом, бросилась в беспорядочное бегство. Двор гостиницы опустел. Минуту спустя он снова наполнился римскими воинами и вооружёнными слугами нази (председателя) синедриона.
Марк бен-Даниил, Элиезер и братья его из Румы были немедленно арестованы как зачинщики уличной драки и отведены под конвоем в Сион.
VI
Арестованным пришлось недолго ждать в роскошной зале, отделанной кипарисовым деревом и расписанной золотыми арабесками, в доме Гиллеля, куда их отвела римская стража.
Пурпурная занавесь в дверях с правой стороны распахнулась, и к ним вышел из внутренних, покоев великий нази синедриона, Симон бен-Гамалиил, в сопровождении Веньямина бен-Симона.
Внук знаменитого Гиллеля был высокий, статный мужчина лет пятидесяти. Седина едва коснулась его чёрных волос, ниспадавших на плечи длинными локонами, и подвитой, старательно расчёсанной бороды. Живое, выразительное лицо напоминало благородный облик его отца, утончённого Гамалиила, а в живых блестящих глазах и улыбке тонких губ сказывалась сердечная доброта просвещённого гуманного человека. Его изящную фигуру живописно облегал белый с фиолетовой каймой хитомен, узкие рукава которого были стянуты у кистей рук широкими золотыми браслетами, а гибкий, сильный стан обвивал белый с красным узором пояс-эмиам.
Войдя в залу, нази строго взглянул на юношей, почтительно склонившихся перед ним.
— Прискорбно мне видеть учеников закона, обвиняемых в преступном потворстве беззаконию, — произнёс он звучным голосом. — Что скажете вы в своё оправдание?
Молодые люди стояли, понурив головы. Из них только один Марк не признавал себя виновным. Разве мог он совершить преступление, вступившись за беззащитного старца и избавив его от жестокого самосуда черни? Юноша смело выступил вперёд и с низким поклоном сказал председателю синедриона:
— Виноват один я, товарищи только увлеклись моим примером. Мне стало жаль почтенного старца. Народ не был вправе казнить его позорной смертью. Он говорил истину.
— Которая, однако, была богохульством. Ты поступил опрометчиво, — внушительно заметил Симон бен-Гамалиил и, как бы читая в мыслях Марка, добавил: — Жертвы Богу установлены законом Моисея, и кто восстанет против них, да накажется смертью. Этот закон пока ещё не отменен, и народ был в своём праве побить камнями человека, проповедника новой веры, противной святым отечественным преданиям, подстрекателя к бунту против властей и высших классов. Заступаясь за него, ты делался его сообщником.
Услышав такое тяжкое обвинение против Марка, молодые люди с беспокойством переглянулись между собой и, наконец, все трое воскликнули в один голос:
— Марк бен-Даниил не виноват! Это мы побили народ. Суди нас, а не его.
Симон бен-Гамалиил добродушно усмехнулся.
— Говорите, кто из вас был зачинщиком? — спросил он, принимая снова строгий вид.
— Никто не был. Все действовали сообща, — единодушно отвечала молодёжь.
— Действительно драка вышла дружная! — саркастически заметил нази и, обращаясь к Веньямину бен-Симону, сказал: — Пока первосвященник не решит дела, ты возьмёшь их к себе на поруки. Ступайте с Богом! — кивнул он головой арестованным, отпуская их жестом руки.
В доме Веньямина, куда молодые люди отправились в довольно неприятном настроении духа, они были встречены Фамарью. Девушка непринуждённо поздоровалась с учениками массоры Гиллеля, где её брат был наставником. Она с оживлением принялась рассказывать, какой переполох поднял мальчишка, посланный Абнером, и как они с матерью испугались за брата. Но теперь, слава Богу, всё обошлось благополучно. Лукавая красавица, пленительно улыбаясь, поздравила юношей со счастливым избавлением от опасности.
— Одно только неприятно, — добавила она, опуская ресницы, — что мне велено держать вас, бедненьких, под замком, пока не придёт стража, чтобы отвести вас в темницу. Брат распорядился, чтобы вы были заперты в чулан. Мешок соломы и кувшин пресной воды — вот всё, что велено вам дать. Как мне вас жаль. Вам придётся спать на соломе и утолять жажду одной водой в такой торжественный день!
— Прелестная бат-Симон, неужели ты не прибавишь к ней ни капли вина! — воскликнул Филипп умоляющим тоном и простирая руки.
— Я не могу ослушаться брата! Он строго-настрого приказал томить вас голодом и жаждой. Ведь вас будут судить всем синедрионом, как государственных преступников!
— И все-то ты врёшь! — раздался весёлый голос Веньямина, незаметно подкравшегося к разговаривающим. — Я велел тебе, шалунья, приготовить трапезу для гостей и только одному Филиппу не давать вина, потому что он и без того выпил сегодня много.
С громким смехом упорхнула Фамарь из комнаты, чтобы велеть служанкам накрывать на стол. Веньямин сообщил гостям радостную весть: Симон бен-Гамалиил желает оставить дело без последствий Первосвященнику будет доложено, что нази не нашёл достаточного повода предать арестованных суду и отпустил их с миром.
Таким образом, вы можете сегодня же отправиться по домам, — заключил хозяин, ласково улыбаясь студентам.
Вечером Иерусалим запылал огнями. На улицах горели плошки и факелы, а на площадях смоляные бочки. Юноши и девушки пели победные гимны в честь Иуды Маккавея. На ярко иллюминованной площади Ксистос собралось всё сионское общество.
Утомлённый пережитыми в этот день впечатлениями, дамаскинец стоял в стороне от веселящейся молодёжи. Он равнодушно смотрел на живописную картину залитого бесчисленными огнями города, на пылающий храм, на громадное зарево, разлитое красным отблеском по тёмному своду ночного неба.
— Отчего ты стоишь в стороне, не поёшь и не пляшешь с нами? — спросила его подошедшая Фамарь, протягивая ему с улыбкой руку. — Пойдём, я хочу с тобой потанцевать.
Напускное равнодушие к танцам и угрюмость сразу исчезли, как только Марк заглянул в тёмные, влажно блестевшие глаза девушки. Она всё ещё улыбалась.
— Если хочешь, я готов целую жизнь петь и плясать с тобою! — как-то нечаянно сорвалось у него с языка, и он впился глазами в юную чародейку.
Она ответила ему звонким серебристым смехом, повисла на его руке, и они закружились под задорные звуки тамбуринов, сопровождаемые плясовым припевом.
Возвратясь домой, бен-Даниил чувствовал себя счастливейшим человеком в мире. На прощанье Фамарь доверчиво пожала ему руку и посмотрела на юношу так нежно, что сердце бен-Даниила забилось учащённо.
Между тем новый друг дамаскинца, весёлый, беззаботный Филипп, напротив, возвращался в своё жилище понурив голову. В этот вечер он виделся с девушкой, которую давно уже страстно любил, но, к несчастью, их разделяла целая непреодолимая пропасть условий. Филипп был сыном небогатого землевладельца в презираемой иудеями Галилее, и всё, что он мог достичь в будущем, ограничивалось почётным званием раввина в родимом городе Руме, тогда как его возлюбленная была знатного происхождения, дочь сановника, облечённого княжеской властью. Разве мог он когда-нибудь помышлять о женитьбе на ней? Что толку в том, что девушка сама любила его? Разве это ещё не увеличивало их обоюдного несчастья? Погруженный в свои невесёлые думы, Филипп ускорял шаги, спеша добраться до своей горенки, чтобы забыть во сне горькую действительность.
VII
По случаю предстоящей свадьбы Иммы в доме Гиллеля ежедневно собиралось весёлое общество, состоявшее из подруг невесты и друзей жениха. Теперь к ним присоединился и Марк бен-Даниил.
На другой день праздника тихим вечером Симон бен-Гамалиил сидел в садовой беседке, разговаривал с женихом своей дочери, Элиезером Гирканом, с храмовым военачальником, Элиазаром бен-Гананом, и своим сыном, Гамалиилом. Увидев в саду Марка, Симон подозвал его к себе.
— Я не успел ещё поблагодарить тебя за услугу, — приветливо обратился к нему нази. — Вчера ты спас от позорной смерти человека, бывшего другом моего отца. Спасибо тебе за это! Никодим и ещё другой наш выдающийся законоучитель, Феофил, приняли учение назарян, — обратился Симон бен-Гамалиил к своим собеседникам. — Тогда мой отец, желая дать им надёжный приют, предоставил в их распоряжение свой загородный дом, где они оба и жили до сих пор. Феофил — искусный врач. Внучка Тавифа покоит его старость, помогает ему собирать травы и готовить из них целебные эликсиры. Много лет оба друга проводили дни в этом уединении; только в последнее время Никодим вздумал проповедовать иудеям новое учение и вот вчера поплатился жизнью за свою неосторожность.
— Да, наш народ не шутит, когда дело коснётся его веры! — сурово заметил храмовый военачальник.
— Никодим не поносил нашей веры, он только отрицал жертвоприношения, — скромно возразил Марк на замечание бен-Ганана.
Тот смерил юношу надменным взглядом.
— В самом деле, обычный у нас самосуд черни представляет вопиющее зло, — подтвердил со своей стороны хозяин.
— Вот как! — воскликнул с едким смехом спесивый начальник храмовой стражи. — По-твоему, значит, народ должен равнодушно слушать богохульство и сносить беззакония злодеев?.. Отлично!
— Я этого не говорю, любезный Элиазар, — спокойно возразил нази. — Я только отрицаю самоуправство там, где существует правосудие, основанное на законах и опирающееся на государственную власть.
— Ты ошибаешься: народ был прав. Никодим восстал против жертв. Этого вполне достаточно, чтобы осудить его на смерть, — вмешался Элиезер Гиркан.
— Как, ты, представитель знатного рода и просвещённый человек, оправдываешь своеволие черни и придаёшь такое значение жертвам? — пожал плечами Гамалиил. — Разве не восставали против них пророки? Да и что означают слова Господни: «Не по Моей воле, а по вашему желанию принесёте Мне жертвы?» В законе не должно быть противоречия.
— Это противоречие только кажущееся, а на самом деле в законе Моисея скрыт глубокий смысл, — сказал его отец. — Я постараюсь объяснить вам это притчей. Некий сын могущественного царя, вместо того чтобы достойно насыщаться за царским столом отца своего, предавался пагубному обжорству и пьянству с развратными друзьями. Видя это, могущественный царь повелел: отныне да не ест мой сын иначе как за моим столом. Хочу, чтобы он научился обычаю, порядку и не поддавался соблазну развращённых друзей. Подобно царскому сыну, Израиль привык приносить жертву Ваалу, Астарте и другим языческим демонам, и потому Господь повелел: «Да принесёте отныне ваши жертвы Мне, истинному Богу!»
— Учитель, твоя притча прекрасна, однако многие благочестивые мужи доказывают противное, — почтительно заметил Марк.
Симон бен-Гамалиил ласково потрепал его по плечу.
— Только одни эссеяне, мой друг! Они учат о поклонении Богу в духе. Я уважаю эссеян, как справедливых достойных мужей, но не могу согласиться с их странными взглядами и не одобряю их нововведений. Они живут уединённо из боязни осквернения, презирают богатство, отрицают право собственности, владеют имуществом сообща и проповедуют всеобщую бедность. Эти люди веруют в загробную жизнь и ради будущих благ жертвуют благами настоящего, кроме того, проповедуют умерщвление плоти и безбрачие; но зато они кротки, милосердны и никогда не оскверняют себя ложью.
Симон бен-Гамалиил встал, государственные дела призывали его к работе в уединении и тиши внутренних комнат. Он пожал руки собеседникам и медленно направился через сад к дому. Бен-Даниил с чувством глубокого почтения смотрел вслед удаляющемуся внуку Гиллеля. Короткая беседа с нази перевернула вверх дном все понятия двадцатилетнего юноши. Его смущал ещё другой не менее важный вопрос: почему презренный мир язычников, поклоняющийся демонам, отрицающий Бога живого, Создателя вселенной, процветает, а мир иудейский находится в унижении и в рабской от него зависимости. Никогда ещё он не испытывал так сильно потребности знания. Поскорее бы кончились эти празднества с их суматохой, чтоб ему можно было
приступить к изучению мудрости раввинор; в ней он надеялся найти ответ на мучительные вопросы, так неожиданно набросившие тень на его светлое до сих пор миросозерцание. С этими мыслями Марк присоединился к обществу молодёжи, занятой на лужайке игрой в котабос. Она состояла в том, что играющие пускали на воздух пушинки и брызгали на них изо рта водой. Невинной забаве придавался смысл любовного гаданья. Если летящую пушинку удавалось обрызгать водою и заставить опуститься вниз, это означало успех в любви.
Присоединившись к обществу, бен-Даниил разговорился с младшей сестрой Иммы, Мириам. Вторая дочь Симона бен-Гамалиила походила на своего отца и унаследовала от него в одинаковой степени прямодушие и возвышенный, благородный образ мыслей. Молодая девушка, едва вышедшая из детского возраста, заинтересовала дамаскинца живой, остроумной беседой, и он удалился с нею в аллею магнолий, где они присели на дерновой скамейке. Мириам завела разговор о его вчерашнем приключении и спросила про Филиппа.
Марк рассказал ей подробности дела, не скупясь на похвалы товарищу, так геройски спасшему его жизнь. Мириам слушала своего собеседника с большим вниманием и, в свою очередь, рассказала, что она также обязана Филиппу, который год тому назад избавил её от смертельной опасности. Проводя жаркое время года на даче отца по ту сторону восточных холмов в окрестностях Иерихона, она любила бродить по живописной местности, прилегавшей к пустыне, в которой были только скалы, змеи и бесплодные деревья. Мириам особенно охотно навещала пастуха Азру, восьмидесятилетнего старца; он пас стада её отца в дикой безлюдной пустыне, тянущейся к югу от Иерихонского оазиса к берегам Мёртвого озера, где в заросших тростником заводях Иордана водились крокодилы и хищные звери. Девушка любила предаваться мечтам в этой глубокой Иорданской долине — в жаркий полдень, когда воздух становится подобен тонкому, лёгкому пламени, любила беседовать с маститым старцем в тёмную ночь при свете звёзд на пурпуровых небесах, слушая завыванье диких зверей пустыни.
И вот однажды в одну из таких прогулок Мириам взобралась на высокую скалу, чтобы полюбоваться с её вершины видом ленивых, отливавших кобальтом вод проклятого озера. Тут, в одной из расселин скалы, она заметила гнездо орла. Молодая девушка из любопытства приблизилась к нему. При её появлении одинокий птенец поднял жалобный крик. На крик птенца прилетела орлица и яростно напала на Мириам. Та прислонилась спиной к отвесному уступу скалы и, отбиваясь палкой, звала на помощь. Но силы девушки слабели, а орлица свирепела, грозя растерзать её. Вдруг в воздухе прожужжала стрела, и громадная птица тяжёлым камнем упала в пропасть. В ту же минуту на уступ скалы прыгнул стрелок, который охотился поблизости на диких коз.
Он схватил на руки трепещущую, перепуганную девушку и бережно отнёс её в долину к старику Азре. Этот стрелок был Филипп.
С тех пор Мириам всегда рада видеть Филиппа, которому бесконечно благодарна за своё спасение, но они видятся так редко! Происшествие, рассказанное ею бен-Даниилу, составляет их тайну. Сначала она умолчала о нём из боязни, что ей запретят посещать Азру, и потому Филипп до сих пор остался чужд их дому. Теперь же её спаситель почему-то не хочет, чтобы она рассказывала об этом отцу. Филипп горд и благороден.
— Он смотрит на меня, как на знатную, богатую аристократку, — добавила дочь Симона с оттенком грусти. — Ты его друг, передай же ему, что я не придаю цены богатству, что я не такая чванная и бездушная, как другие. Скажи это ему, когда с ним увидишься.
Слушая рассказ Мириам, Марк угадал по её взволнованному голосу и тихой грусти, разлившейся в мечтательных чертах, что её романтическое знакомство с его другом не пропало бесследно. Пожав с тёплым чувством руку молодой девушки, он твёрдо решился быть её верным, самоотверженным другом и союзником.
После краткого молчания Мириам заговорила снова и таинственно сообщила своему собеседнику, что её сестра очень тревожится о своей судьбе в замужестве, постоянно гадает и советуется с людьми, прорицающими будущее. Теперь она намерена обратиться к одной колдунье, египтянке Сахенрис, живущей в уединённой хижине на берегу Мёртвого озера. Отверженная людьми язычница собирает волшебные травы, из корня мандрагоры приготовляет любовный напиток. Ей известны все чары и заклинания демонов; она беседует с душами грешников, погибших под сернистым пеплом и встающих по ночам из проклятых вод.
Мать Мириам матрона Рахиль и её друг, вдова Симона бен-Нехания, Имма и Фамарь решили непременно посоветоваться перед свадьбой с этой колдуньей. Как только кончится праздник Обновления храма, Мириам с Фамарью и её матерью отправятся на иерихонскую дачу под тем предлогом, что им нужно выбрать там лучших ягнят и птиц и драгоценные благовония для свадебного пира, на самом же деле с целью посетить язычницу-колдунью. Самой Имме нельзя участвовать в поездке, потому что жених непременно захочет её сопровождать.
Предстоящее развлечение очень радовало Мириам. По пути она навестит Феофила и его внучку Тавнефу, которых любит, а затем увидит и старика Азру. Вот было бы хорошо, если б Марк согласился проводить их и пригласил с собою Филиппа. Фамарь и её мать боятся разбойников и будут очень довольны отправиться в дорогу под охраной двух храбрых спутников.
Услышав об этой затее женщин, бен-Даниил обрадовался. Мириам, конечно, не подозревала, насколько ему самому было на руку её предложение. Дамаскинец охотно дал слово за себя и за Филиппа. Молодая девушка пришла в восторг, и они тут же обдумали сообща хитросплетённую интригу, чтобы получше устроить дело согласно со своими личными видами. Потом оба, весёлые и довольные друг другом, они присоединились к остальной молодёжи и приняли живое участие в её забавах, длившихся до поздней ночи.
VIII
Прошла неделя. Праздник Обновления храма окончился, и Иерусалим принял свой обыденный вид, когда несметные толпы богомольцев снова отхлынули из иудейской столицы.
Бен-Даниил в течение дня прилежно посещал храм, где слушал знаменитых иерусалимских законохранителей, а вечера проводил в семействе Веньямина или в доме Гиллеля, только изредка навещая своих друзей в Нижнем городе или участвуя в их скромных пирушках в гостинице Абнера, с которым молодёжь очень подружилась.
Фамарь, оказав ласку влюблённому юноше, тем не менее обуздывала его слишком страстные порывы и держала Марка в почтительном отдалении. Дамаскинец жестоко страдал, постоянно находясь между страхом и надеждой. Он то ликовал от радости, когда Фамарь дарила его тайным рукопожатием или ему одному понятным взглядом, и погружался в бездну отчаяния, когда нетерпеливый жест, насмешливая улыбка и ледяное равнодушие останавливали страстное признание, готовое сорваться с его губ. Наконец он не выдержал и признался своей приятельнице Мириам в безнадёжной любви к её своенравной подруге. Тут молодая девушка с чисто женским коварством изменила старой дружбе ради новой и, подговорив сестру, в один прекрасный день напала на Фамарь, когда они сидели втроём за шитьём нарядов для Иммы.
— Зачем ты поощряешь любовь Марка, если сама не любишь его? — укоризненно говорила Мириам.
— По-моему, это нечестно, — поддержала сестру Имма. — Ведь ты не в угоду родителям завлекаешь дамаскинца! Тебя никто не принуждает к тому.
— Не могу же я вешаться на шею мужчине! Марк, пожалуй, вовсе и не думает на мне жениться, — уклончиво ответила Фамарь, встряхивая расшитое золотом покрывало, над которым трудились её беленькие пальчики.
— Вот как! — с негодованием воскликнула Мириам. — Смотри, Имма, как она Притворяется! Влюбила в себя бен-Даниила, благородного, доброго юношу, а теперь, когда он страдает, Фамарь сомневается в честности его намерений. О, моя милая бат-Симон, могу тебя успокоить на этот счёт: отец Марка очень богат и бен-Даниил завидный жених для любой девушки!
— Я не настолько корыстолюбива, чтобы заводить справки о богатстве женихов! Предоставляю это другим, — холодно заметила сестра Веньямина.
— Когда Мириам сказал мне, что Марк без ума от тебя, — вмешалась Имма, — я осведомилась о нём у нашего поставщика Гарефы. По его словам, старик Даниил, отец нашего гостя, ведёт обширную торговлю; значит, Марк вполне подходящий тебе жених.
— А, вот что! Я не знала, что моя подруга шпионит за мной и вмешивается в мои дела! — рассмеялась Фамарь.
Мириам вспыхнула от негодования:
— За тобой нечего шпионить. Ты на глазах у всех расставляешь свои сети бедному бен-Даниилу и кружишь ему голову.
— Право же, Имма, наша малютка Мириам точно с ума сошла. Вероятно, она нечаянно спутала Марка с Элиезером бен-Гананом! Успокойся, девочка, я не собираюсь отбить у тебя жениха, а до других тебе нет дела!
— Вы, кажется, собираетесь выцарапать друг другу глаза, только этого недоставало! — вмешалась Имма, прерывая ссору девушек. — Ты, Фамарь, должна, однако, сознаться, что сестра отчасти права. Грешно играть сердцем доброго юноши, если ты не думаешь сделаться его женой.
— Разве выбор мужа зависит от меня? Пускай бен-Даниил поговорит с моим братом...
— А если Марк зашлёт сватов и Твой, брат согласится, ты охотно пойдёшь за дамаскинца? — спросила Мириам, устремляя на подругу пристальный взгляд.
Фамарь медлила с ответом. В глубине души честолюбивая девушка завидовала дочерям бен-Гамалиила, из которых одна выходила замуж за самого знатного человека в Иудее, в жилах которого текла царственная кровь, а за другой ухаживал храмовой военачальник, будущий первосвященник. Конечно, она не могла рассчитывать на подобную партию, но всё-таки за бедного, незнатного родом или не именитого по заслугам человека она не хотела выходить. А между тем ей уже было девятнадцать лет, и года через два, много три она поступит в разряд старых дев. Бен-Даниил был довольно богат, но пока ещё только простой ученик закона. Впрочем, он был молод, и мог ещё многого достигнуть. Во всяком случае, ему предстояло сделаться преемником своего отца и богатым купцом.
— Если брат согласится, то я, пожалуй, не прочь... — ответила Фамарь, избегая взгляда подруги.
— Бен-Даниил честный, великодушный человек. Он никогда не женится на девушке против её желания. О, этот юноша не возьмёт в дом рабыню, он возьмёт только преданную любящую жену. Потому отвечай мне, бат-Симон, любишь ли ты Марка? — пылко сказала Мириам.
Фамарь вспыхнула:
— Какое тебе дело, люблю я или нет? Что ты ко мне пристаёшь? Вспомни, что ты ещё недавно играла с ребятишками.
— Ты бездушное существо. Лучше было бы бен-Даниилу влюбиться в злую Лилит, чем в тебя!
Мириам бросила работу и, звеня бубенчиками сандалий, выбежала из комнаты.
— Ты оскорбила сестру! — с укоризной сказала Фамари Имма.
— Нисколько! Её никто не просил читать мне наставления.
— Согласна с тем, но неужели ты и на меня рассердишься?
— Ты — совсем другое дело. С тобой, милая Имма, я могу говорить рассудительно.
— По-моему, тебе не следует отвергать любовь юноши, — продолжала молоденькая невеста. — И как отлично будет, если твоя свадьба состоится вслед за моей, а потом настанет очередь Мириам. Вот мы и станем веселиться круглый год.
— Разве участь Мириам уже решена?
— Конечно. Не нынче-завтра за неё посватается Элиезер бен-Ганан. Это дело уже покончено между отцом и стариком Гананом.
— Однако, дорогая Имма, меня смущает незнатное происхождение Марка.
— О, это пустяки! Дома Риллеля и Гиркана будут покровительствовать твоему мужу. Сыну богатого дамасского купца нетрудно занять в Иерусалиме «почётную должность. Хочешь я переговорю с бен-Даниилом?
IX
Ночь уже окутала Иерусалим и над Сионом ярко светила луна, когда бен-Даниил прибежал, запыхавшись, в гостиницу Абнера. Отыскивая в этот вечер своего друга Филиппа, он побывал сначала в синагоге храма, потом на квартире братьев из Румы и, наконец, теперь колотил обоими кулаками в калитку «Колодца Иакова».
Выбежавшая на стук служанка, после предварительных расспросов, впустила бен-Даниила во двор, и через раскрытые окна гостиницы до него донёсся громкий смех товарищей и звучный голос Филиппа, который пел застольную песнь под звон кубков и чаш. Абнер в качестве архитриклиния встретил вошедшего юношу с полной чашей вина, а товарищи приветствовали его появление заздравным тостом и трёхкратным поднятием чаш. Распив с компанией кубок, бен-Даниил сделал Филиппу знак, и они вышли в обширные сени гостиницы. Тут юноша бросился на шею друга и стал душить его в объятиях.
— Что с тобою? Ты с ума сошёл!
— От радости и счастья, дружище! Ты видишь перед собой самого счастливого человека в мире.
— Ого! Уж не выбрал ли тебя синедрион в первосвященники? Или, чего доброго, ты сделался хранителем корвана?.. В таком случае, приятель, надеюсь, ты угостишь нас на славу да и в будущем откроешь нам широкий кредит!
— Молчи, беспутный кутила, и слушай, что тебе сообщу. Сегодня, когда мы были в саду Гиллеля, Имма отозвала меня в сторону и сказала, что я нравлюсь Фамари и она согласна быть моей женой. Сначала я не верил такому счастью, но Имма меня убедила. Когда она ушла, я бросился домой и только успел отворить калитку из сада Гиллеля в сад Веньямина, как увидал её, лучезарную деву Сиона! Она стояла у фонтана, задумчиво глядя на его струи. Я упал к ногам моей Фамари, безмолвно лобзая край её одежды, душистой, как жасмин. Она ласково провела рукой то моим волосам и тихо прошептала: «Ступай, бен-Даниил, к моему брату, скажи ему, что желаешь жениться на мне...» Филипп, эти простые слова прозвучали в моих ушах слаще гимна херувимов!
— Итак, ты жених черноокой бат-Симон?.. Мне остаётся только поздравить тебя!.. — произнёс Филипп с оттенком иронии.
Дамаскинец крепко пожал ему руку.
— А знаешь, кому я обязан счастливой развязкой? — спросил он, лукаво щурясь на друга. — Прелестной, бесподобной Мириам! О, это ангел, а не девушка, Филипп. И вот что я скажу, — таинственным тоном прибавил юноша, кладя руку на плечо друга, — она неравнодушна к тебе! Право, брось ты эту гульбу и подумай серьёзно о счастье, которое само даётся в руки.
Филипп стоял понурив голову, потом махнул рукой и с горечью заметил:
— Не чета мне, бедняку, знатная девушка! Вернёмся-ка лучше к товарищам и за их дружеской беседой отпразднуем радость и забудем горе. — Быстро распахнув двери, он громко крикнул: — Поднимем заздравные чаши, друзья. Марк бен-Даниил сосватал невесту!
Была уже полночь, когда Абнер, провожая гостей, светил им через тёмный двор. Распахнув калитку, он высоко поддал светильник. Юноши, проходя мимо, смеялись, пожимая ему руку, и щёлкали в толстое брюхо архитриклиния, который, с тех пор как был возведён в это почётное звание, довольно добросовестно обманывал своих посетителей и ещё добросовестнее напивался с ними. При выходе на улицу молодые люди чуть не наткнулись на фыркающую лошадь. По переулку проезжал всадник, закутанный в плащ. Пламя светильника упало на его лицо, обрамленное русою, коротко остриженною бородой, и отразилось на металлическом шлеме с высоким панашем из орлиных перьев. Позади всадника поспешно ехали воины и шли под вьюками мулы, позвякивая бубенчиками.
Х
На другой день Марк, не без чувства лёгкой тревоги, вошёл в комнату Веньямина с намерением просить себе в жёны его сестру. Он заговорил об этом и растерялся с первых же слов, тяжело переводя дух и то и дело вытирая со лба капли пота. Выслушав бессвязную речь смущённого юноши, Веньямин усмехнулся про себя и спросил:
— А как посмотрит на твоё сватовство отец? Пожелает ли богатый почтенный Даниил Дамаскин породниться с небогатой семьёй?
Марк сильно смутился этим вопросом. Его даже бросило в холод. Перед ним восстал облик сурового, непреклонного старика, который никогда не баловал сына. Ну что, как он и в самом деле не согласится? Что тогда будет? Захочет ли Фамарь разделить участь человека, отверженного отцом?
В глазах у бедного Марка потемнело, в ушах раздался звон. Между тем Веньямин, насладившись вволю его смущением, не спеша встал с места, вынул из шкафика письмо и сказал, протягивая его бен-Даниилу:
— Вот прочти, что пишет твой отец. У него уже давно выбрана для тебя невеста.
Марк дрожащими руками развернул поданный свиток и поднёс его к глазам. Это было то самое письмо, которое он привёз из Дамаска Веньямину. Пробежав его наскоро глазами, юноша стремительно бросился в объятия бен-Симона. Оказалось, что старик Даниил и покойный отец Фамари, Симон бен-Нехания, были компаньонами и давно уже предполагали породниться между собою, поженив своих детей. Отправляя сына в Иерусалим, Дамаскин главным образом имел в виду сблизить его с дочерью умершего друга и исполнить слово, данное ему при жизни. Расцеловав Марка, Веньямин позвал Фамарь и, соединив руки жениха и невесты, назначил день обручения.
XI
Перейдя в пользование римских правителей, дворец Ирода Великого получил название «иродовой претории».
Он состоял из двух колоссальных беломраморных флигелей, называвшихся Цезарским и Агриппинским. Флигели соединяла открытая площадка с дивным видом на Иерусалим. Её украшали великолепный мозаичный пол, кудрявые портики и колонны из разноцветного мрамора, а водоёмы и красивые фонтаны вместе с множеством зелени и душистых цветов навевали прохладу и наполняли воздух ароматом. Снаружи дворец Ирода представлял массу стен, тонких башен и золотых крыш, со вкусом перемешанных между собою.
Внутри дворца находились анфилады зал и комнат, отделанных с баснословной роскошью золотом, серебром, великолепной живописью греческих мастеров, уставленных драгоценными вазами, резной мебелью из слоновой кости и чёрного дерева.
В то же утро, когда в скромном домике Гискана, по ту сторону площади, счастливый Марк заключал в объятия невесту, на роскошной площадке колоссального дворца сидел у мраморного столика в резных позолоченных креслах, покрытых тигровыми шкурами, египтянин Юлий Лахмус Энра, секретарь прокуратора, и прибывший накануне стратег Агриппы, Филипп бен-Иаким с военачальником драбантов Бальтасаром Тероном.
Секретарь, раздушенный, напомаженный франт, с хитрым лицом и вкрадчивыми манерами, говорил медовым голосом, часто поднося к лицу вычурным жестом душистые фиалки, которые он держал кончиками выхоленных пальцев, унизанных перстнями.
— Я теперь вполне убедился, что даже и такие роскошные дворцы, как этот, могут опротиветь и казаться отвратительными, — цедил сквозь зубы щёголь. — Если прокуратору не придёт в голову отозвать меня отсюда в Цезарею, то я, право, сбегу!
— Однако, Лахмус Энра, ты уж чересчур требователен! — рассмеялся Терон, суровый с виду шестидесятилетний старик, приземистый, широкоплечий, с глубоким шрамом на лбу и белой широкой бородой.
— Нисколько! — возразил египтянин. — Но жить на вулкане, выбрасывающем лаву, не в моём вкусе. Подумай: разве кто-нибудь из прокураторов гостил в Иерусалиме более нескольких недель в год? Да они и приезжали-то сюда только поневоле, потому что были обязаны находиться в иудейской столице на праздниках, ради громадного стечения народа, во всякое время способного к бунту.
— Это правда! И наш государь терпеть не может Иерусалима, — заметил третий собеседник, тридцатилетний мужчина среднего роста с мужественным лицом, обрамленным русой, коротко подстриженной бородой, и с умными серыми глазами.
— Ещё бы! — воскликнул Лахмус Энра, — тетрарх Агриппа высокообразованный государь с утончённым вкусом. Что ему за интерес жить в городе презренных иудеев! — Губы египтянина сложились в брезгливую усмешку. — Жаль, что Анпиону не были известны документы нашего архива, когда он писал свою «Египтиаку»! Мой знаменитый земляк ещё и не так бы отделал выгнанных из Египта прокажённых свинопасов. Да вот вам один из тысячи примеров тупоумия этого народа, погрязшего в варварском фанатизме: Иерусалим, как известно, страдает от недостатка воды. Понтий Пилат предпринял устройство водопровода. Считая это общественным делом, прокуратор употребил на него часть денег из корвана. И что же вышло? Евреи подняли гвалт. Светская власть-де захватила духовный фонд: капитал Иеговы! Десятки тысяч восстали, осыпая прокуратора бранью и гнусными упрёками. Их бьют, они кричат своё, да и только. Так и остался Иерусалим до сих пор без водопровода.
— Вот наш Ирод Великий, — перебил Терон, — ух, как держал их круто. При нём иудеи не смели пикнуть!
И он так ударил по столу широкой ладонью, что изделие афинского мастера чуть не разлетелось вдребезги.
— С этим я согласен. Великий, могучий человек был Ирод! — подтвердил секретарь, удерживая обеими руками покачнувшийся столик. И, приняв опять свою обычную небрежную позу, он добавил: — Зато после его смерти здесь господствует полная анархия.
— Ну ничего! Ей будет положен конец, за этим мы сюда и приехали! — с жаром продолжал Бальтасар.
Осторожный стратег хотел было остановить излишнюю откровенность почтенного Херона, но тот упрямо отмахнулся рукой и прибавил:
— Чего тут церемониться! Я старый солдат, вырос и поседел в лагере, не знаю и знать не хочу лисьих виляний хвостом! Ну-ка, любезный Юлий Лахмус Энра, говоря по совести, положа руку на сердце, сколько... — Бальтасар пошевелил пальцами, как будто считая деньги, — сколько возьмёт с нас римский всадник Гессий Флор за это осиное гнездо? — И он указал рукой на город.
Египтянин закашлялся.
— Я, кажется, простудился! У меня что-то закололо в боку! — воскликнул он, беспокойно вертясь в кресле и в замешательстве хватаясь то за правый, то за левый бок.
Наконец, у него как будто отлегло. Он успокоился, снова начал нюхать фиалки и до того углубился в это занятие, что совершенно позабыл ответить на вопрос начальника телохранителей.
— А получил ли ты подарки, посланные тебе царицей Береникой? — любезно осведомился у него Филипп бен-Иаким.
Лахмус Энра отложил букет в сторону и поклонился царедворцу, эффектно прижимая правую руку к сердцу.
— Царственная Береника поручила мне передать тебе вместе с её благоволением, что между присланными подарками недостаёт ещё одного таланта серебра, который ты получишь из её рук, — с тонкой улыбкой продолжал тот.
Толстые губы египтянина сложились в довольную улыбку, а хитрые глаза раскрылись, как у голодного шакала, почуявшего добычу. Он рассыпался в любезностях, приписывая милости Береники дружбе к нему царедворца; потом, помолчав немного, заговорил снова, как бы продолжая прерванную, беседу.
— Бедный Гессий Флор сильно огорчён кончиной своей покровительницы, незабвенной Поппеи. Покойная августа
[75] была очень дружна с женой прокуратора Клеопатрой. Да, бедный Гессий! В прошлом году ему с такими издержками и усилиями досталась жирная прокуратура, и вдруг... такой случай, такой непредвиденный внезапный поворот колеса слепой Фортуны!
Секретарь причмокнул и трагически развёл руками.
— Да, старой лисице недолго пришлось таскать кур в Палестине! — рассмеялся Терон. — Что ж, он собирается обратно за море?
— Прокуратор намерен последовать примеру Цинцината и, если не ошибаюсь, уже начал строить виллу в Италии.
— На которую понадобятся деньги, — улыбнулся бен-Иаким. — Однако это важная новость! При таких обстоятельствах Гессий Флор легко согласится действовать с нами заодно, особенно если и ты замолвишь за нас словечко, дорогой Лахмус Энра!
— Это будет зависеть оттого, насколько ваши интересы совпадают с интересами Гессия Флора, — с ударением произнёс секретарь, приподнимая брови.
— Теперь настала самая удобная минута для Агриппы, чтобы добиться в Риме царского титула. Он поехал в Александрию поздравить Александра Тиверия с назначением в наместники Египта, Сирии и Палестины. Если только прокуратор согласится на наше предложение, то тетрарх немедленно отправится в Рим.
— Конечно, конечно, теперь самое удобное время, и, если немного похлопотать, дело будет сделано, — заметил египтянин, задумчиво любуясь сверкающими перстнями на своих пальцах.
Стратег Ирода нагнулся к нему и вымолвил вкрадчивым тоном:
— Именно следует похлопотать. После отставки прокуратора назначение нового будет зависеть от доклада императору, а его главные советники на стороне тетрарха.
Лахмус Энра долго рассматривал носок расшитого золотом финикийского сапога, прежде чем ответил царедворцу.
— Положим, в Риме дело у вас налажено хорошо. Тайный секретарь императора Энафродит, фаворитка Кальвия Кристилия и всемогущий Тигеллин на вашей стороне. Наконец, сам Нерон благоволит к Беренике, так что, принимая ещё во внимание богатство иродова дома, можно почти ручаться за успех. Но здесь, в Иерусалиме? Кроме ненавидимой народом аристократии, у вас нет другой поддержки. Как же вы устроите, чтобы от имени народа явилось к Нерону посольство, которое должно просить о царском титуле для своего правителя? Ведь по иудейским понятиям, царь — это автократ; они никогда не признают царём того, кто не будет одновременно носить венца и кидара; Рим же, в свою очередь, никогда не согласится на такое возвышение палестинского четверовластника.
Ламнус Энра многозначительно посмотрел на своих собеседников. Филипп бен-Иаким задумался, но его товарищ иронически моргнул бровями и, поглаживая свою красную лысину, лукаво спросил секретаря:
— А знаешь ли ты, любезный Лахмус, те две штуки, которые заменяют вместе и скипетр царя, кидар и кадильницу первосвященника?
Египтянин вопросительно поднял брови и уставил на Терона любопытные прищуренные глаза.
— Вот то-то: сам не знаешь, а между тем мудрствуешь лукаво! — внушительно заметил старик, укоризненно кивая головой. — Так я скажу тебе: эти штуки — меч и шлем воина.
— Я согласен с уважаемым Бальтасаром! — воскликнул Филипп бен-Иаким. — Не забудь, что македонец рассёк гордиев узел мечом.
— Рассечь — не значит разрешить, — серьёзно возразил секретарь. — Впрочем, что касается Иудеи, вам лучше знать, однако, если вы хотите затеять дело, то поспешите. Гессию ждать некогда. Ведь он беден, и перед отставкой ему поневоле придётся ограбить корван.
— Ого, это будет скверная штука, если он ограбит Иегову! У-у, какая пойдёт тогда резня! — просопел Терон.
— Что ж делать. Прокуратор не заботится о последствиях! Это его не касается.
— Ну я не думаю, чтобы Гессий Флор решился на такое рискованное предприятие! — с беспокойством заметил стратег
.
— Кто знает! Если прокуратору и не удастся захватить сокровищ корвана, то, во всяком случае, он возбудит в стране не только серьёзное волнение, но даже войну, а тогда для него будет очень удобно ловить рыбку в мутной воде. Так, например, Гессий Флор почему-то нашёл нужным переменить гарнизон в Иерусалиме. Сюда идёт на смену сирийской италийская когорта, а в Цезареве стоит в резерве другая, августова. Эти когорты составлены из одних родовитых римлян. Странно, к чему вдруг понадобились Гессию столь надёжные войска в мирное время?
— Да, в самом деле, это что-то подозрительно! — подтвердил Терон, покачивая головой.
— Подумайте только: ну, случись какое-нибудь столкновение, как было в первый день минувшего праздника! Нази синедриона потребовал от нас содействия военной силы, чтобы прекратить уличные беспорядки, поднятые каким-то пророком. Хорошо, что у нас были солдаты сирийцы. Дело кончилось благополучно: чернь разогнали, даже без кровопролития, ну а будь на месте сирийцев римляне или германцы, тогда тут пошла бы такая резня с грабежом, что ужаснулись бы сами боги на дальнем Олимпе!
Филипп бен-Иаким сидел, погруженный в раздумье. Он обдумывал вероятность предположения хитрого египтянина, но чем дольше он размышлял, тем сильнее омрачалось его лицо. Наконец стратег провёл рукой по лбу, как бы отгоняя назойливые мысли, и решительно сказал, обращаясь к секретарю:
— Любезный Лахмус Энра, мы немедленно приступим к переговорам с Гессием. Я рассчитываю на твоё содействие.
Секретарь утвердительно кивнул головой. Царедворец встал и, протягивая ему руку на прощанье, добавил шёпотом:
— Мы хорошенько всё обдумаем. Как знать, пожалуй, война иудеев с Римом окажется на руку и нам.
Египтянин сочувственно улыбнулся.
— Вы можете играть в ней выгодную роль посредников, — заметил он, подобострастно пожимая протянутую ему руку.
— В том-то и дело! — кивнул головой Филипп.
Он запахнул красный, обшитый золотом плащ и направился через площадку к агриппинскому флигелю. Лахмус Энра раскланялся с полковником драбантов и, провожая гостей, предупредительно отворил перед ними раззолоченные двери, ведущие в длинную анфиладу комнат.
XII
По настоянию главы саддукейской партии, Анании Ганана, первосвященник Матфей бен-Феофил пригласил к себе на совещание членов синедриона, многих старейшин народа, влиятельных иерархов и представителей знати.
Когда приглашённые оказались все в сборе и заняли места в обширной зале первосвященнических палат, Матфей открыл заседание пространной речью. Рисуя яркими красками политический упадок Иудеи со времён Архелая, неудачного преемника Ирода Великого, он восхвалял мудрую политику Агриппы I и его сына Агриппы II, благодаря которым Иудее возвращены некоторые существенные права и снова объединено наследие Ирода, раздробленное после его смерти.
— Уже и теперь Агриппа владеет всей Палестиной, имеет надзор над храмом и право выбора первосвященника. Чтобы окончательно восстановить монархию Ирода, ему осталось только добиться отмены прокуратуры и восстановления царского титула, — говорил первосвященник безмолвно слушавшему собранию.
— Наступил самый благоприятный момент для такого переворота, и царь Агриппа ожидает вашего содействия. Безумство Нерона с каждым днём становится очевиднее. С тех пор как в прошлом году он сжёг три четверти Рима ради удовлетворения своей страсти к роскошным постройкам, народ от него отвернулся и войско стало роптать. Заговоры умножились. Недавно император казнил за участие в них даже своих близких друзей, составлявших дотоле надёжную опору его тирании. Теперь в припадке бешенства он убил Поппею Сабину, ударив её ногой в живот. Нет сомнения, что пошатнувшийся на троне последний из Клавдиев продержится недолго. Он будет свергнут или умерщвлён. Тогда наступят для Рима времена политических смут. Что же будет с нами, если грядущие события застанут нас врасплох? Вспомните, как ловко воспользовался Ирод Великий распрей триумвиров? Царь Агриппа прислал нам своего военачальника. Он советует отправить в Рим послов от имени народа; они потребуют отмены прокуратуры, установленной за малолетством наследника Агриппы I, которому была возвращена власть над Палестиной. Когда посольство выедет из Иерусалима, Гессий Флор добровольно подаст в отставку. Агриппа ручается за успех. Император к нему расположен, римский сенат на его стороне, а наместником Египта, Сирии и Палестины назначен наш единоверец, Александр Тиверий. Я вам сказал, ответьте мне, — заключил первосвященник.
— Тут нечего думать! — воскликнул Анания Ганан. — Царь, сидящий на престоле, прогоняет зло своими очами. Приступим же к выбору послов, пускай идут в Рим.
— Мы не имеем на это права. Соберите народ во храме. Что он захочет, то и будет! — раздался звучный голос молодого священника Анании бен-Садука.
Среди партии Ганана послышался ропот неудовольствия. Иродианский принц Антивай поднялся с места и, смерив надменным взглядом бен-Садука, обратился к собранию:
— Доколе же, судьи и старейшины народа, будут царить у нас произвол черни в городах, разбой на больших дорогах, неповиновение властям, безбожие и разврат? Доколе, спрашиваю вас, безбородые юноши будут восседать в совете наравне со старцами, убелёнными сединой. Не пора ли обуздать буйных, вразумить непокорных? Не пора ли, наконец, вручить сильную власть государю, дабы он освободил страну от разбойников, сикариян и лжепророков, уничтожил бы ересь сект, обуздал фанатизм фарисеев, безумство зилотов и оградил собственность от посягательств алчной черни?
В собрании произошло сильное движение. Приверженцы фарисейской секты, оскорблённые речью принца, повскакали с мест, намереваясь покинуть залу. Молодые священники с бен-Садуком и с сыном князя Гиркана, Элиезером, сгруппировались вокруг храмового военачальника. Зала гудела от возбуждённых голосов, говоривших одновременно. Маститый раввин Иоанн бен-Закхей подал знак, что хочет говорить, и восстановил тишину. Глаза всех обратились на семидесятилетнего учёного, который пользовался уважением не только среди евреев, но также у язычников. Более полстолетия заседал он в синедрионе. Все притихли, ожидая его слова:
— Зло не так уж велико, как оно кажется, — заговорил старец. — Народ предан вере, и за нею он безопасен, как за щитом, от вражеских ударов. Вся беда в несогласии правящих классов. Не будь между ними розни, страна благоденствовала бы. Помиритесь между собою, говорю вам.
Во всём собрании послышалось тихое одобрение словам Иоанна.
Иродианин Баркаиос выступил вперёд и, низко поклонившись бен-Закхею, сказал:
— Учитель, твои слова святы и мудры, но они не решают вопроса, поднятого первосвященником. По-моему, для блага государства необходимо усилить царскую власть в Иерусалиме. Не имея опоры в сильном правительстве, страна погибнет от анархии, и на труп Иудеи со всех сторон слетятся орлы. Ты сказал: народ предан вере, она его щит. Но разве вера не искажена суеверием? Разве этот щит не поедает ржавчина?
— Баркаиос прав! — громко заявили Анания Ганди и бен-Фаби. — Мы требуем, чтобы было приступлено к избранию послов.
— Наше имущество в опасности! Пора водворить в стране порядок! — настойчиво закричали саддукеи.
— Без участия народа никто не имеет права избирать его именем послов и решать дела! — воскликнули окружавшие храмового военачальника.
Анания Ганан, увидав, что вокруг его сына сгруппировалась оппозиция, позеленел от злости. Несмотря на свои семьдесят пять лет, он выпрямился, как юноша, и во всей его фигуре отпечатлелась надменная гордость, коварство и высокомерие дома Ганана.
— Кто говорит здесь про народ? И про какой народ? Здесь, перед первосвященником, собрались представители граждан, владельцев поземельной собственности, купцов и промышленников, представители науки, духовенства и власти: духовной и светской. Мы, работодатели, собственники и правители, желаем и требуем, чтобы благое намерение нашего государя Агриппы II было исполнено. Что же касается улицы, то мы её спрашивать не будем. Пусть она сама решает, как хочет. Да будет всем известно: кто не с нами, тот против нас, и горе ему!
— Мы все желаем мира. Кому же из нас приятно трепетать за своё имущество? — возразил Ганану князь Гиркан. — Но каким путём мы достигнем соглашения с народом? Ты говорил так, как будто стоял во главе легионов цезаря и полков тетрарха. Однако в Иерусалиме их пока нет, и нам поневоле предстоит считаться с улицей, которую ты так презираешь! Я не вижу надобности вмешиваться в дела тетрарха. Пусть он сам попробует сесть на престол Давида. Притом же Нерон последний из дома Августа. С его смертью должна быть избрана новая династия, что, конечно, не обойдётся без междоусобий. Тогда военные силы римлян будут отвлечены от Палестины, и мы скорее достигнем своей цели освободиться из-под чужеземного ига.
Ответ Гиркана вызвал у саддукеев взрыв негодования. Все отлично поняли, куда метил потомок последнего царя из дома Маккавеев, низверженного отцом Ирода, Антипатром. Напротив того, речь Гиркана вызвала бурное одобрение среди приверженцев народа, и Анания бен-Садук насмешливо обратился к иродианам и саддукеям:
— Напрасно вы расставляете сети на глазах у птиц.
Затем, обратясь ко всему собранию, он произнёс речь:
— Наше государство находится в настоящее время в том же самом положении, от которого нас избавил благородный Асмоней. Не царь нам нужен, а народный вождь. Пусть он возбудит дремлющее в народе воодушевление, и оно обратится в такое пламя несокрушимого патриотизма, что расплавит броню чужеземной тирании, и она падёт, как пал надменный сириец.
— Воистину так! — воскликнули единомышленники бен-Садука, заглушая своими криками ропот противников. Не помня себя от гнева, Баркаиос осыпал упрёками князя Гиркана, обвиняя его в коварном намерении вредить дому Ирода. Бен-Фаби с саддукеями окружили первосвященника, требуя немедленного изгнания из залы дерзкого бен-Садука. «Это зилот, а не священник!» — раздавались их злобные крики. Храмовый военачальник, в свою очередь, не смущаясь присутствием отца, вместе с Горней бен-Никомед, Иудой бен-Ионафаном и Элиезером, сыном Гиркана, требовали удаления Баркаиоса, оскорбившего потомка Асмонея.
Среди страшного гвалта, брани и угроз первосвященник беспомощно опустился в кресло и, в знак сердечной скорби, закрыл лицо руками. Тогда поднялся Симон бен-Гаманиил и громким голосом усмирил волнение.
— Да царствует мир и любовь в доме первосвященника Бога живого! Великий Гиллель, которого вы почитаете наравне с Моисеем, учит: «Будь последователем Аарона, другом мира, и люби безразлично всех людей. Поучай их закону, ибо чем больше знания, тем больше жизни, чем больше мысли, тем больше рассудка, чем больше справедливости, тем больше согласия и любви, а чем больше любви, тем больше счастья на земле». О чём вы спорите? Зачем восстаёте друг на друга? Смотрите, вот сребреник, единственная монета, принимаемая в храм истинного Бога. Что на ней изображено? На одной стороне вы видите ветвь оливы — символ мира, на другой кадильницу — эмблему молитвы, кругом же идёт надпись: «Иерусалим святой». Не изображается ли на этом наглядно божественное назначение Израиля? Исконная земля наша представляет центральную местность в мире. Вокруг неё теснятся так близко Финикия, Сирия, Аравия, что стоит только перейти холм или поток или переехать Вавилон и Египет, через озеро, чтобы очутиться в одной из этих стран. Расположенные же на светлых водах Восточного моря острова эллинов соединяют её со всеми главными странами Европы. Таким образом, Азия, Европа и Африка встретились на земле Израиля, и она искони была ареной их враждебных столкновений. Заключённые в центре состязующихся между собой племён, мы очутились между молотом и наковальней. Нам приходилось или принять участие в мировой борьбе и наложить ярмо на беспокойных соседей, или же самим подпасть под их иго.
Наши отцы не захотели ни того, ни другого. Твёрдо уповая на торжество истины, они отложили в сторону меч и выбили на своих монетах вот эту эмблему молитвы и мира. Следуя примеру отцов, мы должны терпеливо ждать, пока окружающие нас звери не сделаются наконец людьми и не постигнут великой истины, заключающейся в простой заповеди: «Не убий!» Но покуда свет восторжествует над тьмою, к нам будет вторгаться каждый хищник, временный герой на кровавой арене мировой борьбы. Он будет опустошать наши нивы, разорять села, грабить города. Неудивительно после этого, что наш народ, чувствуя своё исключительное положение, страшится за свою будущность. Исчезли грозные фараоны, пала Ассирия и Вавилон, персов сменили греки. Ныне властвуют римляне. Род проходит, род приходит, а земля пребывает вовеки, и мы, держась этой земли и её великих преданий, будем пребывать с нею вовеки и дождёмся торжества, когда плуг любви и правды возделает окружающую нас бесплодную пустыню злобы. И пусть ныне и присно и вовеки раздаётся голос с Сиона мимо идущим с огнём и мечом родам: «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе, буйные, будете услаждаться убийством? Доколе, глупцы, будете ненавидеть знание?»
Симон бен-Гамалиил умолк и, окинув залу ясным, но полным укоризны взором, среди могильной тишины оставил залу собрания.
По его уходе стало так тихо, что было слышно жужжанье пчелы, залетевшей из сада в одно из открытых настежь окон.
Первосвященник сидел потупясь, нервно сжимая пальцами золочёные ручки кресла. Саддукеи сидели с мрачными лицами, озабоченно взирая на понуренную фигуру Матфея. Иродиане столпились вокруг принцев Антизая, Саула, Костобора и старались скрыть бушевавшую в них злобу под маской высокомерного презрения. Храмовый военачальник был в недоумении и сидел, опустив глаза в землю. Один только маститый Иоанн бен-Закхей благодушно улыбался и спокойно смотрел на картину общего смятения.
Наконец, звук отодвигаемого кресла и сухой кашель старика Ганана резко прервали напряжённую тишину. Все невольно вздрогнули, будто заслышав зловещее карканье ворона. Первосвященник тяжело поднялся с места и подал этим сигнал расходиться. Зала наполнилась шелестом шёлковых одежд и шумом шагов, скользивших по мозаичному полу.
XIII
В роскошном покое Асмонейского дворца дремал, полулёжа на кушетке, Филипп бен-Иаким. Стол, покрытый исписанными табличками и листами пергамента с чертежами укреплений Иерусалима, свидетельствовал о только что оконченной работе стратега. Но его сладкая дремота была внезапно прервана стуком порывисто распахнутой двери. Лениво открыв отяжелевшие веки, бен-Иаким увидел перед собою Баркаиоса, в величайшем гневе влетевшего в комнату.
— Что, разве совещание уже кончилось? — спросил военачальник, приподнимаясь на локте.
— Да, кончилось!
Баркаиос швырнул ногой ажурную скамеечку, попавшуюся ему на дороге. Роскошная вещица, изделие афинского художника, с треском полетела в угол комнаты.
— И... вы не достигли цели?
— Мы ушли из собрания, как испуганные лисицы из виноградника с поджатыми хвостами.
Тут Баркаиос разразился такими ругательствами по адресу не только противников, но и друзей, что стратег расхохотался. Он позвал оруженосца, велел принести мульды
[76] и успокоил разгорячённого иродианина. Выпив чашу приятного, освежающего напитка, тот с
облегчением перевёл дух, после чего рассказал, что и как произошло в палатах первосвященника. Стратег молча выслушал и, когда Баркаиос кончил, хладнокровно наполнил чаши мульдой во второй раз.
— Выпьем-ка лучше за хорошеньких девушек Сиона! Они хотя и не так соблазнительны, как утончённые красавицы Тивериады, но всё же недурны собой.
Царедворец окинул Филиппа удивлённым взглядом.
— Ну, — сказал тот, — что же ты вытаращил на меня глаза? Пей! Или златокрылый эрот перестал уже тебе улыбаться, друг Баркаиос?
— Не понимаю, чему ты обрадовался? — холодно пожал плечами иродианин.
— Как чему?.. Да ведь благодаря вашей тупости, я сберёг моему государю две тысячи талантов золота, ассигнованных на подкуп римских чиновников. Теперь государь употребит эти деньги с большей пользой на ратное дело. Воображаю восторг Бальтасара, когда он увидит великолепные эскадроны, которые я для него сформирую!
Лицо Баркаиоса приняло озабоченное выражение.
— Послушай, — начал он, взяв за руку Филиппа бен-Иакима, — скажи мне откровенно, что собственно означают твои загадочные слова?
Серые глаза стратега, умные и обыкновенно добродушные, приняли жёсткое выражение и засветились недобрым огоньком.
— По-моему, — с расстановкой ответил он, — нам нечего особенно церемониться с иудейскими собаками. Пускай их хорошенько жиганёт римская плеть! Увидишь тогда, как эти псы с воем бросятся лизать ноги Агриппы, на которого теперь нахально тявкают.
— А если они вместо ожидаемой покорности взбесятся, тогда что?
Стратег пожал плечами и равнодушно заметил:
— У государя и без них много народа.
Баркаиос покачал головой. Он хотел говорить, но Филипп дружески взял его под руку и, прохаживаясь с ним по комнате, начал:
— Вот видишь, дружище, в Иерусалиме сильная партия молодых честолюбцев, во главе которой стоит храмовый военачальник. Этот священник мнит себя полководцем и Бог весть ещё чем. Он высокомерен, тщеславен и, конечно, глуп, однако обстоятельства ему благоприятствуют. Страна переполнена горючим материалом; бредни о пришествии мессии разгорячили головы фанатического народа, а все эти Симоны бен-Гамалиилы, Иоанны бен-Закхеи, старейшины и раввины очень почтенные люди, хорошие люди, учёные теологи, всё, что хочешь, но только не государственные мужи, всю жизнь свою корпели над книгами, а не вычитали того, что народ иудейский ни к чему не годен. Это дрянь, с которой и Моисей не мог управиться. Сорок лет морил он их в пустыне, не решаясь ввести в обетованную землю и основать государство, ибо видел, что из этого ничего путного не выйдет. Довольно жалоб и брани навлекла на себя династия Ирода за то, что старалась водворить между ними порядок. Начиная Антипатром и кончая Агриппой, всех царей этого дома поголовно обвиняют в жестокости и тирании, а между тем разве у них был хоть один царь или судия, который бы правил, не прибегая к насилию. Нам давно пора изменить политику. Пускай римляне бьют их до тех пор, пока они не придут к нам сами с повинной головой. Тогда мы примем их, как заблудшихся овец, соберём опять в стадо, заботливо отделим из них паршивых и восстановим мир в семье Израиля. Да, друг Баркаиос, чтобы очистить золото от сплава, нужно пропустить его через огонь и воду. Чтобы засеять ниву плодородными злаками, следует прежде вырвать из неё с корнем плевелы и сорные травы, взрыть землю плугами и покрыть удобрением. Ну, а теперь, любезный Баркаиос, прощай!
Стратег выпил залпом чашу, накинул плащ и, кивнув царедворцу, вышел из комнаты. Оттуда в сопровождении оруженосца он направился к Лахмусу Энре, с которым долго совещался наедине.
Баркаиос отёр вспотевший лоб и, когда шаги стратега замолкли в отдалении, бросился на кушетку, где и пролежал до вечера, погруженный в задумчивость. Проходя мимо претория, он увидел ординарца стратега сотника Авирама. Драбант, кряхтя, садился на лошадь.
— Куда Бог несёт? — спросил тот мимоходом.
— В Цезарию! — с досадой отозвался офицер. — Эх, собачья служба!
И, махнув рукой, он выехал из ворот.
XIV
Три дороги ведут из Иерусалима через Елеонскую гору мимо селения Вифания к Иерихонскому ущелью, а оттуда в Иерихонский оазис и низменность Эль-Гор.
Первая из них огибает северный склон Масличной горы, между горой Огорчения, где Соломон приносил жертву Молоху; другая проходит через самую вершину Елеона; а третья, наиболее удобная, огибает южный скат между Елеоном и горой Злобного Совета, где стояла дача Иосифа Каиафы, принадлежавшая в то время семейству Ганана. Здесь было постоянное жительство главы этого дома Анания Ганана. Последняя дорога тянется от Вифании, беспрерывно поднимаясь в гору, и, немного не доходя до вершины, круто поворачивает к северу. На этом пункте перед глазами путника внезапно открывается вид на Иерусалим.
Ранним утром весеннего дня Филипп из Румы сидел на повороте дороги под сенью тёмно-зелёной фиги с широкими лапчатыми листьями. Юноша был одет подорожному, возле него лежал крепкий посох с железным наконечником, лук и колчан со стрелами. Он поджидал здесь своего друга бен-Даниила, Фамарь, Мириам и матрону Руфь, чтобы сопутствовать им в Иерихонский оазис на дачу Симона бен-Гамалиила.
Перед глазами задумчиво сидящего юноши вставал в ясной атмосфере весеннего утра из глубины тёмной долины священный город в царственной мантии гордых башен. Филипп смотрел с откоса Масличной горы на противоположный откос, на котором подымались серые стены, увенчанные роскошной платформой храма с золотыми крышами над беломраморной колоннадой. На востоке его взоры блуждали по сожжённым солнцем холмам иудейской пустыни и останавливались на розовой блистающей аметистовым отливом цепи Моавитских гор, где в глубокой впадине покоились, отсвечивая кобальтом, таинственные воды Лотова озера, и у самых ног Филиппа, в Кедронской долине, грустно белели гробницы убитых пророков...
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст».
Молодой человек задумался.
Год тому назад, возвращаясь по той же самой дороге из Гадар — сирийских Афин, — где согласно воле отца, эллина родом, он обучался у греческих философов, риторов и грамматиков, Филипп остановился на том же месте, восхищенный внезапно открывшимся видом на божественный город, предмет его детских мечтаний, любовь к которому он впитал с молоком матери, благочестивой иудеянки. Тогда, взирая на гордость и красу Иудеи, его глаза наполнились слезами, и ему казалось, что он слышит со всех бесчисленных башен города тихий благовест любви и мира. Филипп был уверен, что всё порочное осталось позади него и что мрачное Иерихонское ущелье, представляющее дикую скалистую горловину с пятичасовым всходом на гору, подошва которой уходит в глубокую, лежащую ниже уровня моря долину, а вершина теряется в облаках, и есть тот переход из вещественного мира в ту область бытия, где свободный дух не сковывается более плотью, где прекращается процесс сжатия и притяжения, а начинается процесс расширения и отталкивания
[77].
Но не успел он отрясти от ног своих прах языческих Гадар, как уже сомнение закралось ему в душу и поколебало в нём детскую веру в неприкосновенную святость Иерусалима, веру, навеянную колыбельными песнями матери. Разочарование всюду следовало по его стопам, на каждом шагу разбивая вдребезги поэтические грёзы. Он с горечью убедился, что грязная, ограниченная чернь Иерусалима неспособна играть присвоенной ей преданиями роли господствующей расы в Палестине, что высшие классы заражены духом сектантства и что Иегова-Адоиая превращён фанатическим духовенством в исключительного Бога иудеев, ради которых якобы создан и весь мир. Даже прозелиты и те стали обременительны для иудейской жадности, и раввины, поучая народ, сравнивали их с «наростом, урывающим соки исходящей от Бога благодати». Таким образом, священный город, глава и сердце Израиля, предназначенный провозвещать миру великую веру в Бога живого и собирать под свои крылья измученный себялюбием человеческий род, превратился в заносчивого сектанта, который только себя считает избранным сосудом, а весь остальной мир свиным корытом и самодовольно блаженствует, наслаждаясь присвоением Высочайшего Существа, не уделяя другим народам «ни пяди Его волос», и стремится не обратить, а искоренить иноверцев.
И Филипп с болью в сердце смотрел на развенчанный кумир детских грёз. Ему казалось, что он слышит за этими стенами и башнями стоны побитых камнями пророков и яростные крики изуверов, ратующих против свободы духа. Он вспомнил Гадары с их изящными храмами весёлых богов Эллады, роскошные гимназии и тихие, таинственные рощи Минервы, где философы разъясняли будущим гражданам учение греческих мыслителей, риторы преподавали искусство знаменитых ораторов, а грамматики читали высокие произведения поэтов. И величавые тени героев Гомера, тени Аристотеля, Сократа, Платона, Александра, героев Платеи как будто вставали под сенью горделивых лавров и скромных мирт. Взирая на юношество, они осеняли его своим величием. А тут, в этом пышном напоказ всему миру храме Адонаи, чему учили мудрецы-раввины, окружённые полунагим народом, под рёв скота, ругань прасолов и ростовщиков?
Расстилавшийся у ног юноши Иерусалим представлял отдельный мирок, в котором процветали только книжники и фарисеи. Мирок этот начинался на восток от своего центра — храма на горе Мориа и кончался на противоположной стороне горизонта, там, за вершинами Иудейских гор, где садится вечером солнце. Всё, что находилось далее этого кругозора, не заслуживало никакого внимания. Там лежали страны геров
[78] и богомерзких идолов. Между Иерусалимом и этим презренным миром геров находилась земля, населённая ам-га-арацами, простыми поселянами, которые не повторяют ежедневных иудейских обрядов и не прислуживают знатному человеку. Между иудеями установились строгие кастовые различия по религиозной жизни — а другой они не знали — и в конце Мишны
[79] существует трактат, Гораиоф, представляющий преимущество священникам перед левитами
[80], левитам перед прочими законнорождёнными евреями; законнорождённым перед незаконнорождёнными — мамзер; мамзеру перед рабом-набиким, а рабу перед чужеземцем, гером. Но если мамзер будет сыном раввен, а первосвященник — из ам-га-аренов, то такой мамзер пользуется преимуществом перед первосвященником. Кроме того, каждый еврей считал себя членом царственного поколения, на язычников же глядел с величайшим презрением исключительности, установившейся тысячелетним обычаем. Система, принятая раввинами и руководившая всеми их действиями, почиталась больше Пятикнижия Моисея. Почтительность к талмуду, который близко подходил к понятиям низменной массы народа, чьи верования он возводил в силу обязательного закона, доходила до такой степени, что чтение Святого Писания считалось делом неважным, а Мишны — настоящим. Евреи считали святотатством нарушение правила субботы, хотя бы даже для спасения жизни ближнего, и смотрели на мир с течки зрения бесплодного формализма, которым иудейство окружило себя точно каменной стеной.
Да, среди всех этих занятых собой сектантов было немного достойных людей, а среди последних один только достойный уважения мудрец — Симон бен-Гамалиил. Но при мысли о нём лицо Филиппа омрачилось. Он вспомнил его дочь, и сердце юноши болезненно сжалось. Там, где всё ценится на деньги, где лучшие перлы человеческой души грубо попираются в дикой пляске вокруг золотого тельца, разве может расцвести нежный цветок любви? Филипп грустно понурил голову и до того углубился в безотрадную печаль, что даже не заметил приближения своих друзей, медленно поднимавшихся в гору. И только когда они были уже вблизи, побрякиванье бубенчиков и фырканье мулов вывело его из задумчивости. Подняв голову, юноша увидел Марка, который вёл под уздцы мула, разговаривая с сидевшей на нём невестой. За влюблённой парочкой ехала степенная матрона Руфь с рабыней Изет. Позади них показалась стройная фигура Мириам, закутанная в кружевное покрывало. Девушка ловко правила белым в красной сбруе мулом. Она нагибалась вперёд и заглядывала на дорогу, как бы отыскивая на ней кого-то глазами. Отлетели, как сон, печальные мысли, их подхватил ветерок, шелестевший листьями пальм, и унёс далеко в бесплодную пустыню, где потопил в мёртвых волнах Лотова озера.
На расстоянии одной стадии к югу от Вифании находится, расположенная среди зеленеющих оливковыми и пальмовыми рощами холмов, уединённая цветущая долина, где мирно приютился под тенью деревьев маленький домик, выстроенный из белого камня, с обвитыми плющом стенами и с виноградными лозами под окнами. На его плоской крыше воркуют и греются египетские голуби, а на раскинутой перед ним лужайке, усыпанной синими и жёлтыми полевыми цветами, между двух старых развесистых маслин тихо плещет родник, обложенный серым камнем, и поит студёной струёй слетающихся к нему птиц.
Скромная зала в домике устлана циновками, над затрапезным столом висит посредине потолка плоская лампа о трёх светильнях, а в переднем углу возле ниши, где хранится сундук со священными книгами и семейными драгоценностями, стоит семиветвенный бронзовый светильник и деревянный аналой, покрытый простым ковриком с положенным на нём кипарисовым крестом — символом новой веры.
Бледная, сухощавая, стройная девушка с мечтательными глубокими глазами, опушёнными длинными ресницами, с тонким профилем, напоминающим античную камею, накрывает стол для незатейливого завтрака, который состоит из пшеничного хлеба, печёных овощей и овечьего сыра. У окна сидит за чтением письма старик преклонных лет с продолговатым черепом, скудно покрытым тонкими прядями седых волос.
— Ну, что, дедушка, хорошие получил ты вести? — спросила девушка, окончив собирать завтрак и подходя к старику.
— Разные, внучка, хорошие и дурные, — отвечал тот, бережно свёртывая письмо. — Аристион пишет, что учение Христово распространяется у эллинов, но что они терпят гонение от цезаря, а страшные землетрясения, кометы и огненные столпы на небе наводят на всех людей страх и смятение.
— Это, дедушка, перед концом мира, потонувшего в грехе. Христос скоро вернётся на землю, покарает злых и даст Царствие Небесное благочестивым.
Старец ничего не ответил внучке. Он встал, кряхтя, со стула и, спрятав письмо в сундук, сел к накрытому столу. Девушка поместилась напротив него. Они, по обычаю назарян, благоговейно преломили хлеб и принялись за свою скромную трапезу.
Вдруг за дверьми раздался лай собаки, послышались человеческие голоса и смех.
Девушка поспешно встала и вышла на крыльцо.
— Здравствуй, Тавифа! Здоров ли дедушка? — весело воскликнула Мириам, обнимая её.
— Здоров, здоров, милая, дорогая гостья! Какими это судьбами залетела ты к нам, щебетунья-пташка?.. А твой отец, наш покровитель, Симон бен-Гамалиил?
— Все здоровы! А вот я привела к вам этих юношей! Вы давно хотели с ними познакомиться. Это те самые, которые отбили Никодима у черни. Вот это Марк бен-Даниил из Дамаска, жених Фамари бат-Симон, а это Филипп.
Тавифа с любопытством посмотрела на представленных ей спутников Мириам. Она с чувством пожала им руки и просто, от чистого сердца благодарила за оказанную услугу.
Отворив дверь, назарянка пригласила гостей войти в залу, где их радушно встретил её дедушка. Старик был рад увидеть дочь своего покровителя и людей, благодаря которым его друг и единоверец был предан достойному погребению.
— Если не побрезгуете скромной трапезой, то садитесь за стол, дорогие гости! — пригласил он нежданных посетителей.
Тавифа принесла кувшин с водой, и, совершив омовение, евреи сели за трапезу назарянина.
Пока юноши вели интересную беседу с Феофилом, Мириам удалилась с Тавифой к источнику. Усевшись на дерновой скамейке под маслиной, она передавала подруге новости, то бросая крошки слетавшимся птицам, то трепля по морде своего любимого мула, привязанного тут же у дерева. Матрона Руфь с Фамарью остались в Вифании, там управляющий отца приготовляет всё необходимое для дороги в Иерихон, куда они едут по делу. Она же, Мириам, со своими спутниками, пользуясь остановкой, поспешила навестить почтенного Феофила и свою подругу Тавифу.
— Фамарь прежде заходила к нам всегда. Отчего-то теперь она стала гнушаться нами? — спросила назарянка.
— Нисколько! Но бат-Симон чересчур занята свадьбой Иммы и ни о чём другом не думает, даже о своём женихе.
— А он, должно быть, добрый и великодушный человек?— заметила Тавифа.
— О, да! И не правда ли, очень красив собою?.. Знаешь что, Тавифа? Влюби Марка в себя и отбей его у Фамари, которая не любит его — это я наверное знаю.
Назарянка устремила на Мириам укоризненный взор, причём её и без того серьёзное лицо приняло суровое аскетическое выражение.
— Ты говоришь, как греховное чадо отвергшего истину мира! Разве плотские вожделения доступны тому, кто познал высшее блаженство и отрёкся от греха?
Мириам нетерпеливо махнула рукой.
— Не говори мне таких страшных слов! Я знаю, что высшее блаженство на свете это любовь, и никто не разубедит меня в том.
— Несчастная! Ты до того ослеплена грехом, что не видишь даже солнца! Эти кружева, этот виссон, это золото и жемчуг изнежили твоё тело; душа в тебе заснула, и ты предалась чувственной любви. Но поверь, наступит роковой день, когда мы все предстанем перед престолом Судии, и чем оправдаешься перед ним ты, покрытая позором греха?
На бледных щеках Тавифы вспыхнул румянец, а её глаза одушевлением. Мириам посмотрела на неё долгим проницательным взором, в котором отразилась вся душа любящей женщины.
Мириам встала. Солнце достигло уже своего заката, и она спешила обратно в Вифанию, чтобы раньше наступления ночи добраться до Иерихона. Кликнув своих спутников, девушка отвязала мула.
Тавифа нежно обняла гостью на прощанье, и две крупных слезы скатились из глаз назарянки на розовую щёчку её счастливой приятельницы.
XV
Выйдя из Вифании, путники миновали горловину, которая ведёт из этого селения через вершину горы, возвышающейся на три тысячи футов над уровнем моря, в глубокую низменность Эль-Гор, расположенную на 600 футов ниже его уровня, и под вечер достигли Иерихона, где, отдохнув у источника Елисея, отправились на дачу Симона бен-Гамалиила, находившуюся в трёх стадиях от города на южной оконечности оазиса.
Пересекаемая Иорданом низменность ограничена с запада длинным рядом скалистых иудейских гор, которые тянутся с юга на север, от Мёртвого озера вплоть до самого Скитополиса. По ту сторону Иордана, с восточной стороны, непрерывной цепью высятся Моавитские горы. Заключённая таким образом между высокими кряжами и скудно орошённая Иорданом глубокая низменность представляет из себя выжженную солнцем пустыню, где только изредка бродят малочисленные стада овец да скрываются дикие звери и хищные птицы.
С западной стороны этой бесплодной пустыни зеленеет, подобно изумруду в золотой оправе, роскошный, изобилующий миррой и мёдом оазис со знаменитым городом благовоний, роз и пальм, приютившийся у подошвы гигантской горы. На границе оазиса в бесплодной пустыне на расстоянии полуторачасовой ходьбы от Лотова озера расположились многочисленные строения и красивый дом в именье семейства Гиллеля.
На другое утро матрона Руфь и Фамарь занялись хозяйственными хлопотами. Надо было осмотреть склады благовоний, запасы мёда и плодов, выбрать из них лучшее для свадьбы, уложить в плетёные корзинки и пальмовые ящики, навьючить на ослов и заблаговременно отправить в Иерихон, а оттуда в Иерусалим, чтобы завтра с восходом солнца двинуться без помехи в обратный путь. Озабоченная хлопотами матрона Руфь предоставила Мириам полную свободу, которой молодая девушка воспользовалась, как птичка, выпорхнувшая из клетки. В обществе Филиппа и Марка она гуляла в пальмовых рощах оазиса, рвала на берегу серебристых ручейков белые лилии и благоухающие весенние розы, плела из них венки и гирлянды, которыми украшала все уголки и местечки, неразрывно связанные с воспоминаниями её только что минувшего детства.
Она побывала и на той скале, где нашёл её Филипп в отчаянной борьбе с ожесточённой орлицей. Тут, вспоминая прошлое, девушка долго стояла, опираясь на плечо возлюбленного, и сердце у неё билось так сильно, как будто хотело выскочить из переполненной счастьем груди. Под вечер к молодым людям присоединилась и Фамарь. Она хотела отправиться к хижине египетской колдуньи, чтобы исполнить желание Иммы и удовлетворить своё собственное любопытство. Мириам же, напротив, непременно хотела навестить своего приятеля, пастуха Азру, который, пользуясь весенним временем, когда пустыня оживает, угнал своих овец к заводям Иордана, где и поселился пока в шалаше. После долгого спора общество, наконец, решило отправиться сначала к пастуху и затем рано утром посетить колдунью. Матрона Руфь предпочла остаться дома, утомившись хлопотами и нуждаясь в отдыхе. Мириам была в восторге, что всё устроилось согласно её желанию. Она опять увидит Азру и проведёт интересную ночь в пустыне, слушая легенды и страшные сказки вещего старца.
Но как ни спешили молодые люди, потеряв понапрасну много времени в спорах, ночь застигла их на полпути. Едва солнце скрылось за вершины иудейских гор, на низменность легла ночная тень; тогда, точно по мановению волшебного жезла, пустыня приняла иной — таинственный и фантастический вид. Мириады светляков, слепой мак, вербена и оливковые грибы распространяли по земле фосфорический свет, который, сливаясь с мерцанием звёзд на небе, сообщал ночному сумраку синеватую, фосфорическую лучистость. В этом светящемся искорками тумане выступали, принимая причудливые очертания сказочных гигантов и чудовищ, то стоящие, наподобие неподвижных фигур людей и животных, высокие папоротники, кусты алоэ и диких кактусов. Порой ночную тишину будил раздававшийся Бог весть откуда резкий крик ночной птицы или жалобный вой шакала и тихо замирал в отдалении. Робко прижимаясь к своим провожатым, девушки шли, пугливо вздрагивая при шорохе пробежавшей ящерицы или вспорхнувшей из-под ног птицы, и с затаённым страхом оглядывались в сторону проклятого озера, откуда сверкали яркие зарницы. Им казалось, будто они слышат отдалённые стоны грешников, погибших под сернистым пеплом, и чувствуют сырость их влажной могилы. Вон там, над загадочными водами, пролетела падучая звезда, описав огненную дугу на тёмно-синем небе. Вон вспыхнул и промелькнул перед ними метеор, осветив голубоватым пламенем какого-то великана с палицей на плече. Девушки торопились, ускоряли шаги и ещё боязливее прижимались к своим спутникам.
Наконец, почва стала заметно понижаться. На запоздалых пешеходов повеяло прохладой. Показался длинный ряд прибрежных камышей, и послышался плеск реки. Подпасок, служивший проводником, свернул влево и обогнул выступающий у самого берега утёс. Между группой тощих деревьев замелькал огонь костра. Сторожевые собаки подняли громкий лай, и пробудившееся стадо ответило им беспокойным блеяньем.
У огня сидел закутанный в овчину восьмидесятилетний Азра, освещённый красноватым отблеском пламени. Высокий, жилистый, с длинной седой бородой, этот старик у костра, окружённый своим стадом, напоминал библейского патриарха.
— Кто же вам сказал, что Сахеприс колдунья? — спросил Азра, когда его гости разместились у огня и разделили с ним незатейливый ужин: пальмовое вино, дикий мёд и пшеничный хлеб.
— Все говорят, дедушка! — ответила Мириам. — Сахеприс — язычница, живёт в уединении, собирает зелье, как же после этого не быть ей колдуньей?
— Так-так! — задумчиво промолвил старец, качая головой. — Бедная женщина! Даже и в этой пустыне люди не дают тебе покою!
— А что, отец мой, ведь Сахеприс прорицает будущее?— осведомилась Фамарь.
Азра улыбнулся.
— Кто долго жил в уединении, в беседах со своим собственным сердцем, кто научился понимать голоса пустыни, гор и моря, шёпот лесов, кто проводил долгие ночи при свете звёзд, внимая шуму ветра и вою диких зверей, кто размышлял над думами пророков, взирая на мир с горных вершин, тому нетрудно вникнуть в смысл раскрытой перед ним книги бытия. Знай прошедшее, понимай настоящее, и тебе нетрудно будет провидеть грядущее.
— Это правда, — воскликнул Филипп, внимательно слушавший старика. — Когда я, бывало, охотился в горах на диких коз или преследовал в долинах быстроногих газелей, мне всегда казалось, что на приволье дух становится свободнее от уз плоти.
Азра одобрительно кивнул головой и, обратясь к Мириам, ласково спросил:
— Что же ты, пташка Палестины, собственно хочешь узнать от Сахеприс?
— Ничего, дедушка! — простосердечно отвечала та. — Я не интересуюсь своей судьбой, это вот Фамарь бат-Симон с моей сестрой Иммой хотят узнать, что ждёт их в замужестве.
Пастух внимательно всмотрелся в лицо Фамари.
— В иное время это было бы нетрудно угадать, — заметил он с лукавой улыбкой, — но теперь, когда судьба отдельных людей так тесно связана с судьбой земли и всего народа, кто знает, какая участь ждёт каждого из вас.
Азра задумчиво уставился глазами в огонь. Его опалённое солнцем, изрытое морщинами лицо приняло серьёзное, почти суровое выражение.
— Хотите быть счастливыми, так идите вон туда, за Моавитские горы, откуда летят орлы и коршуны, чтобы усесться на верхушках иудейских гор, — загадочно промолвил он.
Фамарь расхохоталась, всплеснула руками и насмешливо спросила:
— Так ты советуешь нам бросить почётное существование в священном городе, чтобы скитаться в чужой стране, которую покидают даже орлы и коршуны?
Азра грустно улыбнулся:
— Ведь ты сказала, что хочешь быть счастливой?
— Кто же этого не хочет? Но разве счастье возможно вне той жизни, в которой мы родились и выросли? Разве можем мы из знатных иерусалимлян сделаться бродягами на чужбине? — презрительно возразила девушка.
— В самом деле, если бы это было возможно, в таком случае рок потерял бы своё могущество, — заметил Филипп.
— Он его и потерял, — серьёзно ответил Азра. — Только тот, кто не верит в провидение и не может отрешиться от греха, гибнет от рока. Сумей вовремя отвернуться от жизни, которая ведёт тебя к гибели, как горная тропинка к пропасти, и ты избегнешь роковых стечений обстоятельств и будешь счастлив в новой жизни. Уйди из царского чертога, если в нём ты спишь тревожно; под шатром пустыни ты обретёшь сладкий сон.
Азра умолк, снова уставившись глазами в догоравший огонь. Перед ним вставали в ярких образах картины прошлого, точно появляясь из-под пепла тлеющих углей.
Он видел, как гонимый врагами арабский эмир прискакал к Иордану и на берегу реки осадил взмыленного коня. Пока усталый конь жадно пил воду, эмир смотрел с седла вглубь реки. Всё для него было потеряно. Разбитый в сражении, покинутый последним слугой, он не имел надежды не только возвратить потерянную власть и отнятое достояние, но даже избегнуть посланных по его следам убийц. Повернув коня, эмир медленно въехал на утёс, нависший над рекой. И вот, подтянув поводья, он приготовился было к последнему роковому прыжку, как вдруг, бросив взгляд на окрестность, увидел по ту сторону Иордана кучку людей, окружавших человека, одетого в верблюжью шерсть. Эмир вспомнил рассказы про отшельника-пророка, голос которого был подобен голосу Илии. Он съехал с утёса и, переплыв Иордан, присоединился к людям, слушавшим пустынника. Долго с сокрушённым сердцем внимал араб его громовой речи. Потом несколько времени спустя никому не известный Азра стал мирно пасти стада на берегах Иордана...
Ранним утром молодые люди простились с пастухом и отправились дальше. На кремнистом, усыпанном вулканическими камнями берегу Лотова озера, зелено-синие воды которого с металлическим отблеском отливали цветами радуги, путники увидели уединённое жилище с тростниковой кровлей. Перед раскрытой дверью между коричневых камней шмыгали ярко-зелёные ящерицы и грелись на белом песке, позолоченном утренним солнцем, пёстрые саламандры. На пороге сидела за пряжей Сахеприс; она, как истая египтянка, встречала солнечный восход с работой в руках.
Молодые девушки робко остановились перед нею.
Сахеприс пела:
Человек, смирись пред небесами,
Всё твоё спасение в молитве!
Льются слёзы, льётся кровь реками,
Слышны вопли, стоны павших в битве.
Грозной тучею спешит сюда с заката
Рать несметная, с орлами легионы...
Иудея ужасом объята...
Из-за крепких стен спешите, жёны,
Чтоб спасти детей, бегите в горы,
Там скорей найдёте вы спасенье:
Не помогут башни и затворы,
Обречён ваш город разрушенью.
И падёт во прах его твердыня,
Рухнет наземь, пламенем объята,
Осквернённая Израиля Святыня.
Горе вам: спешат полки с заката!
Не венцы, не брачные напевы,
Впереди вас ждут: позор, неволя,
Непорочные израильские девы.
Вам плачевней всех досталась доля.
XVI
Была уже полночь, когда наши путники, возвращаясь домой, остановились у Гефсиманского сада и, отправив по дороге в Иерусалим своих мулов с караваном вьючных животных, сами свернули на тропинку, чтобы спуститься по зелёном откосу к Вади-Кедрону, а потом подняться по ступеням рва к городским воротам, что значительно сокращало им дорогу.
Они шли среди ночной тишины под сводом густой, облитой лунным сиянием листвы старых олив, объёмистые стволы которых бросали широкую тень на посеребрённый луной дёрн. Мириам, идя с Филиппом позади других, крепко опиралась на руку юноши, нарочно замедляя шаги. Филипп, в свою очередь, чувствовал, что его благоразумию настал конец, что он бессилен против охвативших его чар любви. Эти дни, проведённые с любимой девушкой среди поэтической идиллии, вне условий обыденной жизни, дали слишком обильную пищу его так долго подавляемой страсти, и теперь, когда он с каждым шагом приближался к топ серой, поросшей плесенью и мхом стене, за которой кончался мир свободы, грёз и любви, он не имел силы сдержать своих чувств. Когда Мириам остановилась на краю рва, куда уже спустились шедшие впереди их спутники, и грустно устремила на него взгляд бархатистых чёрных глаз, он страстно заключил её в свои объятия.
— Поклянись, что любишь меня! Поклянись именем Иеговы! — прошептала Мириам, обдавая лицо Филиппа горячим дыханием.
— Мириам, свет очей моих, воды всей вселенной не зальют пламени моего сердца! Я люблю тебя, как любит Иордан Иерихонскую долину, как кедр вершину Эрмона и как прилив морской манящий свет луны.
— А я, — восторженно воскликнула девушка, — любила и люблю тебя, как любит роза луч восходящего солнца. С того дня, когда ты в первый раз предстал очам моим, ты сделался запястьем моей души, печатью моего сердца.
Поцелуй, такой же жгучий, как солнце Иудеи, скрепил клятвы влюблённой четы.
— Я готов служить твоему отцу, как Иаков служил Лавану, но разве это поможет?! — грустно произнёс Филипп, выпуская из объятий трепещущую девушку.
Мириам вопросительно взглянула на него.
— Ведь я беден и родом из Галилеи, — добавил он, потупив голову.
— А разве мой предок, Гиллель, был богаче тебя, когда пришёл из Вавилона в Иерусалим?
Филипп безнадёжно махнул рукой:
— За тобой ухаживает знатный священник, Элиазар Ганан.
— Не напоминай мне этого ненавистного человека! Пусть Ахав ищет себе развратную Иезавель. Что бы ни случилось, но я клянусь никому никогда не принадлежать, кроме того, кого люблю больше жизни.
Мириам стояла, залитая светом луны: её покрывало было откинуто, и она подняла кверху правую руку. В ту же минуту изо рва поднялась юркая фигурка остроносого человека и нахально заглянула любопытными, как у хорька, глазами в лицо девушки. Мириам испуганно отшатнулась назад, спеша закуталась покрывалом. Филипп несколько секунд всматривался в непрошеного свидетеля их излияний, припоминая что-то. Шпион ехидно улыбнулся, и по этой улыбке юноша тотчас узнал в нём зилота Ананию, который с таким злорадством собирался сжечь его живьём в доме Абнера. Недолго думая, он схватил неприятеля за шиворот и швырнул в ров. Тот покатился кубарем по мягкому дёрну откоса.
— Мерзавец, ты заплатишь мне за это! — послышался его визгливый крик из глубины рва.
XVII
Опомнившись от неприятной неожиданности, потерпевший поднялся на ноги и поплёлся, прихрамывая, к дому Каиафы. Здесь у калитки его поджидал слуга храмового военачальника.
— Однако, приятель, долго же ты заставил себя ждать, — промолвил он недовольным тоном, пропуская пришедшего и затворяя за ним калитку. — Иди же скорей к господину, да смотри тихонько: старик-то ещё не спит.
Зилот, крадучись, пошёл за слугой, который провёл его в комнату Элиазар бен-Ганана. Анания остановился у порога и подобострастно скрестил руки. Священник хмуро взглянул на него.
— Ну что же ты стоишь, точно истукан? — сердито произнёс он.
— Прости, господин, твоего раба, не по своей воле запоздал он с хорошими вестями, — с низким поклоном ответил Анания.
— Ты сказал, с хорошими вестями? — переспросил военачальник, смягчая суровый тон.
Его хмурое лицо прояснилось, и он приготовился выслушать донесение своего агента.
— Всё обстоит благополучно. Благодать Божия осеняет начинание великого дела, задуманного тобою. Господин Гориа бен-Никомед и господин Иуда бен-Иопафан шлют тебе привет, мой повелитель. Они сказали: ступай, Анания, к вождю, избранному Богом Авраама, Исаака и Иакова, и скажи ему, что его верные сподвижники не дремлют. Симон бен-Гиора собирает людей в Акробатене. Нигер в Перее. У него уже триста пращников, да таких, что стоят тысячи. Начальник иродовых стрелков, Сила Вавилонский, поклялся перейти на нашу сторону. Надёжные люди посланы в Финикию закупить оружие, другие разосланы по городам и сёлам возбуждать народ к восстанию. Иоанн ессеянин обещал посодействовать среди своих единоверцев, а из первосвященников Иисус бен-Сапфей вполне нам сочувствует, о зилотах я уже и не говорю. Они все взялись за оружие и с нетерпением ждут, когда ты назначишь час восстания.
— Надо готовиться. Разошли людей по всем дорогам. Пусть в каждом караван-сарае находится разведчик... Ну, больше ничего нет?
Анания принял таинственный вид.
— Если позволишь, господин, говорить твоему рабу...
Он замялся и потупил голову.
— Говори, я слушаю.
— Не гневайся же! Из преданности тебе я не могу не сказать истины. В городе есть люди, посягающие на твою честь. Я подвергся страшному истязанию за то, что видел, как младшая дочь нази обнималась и целовалась.
— Что?
Военачальник поднялся с места и, как громовая туча, надвинулся на Ананию.
— Это истина, господин. Он сбросил меня в ров. Вот смотри, как распухла у меня нога.
— Где... где ты их видел? — заскрипел зубами бен-Ганан.
— У городского рва, что у Вади-Кедрона.
Элиазар расхохотался.
— Дурак! Есть ли на свете животное глупее тебя? Ты принял какую-то блудницу за дочь нази! У городского рва, ночью! Ха-ха-ха! Эдакий дурак.
Анания выпучил глаза и побагровел от справедливого негодования.
— Клянусь Богом живым, что Филипп-галилеянин обнимал Мириам! Это была она, дочь нази. Я видел её в лицо и отлично узнал. Я слышал своими ушами, как она клялась бездельнику в любви, а тебя называла нечестивым Ахавом. Я видел своими глазами, как она обнимала и целовала этого поганца.
— Слушай, Анания, если ты в течение трёх дней не докажешь мне истину твоих слов, то закопаю тебя живым в землю. Пусть черви сожрут тебя вместе с твоей ложью.
— А если докажу?..
— Дам тебе золота по весу черепа её любовника.
— Приготовь золото, Элиазар бен-Ганан. Анания уверен в истине.
Тяжёлый светильник полетел в голову зилота, но он был уже за дверьми.
XVIII
Наступил день свадьбы Иммы.
Вечером в дом Гиллеля явился жених с музыкантами и дружками. В зале вокруг родителей невесты собрались родственники и домочадцы. Имма кланялась отцу и матери в пояс, прося у них прощения за причинённые ею огорчения, благодарила их за труды и заботы о её воспитании и просила благословить её. Родители возложили руки на голову дочери и произнесли благословение Иакова, желая ей, чтобы она была благочестива, как Сарра, и любима мужем и почитаема детьми, как Рахиль.
Получив родительское благословение, Имма простилась с родственниками, с подругами и домочадцами. После этих церемоний жених взял её за руку и вышел с нею из дому. На дворе выстроился свадебный кортеж. Жених и нарядная невеста в платье с длинным шлейфом, в высокой золотой короне, закутанная в пунцовое покрывало, поместились рядом под богатым балдахином, и шествие двинулось при свете факелов, с музыкой и пляской.
Богач Гиркан не пожалел ничего, чтобы отпраздновать свадьбу сына с подобающим блеском, и пригласил на пир всю иерусалимскую знать. В залах его дворца собрались первосвященники, родственники царей адиабенских, иродианские принцы, знатные саддукеи и учёные раввины.
Среди священнических шёлковых одежд, виссона и пурпура княжеских одеяний блистали роскошные уборы и наряды сионских красавиц, костюмы которых из тонких, прозрачных индийских, египетских и косских тканей, из финикийского пурпура и дорогих ассирийских золототканых материй отличались баснословной пышностью. Их нижние платья ярко-белого цвета, схваченные у талии широким металлическим поясом с прикреплённым к нему мешочком из тонкой кожи, вышитой золотом, мягко обрисовывали формы и распускались книзу массой складок, образовавших шлейф. Широкие рукава, собранные буфами, доходили до земли и были обшиты каймой из золотых арабесок, жемчуга и драгоценных камней. Такая же кайма украшала и ворот платья. Поверх этого нижнего платья было надето или накинуто другое, верхнее, распашное или безрукавное, вроде греческой мантии, ярко-пунцового, гиацинтового или пурпурного цвета. Головной убор с прозрачным покрывалом состоял из шапочек, унизанных жемчугом, драгоценными камнями или золотыми бляшками, из пурпурных с золотом повязок и золотых диадем. Волосы, переплетённые коралловыми и жемчужными нитями, были завиты в длинные локоны или заплетены в косы, которые у одних спускались вдоль спины, а у других были обвиты вокруг головы.
Князь Гиркан встретил свадебный кортеж во главе своих родственников и званых гостей. На жениха надели венок, а невесту внесли через порог в дом мужа. При громе музыки раздались шумные поздравления.
Домоправитель возвестил начало свадебного пиршества, и гости с новобрачными церемониальным шествием проследовали в столовую залу.
После церемониала омовения рук первосвященник Матфей бен-Феофил прочёл затрапезную молитву, и гости, строго соблюдая ранг и старшинство, заняли за триклиниями
[81] свои места.
Под наблюдением триклиниатора слуги усыпали пол цветами, и по знаку домоправителя у каждого стола разместились архитриклинии с их помощниками. Затем явился глашатай блюд и, торжественно подняв золотую булаву, возвестил первую перемену. Музыканты заиграли, а гости, весело подпевая под их музыку, принялись пировать.
В то время когда старики за почётными триклиниями, расположенными на особом возвышении, степенно беседовали между собою, разбирая то запутанные, казуистические вопросы талмуда, то затрагивая общественные и политические злобы дня, а их жёны, почтенные матроны, потихоньку сплетничали; за нижними триклиниями, в центре которых находился отдельный стол новобрачной пары, молодёжь предавалась веселью, смеялась и шутила, плела любовные интрижки и бросала цветы в виновников торжества.
За средним почётным триклинием сидел храмовый военачальник между Веньямином бен-Симоном и Гамалиилом, братом невесты. По правую сторону сидели Марк, Анания бен-Садук и офицер тетрарховых стрелков Сила из Вавилона Напротив них на левой стороне триклиния помещались: Мириам, Фамарь и сестра бен-Садука, Юдифь. Играли в загадки, и очередь была за Марком. Юноша обратился к Мириам и сказал, лукаво подмигивая возлюбленной своего друга:
— Скажи, что слаще мёду и горше желчи, пьянее вин и смертельнее укуса змеи, сильнее льва и немощнее младенца, смелее героя и боязливее лани, умнее мудреца и безрассуднее женщины, горделивей царя и смиреннее раба, выше райского блаженства и ужасней адских мучений?
Мириам сверкнула на юношу укоризненным взглядом и стыдливо зарделась. Храмовый военачальник нахмурился. Хотя зилот Анания не успел представить ему доказательств своего доноса и был пребольно высечен за наглую ложь, тем не менее Элиазар бен-Ганан не мог успокоиться и ревниво следил за каждым движением Мириам. Предложенная Марком загадка показалась ему подозрительной. Недаром Филипп из Румы, о котором говорил Анания, был другом этого выскочки, не оказывавшего храмовому начальнику достаточного уважения. Элиазар устремил на Мириам пристальный взгляд. Девушка смутилась и опустила веки. Бен-Ганан закипел злобой и презрительно сказал Марку:
— Любезный школяр, твоя загадка чересчур проста и наивна даже для такой неопытной в любовных делах девушки, как прелестная Мириам.
— Может быть! — добродушно отозвался тот. — Но я ослеплён видом трёх ангелов и потому не мог придумать ничего замысловатее, — прибавил дамаскинец, любезно поклонившись в сторону девушек.
— Ангел явился ослице валаамовой. Ты, должно быть, происходишь из её почтенного племени?
— Да, и с тех пор наше племя говорит по-человечески, а валаамов род мычит по-скотски!
Ссора была готова разразиться. Бен-Ганан позеленел от
злости, а бен-Даниил приготовился к смелому отпору.
— Довольно! — воскликнула встревоженная Мириам, прерывая ответ Элиазара. — Ваша ссора неуместна! Споем лучше песню в честь новобрачных. Или станцуем.
— Я не стану петь! Это дело мальчишек и девчонок! Для мужчин найдётся более достойная забава, — грубо заметил храмовый военачальник.
В эту минуту к столу подошёл новый гость в роскошной греческой одежде. Короткий меч в богатых ножнах висел на перевязи, украшенной жемчугом и драгоценными каменьями.
Мириам уже танцевала с храмовым военачальником. Пользуясь в качестве дружки жениха особым преимуществом перед другими гостями, он не выпускал из рук молодой девушки и носился с нею по зале.
— Кто этот знатный иродианин? — спросила Фамарь бен-Даниила, указывая на стоящего поодаль щёголя в греческой одежде.
— Я вижу его в первый раз, но слышал от Силы, что зовут его Филиппом бен-Иакимом. Он сын известного полководца Агриппы I, стратег и любимец тетрарха.
— Еврей или грек?
— Должно быть, грек по происхождению и еврей по вере, как все иродиане.
Фамарь пожала руку жениху и, сославшись на усталость, ушла в уборную комнату, где после танцев отдыхали и прихорашивались девушки. Марк вышел освежиться в сад.
У фонтана стоял Анания бен-Садук в кругу молодёжи.
— Говорю вам, не подобает иудеям далее терпеть насилие римлян! — ораторствовал молодой священник. — Не подобает народу, который чтит живого Бога, падать ниц перед идолопоклонниками. Говорят, они покорили мир. Может быть, это и правда, хотя я убеждён, что они его купили. Кто владел миром до римлян? Греки. А греки продажны, как блудницы. Нас ни греки, ни римляне никогда не покоряли. Первых мы били, как собак, вторые пришли к нам в качестве союзников изменника Ирода. Им было нетрудно при помощи храбрых иудейских войск одерживать бесчисленные победы над толпами плохо вооружённых крестьян. Но хотел бы я видеть, что станется с этими миропокорителями, когда на них ополчится весь Израиль. О, поверьте, услышав рыкание иудейского льва, италийские лисицы убегут с поджатыми хвостами в свои заморские норы!
— Твои уста точат сладчайший мёд, но не окажется ли он на деле горькой желчью, когда мы станем пить его? — возразил один из слушателей.
Бен-Садук гордо поднял голову и, смерив его глазами, презрительно ответил:
— Кто истинный иудей, тот не сомневается в своём преимуществе перед гером! По вою узнают шакала и по рыканью льва, — добавил он с обидной насмешкой. Марк хотел вмешаться в разговор. Высокомерие и заносчивость молодого священника покоробили юношу, однако он удержался, завидев издали Элиазара бен-Ганана, который приближался к ним, разговаривая с офицером стрелков Силой.
— Вот истинный Маккавей, которому недостаёт сподвижников! — воскликнул бен-Садук, указывая на храмового военачальника.
— Сподвижники у него явятся! — ответили присутствующие.
Они пошли ему навстречу и окружили его с шумными приветствиями.
Бен-Даниил вернулся в залу, где после перерыва снова возобновились танцы. Юноша искал Фамарь, однако её не было между танцующими. Он прошёл в другую и третью залу, но и тут среди групп пирующих и беседующих гостей он не нашёл своей невесты. Встревоженный Марк обратился с вопросом к одной из знакомых девушек. По словам той, Фамарь только что танцевала с иродианским царедворцем и, вероятно, отдыхает теперь в женской комнате. Жених успокоился и, попросив девушку передать невесте, что он будет ждать её в саду, вышел из душных комнат дворца на свежий воздух.
Пройдясь по уединённой аллее, он машинально остановился под сенью горделивого лавра и прислонился к его стволу. Как хорошо и тихо было здесь среди благоухания цветов, под звёздным небом!
Дамаскинец почувствовал прилив счастья, и сердце юноши забилось сладкой тревогой. Пройдёт ещё каких-нибудь месяца два, караван его отца прибудет из Дамаска, и он также весело и шумно отпразднует свою свадьбу с любимой девушкой, а потом поселится с нею в чудном иерихонском оазисе, где ему предлагают купить дачу по сходной цене и где он займётся прибыльной торговлей благовониями. Надо будет устроить и судьбу Филиппа. Он уговорит отца взять приятеля в компаньоны. Филипп малый расторопный. Две или три поездки с караваном в Африку за золотым песком и слоновой костью могут обогатить его и сделать счастливым обладателем прелестной Мириам.
Мечты юноши были прерваны лёгким шумом приближающихся шагов. В глубине кипарисовой аллеи белело женское покрывало и обрисовывалась тёмная фигура мужчины. Дамаскинец спрятался за дерево, чутко прислушиваясь. Мимо него прошёл бен-Иаким, ведя под руку женщину, лица которой нельзя было рассмотреть. Грек нашёптывал ей что-то на ухо, а она, кокетливо отклоняя головку, отстраняла его опахалом. Марк вздрогнул. По фигуре и костюму это была его невеста. Ревность закипела в сердце влюблённого, и он зорко следил за подозрительной парочкой. Иродианин довёл свою даму до площадки фонтана перед террасой дворца и на прощанье долго не выпускал её руки. Она, по-видимому, охотно слушала льстивые речи и только тогда вырвала у него свою руку и убежала, когда чересчур предприимчивый волокита хотел обнять её за талию. Марк незаметно прокрался за ним в тени кустарника и после бегства девушки бросился за ней по горячим следам в залу пира.
Фамарь с раскрасневшимся лицом сидела на табурете, обмахиваясь опахалом, и, чтоб скрыть своё волнение, делала вид, что следит за танцующими.
— Где ты была? — хриплым голосом спросил её Марк, весь бледный от гнева.
Девушка удивлённо вскинула на него глаза и ответила с досадой:
— Ты, кажется, выпил слишком много сладкого вина! Вместо того чтоб быть со мною, внимательный жених всё время просидел за чашей.
— Я сейчас видел тебя в саду...
Фамарь вспыхнула.
— Оставь меня, если не хочешь, чтоб я заплакала и пожаловалась брату на твою грубость! Боже, какой позор! Все видят, что ты затеваешь со мной ссору...
Она встала и в гневе удалилась прочь. Ошеломлённый бен-Даниил с недоумением смотрел ей вслед, не смея догнать невесту.
XIX
Вдоль берега Средиземного моря расстилаются две равнины Палестины, пересекаемые крупными отрогами гор Кармила. Параллельно с ними тянется длинный ряд холмов; на восток от них лежит низменность ЭльГор, а по ту сторону Иордана цепь Моавитских и Галаадских гор, так что страна делится на четыре параллельные полосы: приморскую береговую линию, горную страну, Иорданскую долину и Заиорданские земли.
Горная страна, занимающая пространство между приморской низменностью и Иорданской долиной, оканчивается двумя отрогами длинного ряда холмов, пересекающих долину Иездреель, или Эздрелон. Южная масса этих известковых холмов образует Иудею, а северная Галилею.
Когда Соломон, вознаграждая заслуги Хирама, отдал ему провинцию, состоящую из двадцати городов в округе Кедес Нафтали и носившую название Гелиль, то Хирам, взглянув на неё, сказал Соломону: «Что это за города, которые ты, брат мой, дал мне?» — и назвал их землю презренной — Кавул. С тех пор Галилея осталась у иудеев презренной страною, и это мнение ещё более укоренилось, когда её заселили финикияне, аравитяне и происшедшие от них и евреев смешанное потомство. К тому населению в царствование Ирода Великого присоединилось множество греков, внёсших в страну свою утончённую образованность и язык, сделавшийся общеупотребительным. Тогда Иудеи прозвали Галилею «языческой».
Но вопреки основанному на предрассудках презрительному мнению иудеев о Галилее, эта страна была цветущей и во всех отношениях стоила выше своей спесивой соседки. Жители её деревень и нагорных городков отличались образованностью и трудолюбием, жизнь их текла спокойно и мирно. Большею частью то были смешанные потомки переселившихся из Египта евреев; они утратили характерные черты еврейской расы и сохранили только простую веру своих отцов вместе с любовью к стране Израиля. Однако их сомнительное происхождение и скромность в глазах иудеев, преклоняющихся перед золотом и внешним блеском, были хуже всякого порока.
Страна была дорогой к морю, и в её долинах жили по соседству люди всех наций. Города со множеством селений лежали близко один от другого и были так густо населены, что в самом меньшем из них было до пятнадцати тысяч жителей. Народ в них был предприимчивый, старательно обрабатывавший каждый клочок земли. Но если нагорные городки Галилеи, скрывающиеся посреди ореховых и дубовых лесов, отличались благосостоянием и культурой, то её надольные города тем более блистали богатством и кипели жизнью. Весь западный берег Геннисаретского озера кипел бурной деятельностью. Он буквально был унизан городами, мызами и сёлами. По западному берегу этого озера, имеющего всего двадцать вёрст длины и девять ширины, теснились такие многолюдные города, как Капернаум. Хоразин, Вифсаида, Геннисарет, Магдала и Тивериада, так что весь берег казался сплошною набережной одного огромного города. Воды Геннисаретского озера рассекались четырьмя тысячами судов разного типа, начиная с больших военных гальон и кончая раззолоченными гондолами богачей и простыми лодками рыбаков. Прибрежные города служили центральным рынком караванного транзита между Египтом и Дамаском. Четыре дороги пролегали к Геннисарету. Первая из них тянулась от Капернаума по западному берегу мимо городов к низовьям Иордана, вторая пролегала по южной стороне озера и через мост у Тивериады шла через Перею к Иерихону. Третья вела через Семифорис, весёлую столицу нагорных городков, к знаменитому порту Акре на Средиземном море, а четвёртая пролегала через горы Завулоновы к Назарету, откуда спускалась в Эздрелонскую долину и шла в Самарию и Иудею.
По этим дорогам двигались беспрерывные караваны, и приезжие иностранцы толпами гостили в галилейских городах. Тивериада, новая, возведённая Иродом Антипою столица, была одинаково языческим, как и еврейским городом. Храмы, синагоги и школы, выстроенные в кудрявом стиле иродовой эпохи, были еврейские. Амфитеатр, бани и золотой дом Антипины, чисто античного стиля, украшенные живописью и статуями богов Эллады, были вполне языческими, отчего благочестивые иудеи никогда не входили в «нечистую» Тивериаду, где к тому же улицы, проведённые по разрытым кладбищам, вселяли им суеверный страх, и они только издали смотрели на стены и башни весёлого города и на дворец Антипы, отражающийся в зеркальных водах озера со своими мраморными львами и скульптурными архитравами.
Все нагарные городки Галилеи, центром и столицей которых служил живописный Семифорис, похожи друг на друга, как родные братья; все они, точно жемчужные гнезда, блещут на тёмно-зелёном фоне холмов, у всех одинаково простые домики из белого камня, обвитые плющом и виноградом, с плоскими крышами, где воркуют и греются на солнце голуби; у всех одинаково узенькие, идущие уступами и зигзагами улицы, и все они полны цветущих садов с тёмной зеленью фиг и олив, с пышным белым и алым цветом на померанцевых и гранатовых деревьях и с ярко зеленеющими на солнце финиковыми пальмами. Почва вокруг этих городков прекрасно обработана и орошена. Виноградники и оливковые рощи чередуются с засеянными хлебом полями, пастбищами и фруктовыми садами. Всюду весело порхают птицы, между которыми голубая сиворонка блещет, как живой сапфир на пёстрой мозаике полевых цветов. Толпы детей играют у прохладного источника, или со звонким смехом гоняются по полям за яркими бабочками, или же отважно карабкаются на вершины родимых гор, чтобы смотреть оттуда на орлов, повисших в безоблачной синеве неба, на вереницы пеликанов, с шумом перелетающих с Киссонского потока на Галилейское озеро, на белеющие вдали паруса кораблей из Хиттима, на пурпурную вершину Кармила, где среди лесов скрывался пророк Илия. Эти нагорные городки с населением из земледельцев, ремесленников и пастухов нисколько не отличаются от простых деревень и только потому называются городами, что обнесены стенами и укреплены башнями.
На севере Эздрелонской долины холмы, которые тянутся от востока до запада Иорданской долины к Средиземному морю, некогда принадлежали к завулонову колену и потому называются Завулоновыми горами. В центре этих гор известковое ущелье ведёт в небольшую долину, имеющую форму амфитеатра, в конце которой находится город Назарет, выстроенный на скате холма, возвышающегося на пятьсот футов над долиной. Через Назарет проходит караванная дорога из Семпориса в Акру, а также в Иудею и Самарию.
...Несколько дней спустя после свадьбы Иммы караван покинул Назарет и вступил в Эздрелонскую долину. По обеим сторонам дороги тянулись великолепные поляны и полосы засеянных хлебом полей, которые блистали под набежавшим дождевым облаком, подобно одежде первосвященника, оттенками голубых, пурпурных и ярко-красных цветов. Во главе каравана за отрядом лёгкой идумейской конницы шёл огромного роста эфиоп в красном тюроане и пёстрой тунике, ведя под уздцы великолепного верблюда золотисто-белой масти, богато убранного в пунцовый, расшитый золотом чапрак и в шёлковую и зелёную с золотыми кистями сбрую. На высоком седле сидела закутанная в облако кружева молодая женщина. За нею ехало на верблюдах несколько других женщин в нарядных греческих одеждах и в пышных восточных покрывалах. Их сопровождал всадник лет тридцати, с умным бесстрастным лицом. В хвосте каравана шли вьючные мулы и верблюды с многочисленной прислугой под прикрытием полуэскадрона оруженосцев на тяжёлых конях и в блестящих боевых доспехах.
Караван быстро подвигался по дороге к Иерусалиму, отстоящему оттуда на сто двадцать вёрст. Перейдя вброд поток Киссон, он миновал Сунешь и к вечеру остановился у царственного Эздре с чеканными саркофагами, свидетелями его минувшего блеска.
Здесь, на лужайке у источника, окружённого старыми ореховыми деревьями, слуги раскинули пурпурный шатёр. Эфиоп подвёл к нему верблюда и заставил животное стать на колени, а подоспевший всадник, почтительно сняв с седла молодую женщину, проводил её в ставку. Другие дамы, сойдя с верблюдов, отряхивали от пыли свои платья, и, пока прислуга суетилась, разбивая шатры, они весело болтали, любуясь живописной линией обнажённой Гелвуи, озарённой лучами заходящего солнца. У источника толпились, спеша напоить лошадей, солдаты конвоя. Погонщики развьючивали животных. Вскоре на зелёной лужайке раскинулся весёлый стан, запылали костры, у одного из которых собралось общество офицеров эскорта. Оруженосцы разносили приготовленную по-походному баранину с рисом и разливали по кубкам вино из кожаных бурдюков. К ужинающим гвардейцам присоединился командир их Лизандр и домоправитель Ирода Птоломей. Оба они возвратились с обхода лагеря и с удовольствием посматривали на дымящиеся блюда.
— Теперь и мы закусим! — сказал Лизандр, сбрасывая с плеч суконный плащ и снимая с головы тяжёлый шлем с панашем из красных перьев. — А что же я не вижу между вами Иосифа! Разве он ещё не возвратился от царицы? — добавил командир, обводя глазами общество офицеров.
— Должно быть, что так, — заметил Птоломей, плотный осанистый брюнет с сильной проседью.
Гвардейцы слегка улыбнулись. Лизандр многозначительно посмотрел на домоправителя и шепнул ему, беря от оруженосца поданный кубок:
— Хитрая иудейская лисица успела вкрасться в доверие.
— Если бы только в доверие! — шёпотом ответил домоправитель, искоса поглядывая на пурпурный шатёр, у которого недвижимо стоял германский латник, опираясь на длинное копьё.
Полы шатра распахнулись, и показался всадник, сопровождавший Беренику, ехавшую в Иерусалим на богомолье. Иосиф бен-Матфей, называвшийся впоследствии Флавием, медленно приблизился к костру гвардейцев. Его встретили любезными улыбками и вежливыми поклонами.
Мало-помалу лагерь затих, костры, догорая, потухали, и скоро в ночной тишине раздавались только оклики часовых да храп спящих людей. Не спал только Иосиф. Сидя у тлеющего огня, среди погруженных в сон офицеров, он глубоко задумался. Происходя из знатной священнической семьи и состоя в родстве с княжеским домом Асмопеев, он был принят при дворе Агриппы и его сестры Береники, которая после развода со своим мужем Палемоном, царём Киликийским, жила в Тивериаде, содержала блестящий двор и вмешивалась в политику. Иосиф с юности прилежно занимался науками, но вместе с пытливым любознательным умом ему было свойственно и спесивое высокомерие. Он долго колебался между диаметрально противоположными учениями саддукеев, фарисеев и даже ессеян, в таинства которых был посвящён, пока не решил окончательно присоединиться к влиятельной и самой популярной фарисейской секте. Однако сделавшись ревностным учеником закона, Иосиф в то же время изучал презираемый фарисеями греческий язык и старался усвоить греческую образованность, без которых не было доступа ко двору и в замкнутый высший круг. Теперь же, возвратясь из поездки в Рим, где он пробыл четыре года и где любимец Поппеи еврей-актёр Алифер доставил ему возможность быть при дворе Нерона, Иосиф снова изменил свои убеждения.
Ослеплённый блеском императорского двора, поражённый военным могуществом Рима и его грандиозной политической и государственной системой, он вообразил, что римляне избраны самим Провидением властвовать над миром. Превознося всё чужеземное, этот человек стал презрительно относиться не только к фарисеям, но и ко всему иудейству, что, однако, ничуть не препятствовало ему оставаться по-прежнему правоверным иудеем, чисто фарисейской закваски, — двойственность, результатом которой является отрицательный тип человека и которую мы встречаем во все века у всех азиатских наций и у современных полуварварских народов. Как любимцу Береники и приближённому ко двору Агриппы ему были известны тайные замыслы идумейского двора. Но Иосиф ясно сознавал, что все усилия правительства парализуются взаимным антагонизмом разноплеменных провинций, причём немалая опасность угрожала со стороны придворной военной партии и иерусалимских иудеев, из которых первые стремились ради чисто личных честолюбивых целей, а вторые ради отвлечённых религиозных доктрин и национальной нетерпимости во что бы то ни стало раздуть в пламя междоусобия тлеющий огонь взаимной вражды. И теперь, сидя перед потухающим костром среди спящего лагеря Береники, Иосиф по долгом размышлении решил, что благоразумному человеку пристойнее всего соблюдать свой личный интерес и добиваться возвышения, искусно лавируя между партиями и придерживаясь стороны сильного. Остановившись на этой мысли, Иосиф успокоился и безмятежно заснул.
Наутро караван Береники совершал свой урочный путь.
Во всё время пути Береника не только милостиво разговаривала с Иосифом, но с чисто женскою болтливостью посвящала его в свои политические замыслы, тайной пружиной которых было ничем не насытимте женское властолюбие. Подобострастно выслушивая речи прелестной царицы, Иосиф внутренно изумлялся её коварству и честолюбию, но ему нравилась хитросплетённая интрига. Оружием идумеянки были её красота и изощрённое кокетство, против которых никто не мог устоять, и она с хохотом говорила, как запутает в свои сети всех первосвященников в святом Иерусалиме.
Слушая царицу, Иосиф нисколько не смущался её цинической откровенности, ни того обстоятельства, что на его долю она предназначила скромную роль простого советника. Он вполне был убеждён, что затеянная Береникой интрига для возвращения власти, утерянной Архилаем, не обойдётся без перипетий, которыми он сумеет воспользоваться. Во всяком случае, если власть и попадёт ей в руки, то разве женщина удержит тяжёлый скипетр Ирода Великого? Таким образом, Береника, мечтающая захватить престол у родного брата, и её советник, замышляющий вырвать у неё захваченную корону, были довольны друг другом. Они вступили в Иерусалим с самыми радужными надеждами.
У ворот Везефы царица со своими дамами пересела в раззолоченные носилки и, окружённая гвардейцами, отправилась в Сион, во дворец Асмонеев. Её немало удивило то обстоятельство, что из присутствующих в столице придворных она была встречена одним только Баркаиосом, а вместо Филиппа бен-Иакима явился полковник гвардейцев, Валтасар Терон, которого она не любила за его преданность тетрарху и презрительное пренебрежение к женщинам. Немало также удивил Беренику и пустынный вид улиц нижнего города с запертыми наглухо домами. Озадаченная царица поминутно отдёргивала занавески носилок и с беспокойством выглядывала из них. Расспрашивать Баркаиоса она не решалась из боязни услышать что-нибудь неприятное лично для себя, а между тем мучилась любопытством и тревогой.
Прибыв во дворец, она не выдержала и осыпала Баркаиоса с Тероном вопросами, но те пожимали плечами. Им было известно только одно, что перед самым её прибытием в Иерусалиме народ заволновался и бросился в храм, а Филипп, поручив им встретить Беренику, сам отправился в преторию, откуда ещё не возвращался. Царице поневоле пришлось пока остаться в неведении. Послав Баркаиоса за Филиппом бен-Иакимом, она несколько минут смотрела в окно на пустынный город. Потом сердито топнула ножкой, позвала своих камеристок и занялась туалетом, предчувствуя, что ей не придётся сегодня отдыхать.
В то время когда караван Береники приближался к Иерусалиму, в городе происходило волнение. Улицы пустели, дома запирались, а народ стекался в храм, где среди волнующейся толпы раздавались яростные крики и угрозы прокуратору. Ранним утром по всему городу разнеслась крылатая весть о новом и на этот раз совершенно неожиданном насилии римского правителя. Народ, подстрекаемый зилотами, пришёл в ярость, и волнение охватило весь Иерусалим.
— Неслыханное чудовищное злодейство! — пискливо кричал храмовый служитель Анания, размахивая руками и изображая ужас на своём лице.
— Да в чём дело? Говори! — волновалась окружавшая его толпа.
— Я всё знаю, я был там, когда первосвященник получил от гонца ужасную весть. О, бедный страдалец первосвященник Израиля! Он разорвал на себе одежды и посыпал главу пеплом, — рыдал Анания, ломая руки и выворачивая белки глаз.
— Да говори же, что случилось?! — кричала толпа.
— Что случилось! Вы спрашиваете, что случилось? В Цезарее, как вам известно, евреи с греками издавна живут в дружбе, как кошки с собаками. Наши братья имеют в городе одну-единственную синагогу, выстроенную к тому же на участке, принадлежащем грекам. Разумеется, благочестивым евреям хотелось откупить эту землю, и они предлагали за неё не только двойную, но даже тройную цену. Но проклятые греки не соглашались и, чтобы ещё пуще досадить нашим единоверцам, застроили проход к синагоге лавками и мастерскими, так что нашей братии пришлось с трудом пробираться закоулками в дом молитвы.
— Подлецы!
— Сирийские собаки!
— Но такого ехидства евреи не захотели терпеть и порешили прогнать рабочих, а уже выстроенные бараки снести. Тут Гессий Флор, вступился за греков и не допустил поступить с ними, как они того заслуживали. Однако наша братия, зная взяточничество Флора, отправила к нему сборщика податей Иоанна и предложила прокуратору в подарок восемь талантов серебра. Тот милостиво положил деньги в карман, дал слово освободить проход к синагоге и воспретить дальнейшие постройки, но, вместо того чтоб сдержать своё обещание, преспокойно уехал из Цезареи.
— Как? Взять деньги и ничего не сделать?! Мерзавец! Вор!
Толпа пришла в величайшее негодование.
— О, постойте, это цветочки, а ягодки впереди! — воскликнул другой храмовый служитель. — Слушайте, слушайте!
— На следующий день, — продолжал Анания, — как раз в субботу, благочестивые евреи собрались в синагогу, и в то время когда там молились Господу, один из греков поставил в дверях горшок вверх дном и принёс в жертву маленьких птичек.
Взрыв страшного негодования последовал за этими словами зилота. Такую жертву приносили одни только прокажённые. По мнению же греков, евреи происходили от прокажённых, выброшенных из Египта.
— Эта неслыханная, наглая дерзость переполнила чашу терпения наших земляков, — снова начал зилот. — Они вооружились и бросились на язычников, которых страшно бы избили, не подоспей им на помощь Юкунд с конницей прокуратора. Тогда наши принуждены были отступить и, наскоро захватив из синагоги священные книги, удалились в Норбату, иудейское местечко в шестидесяти стадиях от Цезареи. Откупщик податей Иоанн и двенадцать именитых евреев отправились в Себасту к прокуратору. Они извинились перед ним за происшедшие беспорядки и, прося его содействия, слегка намекнули на восемь талантов. Но Гессий Флор обвинил посланных еврейской общины в краже священных книг из Цезареи и посадил их в темницу.
Слушая такие вести, присутствующие не успели прийти в себя от изумления, как во двор язычников, где ораторствовал Анания, нахлынула толпа бежавших с верхних дворов, во главе её какой-то фарисей в разорванной одежде вопил, что прокуратор хочет ограбить корван, требуя из него семнадцать талантов в уплату податей, которые уже давным-давно уплачены.
— Ни одной драхмы не дадим ему! Долой прокуратора! Смерть римским псам! — заревела толпа, бросаясь обратно в храм и требуя выхода первосвященника и старейшин. Напрасно более умеренные граждане пытались угомонить разыгравшуюся бурю. Зилоты и присоединившиеся к ним фарисеи подстрекали к бунту. На ступенях восточных ворот появился Анания с корзинкой в руках.
— Граждане! — кричал он. — Давайте соберём лепту для нищего Флора и заткнём ему глотку, чтобы он подавился!
Предложение зилота понравилось толпе, и в его корзинку посыпались медяки, камушки и всякая дрянь, попавшаяся под руку. Потом Анания торжественно двинулся во главе народа в город и обошёл все кварталы Иерусалима, причём сопровождавшие его распевали хором: «Подайте милостыню нищему Флору! Он умирает с голоду».
XX
Вечером Фамарь сидела одна в зале своего дома, подпирая руками голову. Сегодня она напрасно поджидала Филиппа бен-Иакима у гробницы царя Давида, куда он должен был явиться к ней на свиданье.
В роковой для неё день свадьбы Иммы она увлеклась царедворцем, сумевшим вскружить ей голову тонкой лестью. Её тщеславию польстило ухаживанье избалованного женщинами вельможи, который находит её, скромную иудейскую девушку, настолько привлекательной, что забывает при ней красавиц пышного царского двора и разодетых в косские ткани и кружева прелестниц Тивериады. Молва об этих продажных красавицах вместе с произведениями греческой беллетристики тайно проникала и в девические горенки дочерей благочестивого Сиона. И вот из легкомысленного кокетства Фамарь уступила просьбам своего тайного обожателя: она пришла к нему на свиданье, но — увы! — вернулась домой страстно влюблённой, и ей пришлось дорого заплатить за тщеславное удовольствие видеть у своих ног знатного военачальника. Несколько дней пролетели для Фамари в чаду любовных восторгов, тайных свиданий и несбыточных грёз. Зато сегодня, прождав напрасно любовника, она пришла домой, полная тревоги, и перед ней вдруг раскрылась целая бездна, которой девушка до сих пор не замечала и о которой не думала. Что будет с нею, если Филипп бен-Иаким не исполнит данных клятв и бросит её? Что она скажет тогда брату, как объяснится с женихом, которого обманула прежде, чем стала его женой? Положим, она его не любила и шла за него только по расчёту, чтобы избегнуть унизительного звания старой девы. Ведь тогда все женщины смотрели бы на неё презрительно и относились к ней с обидным пренебрежением. Чем виновата она, что полюбила человека, явившегося так поздно и предательски покинувшего её? Но разве люди войдут в её положение, разве отнесутся к ней сочувственно? Нет, милосердие им чуждо, и они приравняют её к тем презренным женщинам, которые останавливают на улицах прохожих. Слёзы катились из глаз Фамари, и она с болью в сердце вспоминала то пламенные ласки, зажигающие кровь, то разлетающиеся прахом мечты о богатстве и знатности.
Солнце скрылось за горизонтом, и вечерний сумрак сгустился в зале. Вошла рабыня со светильником, чтобы зажечь лампу, висящую над столом. Фамарь посмотрела на неё удивлённым взглядом и машинально вышла вон. На дворе теплилась звёздная ночь, прохладный ночной ветерок освежил пылающий лоб Фамари. Несколько успокоенная, она поднялась на галерею ограды дома и опустилась на скамью. Издали до её слуха доносился городской шум. На противоположной стороне пустынной площади верхнего рынка стояли сонные дворцы, и над тёмной массой их зубчатых стен фантастически высились лёгкие портики, стройные башни и сверкали золотые крыши в серебристом свете луны. Внизу под сводами ворот Претории красноватый отблеск одинокого факела отражался на доспехах римского часового. Смотря на величественное здание иродова дворца, Фамарь вспомнила, как ещё накануне она гуляла по её залам, опираясь на руку Филиппа бен-Иакима, как она восторгалась никогда не виданной роскошью этих царских чертогов, каким прекрасным казался ей разодетый в виссон и пурпур царедворец и каким мизерным смотрелся в этой обстановке её жених в длиннополом талифе, робко следовавший за ними! Нет, ни за что на свете не согласится она выйти за сына торгаша, ни за что не уступит другой женщине, хотя бы самой царице, своего Филиппа! Она заставит его «ввести себя в эти чертоги своей законной женой и будет блистать в них красотой и богатством. Её кичливые подруги будут раболепно расступаться перед супругой могущественного вождя царских полковников. И Фамарь, озарённая надеждой, спутницей любви, гордо подняла голову.
Вдруг под сводами ворот претории замелькали факелы, засверкали шлемы и копья латников, за ними показались носилки на плечах четырёх дюжих эфиопов. Сбоку носилок у отдернутой занавески шли Филипп бен-Иаким и Лахмус Энра, разговаривая с женщиной в сверкающей диадеме, покоившейся на пурпурных подушках. Фамарь с любопытством вытянула шею и, перегнувшись за край стены, напряжённо следила глазами за вышедшим из претории кортежем. Носилки на минуту остановились. Женщина в диадеме протянула на прощанье секретарю прокуратора руку, которую тот подобострастно поцеловал. Носилки снова тронулись и скрылись из вида, завернув за угол. Филипп бен-Иаким последовал за ними. Фамарь окликнула ночного стража, зевавшего на пышное шествие.
Сняв с руки запястье, девушка бросила его сторожу.
— Пойди узнай, куда отправились эти носилки и как зовут сидящую в них женщину! — сказала она.
Сторож поднял браслет и спрятал его за пазуху.
— Госпожа! — ответил он, глупо улыбаясь. — Это царица Береника. Сегодня утром она прибыла в Иерусалим на богомолье.
Фамарь бессильно опустилась на скамейку. «Береника!.. Так вот почему Филипп не пришёл сегодня на свиданье! Значит, недаром называют его любовником развратной идумеянки».
XXI
Между тем в то время, когда в Себасту примчался во всю конскую мочь гонец, высланный тайно Филиппом бен-Иакимом и Лахмусом Энрой с известием прокуратору о происшедших в Иерусалиме беспорядках, Береника пригласила во дворец Агриппы первосвященников и главнейших старейшин на совещание.
Она приняла их во дворе, вымощенном мрамором, под сенью портика.
На этот раз Береника, против своего обыкновения, выступила безо всякой пышности и явилась в простой одежде без диадемы и пурпура перед собранием, придав ему таким образом частный характер. Она Произнесла речь, в которой, с одной стороны, старалась опровергнуть несправедливые обвинения, возводимые на царствующую династию врагами мира и порядка, а с другой — доказать настоятельную потребность воспользоваться происшедшим волнением как предлогом достичь давно намеченную цель — восстановление монархии Ирода Великого.
— Я уполномочена принять от города посольство, — говорила царица, предъявляя собранию подлинную доверенность Агриппы. — Обратитесь ко мне, и я немедленно дам приказ архистратегу Дараиосу занять город войсками, чтобы водворить порядок и защитить граждан от буйства черни. Другое посольство вы отправите к прокуратору с извинением за причинённое в его лице оскорбление властительному Риму, причём требуемые прокуратурой семнадцать талантов серебра уплатит из нашей царской казны домоправитель Птоломей. Я и мой царственный брат готовы на всевозможные жертвы, лишь бы только избавить Израиль от гнёта чужеземных притеснителей и от посягательств внутренних врагов. Говорю вам: пора утвердить в стране правительственную власть и обеспечить народу блага мира.
Первосвященник Матфей бен-Феофил тепло поблагодарил Беренику за её любовь и преданность земле и вере Израиля, но просил отложить решение столь важного вопроса ещё на несколько дней, чтобы дать время синедриону окончательно обсудить его со всех сторон. Напрасно Иосиф и Баркаиос убеждали старейшин не откладывать дела, которое вполне очевидно и не требует разъяснений.
— Совершенно достаточно и вполне законно, — говорил Иосиф, — если ввиду крайних обстоятельств первосвященник с нази синедриона и при участии представителей двух главных сект организуют временное управление и обратятся за содействием к царю как к установленному императором посреднику. Не упускайте же дела из ваших рук и поспешите воспользоваться обстоятельствами, ниспосланными самим Богом, чтобы возвратить государю власть, а аристократии её прежнее значение. Иначе все усиливающиеся зилоты и их гнусные сподвижники — сикариане окончательно вырвут из ваших рук кормило. Тогда ладья Израиля неминуемо разобьётся о предательские скалы языческой вражды и погибнет в бурных волнах народного восстания против всемогущего Рима. Вы, люди, наделённые мудростью, поставленные на страже закона и святых отечественных преданий, внемлите голосу провидения, которое говорит вам царственными устами дщери Асмонеев.
Старейшины стояли с потупленными глазами, за исключением первосвященника и старика Иоанна. Более всего они опасались тирании иродиан. Симон бен-Гамалиил и Иоанн Закхей хотя и в гибких, цветистых выражениях, но тем не менее решительно потребовали формального обязательства Агриппы, что он немедленно удалит войска из Иерусалима, коль скоро этого потребует синедрион.
— Ваше требование несвоевременно! — воскликнула Береника, теряя терпение. — Мой брат теперь в Александрии. Пройдут целые месяцы, пока уладится эта пустая формальность.
— Без которой, однако, мы не решимся принять на себя ответственности перед народом! — возразил нази синедриона.
Береника с досадой топнула ногой, но, овладев собою, приняла грустный вид и сказала, обращаясь к первосвященнику:
— Сердце моё преисполнено печали и скорби. Я вижу, что здесь сомневаются в чистоте наших побуждений. Больно это сердцу, столь беспредельно любящему Израиль! Ты, который свят перед Иеговой, услышь мою клятву: клянусь Богом живым, клянусь за себя и моего царственного брата, что войска будут отозваны из города, коль скоро минует в них надобность.
— Аминь! — торжественно произнёс первосвященник, благословляя Беренику. — Вы слышали? — обратился он к безмолвно стоящим иерархам.
— Что же вы молчите? — воскликнул нетерпеливый Баркаиос.
— Мы слышали голос, который звучал слаще струн арфы Давида! — ответил Симон бен-Гамалиил, почтительно склоняясь перед гордо выпрямившейся Береникой. — Позволь же нам идти и возвестить слова твои народу.
Царица смутилась. Краснея от закипевшего гнева и нервно кусая нижнюю губу, она обвела нерешительным взглядом собрание и своих единомышленников.
Иосиф сосредоточенно смотрел на статную фигуру нази синедриона, он как будто хотел проникнуть взглядом в тайные помыслы Симона бен-Гамалиила, так энергично сопротивляющегося планам идумейского двора. Первосвященник стоял, грустно поникнув головой. Старик Ганан, покашливая, ехидно улыбался и злорадно посматривал на старейшин умеренной партии. Один лишь Филипп бен-Иаким, стоя поодаль у колонны, смотрел на присутствующих с холодной уверенностью. Береника обратилась к нему, стараясь найти исход из опасного и неловкого положения.
— Стратег Филипп, — начала она дрожащим от сдержанного волнения голосом, — до сих пор ты один не высказал своего мнения. Мы слушаем тебя.
— Царица, — ответил Филипп бен-Иаким с низким поклоном, делая несколько шагов к Беренике, — по мудрому твоему велению, многое было уже предложено на обсуждение первосвященников и старейшин. Им известно всё то, что они удостоились слышать ныне из твоих царственных уст. Но тогда, как и теперь, они не захотели блага, отвергли предлагаемую им помощь нашего государя и накликали на себя невзгоду, которая не замедлит разразиться над их головами. Знай, что никакие более меры не смогут отвратить грядущих событий. Прокуратор уже извещён о бунте и о нанесённом ему тяжком оскорблении и, вероятно, теперь уже выступил из своего лагеря под Себастой, чтоб наказать мятежный Иерусалим.
Спокойная речь стратега раздалась подобно громовому раскату среди всего собрания. Береника широко раскрыла глаза и устремила на царедворца вопросительный, недоумевающий взгляд?
— Как! Когда же и кто так скоро мог его известить?— воскликнула царица, овладев наконец собою.
— Со дня волнения в городе солнце уже трижды совершило свой путь от востока к западу, — отвечал стратег, — совершенно достаточно времени для того, чтобы высланный гонец поскакал до Себасты и там протрубили поход.
— Не может быть! Он лжёт! Это ловушка! Иродиане хотят запугать нас! — перешёптывались между собой старейшины.
Один только первосвященник не усомнился в словах Филиппа бен-Иакима и понял, что придворная военная партия перехитрила друзей мира и согласия. Матфей бен-Феофил с тревогой в сердце простёр к Беренике руки, умоляя её не покидать город в минуту опасности и не лишать граждан покровительства. Обратясь затем к старейшинам, он умолял их сплотиться вокруг трона и пригласил следовать за ним в храм, чтобы, подкрепив себя молитвой к Богу, решить, какие меры следует принять ввиду угрожающего вступления римских войск в Иерусалим.
Береника в тревоге и волнении вернулась во дворец и прошла к себе во внутренние покои.
В тот же вечер синедрион собрался в полном своём составе.
Синедрион, уже давным-давно превратившийся в уродливое подражание верховной власти, которую он себе присвоил со времени изгнания Антиппы, был менее всего способен к инициативе в минуту политических осложнений. Главными деятелями в нём были священники и старейшины при ничтожном участии народных представителей. Теперь поставленные в необходимость открыто держать сторону народа или династии, члены синедриона окончательно растерялись и после горячих прений разошлись, ничего не решив. Старик Ганаи думал только о сохранении привилегий за своим семейством и об уничтожении своих личных врагов. Прислушиваясь к иродианам и римлянам, он в то же время каждую минуту был готов перейти к народной партии, если б это оказалось выгодным. Один только первосвященник Матфей бен-Феофил был искренно предан дому Ирода из убеждения, что династия спасёт государство от гибели. Его друг Симон бен-Гамалиил и Иоанн Закхей стояли за первосвященство, отрицали светскую власть как верховную и стремились к постепенному примирению враждующих сект.
Эти трое достойных мужей возвратились домой в грустном настроении. Они чувствовали, что на их долю выпало непосильное бремя общественных дел, грозящих полным хаосом.
— Лучше будет, если мы совсем устранимся от дел, — сказал Иоанн Закхей, прощаясь с нази синедриона. — Обстоятельства сильнее нас.
— Пока я не вижу ничего опасного. Бурю, которую хотят насильно на нас навлечь, я надеюсь укротить, — отвечал тот. — Народ послушен своим раввинам.
— Из которых половина зилоты, — улыбнулся учёный старец.
— Как знать! Пожалуй, зилоты правы и лучше нас с тобой чуют силу народа.
— Которого меньше, чем у Рима солдат.
XXII
В гостинице Абнера собрался кружок молодёжи. За кубками вина сидели: силач Элиезер, братья из Румы и жених Фамари, снова начавший посещать приятельские пирушки в «Колодце Иакова». Абнер, только что вернувшийся из храма, где опять происходило народное сходбище, был вне себя от негодования и преисполнен духа строптивости.
Сегодня распространилась в Иерусалиме весть, что прокуратор, вместо того чтобы умиротворить волнение в Цезарее, выступил из Себасты с войском в Иерусалим. Красный от негодования и выпитого вина, Абнер стучал кулаком по столу, доказывая своим гостям, что мерзкий Гессий Флор намерен ограбить корван, а потому следует запереть перед ним крепко-накрепко городские ворота, а на стенах поставить камнеметательные машины и механические самострелы, чтоб дать хорошую острастку римским псам.
— Что же решил народ? — спросил Элиезер, положив локти на стол и флегматично пережёвывая кусок говядины.
— К чему же путному придут эти ам-га-арецы? — рассердился толстяк хозяин. — Вот сидят же сложа руки такие скоты и преспокойно жрут себе за обе щеки, вместо того чтобы быть на страже святыни Израиля!
— Да ведь ей никто не угрожает! — рассмеялись молодые люди.
— Как никто не угрожает? А прокуратор, а римское войско?.. Эти нечестивые геры поставят идолов в храме, принудят нас есть свинину и будут в целом городе даром пить вино!
— Ты всё-таки не сообщил нам, почтенный архитриклиний, чем вы решили дело на сходке в храме, — заметил Филипп.
— Выбрали Иоанна Закхея и Симона бен-Гамалиила в главные начальники города.
— Значит, у нас водворятся мир и спокойствие! — сказал Марк. — Партия умеренных восторжествовала, чему следует только радоваться.
— Так радуйся, пока не лопнешь от своей радости! Радовалась и курица, увидев лисицу в курятнике. Впрочем, не стоит с вами и толковать! Все вы припали к возлюбленным, как ослы к репейнику!
Трактирщик презрительно плюнул и ушёл, хлопнув дверью. Молодые люди, проводив его шутками, допили вино и собрались уходить.
Элиезер и брат Филиппа, Натира, намеревались отправиться в Акру, где теперь на рынке у дворца Елены,
наверное, много народу и всяких новостей, а Филипп с Марком хотели провести вечер у Веньямина бен-Симона; туда же, по уговору, должна была зайти и Мириам, с которой Филипп не виделся уже несколько дней. В последний раз девушка тайком пришла к нему на свиданье на площадь Ксистос, и они ранним утром прохаживались с полчаса в тени аркад, в сотый раз повторяя друг другу взаимные клятвы и уверения в любви.
— Отчего ты в последнее время стал молчалив и грустен? — спросил Филипп своего друга по дороге к жилищу Веньямина.
— Я и сам не знаю, — отвечал Марк. — Отец прислал мне с прибывшим из Дамаска знакомым купцом денег на свадьбу и подарки. Я сильно занят и озабочен покупкой дома и обзаведением, так что, собственно, мне недосуг грустить.
— Что же, рада Фамарь, что скоро войдёт в твой дом?
— Она, как и все девушки перед свадьбой, избегает меня... Таков уж здесь у них обычай, как сказала мне Имма.
Юноши вышли на площадь верхнего рынка. Возле дворца Соломона им повстречались две женщины в тёмной одежде рабынь, закутанные в густые покрывала. Они очень спешили и, завидев идущих к ним навстречу мужчин, пугливо перебежали на другую сторону, где и скрылись в тени портиков Ксистоса. Филипп с Марком равнодушно посмотрели вслед беглянкам и направились через площадь к дому Гиркана.
Войдя в освещённую залу в жилище Веньямина, они застали самого хозяина, его мать и хорошенькую Мириам сидящими за столом. Женщины занимались шитьём, а Веньямин читал им вслух поучительные главы из Торы. Отсутствовала одна Фамарь. На вопрос бен-Даниила, где его невеста, матрона Руфь отвечала, что её дочь, захватив с собой провизии, пошла навестить на платяном рынке бедную вдову.
Настал час вечерней трапезы. Подождав Фамарь, отужинали без неё. Потом Филипп проводил Мириам до калитки сада Гиллеля и после долгого прощанья успел вернуться назад, а Фамарь всё ещё не возвращалась. Наконец уже поздней ночью, когда все разошлись по своим углам, стукнула калитка, и на дворе послышалась лёгкая поступь. Бен-Даниил поспешно спустился из своего павильона и встретил молодую девушку в сенях. Она была бледна и встревожена, а поверх её белой туники была накинута тёмная епанча рабыни.
— Где ты была, радость моих очей? Я так беспокоился о тебе! — сказал Марк, протягивая невесте руку.
— Ходила навестить вдовицу с сиротами: у неё больной ребёнок, — ответила Фамарь и прошла мимо не замечая протянутой руки жениха. Марк с недоумением посмотрел ей вслед.
В роскошной опочивальне Асмонейского дворца, украшенной греческими фресками на мраморных стенах, с раскинутыми тигровыми и леопардовыми шкурами перед резными кушетками и креслами, покрытыми пурпуром, сидела у столика с туалетными принадлежностями прекрасная Береника. У подножия великолепного ложа из слоновой кости и чёрного дерева дымилась благовонием курильница в виде золотого гранатового яблока, поддерживаемого серебряным крылатым грифом с птичьим клювом и львиными лапами. По другую сторону ложа стоял мраморный амур, — произведение резца Агора Крита—ученика Фидия — с завязанными глазами, с положенной на лук стрелою. Статуя была так искусно раскрашена, что производила впечатление живого мальчика.
Царица задумалась, опустив голову на руки. По временам она поднимала голову, прислушиваясь и откидывая кудри с лица, горевшего румянцем возбуждения.
Вдруг за дверьми послышались шаги. Молчаливая рабыня распахнула раззолоченные створы, откинула шёлковую вавилонскую занавесь и, пропустив Филиппа бен-Иакима, тихо скрылась, подобно тени. Стратег остановился в нескольких шагах перед креслом Береники и почтительно наклонил голову, ожидая, что она ему скажет.
— А, наконец-то ты явился, презренный, вероломный раб!
Царица вскочила с места и гневно выпрямилась.
— Чем навлёк я гнев той, чьей красоте завидует пенорождённая Афродита, перед кем бледнеют грация и кто наравне с олимпийской богиней распоряжается любовью и сердцами смертных и богов.
— Замолчи, дерзкий! Твоя лесть неуместна и не приведёт ни к чему. Не хочу я и слышать твоих речей, проникнутых коварством и предательством. Отвечай: кто уведомил прокуратора? Чья подлая рука расстроила мои планы?
— Царица, ты, подобно сфинксу, задаёшь вопросы, на которые я не могу ответить!
— Не притворяйся! Твои сообщники выдали тебя. — Береника сверкнула на Филиппа бен-Иакима уничтожающим взглядом и, взяв со столика рукопись, бросила ему в лицо: — Кто писал это, кто дал совет Гессию Флору отвергнуть мои предложения, возбудить к восстанию народ путём неслыханных притеснений? Кто наконец составил этот план войны, в которой лавры должны быть разделены между тобою и прокуратором?!
Филипп бен-Иаким поднял рукопись, упавшую на пол, и, убедившись, что то была копия его письма Гессию Флору, спокойно положил её обратно на стол.
— Тебе угодно оскорблять верного и преданного слугу! Эта рукопись подложная, она писана бездельником, моим и твоим врагом.
Береника устремила на царедворца пристальный взгляд. Её глаза приняли от злости зеленоватый оттенок, вокруг расширенного зрачка мелькали, как у разъярённой львицы, золотистые искорки.
— Ты отрекаешься? — прошипела она едва переводя дыхание.
Филипп бен-Иаким молча склонил голову.
— И от этого также отрекаешься?! — произнесла царица с возраставшим бешенством.
Она протянула руку, держа двумя пальцами золотое кольцо-змею с сапфировыми глазами и с жемчужиной в раскрытой пасти.
Это кольцо было подарок Береники Филиппу. В минуту увлечения он отдал её Фамари. При виде такой улики стратег на минуту смутился, но, быстро овладев собою, смело взглянул в глаза разгневанной Береники и вкрадчиво отвечал:
— Никогда не отрекусь от своего единственного счастья!
— A-а! Ты, конечно, скажешь, что моё кольцо было у тебя похищено, подлый лжец?!
— Вовсе нет! Я его отдал одной девушке.
— О!..
Береника опустила руку с кольцом и застыла от удивления.
— Да, я его отдал девушке, отдал, потому что оно напоминало мне женское вероломство и моё чисто юношеское увлечение, с которым я поверил сладкоречивой, бессердечной цирцее, чтобы сделаться жертвой мимолётной вспышки её чувственности.
— И залог прежней любви ты отдал в залог новой? — язвительно расхохоталась Береника.
Подступив к Филиппу, она звонко ударила его по щеке.
— За что ты бьёшь меня? — холодно сказал тот, отстраняясь от неё.
— Разве я не вольна бить подлого раба?
— Да, это правда! Я был и есть твой раб, издыхающий у твоих божественных ног.
Филипп упал к ногам царицы и обнял её колени.
— Прочь, или я крикну гвардейцев, и ты будешь позорно казнён.
— Что мне жизнь, если солнце твоей любви не согревает крови в моих жилах?
— Разве мало тебя согрела твоя наложница-иудейка, которой ты отдал моё кольцо?.. О, ты изменил и предал меня дважды.
— Нет! Выслушай меня, не осуждай опрометчиво невиновного.
— Говори! Но помни: если ты не оправдаешься, я распну тебя, как преступного раба!
Береника села в кресло у столика и скрестила на груди руки.
— Позорное распятие ждёт виновного, какая же награда предстоит правому? — спросил стратег с прежней вкрадчивостью.
— Оправдай себя, и ты увидишь.
— Значит, ты даруешь мне жизнь... Обещай же вместе с нею неизменную любовь, без которой для меня нет жизни.
— Обещаю! Мало того: обещаю, если ты не достигнешь трона, сложить с себя царский венец и порфиру, чтобы ты владел мною нераздельно!.. Но ты не оправдаешь себя, это невозможно!
— Как знать! Слушай. Это я писал письмо, копия с которого лежит на столе. Я советовал Гессию Флору... Одним словом, я тот самый злодей, который испортил планы твоих советников. Но это сделано мною, потому что я считаю войну самым лучшим средством для достижения намеченной тобою цели. Очистить от врагов Иерусалим можно только огнём и мечом. Это моё убеждение, и ты должна с ним согласиться. Гессий Флор дал мне ручательство, что, получив при моём содействии сокровища храма, он предоставит свои войска в моё распоряжение. Усмирение бунта будет всецело заслугой Агриппы, за что римский сенат не замедлит вознаградить его царским титулом.
— Недурно придумано, если только ты не лжёшь.
— Я говорю правду.
— Положим так, но если ты изменил мне, как женщине, разве ты мог оставаться мне верным, как царице?
— Я оставался тебе верен во всех отношениях!
— Сегодня вечером явилась во дворец девушка
с просьбой допустить её ко мне, — перебила его Береника. — Войдя в эту комнату, она упала к моим ногам и среди рыданий созналась в любви к тебе, рассказала, как ты увлёк её, соблазнил, а потом бросил. В подтверждение своих слов она показала мне твоё кольцо, конечно, не зная, какой страшной уликой послужит оно против тебя. Я обещала исполнить её просьбу и заставить тебя на ней жениться. Завтра утром она придёт сюда, и я вызову тебя.
— Эта девушка не придёт. Она обманщица, подосланная моими врагами. Действительно я дал ей это кольцо, но не как залог любви, а как простой подарок. Узнав, что в моё отсутствие ты приблизила к себе другого, я хотел бросить кольцо на уличную мостовую, чтобы его растоптали прохожие. Вот увидишь: завтра эта негодная тварь и не подумает явиться.
— А пока до завтра ты пленник в моём дворце.
За дверьми опочивальни стратега встретил начальник телохранителей Береники, Лизандр с офицерами.
— До завтра, любезный Филипп бен-Иаким, ты мой гость, — с улыбкой сказал ему начальник гвардейцев.
Они пошли в помещение дворцовой гвардии.
— Надеюсь, Лизандр, ты не откажешь мне в некотором снисхождении. Я желаю иметь при себе своего оруженосца Антониадоса, потому что привык к его услугам.
— Считай себя моим гостем, — отвечал Лизандр. — Ты не должен только отлучаться отсюда до тех пор, пока не дозволит царица, а всё прочее тебе разрешается.
Ранним утром Фамарь в сопровождении своей верной Изет украдкой вышла из дому и спешила в Акру, в башню Мариамны, куда ей приказала явиться Береника. Сердце девушки тревожно билось. Через час, много два она встретится с любимым человеком перед царицей и её участь будет решена. Ведь он не посмеет ослушаться повеления Береники, волей-неволей женится на ней, Фамари, а тогда она уж сумеет вернуть его любовь. Разве Филипп может гневаться на неё за то, что она, страдая столько дней в безызвестности, не видя возлюбленного, которому отдала всё, для которого совершила вероломство, решилась наконец поступить так, как ей подсказывало сердце? Разве она не вправе бороться за любовь, не вправе преследовать изменника? Погруженная в такие думы, девушка быстро шла по улицам квартала Сыроваров. Из калиток низеньких одноэтажных домов выходили люди, спеша по своим делам; женщины с корзинами на головах шли на рынки за провизией или с высокими кувшинами на плече за водой к бассейнам на площадях, куда стекала дождевая вода и куда водопады добавляли её каждую ночь из водоёмов. Мастеровые, ремесленники, купцы открывали свои мастерские, лавки, лари. Избегая встречных и с целью сократить дорогу, Фамарь свернула в переулок и пошла по его грязной мостовой.
— Госпожа, — шепнула ей Изет, робко оглядываясь назад, — от самого дома за нами следят какие-то люди. Вот теперь они повернули в переулок по нашим следам.
Фамарь оглянулась. Трое мужчин, закутанных в синие суконные плащи, какие обыкновенно носили военные, ускоряя шаги, догоняли женщин. Девушка, схватив Изет за руку, пустилась почти бегом по извилистому переулку.
За ней бросился вдогонку Антониадос с двумя сопровождавшими его солдатами. Настигнув беглянок, они сзади накинули на них плащи и быстро спеленали ремнями.
— Чего вы тут безобразничаете, бездельники? — крикнул на них прохожий мастеровой и наклонился, чтобы поднять увесистый камень.
— Проваливай своей дорогой, осел! Разве не видишь, что мы изловили беглых рабынь? — ответил ему оруженосец Филиппа бен-Иакима.
Воины подхватили связанных женщин, и Антониадос скрылся с ними в закоулках квартала с ветхими домами бедняков.
Это происходило четырнадцатого мая. Вечером того же дня заходящее солнце ярко светило с безоблачного неба над Иерусалимом. Толпы народа под предводительством старейшин двигались к воротам Везефы и выстраивались по краям дороги, по которой взвивались облака пыли, и гремели звуки труб, и сверкали на солнце шлемы и копья приближающегося войска.
Народ, вышедший навстречу прокуратору, приготовился принять его с подобающими почестями и дружески приветствовал солдат цезаря. Но трубы смолкли, войско остановилось, а к ожидающему народу вместо римского правителя подъехал командир 1-й центурии италийской когорты Капитон.
— По домам, бунтовщики! — крикнул он, наезжая храпящей лошадью на старейшин и именитых граждан, выстроившихся в первых рядах разодетой по-праздничному толпы.
— Мы пришли, чтобы изъявить прокуратору нашу покорность и радостно приветствовать вас, непобедимых воинов великого Рима, — отвечали старейшины, робко пятясь перед конём центуриона.
— Поздно притворяться! — с презрительной иронией возразил тот. — Вчера вы лаяли, как злобные псы, а сегодня прикидываетесь смиренными овечками. Если вы истинные мужи, то повторите нам в лицо ваши ругательства и глумления и докажите с оружием в руках свою любовь к свободе.
Центурион повернул коня и отъехал к своим неподвижно стоящим всадникам.
Старейшины были ошеломлены неожиданной грубостью римлянина. Народ волновался. Кто-то крикнул из толпы ругательство. В ту же минуту раздалась короткая команда Капитона. Резко загремела труба, и всадники с места в карьер ринулись в атаку на беззащитных евреев, которые, объятые паникой, обратились в беспорядочное бегство.
Гессий Флор вступил в город среди всеобщего смятения. По пустынным улицам с наглухо запертыми домами мрачно раздавался мерный шаг пехоты, топот конницы и бряцанье оружия. Войска проходили в Сион. Прокуратор остановился в претории, расположив бивуаком солдат на верхнем рынке.
XXIII
Жители Иерусалима провели ночь в унынии и тревоге. В семействе Веньямина все были, кроме того, поражены загадочным исчезновением Фамари, и матрона Руфь всю ночь не смыкала глаз, сидя с Марком на веранде дома. Они видели, как на площади верхнего рынка горели костры, освещая багровым пламенем шумный бивуак римских солдат.
Поутру Гессий Флор велел поставить судейское кресло в открытом портале претории на блестящем мозаичном полу под золочёными сводами, с резьбою из кедра, расписанного пурпуром, вверху великолепной лестницы со ступенями из агата и ляпис-лазури. Первосвященник, великий нази синедриона и знатнейшие иерархи, сопровождаемые гражданами Сиона, собрались тут же, на площади толпился народ.
Прокуратор вышел к ним в белой тоге, обшитой пурпуром. Украшенный знаками своего сана, он горделиво воссел на золотой судейский трон. На продолговатом черепе Гессия Флора красовался дубовый венок, который он постоянно носил, скрывая плешь, подобно Августу. Его сухощавое, гладко выбритое лицо с орлиным носом и проницательными карими глазами ехидно улыбалось. С выражением презрения смотрел римский правитель на пышное собрание знатного духовенства.
Из-за шеренг центурии, выстроенной перед дворцом, издали смотрел на эту сцену убелённый сединами старец, опираясь одной рукой на клюку, а другой — на плечо девушки.
Гессий Флор прежде всего надменно потребовал выдачи своих оскорбителей.
Первосвященник ответил речью, в которой, указав на миролюбие и преданность императору населения города, просил великодушно простить ничтожную горсть опрометчивых и невоздержанных на язык людей, которых к тому же никто не знает и никто теперь не выдаёт из боязни суда. Но это возражение первосвященника разгневало Гессия Флора, он грозно поднялся с кресла и повелительно загремел:
— Вы нарочно скрываете преступников. Хорошо же! Я сам схвачу и накажу виновных!
Он махнул рукой, и стоявшие наготове воины бросились на столпившийся перед Преторией народ. Усеяв площадь трупами, они кинулись грабить дома граждан. Сион огласился стонами убиваемых, криками женщин и плачем детей. Все дома противников иродианской партии были разграблены дотла и многие разрушены до основания. Во дворец князя Гиркана вторглись остервенелые солдаты, разграбляя имущество и нещадно убивая слуг. Перепуганная Имма с мужем едва спаслись бегством. Гамалиит и Элиезер, спрятав женщин в жилище Веньямина, наскоро вооружили слуг, а также немногочисленных учеников Симона бен-Гамалиила и приготовились к отчаянной обороне. Но солдаты, занятые грабежом богатых домов знати, не обратили внимания на скромный дом нази.
С ужасом смотрели иерархи на грабёж и кровопролитие со ступеней великолепной лестницы дворца знаменитого иудейского царя. Сотни именитых граждан со связанными руками были приведены солдатами к прокуратору. Он приказал ликторам нещадно бить их палками, а сам в то же время преспокойно обедал, говоря что визг иудейских собак придаёт ему аппетит. Напрасно первосвященник падал ниц перед жестоким Флором и, умоляя о пощаде, лобызал край его сенаторской тоги, напрасно являлись к нему поминутно офицеры Береники с увещеваниями сжалиться над несчастными гражданами. Гессий Флор отвечал на мольбы и просьбы насмешками и новыми издевательствами. Наконец в преторию явилась лично сама царица. Прокуратор лицемерно встретил её с подобающими почестями.
— Я знаю, — ехидно сказал он, подводя Беренику к окну, — что ты любишь сильные ощущения, и приготовил для тебя достойное зрелище.
По его знаку на глазах возмущённой царицы на площади воздвигли кресты и пригвоздили к ним полтораста именитых граждан. Береника в ужасе бежала из претории. На улице её носилки были опрокинуты пьяными солдатами, рабы убиты и сама царица едва спаслась, благодаря мужеству Лизандра и Валтасару Терону, подоспевшему ей на выручку со своими гвардейцами. В ту же ночь перепуганная Береника переселилась в крепкую башню Мариамны, под защиту своей гвардии, над которой принял начальство Филипп бен-Иаким.
На следующий день народ собрался на верхнем рынке, представлявшем безотрадную картину разрушения. Более трёх тысяч граждан было убито солдатами и казнено ликторами. Народ оплакивал их, и среди воплей отчаяния раздавались проклятия против римлян и прокуратора. Перепуганные старейшины разорвали на себе одежды и на коленях умоляли народ не раздражать римского правителя, готового повторить вчерашние ужасы. Сам Матфей бен-Феофил кланялся в ноги шумевшим зилотам и со слезами на глазах уговаривал толпу разойтись по домам. Народ успокоился и разошёлся из почтения к ходатаям и в надежде, что Гессий Флор не осмелится совершить новое злодейство. Однако прекращение беспорядков не входило в расчёты Гессия Флора и его сообщников. Призвав первосвященника, он объявил, что если иудеи хотят ему высказать свою покорность и миролюбие, то пусть выйдут навстречу двум когортам, идущим из Цезареи.
Первосвященник, обрадованный миролюбивым настроением прокуратора, поспешил собрать народ в храм.
Между тем Марк с Веньямином, оставив женщин под охраной Гамалиила и Элиезера Гиркана, пошли в город разыскивать Фамарь и повидаться с друзьями. По пути они зашли к Абнеру, в надежде застать у него Филиппа или кого-нибудь из его товарищей. Хозяин «Колодца Иакова», наглухо затворив ворота, попрятал всё своё имущество в погреба, которые замуровал и завалил мусором. На вопрос: не видал ли он кого из друзей Абнер пришёл в негодование:
— Не называй моими друзьями негодных юношей. Я прогоню их палкой, если только они покажут сюда нос.
— За что, почтенный хозяин, ты осерчал на них? — полюбопытствовал Веньямин.
— Дорогой и уважаемый господин бен-Симон, эти люди поступили со мною хуже всяких филистимлян. Назвав себя моими друзьями, они денно и нощно пили моё лучшее вино, и я не брал с них ни одного лишнего динария! Могу по совести сказать, что торговал себе в убыток. И что же? Когда случилось нашествие врагов, эти коварные, лицемерные друзья бежали, покинув меня на произвол судьбы. Вы вспомните, как я, не щадя ни имущества, ни жизни, спас этих негодяев от смерти. При воспоминании о перенесённых мною ужасах холодный пот выступает на моём челе! Что мог я сделать, одинокий, покинутый друзьями человек, против прокуратора и его легионов!
— Абнер, ты не имеешь права порицать наших друзей! — вступился Марк недовольным тоном. — Дом твой цел, а имущество в сохранности. У нас же в Сионе всё разорено и нет семьи, которую не постигло бы несчастье. Вот Веньямин лишился сестры, а я любимой невесты. Третьего дня поутру Фамарь вышла из дому с рабыней Изет и с тех пор не возвращалась.
Трактирщик всплеснул руками и покачал головой.
— Постой! — спохватился он. — Ты говоришь, третьего дня поутру? В тот день моя жена ходила в квартал чистильщиков шерстяных тканей и там слышала в мастерской Мордоха рассказ работника, видевшего, как трое людей схватили на улице двух каких-то женщин. Работник хотел за них заступиться, но люди сказали ему, что это беглые рабыни, чему он и поверил, так как женщины были в тёмных покрывалах, а их преследователи походили на военных.
Веньямин в раздумье покачал головою.
— Знаешь что? — обратился он к Марку. — Пойдём к этому Мордоху и расспросим хорошенько рабочего. Мне сдаётся, что то была моя сестра с Изет.
— Если ты намерен идти к Мордоху, то я пойду с тобою и укажу тебе дорогу, — предложил Абнер, которому хотелось побывать в городе и узнать новости, но он боялся выйти из дому один.
Приняв его предложение, Веньямин с Марком отправились на нижний рынок. В это время народ спешил в храм на зов первосвященника.
Робкий Веньямин остановился, и Марк, несмотря на своё нетерпение поскорее отыскать пропавшую девушку, был вынужден согласиться с мнением её брата, решившего отложить поиски до более удобного времени. Действительно, в общей суматохе они не могли ничего ни разузнать, ни сделать. Простясь с бен-Симоном, который предпочёл вернуться домой, молодой дамаскинец с Абнером отправились в храм, где первосвященник с Симоном бен-Гамалиилом и Иоанном Закхеем уговаривали народ идти навстречу приближающимся к Иерусалиму когортам. Однако голоса сторонников мира были заглушены яростными криками зилотов, и народ заволновался, проклиная римлян. Тогда выступили вперёд все иерархи и священники в богослужебных ризах, со священными сосудами, при звуке арф и кимвалов. Торжественно, при пении левитами божественного гимна, сонм духовенства прошёл сквозь расступившуюся толпу и окружил первосвященника. Матфей бен-Феофил преклонил колени со всеми священниками и левитами и умолял народ не раздражать римлян, не давать им повода к грабежу и убийству.
— Город во власти прокуратора, — говорил он, простирая руки, — и если вы, безумные, нс хотите щадить ни ваших жён, ни ваших детей, ни имущества, то пощадите хотя эти священные сосуды, достояние Господа, драгоценность всего Израиля, вверенные отцами вашей охране. Сжальтесь над этим храмом, воздвигнутым из пепла разорения во славу единого Бога многолетними трудами детей Аарова и всего народа. Пощадите его благолепие и сокровища, накопленные веками! Неужели ваши сердца окаменели и вы не способны укротить своей ярости ради любви к Господу, ради блага ваших ближних?
И Матфей бен-Феофил разорвал на себе одежду и посыпал главу пеплом в знак величайшей скорби. Народ был тронут и обещал своему первосвященнику исполнить его просьбу — примириться с римлянами. Дикие завывания зилотов умолкли, и каждый поспешил к себе домой, чтобы, приодевшись, идти навстречу римскому войску.
Марк возвратился с Абнером из храма в гостиницу, где к величайшей радости застал друзей. Филипп побывал уже в доме Веньямина и знал всё случившееся в семействе. Вчера ему с товарищами не удалось пробраться в Сион, ворота которого крепко охраняла римская стража, и юноши провели ночь в тревоге об участи дорогих им людей. Абнер, порядком выбранив галилеян, примирился с ними и яри их помощи достал из погреба запрятанные запасы. Утоляя голод, молодые люди смотрели из окон гостиницы на идущий мимо народ в праздничных одеждах, с пальмовыми и оливковыми ветвями в руках.
Общее весёлое настроение оживило также и опечаленного Марка. Скорбь по невесте стала менее резко щемить ему сердце, и он, до сих пор безучастный к общественному долу, встрепенулся и сам предложил товарищам пойти вместе к воротам Везефы.
Юноши, разговаривая между собою и слегка подтрунивая над Абнером, увязавшимся за ними, дошли до северных ворот нижнего города. Вдруг навстречу им показались люди, с криком бегущие назад. Вслед за ними повалила толпа из ворот нового города и в величайшем смятении рассыпалась по улицам. С башен замка Антония трубили тревогу, на которую из Сиона отвечали фанфары труб. «Что, что случилось?» — спрашивала молодёжь у бегущих мимо людей, но те только отмахивались, спеша дальше. Между тем прибывали всё новые толпы, которым навстречу бежал теперь рабочий люд, населявший кварталы ремесленников и сыроваров. С возгласами ненависти и озлобления занимали они дома, унизывали крыши и собирались на площадях, зилоты раздавали им оружие. За воротами Акры в нижнем городе происходила страшная свалка, из-за стен доносились крики и звон оружия сражающихся.
Две когорты, навстречу которым вышла часть населения Иерусалима, не ответили на приветствие граждан. Трибуны, по приказу прокуратора, продолжали свой марш, не обращая внимания на овации. Раздражённые презрительным молчанием римских солдат иудеи не вытерпели и разразились бранью. Тогда командующий когортами префект конницы Эмилий Юкунд отдал приказ, и воины, взяв копья на руку, ударили по безоружному народу, который обратился в бегство. Гоня перед собою иерусалимлян, римляне ворвались в нижний город. В то же время по данному сигналу с башен замка Антония Гессий Флор выступил из Сиона с италийской когортой на соединение с прибывшими войсками. Его план состоял в том, чтоб, изгнав весь народ в Везефу, отрезать его от храма. Но прежде чем прокуратор успел пройти квартал Сыроваров, а его трибуны пробиться к воротам Акры, нахлынувший отовсюду народ соединился с бегущими толпами из Везефы, запрудил все улицы, унизал крыши и встретил римлян градом камней. Тут не замедлили появиться и вожди восстания, до сих пор скрывавшиеся в неизвестности. Элиазар Ганан, собрав храмовую стражу и вооружив левитов, укрепился в храме, а его сообщники Анания бен-Садук, Иуда бен-Ионафан и перешедший на их сторону офицер тетрарховых стрелков Сила Вавилонский захватили из храмового арсенала запас оружия, бросились с зилотами в город и, вооружая народ, призывали его к восстанию.
Напрасно Гессий Флор несколько раз кряду водил своих солдат в атаку. На улицах стояла перед ним сплошная стена иудеев, а с крыш домов сыпался на него град камней и летела туча стрел. Напрасно также трибуны прибывших из Цезареи когорт старались оттеснить народ от нижнего города. Уличный бой нередко клонился на сторону восставших граждан.
Префект Юкунд, под которым убили лошадь, пеший вёл августову когорту. Над щетиной копий триариев горделиво возносился золотой орёл и как будто удивлённо смотрел с красного древка на презренных иудеев, не отступавших перед его победоносным полётом.
— Да здравствует Рим! Да здравствует император! — загремел боевой крик поседевших в бою ветеранов, и золотой орёл, реявший над их копьями, врезался в дрогнувшие ряды сподвижников бен-Садука.
Оттеснив иудеев в боковые улицы к замку Антония, Юкунд выслал против них легковооружённых левитов, а главные свои силы повернул к Сиону. Обрадованный успехом, римский военачальник вздохнул свободно. Он сел на поданную лошадь и, послав ординарца к трибуну Метилию с приглашением следовать за собою, смотрел на движущиеся ряды центурий, не обращая никакого внимания на площадь башни Мариамны, находящуюся у него на правом фланге. Там стояли войска Береники. В ярких лучах солнца сверкали золочёные латы и шлемы гвардейцев на рослых конях серой масти.
В эту минуту Сила Вавилонский вывел своих людей на площадь, как раз во фланг спокойно дефилирующих римлян. Иудеи единодушно бросились на них с поднятыми мечами. Впереди всех, опережая своего храброго начальника, нёсся Элиезер. За ним в первом ряду, стиснутый между могучих плеч братьев из Румы, пыхтел толстый Абнер, полуживой от жары и страха.
— Да здравствует Береника! Слава её воинам! — кричали иудеи, проходя мимо блестящей гвардии, Филипп бен-Иаким, сдерживая рьяного коня, смотрел на них сквозь забрало золотого шлема взглядом ястреба, готового броситься на добычу. И в самую критическую для Юкунда минуту, когда он растерялся, ошеломлённый неожиданным появлением врага, раздалась команда, сверкнули выхваченные из ножен мечи, и гвардия ринулась на иудеев.
Завязалась короткая, но кровопролитная схватка. Отряд Силы был раздавлен обрушившейся на него железной стеной всадников, изрублен мечами, растоптан конскими копытами.
Нещадно рубя направо и налево, Филипп бен-Иаким пробился к своему бывшему офицеру и страшным ударом меча разрубил пополам шлем на его голове. Храброму Силе настал бы конец, если бы Абнер, обезумевший от страха, не повис на узде коня стратега.
Предательская атака иродова военачальника спасла Юкунда от позорного поражения и нанесла сильный урон иудеям. Римляне беспрепятственно двинулись дальше и соединились с прокуратором.
Вожди восстания, опасаясь, чтобы Гессий Флор, возобновив нападение на город, не завладел храмом из замка Антония, разрушили галерею, соединявшую твердыню римлян со святыней Израиля.
Эта мера охладила пыл прокуратора. К тому же положение Филиппа бен-Иакима, окружённого со всех сторон мятежниками, было крайне рискованно, а Гессий Флор был обязан выручить своего тайного сообщника. Поэтому он выслал герольда к первосвященнику, всё время молившемуся в храме, и объявил, что намерен уйти из города, оставив в нём гарнизон для безопасности граждан. Обрадованный бен-Феофил поручился бы за спокойствие, если в распоряжение синедриона будет предоставлена одна когорта, только не из тех, которые сегодня сражались.
Гессий Флор дал им другую, под командой Метилия, и ночью отступил с остальным войском в Цезарею.
XIV
По уходе прокуратора иудеи торжествовали.
Всю ночь по улицам и площадям Иерусалима двигались при свете факелов несметные толпы, распевая победные песни.
Громкими криками одобрения и сочувствия отвечал народ на воззвание вождей и радостно вторил фанатическому крику обезумевших от восторга зилотов.
Уже поздней ночью возвращался домой Марк бен-Даниил в обществе провожавших его друзей и новых товарищей по оружию, сражавшихся вместе с ним сегодня в рядах храброго Силы. Они шли по узким улицам весёлой гурьбой. Широкоплечий книжник, у которого вместо чернильницы, знака его звания, болтался у пояса огромный нож, освещал путь факелом. За ним шествовал Абнер под руку с зилотом, волоча по земле длинный кавалерийский меч. Далее следовал Марк с галилеянами и несколькими гражданами, жителями Сиона.
— Да, небесной молнией ударили мы на них! Будут нас помнить язычники! — хвастал книжник, размахивая в азарте факелом.
— Ревнители народного блага спасли святой город от гибели и доставили Израилю торжество над римлянами, — возразил ему смуглый зилот с острым носом, загнутым наподобие клюва хищной птицы.
Вдруг на перекрёстке двух улиц показалась тощая фигура человека, одетого в рубище. Под шапкой всклокоченных волос сверкали воспалённые глаза. Он вытянул руки навстречу проходившим и крикнул:
— Голос с востока, голос с запада, голос со всех четырёх ветров! Горе Иерусалиму и храму! Горе женихам и невестам. Горе грядущим, горе всему народу. Все побледнели и невольно остановились.
Но странный человек исчез подобно тени.
XXV
На следующий день Береника переехала из башни Мариамны в Асмонейский дворец.
Народ встречал по дороге кортеж царицы радостными криками, зато её гвардия была предметом общей ненависти, и Филипп бен-Иаким сумрачно ехал во главе своих солдат, слушая угрозы и ругательства толпящегося по улицам народа.
Береника была потрясена кровавыми событиями и, чувствуя своё бессилие перед грозой, разразившейся так неожиданно, негодовала на её виновников: Гессия Флора и Филиппа бен-Иакима. Своё дурное расположение духа царица вымещала на прислужницах, одевавших её к парадному выходу. На дворцовом дворе многочисленные представители знати и духовенства, в том числе и сам первосвященник, ожидали появления сестры Агриппы.
А в это время прислужницы прикрепляли к диадеме царицы вуаль из тончайшей косской кисеи и накидывали на её плечи в виде мантии поверх иудейской туники из ослепительно белой шёлковой материи, расшитой жемчугом, греческий диплоидиом из яркого пурпура, затканного золотыми пальмовыми венками. Выйдя из уборной, Береника направилась в сопровождении своих женщин в малую приёмную, где её ожидали приближённые царедворцы: домоправитель Птоломей, Баркаиос, Иосиф бен-Матфей, Лизандр с дворцовой стражей. Тут же находился и Лахмус Энра, раздушенный и напомаженный, в короткой мантии из фиолетового пурпура, согласно последней римской моде. Увидев секретаря, царица остановилась и, презрительно смерив глазами согнувшегося в три погибели египтянина, спросила Птоломея, с какой стати клиент Гессия Флора находится в её дворце.
— Он прислан от прокуратора, чтоб испросить у тебя прощения, лучезарная звезда Востока! — с низким поклоном ответил домоправитель.
— Вот как! — воскликнула Береника, с негодованием оборачиваясь к Лахмусу Энре, который, преклонив перед ней колени, смиренно скрестил на груди руки.
— После стольких поруганий твой патрон ещё вздумал насмехаться надо мной?!
— Богоподобная! Гессий Флор в отчаянии, что обстоятельства помешали ему лично облобызать край твоей одежды. Он поручил мне коснуться недостойными устами ремня твоих сандалий. Соблаговоли принять искреннее уверение Гессия в его любви и дружбе.
— Скажи прокуратору, что я содрогаюсь от омерзения и ужаса при одной мысли о нём.
Царица круто повернулась и вышла из приёмной в сопровождении своей свиты. Лахмус Энра поднялся с колен и, чмокнув губами, преспокойно уселся на диван, покрытый золототканым дамасским ковром.
Пока Береника восседала на золотом кресле под портиком двора в тени пурпурных занавесей и совещалась с духовенством и членами синедриона о мерах для умиротворения народа, Лахмус Энра тихо беседовал с Филиппом бен-Иакимом, явившимся в комнату по уходе царицы:
— К ней нет приступа, она зла, как тигрица, у которой похитили тигрёнка, — говорил вполголоса стратег.
— Ещё бы! Несчастная женщина! На неё разом обрушилось столько бед: и народный бунт, и измена любовника! — усмехнулся секретарь. — Однако, — добавил он на ухо своему собеседнику, — ведь ты находишься под дамокловым мечом. Очевидно, ты забыл мудрое предостережение Катона, — остерегаться трёх величайших несчастий: измены отечеству, гнева богов и любви женщины.
— О, нет! Я спокоен: Антониадос вернулся.
— Значит, вещественное доказательство убрано? — полюбопытствовал египтянин.
— Разумеется! И как раз кстати: в тот же день начались беспорядки.
— Понимаю: вы отправили её на лоно Авраама? Это самое надёжное средство заставить молчать навеки. — Лахмус Энра одобрительно кивнул головой. — Однако, любезный Филипп, как же мы теперь устроим дело? Ведь партия мира, очевидно, восторжествует. Прокуратор будет спокойно сидеть в Цезарее, после того как обжёг себе лапу в Иерусалиме. Да кто мог думать, что отборные войска потерпят поражение от этой сволочи?
— Не говори. План был хорошо обдуман. Но дело не потеряно. Напротив, оно разыгрывается теперь в настоящую войну.
— Ты полагаешь?
— Конечно! Иудеи подняли носы. Вот увидишь: теперь самые робкие из них начнут говорить свысока. Стоит только их поддразнить, и они станут бесноваться. Нет, дорогой Лахмус Энра, я уверен, что они ещё раз попадутся нам в когти, а тогда уж мы не выпустим их больше!
Тут в комнату вошёл Птоломей. Оба собеседника обратились к нему с расспросами о том, что происходит на совещании.
— Иудеи просят царицу заступиться за них перед наместником Сирии и обжаловать действия Гессия Флора, просят Агриппу прибыть в Иерусалим и требуют, чтобы царь содействовал удалению прокуратора. Народ же обступил дворец и ждёт решения, — сообщил домоправитель.
— И что же думает сделать Береника? — спросил стратег.
Птоломей пожал плечами.
— Иосиф советует царице принять предложения синедриона и войти в сделку с непокорными вождями мятежников, которые благодаря вчерашнему успеху приобрели громадный вес в глазах народа. Элиазар Ганан открыто выступил в роли главы движения. Он собрал вокруг себя всех иудеев и заставил их принести ему клятву верности. На его сторону перешло множество фарисеев, и ученики школы Шамая вместе с зилотами укрепились в храме.
— И этот Иосиф советует Беренике войти в переговоры с явными бунтовщиками! — воскликнул Филипп бен-Иаким, вскакивая с дивана. — Да разве он не знает, куда приведёт подобный шаг?
— Это равносильно оскорблению её величества, — сухо заметил Лахмус Энра.
— Между нами будь сказано, бен-Матфей весьма подозрительный человек, — заговорил Птоломей, понизив голос. — Он честолюбив, хитёр и к тому же фарисей. Я посоветовал бы тебе, любезный Филипп, быть настороже, тем более что даже первосвященник требует твоего удаления из Иерусалима, а Иосиф и тут советует царице уступить им.
В это время в комнату вошёл Баркаиос. Он был взволнован, и его полное лицо приняло багровый оттенок.
— Птоломей, я тебя ищу! Иди же поскорее к царице. Тебе сейчас будут вручены письма к царю и проконсулу Сирии.
Тяжело переводя дух, Баркаиос грузно опустился на диван, на котором только что сидел стратег, и прибавил:
— А ты, Филипп, потрудись сдать Лизандру начальство, а сам бери посох и вместе с Тероном отправляйся отсюда вон.
— Тогда и мне здесь нечего делать? — ехидно улыбнулся Лахмус Энра.
— Я тоже так думаю, — кивнул головою Баркаиос. — Птоломея отсылают в Сирию и Египет с письмами, Филиппа — в лагерь заниматься обучением солдат, меня, вероятно, к сатане под левый рог, остаётся один Иосиф.
— Так как мы все одинаково попали в опалу, то предлагаю с горя распить у меня по чаше мамертанского, — произнёс египтянин, драпируясь в фиолетовый плащ.
— Ступайте! Я скоро присоединюсь к вам, — сказал Баркаиос, направляясь к выходу.
— Не забудь привести с собой Птоломея, — крикнул ему вслед секретарь и, взяв Филиппа под руку, вышел из дворца.
Спускаясь со ступеней портала, они увидели на балконе Беренику, окружённую духовенством. Народ ликовал, приветствуя царицу. Она раскланивалась с сияющим лицом, сверкая диадемой.
— Величественна и прекрасна, как Юнона, но легкомысленна и ветрена, как Пандора! — заметил Лахмус Энра. — Право, Филипп, не стоило ради неё убивать той бедной девушки!
Стратег слегка побледнел, и его рука, на которую опирался секретарь, нервно вздрогнула.
XXVI
Уступая необходимости, Филипп бен-Иаким уехал из Иерусалима в лагерь войск архистратега Дараиоса, расположенных у Бефорона, в восьмидесяти вёрстах от иудейской столицы. Одновременно с тем Береника отправила Птоломея в Антиохию, к наместнику Сирии, Цестию Галлу, с собственноручным письмом и с жалобой синедриона на бесчинства и беззакония прокуратора, а Баркаиоса послала гонцом в Александрию, к своему брату, Ироду Агриппе II.
Уехал также и Лахмус Энра. Погостив несколько дней в лагере у предприимчивого начальника штаба, престарелого и хворого главнокомандующего тетрарховых войск, юркий египтянин направил свои стопы в Цезарею и вместе с наперсником Гессия Флора, центурионом Цеппием, очутился во дворце сирийского проконсула ранее, чем Птоломей успел доехать до Антиохии.
Не дремали также и иудеи. Пользуясь успешным сопротивлением римскому войску, они разослали по всей стране агентов — проповедовать близкое пришествие Мессии и призывать народ к восстанию против язычников. И в то время, когда их враги Филипп бен-Иаким с Гессием Флором стягивали войска в лагери, бефоронский и себастский, интригуя в Антиохии и, в свою очередь, подстрекая сирогреков, иудеи хотя тайно, но деятельно закупали военные припасы, изготовляли оружие и старались организовать кадры ополчения.
Между тем Береника, удалив стратега и выслав уполномоченных, успокоилась. Польщённая в своём самолюбии популярностью у народа и низкопоклонством духовенства, которое старалось всячески ей льстить, видя в царице надёжную опору при дворе Нерона, сестра Агриппы II предалась честолюбивым мечтам и убаюкивала себя несбыточными надеждами завладеть иудейским троном. Теперь её главным советником был Иосиф бен-Матфей. Этот хитрый дипломат сумел воспользоваться благоприятными обстоятельствами и не только приобрёл исключительное влияние на Беренику, сделался дорогим гостем в палатах первосвященника и в доме Гиллеля, но стал нужным человеком и для друзей Элиазара Гайана. По-видимому, в Иерусалиме торжествовала партия умеренных. Многочисленные граждане, устрашённые кровавыми событиями майских дней и грозным призраком войны, сгруппировались вокруг Симона бен-Гамалиила, подавили рвение иудеев и заглушили вспыхнувший пламенем фанатизм зилотов. Казалось, мир восторжествовал, и его сторонники, довольные положением дел, надеялись устроить всё к лучшему при содействии Иосифа и Береники. Успокоенный Сион веселился. В палатах первосвященника происходили совещания, а в Асмонейском дворце давались празднества и роскошные пиры. Здесь сторонники мира сходились с главарями зилотов. Береника, играя роль примирительного божества, блистала красотой, нарядами и воображала, что Иерусалим покорно лежит у её ног, воспетых галантными поэтами Эллады. Но в то время когда на вершине Сиона блистал
огнями золотой чертог, где раздавалась весёлая музыка и смех пирующих, каждый город с его многолюдными предместьями клокотал, подобно вулкану, готовому извергнуть из недр своих огненную лаву.
Цестий Галл, прочтя полученные из Иерусалима и Цезареи донесения и выслушав присланных гонцов, собрал совет. Военачальники, настроенные Цеппием и Лахмусом Энрой, которых поддерживал и сам Птоломей, единогласно советовали проконсулу немедленно двинуть войска в Иудею, чтоб наказать мятежный Иерусалим. Однако наместник, не любивший военных трудов, колебался, тем более что Береника в своём письме угрожала ему жалобой цезарю, и он не только опасался её влияния при дворе Нерона, но и тайных доносов, которыми пользовались временщики — любимцы цезаря и которые были причиной конфискаций имуществ и ужасных кровопролитий на улицах Рима. После долгих размышлений, робкий и нерешительный Цестий Галл выбрал золотую середину: он послал произвести следствие в Иерусалиме трибуна Неаполитана. В Ямпее трибун встретился с возвращающимся из Александрии Агриппой.
Там же встретили тетрарха первосвященник с иудейскими сановниками и синедрионом. Оказав ему царские почести, они принесли жалобу на прокуратора, изображая в самых чёрных красках жестокость Гессия Флора. Агриппа, выслушав иерархов, сделал им выговор за народ, непослушный царской воле, после чего отправился в ожидавшую его столицу.
У городских ворот четверовластника встретила демонстрация, устроенная иудеями. Во главе огромной толпы простого народа двигались вдовы убитых и казнённых прокуратором граждан. Одетые в траурные одежды, они шли навстречу дарю, возложа руки на головы, обритые в знак печали, и жалобно голосили.
Агриппа, окружённый воющими женщинами и назойливой чернью, принуждён был остановиться на пыльной дороге под знойными лучами июльского солнца и выслушать бесчисленные жалобы крикливой толпы, которая указывала ему на разрушенные жилища и опустошённые рынки. Евреи просили даря и трибуна Неаполитана осмотреть город без свиты, чтобы они могли убедиться лично в миролюбии его жителей. Действительно, на следующий день трибун пешком и в сопровождении одного лишь оруженосца прошёл по городу и был повсюду встречаем знаками почтения. Получив таким образом доказательство покорности иерусалимлян, Неаполитан отправился в храм, собрал там народ, где похвалил его за верность римлянам, и, принеся жертву Богу евреев, отбыл обратно в Антиохию.
Теперь народная масса, руководимая своими главарями, обратилась к царю и первосвященникам, требуя, чтобы они отправили к цезарю послов с жалобой на прокуратора. «Иначе, — говорили выборные от народа, — Гессий Флор скажет, что мы первые взялись за оружие, и обвинит нас перед царём».
Выслушав выборных, Агриппа возвратился во внутренние покои дворца в прескверном расположении духа.
— Что же ты теперь мне посоветуешь? — сказал он недовольным тоном Беренике. — Вопреки твоим словам, народ назойлив, требователен, и я вижу, что ты не имеешь на него влияния.
Агриппа опустился в кресло и, нервно барабаня пальцами по его ручкам, хмуро смотрел на сестру.
— Я не понимаю, о чём ты так тревожишься и что расстроило тебя до такой степени? — с улыбкой возразила царица, приближаясь к брату и ласково кладя руку на плечо. — Народ в своём праве, он требует от нас защиты против негодяя Гессия. Не забудь, что этот человек оскорбил самым грубым образом даже меня. Я думаю, что на нашей обязанности лежит удовлетворить справедливое требование народа, что только ещё более усилит нашу популярность.
— И вовлечёт в омут римских интриг, — подхватил тетрарх. — Нет, я не хочу ссориться с прокуратором, тем более что уверен в его дружбе. Ты лучше посоветуй мне, как избегнуть неудобного посольства.
— Собери народ, скажи ему речь, попробуй устрашить строптивых военным могуществом римлян. Но только подобная политика не приведёт нас к цели, — добавила Береника недовольным тоном.
— Что же, по-твоему, я должен сделать?..
— Стать во главе народа и быть настоящим правителем!
Агриппа апатично зевнул.
— Скажи Иосифу, чтоб он изготовил для меня речь к народу. Завтра я выступлю в роли оратора, а теперь мне нужен отдых.
Береника взглянула исподлобья на брата и вышла из комнаты, волоча шлейф длинного ионического хитона из золототканого пурпура.
На другой день по зову герольда народ собрался на площадь Ксистос. Агриппа вышел с Береникой на балкон Асмонейского дворца и подал знак, что хочет говорить. В своей пространной речи он с восточной напыщенностью и преувеличением обрисовал могущество римлян и ничтожество иудейской нации перед римским колоссом. Речь закончилась воззванием к благонамеренности рассудительных людей. Царь призывал их сплотиться вокруг его трона, дабы предохранить город и его святыню от огня и меча римлян, не дающих пощады своим врагам.
Народ, внимательно слушавший до сих пор, теперь заявил, что он вовсе не намерен воевать с Римом, а только желает избавиться от своего притеснителя Флора, на что Агриппа возразил:
— Судя по вашим поступкам вы уже объявили войну. Вы отказали в уплате податей императору и самовольно разрушили галерею замка Антония. Если хотите сложить с себя обвинение в мятеже, то восстановите галерею и уплатите повинности. Замок и деньги принадлежат императору, а не Флору.
Народ согласился с мнением царя, который в сопровождении Береники и народа отправился в храм, где Агриппа принёс жертву Господу и велел начать отстройку галереи. Синедрион немедленно разослал своих членов по городам и деревням. Иудеи для сбора податей, и сорок талантов, недоплаченных в римскую казну, были собраны. Таким образом Агриппе удалось предотвратить грозящее объявление войны Оставалось только убедить народ в необходимости повиновения прокуратору до тех пор, пока цезарь не назначит на его место другого.
Теперь Агриппа, обнадеженный Береникой и первосвященником Матфеем бен-Феофилом, ожидал, что иерархи с народом обратятся к нему с просьбой возложить на себя венец иудейского царя, а в Рим вышлют посольство просить об отмене прокуратуры и об утверждении царского титула. В надежде на это он дал повеление достать из казнохранилища большие суммы денег на подарки Гессию Флору и римским сенаторам.
Однако вместо ожидаемых иерархов и старейшин с коленопреклонённым народом к нему явились главари зилотов и кичливо потребовали, чтоб он просил цезаря о замещении Флора другим римским правителем. Возмущённый Агриппа отослал их к первосвященнику, отказав наотрез в своём содействии.
— Дожидайтесь терпеливо, пока сам цезарь не назначит вам другого правителя, — топнув ногой, крикнул он главе депутации Анании бен-Садуку. На это молодой иудей дерзко возразил, что народ и без содействия четверовластника сумеет постоять за свои права, и гордо удалился со своими единомышленниками.
Береника немедленно послала Иосифа к преданному ей духовенству, требуя принятия решительных мер против главарей зилотов. Однако иерархи бездействовали, не исключая и её лицемерного советника, а по улицам Иерусалима валил народ и с криками толпился перед дворцом.
— Долой нечестивого Ахава! Долой развратную Иезавель! — кричал зилот Анания, и ему вторила беснующаяся толпа черни.
На балконе дворца появилась Береника.
Она простёрла руки и хотела говорить. Но чернь встретила её диким воем, и в царицу полетели камни. Баркаиос схватил перепуганную Беренику на руки и унёс с балкона. Сдав её на попечение женской свиты, он бросился вниз, в кардегардию.
— Что же ты лежишь на боку, как боров, и не разгонишь этих мерзавцев? — вне себя крикнул царедворец Лизандру.
— Я жду приказания, — с невозмутимым хладнокровием отвечал начальник телохранителей.
На широких ступенях лестницы показалась фигура бледного тетрарха.
— Спасите! Меня хотят убить! — шептал он помертвевшими губами.
Лизандр обнажил меч. Раздался глухой грохот барабана и протяжный гул труб. Ворота портала распахнулись, гвардия с опущенными копьями двинулась па чернь.
На другой же день Агриппа покинул возмутившийся против него Иерусалим. Озабоченный четверовластник поспешно отправился в Антиохию, чтобы заблаговременно предупредить Цестия Галла о новом возмущении иудеев. По дороге в Сирию он остановился в лагере у Бефорона, здесь состоялся в его присутствии военный совет, в котором приняла участие и Береника, успевшая снова подчинить своему влиянию апатичного Агриппу. Успокоенный отличным видом своих войск и уверениями царедворцев, ручавшихся за успех, тетрарх предоставил государственные дела сестре и Филиппу бен-Иакиму, а сам отправился в столицу Сирии.
С отъездом Агриппы Иерусалим принял мрачный вид. Город разделился на взаимно враждебные лагери. Элиазар Ганан с толпой приверженцев укрепился в храме. В замке Антония запёрся римский трибун Сетилий. Башни Мариамны, равно как и дворец Асмонеев и преторию Ирода Великого, охраняли царские гвардейцы под командой сурового ненавистника иудеев Валтасара Терона. Население Акры, долины Сыроваров и предместий роптало на первосвященников, синедрион и явно склонялось на сторону иудеев. Преданные Элиазару Ганану зилоты рыскали по всей стране, возбуждая народ к восстанию, а многочисленные пророки повсюду проповедовали близкое пришествие Мессии и подстрекали к резне язычников.
Наконец в половине августа иудеи, ободрённые бездействием своих противников и подкреплённые переходом на их сторону фарисейской секты, выслали к народу старцев с прокламацией. Последние объявляли, что настала пора освобождения, чаша терпения переполнилась. Израиль должен отстоять свою веру с оружием в руках. Пусть отцы ободряют сыновей. Сыновья должны сражаться, богатые должны снабжать народ деньгами, оружием, и всякий, кто чувствует себя евреем, должен восстать на язычников — врагов истинного Бога.
Народ зашумел, заволновался и готов был идти за фанатиками, увлекавшими его в кровавую смуту. Иудеи, довольные результатом своего предприятия, собрались на совещание в мощённой мозаикой зале храма, назначили день окончательного восстания...
Весь Иерусалим был охвачен деятельностью. Город превратился в военный лагерь, всюду изготовлялось оружие, евреи прибывали в столицу со всех концов земли, уверенные, что настаёт конец Римской империи. Так начиналась одна из величайших трагедий античного мира — гибель Иерусалима и закат Израиля.
Разрушение Иерусалима[82]
Но восставшие недооценили силы Римской империи. Гордости Рима было нанесено тяжёлое оскорбление. На усмирение восставшей провинции был послан шестидесятилетний полководец Тит Флавий Веспасиан.
Он начал свой знаменитый поход в марте 67-го года. Первые удары пришлись на долю Галилеи. Несмотря на отчаянное сопротивление, города разрушались один за другим. Римляне не знали пощады. Вся Галилея покрылась трупами, была залита кровью.
На зимние квартиры Веспасиан остановился в Кесарии. Тем временем Иерусалим заполнялся беженцами из Галилеи. Их ужасающие рассказы о римских зверствах звали к мести, и уже почти все жители были готовы к борьбе с римлянами. Положение умеренных, тех, кто не хотел восстания, становилось невыносимым. Зилоты неистовствовали, грозили расправой со всеми, кого подозревали в недостатке патриотизма.
После того, как первосвященником был выбран безграмотный земледелец Нания, сын Самуила, не имеющий никаких понятий о своей новой должности, фарисеи и саддукеи были возмущены. Поднялось восстание, был штурмом взят храм, и почти все члены жреческой касты погибли. Были убиты и знатнейшие люди Иерусалима, члены богатых семейств. Так погибал античный мир иудейства.
Но демократическое первосвященство просуществовало очень недолго. Священники утрачивали своё первенствующее значение. Первое место занимали зилоты, ревнители веры. Теперь в Иерусалиме властвовал террор. Рассказывали, что число зажиточных и знатных граждан, погибших от рук фанатиков, доходило до двенадцати тысяч.
Весной 68-го года Веспасиан возобновил своё наступление. Опустошив Иудею и Самарию, он утвердился в Иерихоне и обложил столицу со всех сторон.
Смерть Нерона и быстрая смена императоров в далёком Риме оттянули расправу с мятежными иудеями. Только поздней весной 69-го года Веспасиан возобновил военные действия. Благодаря этому ещё целый год продержалось восстание, длившееся уже три года и доведшее Иерусалим до положения, какому не было примеров в древней истории. До этого над городом властвовал Симон, сын Гиоры, но вскоре власть захватил Елизар бен-Ганан, бывший начальником охраны храма. Город разделился на партии, и приверженцы одной партии отчаянно сражались со своими соперниками. В городе были громадные запасы хлеба, которых хватило бы на несколько лет осады, но запасы были сожжены из-за желания, чтоб хлеб не попал к враждебной партии. Положение жителей было ужасным, из города нельзя было уйти. Многие гибли прямо в храме. И тем не менее восставшие ждали, что все евреи востока поднимутся против Римской империи и поддержат Иерусалим. Теснимые со всех сторон, чуть ли не накануне полного разгрома, они называли Иерусалим столицей мира.
Летом Веспасиан был провозглашён императором, и на усмирение Израиля был послан его сын, Тит. Весной, как только позволили дороги, Тит прибыл в Кесарию и во главе сильной армии двинулся к Иерусалиму. Он вёл четыре легиона, множество сирийских союзников и толпы арабов, шедших с римлянами ради грабежа. Тита сопровождали все перешедшие на его сторону иудеи, Агриппа, Тиверий Александр, будущий историк Иосиф Флавий.
В первых числах апреля, перед праздником еврейской пасхи, римляне подступили к Иерусалиму. В городе собралось огромное число евреев из разных стран.
Иерусалим был одной из сильнейших крепостей своего времени. Враждующие партии бились между собой, но дружно выходили на защиту города. Но евреи столкнулись с опытным полководцем. Тит повёл осаду с искусством, которого до него не знали. В конце апреля легионеры взяли первые укрепления и овладели северной частью города. Через пять дней римляне сумели прорваться через вторую линию укреплений и овладели Акрой. Половина города пала. Римляне хотели устрашить оборонявшихся самыми зверскими казнями захваченных пленных, но это только воодушевило осаждённых. 27 и 29 мая они сожгли осадные машины римлян и напали на их лагерь. Уныние распространилось в войсках Тита, многие поверили преданию, что Иерусалим нельзя взять, начались побеги из армии. Тит отказался от надежды взять город приступом и окружил его двумя рядами укреплений, прекратив все сообщения с округой. В осаждённом городе наступил голод.
Тит рвался в столицу Израиля. Он приказал построить четыре новые осадные башни, для которых в окрестностях вырубили все деревья. 1 июля осаждённые попытались сделать вылазку и уничтожить башни, но атака была отбита. С этого момента участь города была решена. Тит повёл подкопы против башни Антония, взял её и приказал разрушить до основания, чтобы открыть путь своим машинам и кавалерии к тому месту, где предстоял последний бой.
Храм представлял собой сильнейшую крепость. Вооружены были даже священники. 17 июля жертвоприношения в нём прекратились. Это считалось делом невозможным и произвело в городе, округе и даже всей Палестине ошеломляющее впечатление. Евреи, не ослеплённые фанатизмом, перешли к римлянам. Оставшиеся предпочли умереть.
12 июля войска Тита подошли к твердыням храма. Их машины оказались бессильны против его твердынь, и только 8 августа удалось поджечь ворота, но Тит приказал погасить огонь. Утром 10 августа евреи сами начали отчаянный бой, но были отбиты отрядом римлян, которые вслед за евреями ворвались во внутреннюю ограду. В это время вспыхнул пожар. Бой шёл во внутренних дворах, притворах ив особенности вокруг алтаря перед святилищем. Шесть тысяч человек, в большинстве женщин и детей, сбежались в одну из галерей, и там сгорели. Последним убежищем оставался древний Сион, верхний город с крепкими, ещё не тронутыми стенами. Чтобы одолеть этот город, потребовалась новая осада. Пока строили осадные орудия, Тит жёг и разрушал те части города, которые заняли римляне. Множество иудеев из высших сословий успели сбежать. Простых евреев продавали по ничтожной цене в рабство.
7 сентября пали укрепления Сиона. Оставшиеся в живых иудеи прятались в подземельях. Все немощные были убиты, остальные, в основном женщины и дети, были пригнаны к храму и заперты в уцелевших помещениях. На следующий день началась разборка пленных. Всех, кто сражался против римлян, тут же убивали. Семьсот юношей, самых красивых, оставили для триумфа Тита. Остальные были разосланы в Египет на каторжные работы или проданы в рабство.
Следующие дни были употреблены римлянами на разрушение города и поиски богатств.
Храм и почти все большие здания были разрушены до основания. Тит оставил только башни Гинника, Фазаила и Мариамны, чтобы потомство могло видеть, какие твердыни он смог взять. Нетронутой оказалась и западная стена храма — за ней разместили 10-й легион, оставленный для гарнизонной службы в завоёванном городе. Иерусалим, когда-то один из красивейших и богатейших городов мира, представлял собой мрачные груды камней, среди которых стояли палатки легионеров, стороживших опустевшее место, которое всё ещё казалось опасным.
В конце октября один из отрядов легионеров объезжал то место, где стоял храм.
Среди огромных камней двигался кто-то в белых одеждах, человек поднимал руки, так что огромная материя взлетала в воздух, как крылья, потом опускал, и материя облегала тело. Он что-то кричал, прыгал с камня на камень и не остановился даже, когда патруль подъехал совсем близко.
— Кто ты такой? — закричал начальник отряда, но мужчина, мельком взглянув на него, не ответил. И когда римляне, спешившись с коней, подошли к иудею, тот на латинском, с акцентом, коверкая слова, сказал, что назовёт себя только начальнику, Теренцию Руфу. Патруль долго спорил, надо ли везти этого сумасшедшего в лагерь, к Теренцию, пока командир отряда не прекратил споры, привязал пленника верёвкой к лошади, и отряд вернулся в лагерь.
Когда сумасшедшего привели в палатку к Теренцию Руфу, тот выслушал его и, велев заковать, отправил с охраной в Кесарию.
Это был Симон, сын Гиоры, один из предводителей враждебных партий, на которые раскололся осаждённый и восставший Иерусалим. Он был последним иудеем, оставшимся в разрушенном городе.
Генри Райдер Хаггард
Хозяйка Блосхолма
1. СЭР ДЖОН ФОТРЕЛ
Кто хоть раз видел развалины Блосхолмского аббатства,
[83], никогда не сможет забыть их. Аббатство расположено на холме, с севера его окаймляет полноводное устье реки, по которому поднимается прилив; с востока и юга оно граничит с богатейшими поместьями, лесами и заболоченными пастбищами, а с запада окружено холмами, постепенно переходящими в пурпурные торфяные земли; гораздо дальше за ними виднеются бесконечные мрачные вершины. Вероятно, пейзаж не очень изменился с времен Генриха VIII
[84], когда произошло то, о чем мы собираемся рассказать; здесь не появилось большого города, не были вырыты шахты или построены фабрики, оскорбляющие землю и оскверняющие воздух ужасным, удушливым дымом.
Мы знаем, что население деревни почти не менялось — об этом говорят старые переписи, — а так как здесь не проложили железной дороги, то облик Блосхолма, вероятно, остался почти таким же. Дома, построенные из местного серого камня, долго не поддавались разрушению.
Люди многих поколений входили и выходили все из тех же дверей, хотя теперь крыши большинства домов покрыты черепицей или грубыми плитами сланца, вместо тростника, нарубленного у плотины. Железные помпы, заменившие в колодцах деревни прежние ведра на валиках, все еще снабжают деревню питьевой водой, как во времена Эдуарда Первого
[85], а может быть, существовали много веков до него. Недалеко от ворот аббатства, посредине монастырского луга, все еще можно било увидеть колодки и позорный столб, несмотря на то что ими не пользуются и надобность в них отпала. На позорном столбе красуются три набора железных скоб разного диаметра, прикрепленные на разной высоте и приспособленные для рук мужчины, женщины и ребенка.
Все это, помнится, находилось под странной старой крышей, которую поддерживали необтесанные дубовые столбы; над крышей виднелся флюгер, изображавший архангела, возвещающего о страшном суде, — фантазия монастырского художника: труба, или каретный рожок, или какой-то другой музыкальный инструмент, в который он трубил, исчез.
Приходская книга говорит, что во времена Георга I
[86] какой-то мальчишка отбил его и расплавил, за что был публично высечен; именно тогда, по всей вероятности, и воспользовались этим столбом в последний раз. Но Гавриил все еще вертится так же решительно, как и тогда, когда известный кузнец, старик Питер, сделал его и собственноручно установил в последний год царствования короля Генриха VIII; говорят, он поставил архангела в память того, что здесь были прикованы Сайсели Харфлит, леди Блосхолма, и ее кормилица Эмлин, осужденные на сожжение как ведьмы.
Время коснулось Блосхолма лишь слегка. Почти все луга носят те же названия и сохранили ту же самую форму и границы. Старые фермы и несколько помещичьих домов, где жила местная знать, стоят там же, где стояли всегда. Прославленная башня аббатства все еще стремится к небу, хотя у нее уже нет колоколов и крыши, в то время как в полумиле от нее по-прежнему стоит среди древних вязов приходская церковь, перестроенная при Вильгельме Рыжем
[87] на заложенном еще во времена саксов фундаменте
[88]. Дальше, на склоне долины, куда по полям сбегает ручеек, находились развалины совершенно разрушенного женского монастыря, когда-то подчинявшегося величавому аббатству на холме; часть развалин была покрыта листами оцинкованного железа и использовалась под коровники.
Об этом аббатстве, об этом женском монастыре и о тех, которые жили в тех местах в давно прошедшие времена, и в особенности о подвергшейся преследованиям прекрасной женщине, которая была известна как леди Блосхолма, и пойдет наш рассказ.
Это было в середине зимы, 31 декабря 1535 года. Старый, седобородый и краснощекий Фотрел, человек лет шестидесяти, сидел перед камином в столовой своего большого дома в Шефтоне и читал письмо, только что принесенное из Блосхолмского аббатства. Сер Фотрел наконец одолел его, и если бы кому-нибудь довелось быть при этом, он мог бы увидеть рыцаря, хозяина обширного поместья, в ярости, необычной даже для времени Генриха VIII. Сер Джон швырнул бумагу на землю, выпил подряд три кубка крепкого эля — и до того выпитого в изрядном количестве, — разразился градом отборнейших ругательств, бывших в ходу в то время и, наконец, в самых пылких выражениях послал тело блосхолмского аббата
[89] на виселицу, а его душу в ад.
— Он притязает на мои земли, вот как! — воскликнул он, грозя кулаком в сторону Блосхолма. — Что говорит этот негодяй? Что прежний аббат разделил их с моим дедушкой не полюбовно, а под угрозами и страхом. Теперь, пишет он, этот государственный секретарь Кромуэл
[90], прозывающийся главным викарием, заявил, что вышеупомянутая передача была незаконной и что я должен вручить вышеупомянутые земли Блосхолмскому аббатству до сретения или в самый день праздника. Интересно, сколько заплатили Кромуэлу за то, чтобы он подписал этот приказ без всякого расследования?
Сер Джон налил и выпил четвертый кубок эля, затем принялся ходить взад и вперед по залу. Наконец он остановился перед камином и заговорил с ним, как если бы это был его враг:
— Вы умный парень, Клемент Мэлдон, мне говорили, что все испанцы таковы, вас научили вашему ремеслу в Риме и нарочно прислали сюда. Вначале вы были никто, а теперь вы аббат Блосхолма и, может, достигли еще большего, если бы король не поссорился с папой
[91]. Но иногда вы забываетесь — ведь южная кровь горяча, и что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не прошло и года с тех пор, как вы сказали при мне и при других свидетелях кое-какие слова, о которых я вам теперь напомню. Может быть, когда о них узнает секретарь Кромуэл, он откажется отдать вам мои земли, а вашу голову, голову заговорщика, поднимет, пожалуй, еще выше. Придется напомнить вам об этих словах. Большими шагами сэр Джон подошел к двери и закричал; не будет преувеличением сказать, что он заревел, как бык. Немного спустя дверь распахнулась, и появился слуга — кривоногий, коренастый парень, с копной черных волос на голове.
— Ты не торопишься, Джефри Стоукс? Неужели должен я ждать, когда вашей милости угодно будет пожаловать? — сказал сэр Джон.
— Как можно прийти быстрее, хозяин? За что вы меня браните?
— Ты еще поспорь со мной, парень. Повтори-ка еще раз и я прикажу тебя привязать к столбу и отхлестать.
— Вы бы сами себя отхлестали, хозяин! Вышла бы из вас желчь и пары доброго эля — вот что вам нужно! — хриплым голосом ответил Джефри. -Бывают люди, не умеющие ценить настоящих слуг, но такие часто умирают в одиночку. Что вам нужно? Если могу, сделаю, а нет, так делайте сами.
Сэр Джон поднял руку, точно собираясь ударить его, затем снова опустил ее.
— Люблю, когда человек умеет дать отпор, — сказал он более мягко, — и у тебя как раз такой характер. Не обижайся на меня, малый. Я злюсь, и не без причины.
— Злость-то я вижу, а причины не знаю, хотя, может, и отгадаю: ведь только что из аббатства приходил монах.
— Увы! В том-то и дело, в том-то и дело, Джефри. Послушай-ка! Я немедленно поеду в это воронье гнездо. Оседлай мне лошадь.
— Хорошо, хозяин. Я оседлаю двух лошадей.
— Двух? Я сказал одну, дурак; разве я скоморох, чтобы ехать на двух сразу?
— Этого я не знаю, но вы поедете на одной, а я на другой. Блосхолмский аббат приезжает к сэру Джону Фотрелу из Шефтона с соколом на руке, с капелланами
[92] и пажами и с десятком недавно нанятых здоровенных вооруженных людей. Это больше, чем подобает священнику. Когда сэр Джон Фотрел едет в Блосхолмское аббатство, его должен сопровождать слуга, который мог бы держать его лошадь и служить свидетелем.
Сэр Джон испытующе посмотрел на него.
— Я обозвал тебя дураком, — сказал он, — но ты дурак только по виду. Делай как хочешь, Джефри, только поскорее. Стой! Где моя дочь?
— Леди Сайсели у себя в гостиной. Я видел ее нежное личико в окне; она так смотрела на снег, будто видит привидение.
— Хм, — проворчал сэр Джон, — привидение, о котором она думает, шести футов роста и ездит на большой серой кобыле; у него веселое лицо и пара рук, прекрасно приспособленных для меча и для того, чтобы крепко обнять девушку. Надо выдумать заклинание, чтобы привидение не появилось, Джефри. — Очень жаль, хозяин. А вам, может быть, это и не удастся? Заставить исчезнуть приведение — это дело священника. Мужские руки найдут что обнять, раз девичьи сами к нему тянутся.
— Эй ты, иди! — заревел сэр Джон, и Джефри вышел.
Через десять минут они уже ехали по направлению к находившемуся в трех милях аббатству, а еще через полчаса сэр Джон не слишком скромно стучался в ворота; услышав стук, монахи, как испуганные муравьи, забегали взад и вперед, так как времена были тяжелые и никто не мог знать, что ему угрожает.
Узнав наконец гостя, они принялись отодвигать засовы огромных дверей, опускать поднятый на закате подъемный мост.
Вскоре сэр Джон стоял в комнате аббата, греясь у большого камина; за ним стоял слуга Джефри, держа в руках его длинный плащ.
Это была красивая комната с потолком из благородного резного орехового дерева, с каменными стенами, увешанными дорогими гобеленами, на которых были вытканы сцены из священного писания. Пол бы покрыт роскошными коврами из цветной восточной шерсти. Так же великолепна была и чужеземная мебель с инкрустациями из слоновой кости и серебра; на столе стояло золотое распятие чудесной работы, на мольберте, повернутом так, что свет от серебряной висячей лампы падал прямо на него, — картина какого-то великого итальянского художника. На ней изображалась в человеческий рост кающаяся Магдалина; прекрасные глаза женщины были обращены к небу, она била себя кулаком в грудь.
Сэр Джон огляделся и презрительно фыркнул.
— Ну, Джефри, как ты думаешь, где мы находимся? В келье монаха или в гостиной какой-нибудь придворной дамы? Посмотри под стол, парень, наверняка ты там найдешь ее лютню и вышивание. Чей это портрет, как тебе кажется? — И он указал на Магдалину.
— Я думаю, что это кающаяся грешница, хозяин. Она была приятна для мирян, пока была грешницей, а теперь стала святой и потому приятна для священника. А что касается всего остального, здесь неплохо можно было бы выспаться после кубка красного вина. — И он ткнул большим пальцем в сторону бутылки с узким и длинным горлышком, стоявшей на краю стола.
— А что камин ярко пылает, в этом нет ничего удивительного, ведь его топят сухим дубом из вашего Стикслейского леса.
— Откуда ты это знаешь, Джефри? — спросил сэр Джон.
— По его прожилкам, хозяин, по его прожилкам. Я перевел там слишком много леса, чтобы не знать. Только стикслейские глины делают кольца извилистей и темнее к сердцевине. Посмотрите.
Сэр Джон посмотрел и злобно выругался.
— Ты прав, парень, теперь я вспомнил. Когда я был еще мальчишкой, мой дед показал мне именно эту особенность стикслейских дубов. Эти проклятые монахи истребляют мои леса прямо у меня под носом. Мой лесничий — негодяй. Они напугали или подкупили его, и я его за это повешу.
— Сначала докажите преступление, хозяин, а это не так-то легко, а потом уж говорите о виселице. Только короли да аббаты, имеющие «право виселицы»
[93], могут сделать это, если захотят. Ох, это правда, — добавил он изменившимся голосом, -прекрасная комната, хотя недостаточно хороша для того святого, что в ней живет; такому святому подобало бы иметь серебряную раку
[94], вроде той, что стоит перед алтарем, и он безусловно заслужит ее еще до того, как состарится. — И Джефри, точно случайно, наступил на побаливающую подагрическую ногу хозяина.
Сэр Джон круто обернулся, как блосхолмский флюгер в ненастный день.
— Неуклюжая жаба! — заревел он и сразу замолчал, потому что среди бесшумно раздвинувшихся гобеленов появился одетый в дорогие меха высокий человек с тонзурой
[95] и за ним двое других тоже с тонзурами, но в простых черных одеждах. Это был аббат со своими капелланами.
— Благослови господь — мягко сказал аббат c иностранным акцентом, поднимая два пальца правой руки для благословения.
— Добрый день, — ответил сэр Джон, в то время как его слуга поклонился и перекрестился. — Почему вы подкрадываетесь к людям, как вор по ночам, святой отец? — раздраженно добавил он.
— Сказано, что именно так грядет страшный суд, сын мой, — ответил аббат, улыбаясь. — И по правде говоря, в нем чувствуется некоторая необходимость. Мы слышали громкие споры и разговор о том, чтобы кого-то повесить. Основательно ли ваше обвинение?
— Оно крепче дуба, — угрюмо ответил старый сэр Джон. — Мой слуга сказал, что эти дрова в камине взяты из моего Стикслейского леса, а я ответил ему, что если это так, то, значит, они украдены и мой лесничий должен быть за это повешен.
— Достойный человек прав, сын мой, и все же ваш лесничий не заслуживает наказания. Я купил у него скудный запас топлива, и, если говорить правду, счет еще не оплачен. Деньги, которые следовало внести, отправлены в Лондон, потому я попросил отложить плату до получения летней ренты. Не вините его, сэр Джон, если по дружбе к нам и зная, что это не причинит вам ущерба, он не потерпел скудости нашей скромной обители.
Сэр Джон окинул взглядом роскошную комнату.
— Разве это скудность скромной обители заставила вас послать мне письмо, в котором говорится, что у вас есть предписание Кромуэла захватить мои земли? — спросил сэр Джон, набрасываясь, как бык, на своего обидчика и бросая на стол письмо. — Или вы хотите сказать, что заплатите за них, когда получите свою летнюю ренту?
— Нет, сын мой. Долг заставляет меня начать это дело. Двадцать лет мы оспариваем эти поместья, которые, как вы знаете, ваш дед в трудную минуту отобрал у нас, разделив их пополам, несмотря на протест того, кто был в то время аббатом. Поэтому я, наконец, изложил дело главному викарию, который, как я слышал, решил вопрос в пользу аббатства.
— Удовлетворить иск, о котором ответчик и понятия не имеет! -воскликнул сэр Джон. — Милорд аббат, это нельзя назвать правосудием; это мошенничество, и я не потерплю этого. Помилуйте, может быть, он еще что-нибудь решил?
— Раз уж вы спрашиваете об этом — кое-что еще, сын мой! Чтобы избежать лишних расходов, я изложил ему некоторые не решенные между нами вопросы; вот вкратце его решение: ваше право на владение блосхолмскими землями и прилегающими землями, в общей сложности достигающими 8 тысяч акров
[96], не аннулируется, но оно не считается безусловным и остается под сомнением.
— Помилуй бог! Почему? — спросил сэр Джон.
— Я скажу вам, сын мой, — мягко ответил аббат. — В течение столетия земли принадлежали этому аббатству как дар короны, и нет никаких документов, указывающих на то, что корона согласилась на их отчуждение.
— Никаких документов, — воскликнул сэр Джон, — но у меня в секретном ящике есть договор, подписанный моим прадедушкой и аббатом Франком Ингхэмом! Никаких документов, но мой вышеупомянутый прадедушка дал вам вместо них другие земли, и вы ими сейчас владеете! Прекрасно, продолжайте, святой отец.
— Мой сын, я повинуюсь вам. Ваше право, хотя и является сомнительным, не аннулировано полностью; считается все еще, что вы будете владеть этими землями как арендатор аббатства, но они перейдут к нему, если вы умрете, не оставив потомства. Если же вы умрете, имея несовершеннолетних детей, то они будут переданы под опеку блосхолмского аббата, если таковой будет существовать, а если нет — то есть не будет ни аббата, ни аббатства, — то под опеку короны.
Сэр Джон выслушал это, затем откинулся на спинку стула, а его красное лицо посерело, как зола.
— Покажите мне это решение, — медленно сказал он.
— Оно еще не написано, сын мой. В течение десяти дней или около того, я надеюсь… Но вам, кажется, плохо. Быть может, после наружного холода подействовало тепло этой комнаты. Выпейте бокал нашего скромного вина.
И по его знаку один из капелланов шагнул к буфету, наполнил бокал из стоявшей там бутылки с длинным горлышком и поднес ее сэру Джону.
Тот взял его, не сознавая, что делает, затем внезапно бросил серебряный бокал вместе с содержимым в огонь, откуда капеллан и извлек его щипцами.
— Выходит, что вы монахи, оказываетесь моими наследниками, — сказал сэр Джон совсем другим, спокойным голосом, — по крайней мере вы так говорите, а если это так, то, вероятно, мне осталось недолго жить. Я не буду пить вашего вина, оно может быть отравлено. Теперь послушайте меня, сэр аббат. Я мало верю в эту сказку, хотя, без сомнения, взятками и другими способами вы сделали все от вас зависящее, чтобы за моей спиной навредить мне там, в Лондоне. Но завтра на рассвете, будет ли хорошая погода или ненастье, я поскачу сквозь снега в Лондон, где у меня тоже есть друзья, и мы еще посмотрим…
Мы еще посмотрим. Вы умны, аббат Мэлдон, и я знаю, что вам нужны деньги или что-нибудь взамен, чтобы платить вашим оруженосцам и чтобы удовлетворить ваши громадные потребности — да, да, старинные драгоценности времен крестовых походов. Из-за них вы ищете способа ограбить меня — ведь вы всегда меня ненавидели, и, может быть, Кромуэл поверил вашей басне. Быть может, безумный монах, — добавил он медленно, — он хотел откормить на моих хлебах такого церковного гуся, как вы, перед тем как свернуть ему шею и сварить его.
При этих словах бесстрашный аббат содрогнулся и даже два бесстрастных капеллана переглянулись.
— Ах! Это вас волнует? — спросил сэр Джон Фотрел. — Хорошо, тогда вот что заставит вас содрогнуться по-настоящему. Вы думаете, что к вам благоволят при дворе, не так ли? Потому что вы принесли присягу на счет престолонаследия
[97], от которой люди храбрее вас, например братья картезианского монастыря
[98], отказались и погибли из-за этого. Но вы забыли слова, сказанные вами мне в моем доме, когда любимое ваше вино повлияло на вас, что…
— Замолчите! Ради самого себя замолчите, сэр Джон Фотрел! — перебил аббат. — Вы заходите слишком далеко.
— Не так далеко, как отправитесь вы, милорд аббат, прежде даже, чем я сам рассчитаюсь с вами. А вы попадете в Тауэр Хилл
[99] или на площадь Тайберн
[100], где вас повесят и четвертуют как изменника его величеству. Говорю вам, вы забыли сказанные вами слова, но я вам их напомню. Разве вы мне не сказали, когда ушли гости, что король Генрих — еретик, тиран и безбожник, и папа хорошо сделал, если отлучит его от церкви и лишит престола? Разве вы не спросили меня, когда я пошел вас провожать, не мог ли бы я вызвать в этой местности, где пользуюсь влиянием, восстание простолюдинов, а также знающих и любящих меня дворян, чтобы свергнуть короля, а на его место посадить некоего кардинала Пола, и за это обещали мне прощение и отпущение всех грехов и великие почести -именем папы и испанского императора
[101].
— Никогда этого не было, — отвечал аббат.
— И разве я, — продолжал сэр Джон, не обращая внимания на его слова, — разве я не отказался слушать вас и не сказал вам, что ваши слова предательство, и будь они сказаны где-нибудь в другом месте, а не в моем доме, я, как повелевает мой долг верноподданного, доложил бы о них? Да, да и разве не с этой минуты вы стремитесь погубить меня, потому что вы меня боитесь?
— Я все это отрицаю, — снова сказал аббат. — Все это пустая ложь, вымышленная вашей злобой, сэр Джон Фотрел.
— Вот как! Пустые слова, милорд аббат? Ну, так я говорю вам, они все записаны и подписаны, как полагается по форме. Говорю вам, что у меня есть свидетели, о которых вы и не подозревали и которые слышали их собственными ушами. Здесь, за моим столом, стоит один из них. Не так ли, Джефри?
— Так точно, хозяин, — ответил слуга. — Я вместе с другими случайно оказался в маленькой комнате с деревянной панелью, где мы ждали аббата, чтобы проводить его домой, и слышали все, а потом я и они поставили свои подписи на документе. Это так же верно, как то, что я христианин, но, несмотря на это, хозяин, как бы несправедливо со мной не обошлись в этом доме, я не стал бы об этом распространяться.
— А мне так нравится, — ответил рассвирепевший рыцарь, — и я стану говорить об этом еще громче в любом другом месте, например перед Королевским советом. Завтра, милорд аббат, я с этим документом отправлюсь в Лондон, и тогда вы узнаете, чего вам будет стоить попытка лишить Фотрела его состояния.
Теперь, в свою очередь, испугался аббат. Его гладкие оливковые щеки побледнели и впали, как будто он уже почувствовал, как веревки обвиваются вокруг его шеи. Его руки, все в драгоценных кольцах, дрожали, и он, схватив руку одного из капелланов, оперся на нее.
— Человек, — прошипел он, — неужели ты думаешь, что, произнеся подобные лживые угрозы, ты выйдешь отсюда, чтобы погубить меня, священнослужителя? У меня здесь есть темницы; я облечен властью. Будет доказано, что ты напал на меня и я всего лишь защищался; не ты один, сэр Джон, можешь давать показания. — И он прошептал какие-то слова по-латыни или по-испански на ухо одному из капелланов, после чего священник повернулся, чтобы уйти.
— Кажется, теперь мы попали в историю, — сказал Джефри Стоукс, кладя руку на кинжал у пояса и проскользнув между дверью и монахом.
— Вот именно, Джефри! — воскликнул сэр Джон. — Держись, крысиная нора. Смотри, испанец, вот мой меч. Проводите меня к воротам, или, в силу королевских полномочий, мне данных, я буду немедленно судить тебя как предателя и, если добьюсь своей цели, отвечу за все.
Аббат с минуту подумал, как бы измеряя мысленно ярость стоящего перед ним рыцаря. Затем сказал:
— Идите как пришли, с миром, о раб ярости и зла, но знайте, что проклятие церкви последует за вами. Я говорю вам, что вы стоите на краю гибели.
Сэр Джон посмотрел на него. Злоба исчезла с его лица, на нем появилось какое-то странное выражение — пророческое или вдохновенное, можно назвать это как угодно.
— Во имя неба и всех святых! Я думаю, что вы правы, Клемент Мэлдон, -пробормотал он. — Под этой черной рясой вы такой же человек, как и мы все, — не правда ли? У вас есть сердце, есть руки и ноги, есть мозг, чтобы думать. Для бога вы всего лишь скрипка, на которой он играет, и как бы сильно ваш религиозный фанатизм ни искажал ее звуков, струны порой говорят правду. Ну, а я — другая, может быть, более честная скрипка, хоть я и не поднимаю двух пальцев правой руки и не говорю: «Благословляю, сын мой» или: «Отпускаются вам грехи ваши», и вот сейчас наш единый бог играет во мне свою мелодию, и я скажу вам, что она говорит. Я стою у порога смерти, но и вы стоите недалеко от виселицы. Я умру как честный человек; вы умрете, как пес, предавший все, и после этого пусть ваши молитвы, ваши обедни и ваши святые помогут вам, если им это удастся. Мы поговорим об этом еще раз, когда снова встретимся где-нибудь в другом месте. А теперь, милорд аббат, ведите меня к воротам, помня, что я с мечом следую за вами. Джефри, поставь перед собой этих мерзких воронов и следи за ними как следует. Милорд аббат, я ваш слуга. Вперед!
2. УБИЙСТВО У ЗАВОДИ
Некоторое время сэр Джон и его слуга ехали молча. Потом сэр Джон громко рассмеялся.
— Джефри, — позвал он, — это было опасным испытанием. Сэр священник намеревался воткнуть нам между ребер
испанскую зубочистку, а потом для успокоения совести дать предсмертное отпущение грехов.
— Да, хозяин, но он благоразумно вспомнил, что у английских мечей лезвие длиннее и что его головорезы провожают старый новый год в харчевне у брода, и отказался от своего замысла. Я всегда говорил вам, хозяин, что ваше старое октябрьское вино слишком крепко для употребления днем. Его следовало бы приберечь, чтобы пить перед сном.
— Что ты хочешь сказать парень?
— Я хочу сказать, что вашими устами говорит эль, а не мудрость. Вы раскрыли ваши карты и сваляли дурака.
— Как ты смеешь учить меня! — сердито сказал сэр Джон. — Мне хотелось, чтобы этот льстивый предатель хоть раз в жизни услышал правду.
— Так-так, но для правды и для тех, кто ее почитает, наступили плохие дни. Разве было необходимо говорить ему о том, что завтра вы отправляетесь в Лондон по этому делу?
— Почему нет? Я приеду туда раньше его.
— Приедете ли вы туда когда-нибудь, хозяин? Дорога идет мимо аббатства, а у этого священника достаточно головорезов, умеющих держать язык за зубами.
— Ты хочешь мне сказать, что он подставит мне ловушку. Не посмеет, я тебе говорю. Но для твоего успокоения мы поедем дальней тропинкой через лес.
— Дорога там трудная, хозяин; а кто ж будет сопровождать вас? Большинство отправилось в извоз, другие — отдыхают. В доме только трое, вы не можете оставить без охраны леди Сайсели или взять ее с собой в такой холод. — И он прибавил многозначительно: — Помните, что в доме есть богатство, которое кое-кому нужнее ваших земель. Лучше подождите немного, ваши люди вернутся или вам удастся созвать арендаторов и поехать в Лондон, как подобает человеку вашего звания, в сопровождении двадцати славных молодчиков.
— И дать нашему другу аббату время нашептать на ухо Кромуэлу, а через него и королю. Нет, нет, я поеду завтра на рассвете с тобой или, если ты боишься, без тебя, как я ездил раньше и возвращался целым и невредимым.
— Никто не посмеет сказать, что Джефри Стоукс боится человека, священника или дьявола, — покраснев, ответил старый солдат. — Тридцать лет ваш путь был хорош для меня и теперь хорош. Я предупредил вас не ради себя — мне-то безразлично, что будет, — а ради вас и вашего дома.
— Я это знаю, — сказал сэр Джон, смягчаясь. — Не принимай моих слов близко к сердцу, я сегодня не в себе. Во имя всех святых! Наконец-то мы дома. О! Чья это лошадь проскакала в ворота до нас?
Джефри взглянул на следы, отчетливо выделявшиеся при лунном свете на только что выпавшем снегу.
— Серая кобыла сэра Кристофера Харфлита, — сказал он. — Я узнаю ее подковы и круглую форму копыт. Без сомнения, он приехал навестить госпожу Сайсели.
— Я запретил ему это, — пробормотал сэр Джон, выскакивая из седла.
— Не запрещайте, — ответил Джефри, забирая его лошадь. — Кристофер Харфлит может быть хорошим другом для девушки, когда понадобится, а мне кажется, что это время близко.
— Делай свое дело, мошенник! — закричал сэр Джон. — Чтобы в моем собственном доме какая-то девчонка и щеголь, желающий поправить свои пошатнувшиеся дела, не ставили меня ни во что?
— Раз уж вы меня спрашиваете, то, по-моему, они правы, — невозмутимо ответил Джефри, уводя лошадей.
Сэр Джон большими шагами направился к дому через заднюю дверь, выходившую в конюшню. Взяв фонарь, стоявший около двери, он прошел по галереям наверх в гостиную, расположенную перед залом, которым после смерти матери пользовалась его дочь; тут он предполагал найти ее. Поставив фонарь на столик в коридоре, он толкнул незапертую дверь и вошел.
Вся передняя часть большой комнаты тонула во мраке. Задняя была освещена только ярким светом топившегося камина и двумя свечами. Все же около глубокой оконной ниши мрак рассеивался и озарял ярким светом сидящую на дубовом кресле с высокой спинкой Сайсели Фотрел, единственное оставшееся в живых дитя сэра Джона. Это была высокая грациозная девушка с голубыми глазами, каштановыми волосами и белоснежной кожей, с круглым ребячьим личиком, какие большинство людей считают красивыми. В эту минуту это лицо, обычно радостное и лукавое, казалось обычным. И для этого, видимо, были причины, так как рядом с ней на стуле сидел молодой человек и что-то горячо говорил ей.
Это был здоровенный молодец, очень широкий в плечах, с правильными чертами лица, длинным прямым носом, черными волосами и веселыми черными глазами. Как и подобает влюбленным, он, по всей вероятности, пылко и очень искренне объяснялся ей в любви; сидя лицом к Сайсели, он о чем-то умолял ее, а она откинулась на спинку кресла и ничего не отвечала.
Как раз в эту минуту обильный поток слов иссяк: то ли высказавшись до конца, то ли по какой-нибудь другой причине, но молодой человек перешел к иному, более действенному способу наступления. Вдруг, соскользнув со стула, он опустился на колени, взял руку Сайсели и, не встретив сопротивления, поцеловал ее несколько раз; затем вдохновленный успехом, раньше чем сэр Джон, задыхавшийся от негодования, смог найти слова, чтобы остановить его, он обнял девушку своими длинными руками, прижал к себе и стал целовать ее алые губы, как прежде целовал руки.
Эта дерзость, казалось, разрушила сковывающие ее чары, так как, оттолкнув назад кресло и высвободившись из его объятий, она поднялась и сказала дрогнувшим голосом:
— О! Кристофер, дорогой Кристофер, так ведь нельзя!
— Может быть, — ответил он. — Раз вы меня любите, мне все остальное безразлично.
— Уже два года, как вы знаете это, Кристофер. Да я люблю вас, но увы! — мой отец не согласен. Теперь уходите, пока он не вернулся, или нам обоим придется поплатиться за это, а меня, быть может, отправят в монастырь, куда ни один мужчина не может проникнуть.
— Нет, моя голубка. Я пришел сюда, чтобы просить его согласия.
Тогда наконец сэр Джон не выдержал.
— Просить моего согласия, бесчестный мошенник! — проревел он из темноты; при этом Сайсели упала обратно в кресло почти в обмороке, а дюжий Кристофер зашатался, словно пронзенный стрелой. — Сначала обнимаешь мою дочь у меня на глазах, а потом, позволив себе такую дерзость, просишь моего согласия! — И он бросился к ним, как бык, готовый к нападению. Сайсели поднялась, стремясь убежать, но, увидев, что бегство невозможно, бросилась в объятия своего возлюбленного. Взбешенный отец, надеясь вырвать девушку из объятий молодого человека, схватил первое, что попалось ему под руку — одну из ее длинных каштановых кос, — и изо всех сил стал тянуть ее, пока Сайсели не закричала от боли. При звуке ее голоса Кристофер тоже вышел из себя.
— Оставьте в покое девушку, сэр, — сказал он тихо и зловеще, — или, да простит меня господь, я заставлю вас сделать это!
— Оставить девушку в покое? — задохнулся сэр Джон. — А кто держит ее крепче — ты или я? Это ты должен отпустить ее.
— Да, да Кристофер, — прошептала она, — а то вы меня разорвете пополам.
Он повиновался и посадил ее в кресло, хотя отец все еще не отпускал каштановой косы.
— Теперь, сэр Кристофер, — сказал он, — я уж проткну тебя своим мечом.
— И пронзите сердце вашей дочери вместе с моим. Что ж, пусть будет по-вашему, а когда мы умрем и вы лишитесь детей, слезы сведут вас в могилу.
— О! Отец, отец! — воскликнула Сайсели, знавшая характер старика и опасавшаяся самого худшего. — Во имя справедливости и милосердия, выслушайте меня. Мое сердце принадлежит Кристоферу и принадлежало с самого детства. С ним я буду счастлива, без него будет только мрак и отчаяние, и он клянется в том же. Зачем вам разлучать нас? Разве он не подходит мне, плох его род или запятнано имя? До недавних пор разве он не пользовался вашим расположением и вы не разрешали нам быть все время вместе? А теперь слишком поздно отказывать ему. О! Почему, почему?
— Ты знаешь достаточно хорошо почему, дочь! Потому то я выбрал тебе другого мужа. Лорду Деспарду понравилось твое детское личико, и он хочет жениться на тебе. Не далее как сегодня утром мы ударили по рукам.
— Лорд Деспард? — вырвалось у Сайсели. — Но он только в прошлом месяце похоронил свою вторую жену! Отец, он вашего возраста, пьяница, и его внуки почти ровесники мне. Я покорна вам во всем, но никогда он не возьмет меня живой.
— И сам не останется в живых, если попробует взять вас, — пробормотал Кристофер.
— Какое значение имеет его возраст, дочь? Он очень крепкий человек, у него нет сына, а если он у него родится, то будет самым богатым наследником наших трех графств. Главное же — мне нужна его дружба, потому что у меня есть заклятые враги. Но довольно. Уходи, Кристофер, пока с тобой не случилось ничего плохого.
— Пусть будет так, сэр, я пойду; но прежде, как честный человек, как друг моего отца и, как я всегда думал, мой друг, ответьте мне на один вопрос. Почему вы с некоторых пор изменили отношение ко мне? Разве я ни тот самый Кристофер Харфлит, что и год или два назад? И разве я что-нибудь сделал унижающее меня в ваших глазах или в глазах общества?
— Нет, парень, — прямодушно ответил старый рыцарь, — но раз ты хочешь знать, слушай. Год или два назад твой дядя, чьим наследником ты был, женился, родил сына, и теперь ты только джентльмен с хорошим именем, не имеющим средств достойно поддерживать его. Твой большой дом будет продан с торгов, Кристофер. И ты никогда не введешь в него свою жену.
— Ах! Я так и думал. Кристофер Харфлит — наследник земель Лесборо -один человек; Кристофер Харфлит без этих земель — в ваших глазах другой человек. Однако, сэр, вы плохо рассчитали. Я люблю вашу дочь, и она любит меня, а земли Лесборо, и не только они, еще могут ко мне вернуться, да и я не так глуп, чтобы не добыть себе других. В скором времени очень много земель отойдет к короне, а при дворе меня знают. Кроме того, я должен сказать вам: я уверен, что женюсь на Сайсели раньше, чем вы думаете, но я бы хотел получить вместе с ней ваше благословение.
— Что! Неужели ты хочешь похитить девочку? — яростно спросил сэр Джон.
— Ни в коем случае, сэр. Но мы живем в такое время, когда ежечасно тот, кто был вверху, оказывается внизу, и наоборот, так что надеюсь, я все-таки женюсь на ней. Во всяком случае, я уверен, — пьяница Деспард никогда ее не получит, ибо раньше я убью его, если даже меня за это повесят. Сэр, сэр, не бросите же вы вашу жемчужину в эту навозную кучу! Лучше раздавить ее сразу каблуком. Посмотрите на нее и скажите, что вы не в силах это сделать! — И он указал на трогательную фигурку Сайсели, которая стояла около них, сжав руки, прерывисто дыша, с выражением муки на лице.
Старый рыцарь взглянул на нее искоса уголком глаза и почувствовал жалость, так как в глубине души был порядочным человеком; хотя он обращался с дочерью грубо, как это было в обычае той эпохи, но любил ее больше всего на свете.
— Как ты смеешь говорить мне о долге по отношению к моей плоти и крови? — пробурчал он. Затем, немного подумав, добавил: — Выслушай же меня, Кристофер Харфлит. Завтра на рассвете я еду в Лондон с Джефри Стоуксом по одному рискованному делу.
— По какому делу, сэр?
— Если хочешь знать — по поводу ссоры с этим испанским негодяем аббатом, который притязает на лучшую часть моих земель и много чего нашептал этому выскочке, главному викарию Кромуэлу. Я еду, чтобы рассказать о тех его делах, которые Кромуэл не знает, и постараюсь доказать, что он лжец и предатель. Скажи, будет ли мой дом избавлен от твоих посещений в мое отсутствие? Дай мне слово, и я поверю тебе, так как ты все же честный джентльмен, и если ты незаконно сорвал один или два поцелуя, то это можно простить. Еще до твоего рождения люди делали то же самое. Дай мне слово, или мне придется тащить эту девчонку за собой в Лондон через все снежные заносы.
— Я даю вам его, сэр, — ответил Кристофер. — Если ей понадобится мое общество, то для этого ей придется приехать в Крануэл Тауэрс, так как я не буду надоедать ей в ваше отсутствие.
— Хорошо. Тогда одолжение за одолжение. Я не буду отвечать на письмо лорда Деспарда, пока не вернусь обратно, — не для того, чтобы доставить тебе удовольствие, а потому что я терпеть не могу писать. Это для меня труд, и я не могу тратить на него время сегодня вечером. А теперь выпей кубок вина и уходи. Любовь — работа, вызывающая жажду.
— Охотно сэр; но послушайтесь меня, послушайтесь. Не ездите в Лондон почти без спутников после ссоры с аббатом Мэлдоном. Разрешите мне охранять вас. Хотя мое имущество не велико, я все-таки могу взять человека или двух, даже, быть может, человек шесть — восемь, пока ваши разъехались.
— Ни за что, Кристофер. Я сам охраняю свою голову все шесть лет, смогу сохранить ее и сейчас. Кроме того, — добавил он, внезапно как бы охваченный предчувствием, — как ты сказал, путешествие опасно, и кто знает?.. Если что-нибудь случится, может быть, ты будешь тут гораздо нужнее. Кристофер, ты никогда не получишь мою дочь, она не для тебя. Однако возможно, возникнет необходимость заступиться за нее даже ценой отлучения от церкви. Уходи отсюда, девушка! Что ты стоишь здесь и глазеешь на нас, как сова при солнечном свете? И запомни, что, если я еще раз поймаю тебя за подобными штучками, ты будешь проводить свои дни в монастыре, что принесет тебе немалую пользу.
— По крайней мере, я найду там покой и ласку, — ответила Сайсели с чувством, так как она знала своего отца и ее самые худшие опасения исчезли. — Только, сэр, я не знала, что вы хотите увеличить богатство блосхолмских аббатств.
— Увеличить их богатство! — заревел отец. — Нет, я повешу их всех. Иди в свою комнату и пришли Джефри с водкой.
Сайсели не оставалось ничего другого, как сделать реверанс сначала отцу, потом Кристоферу, которому она взглядом сказала то, чего не смели произнести губы, потом исчезла в темноте, и только слышно было, как она ударилась о какую-то мебель.
— Посвети, девочке, Кристофер, — сказал сэр Джон, который смотрел в огонь, погрузившись в свои мысли.
Схватив одну из двух свечей, Кристофер бросился за Сайсели, как гончая за кроликом, и вскоре они оба вышли в дверь и пошли по начинающемуся за ней длинному коридору. На повороте они остановились, и еще раз он безмолвно обнял ее своими длинными руками.
— Вы не забудете меня, даже если нам придется расстаться? -всхлипывала Сайсели.
— Нет, голубка, — ответил он. — Мы расстаемся ненадолго, так как господь отдал нас друг другу. Ваш отец не думает того, что говорит, а сегодня он расстроен, но потом смягчится. Если же нет, мы сами подумаем о самих себе. У меня одна-две быстрых лошади. Смогли бы вы поехать на одной из них?
— Я всегда любила ездить верхом, — ответила она многозначительно.
— Хорошо. Тогда вы никогда не попадете в хлев к этой свинье, так как сперва я ее заколю. У меня есть друзья и в Шотландии и во Франции. Что вы предпочитаете?
— Говорят, что воздух Франции мягче. Теперь уходите от меня, а то он пойдет искать нас.
И они оторвались друг от друга.
— Вашей кормилице Эмлин можно доверять, — быстро сказал он. — И она очень любит меня. Если будет нужно, дайте мне знать через нее.
— Ах, — ответила она, — непременно. — И ускользнула от него как призрак.
— Ты ждал восхода луны? — спросил сэр Джон, взглянув из под мохнатых бровей на Кристофера, когда он вернулся.
— Нет, сэр, но коридоры в вашем старом доме удивительно длинны, и я повернул не в ту сторону, проходя по ним.
— О! — сказал сэр Джон. — У тебя изумительная способность поворачивать не в ту сторону; впрочем, расставаться, конечно, не легко. Теперь ты понимаешь, что вы виделись в последний раз?
— Я понимаю, что вы это говорите, сэр.
— Надеюсь, что я могу и думать так. Послушай, Кристофер, — добавил он строго, но ласково, — поверь мне, ты мне нравишься, и я бы не стал огорчать ни тебя, ни девушку, если бы мог. Но у меня нет выбора. Мне угрожают со всех сторон и священник и король, а ты потерял свое наследство. Она единственное сокровище, которое я могу дать в залог; и ради ее собственного блага и ради ее будущих детей она должна как следует выйти замуж. Этот Деспард долго не протянет, он слишком много пьет; тогда, быть может, придет твой день, если ты все еще будешь неравнодушен к его наследству. Случится это года через два, а то и меньше, она скоро проводит его в другой мир. А теперь не будем больше говорить об этом, но если что-нибудь случится со мной, будь ей другом. Вот и водка — выпей и уходи. Пусть тебе кажется, что я суров с тобой, я все же надеюсь, ты осушишь в Шефтоне еще не один кубок.
Было семь часов утра следующего дня, когда сэр Джон, позавтракав, опоясывался мечом, так как Джефри уже пошел за лошадьми; дверь в большой зал отворилась, и вошла его дочь со свечой в руках, закутанная в меховой плащ, поверх которого ниспадали ее длинные волосы. Взглянув на нее, сэр Джон заметил в ее широко открытых глазах ужас.
— Что с тобой, девочка? — спросил он. — Ты умрешь от простуды на сквозняке.
— О отец! — воскликнула она, целуя его. — Я пришла проститься с вами и…
И просить вас не ехать.
— Не ехать? Но почему?
— Потому что, отец, я видела плохой сон.
— Я не боюсь снов, все эти глупости от плохого пищеварения.
— Может быть, отец, но вы должны остаться дома и послать кого-нибудь другого по этому делу. Например, сэра Кристофера.
— Зачем мне бояться твоего сна, правдив ли он или ложен? Если он правдив, то ничего не поделаешь, он должен исполниться; если ложен, с какой стати придавать ему значение? Сайсели, я простой человек и не обращаю внимания на такие фантазии. Но у меня есть враги, и вполне возможно, что мой час настал. Если так, то полагайся на свой здравый смысл, дочка, остерегайся Мэлдона; будь осторожна, спрячь драгоценности твоей матери. — И он повернулся, чтобы уйти.
Она схватила его за руку.
— Отец, что я должна делать, если с вами что-нибудь случится? — пылко спросила она.
Он остановился и смерил ее взором от головы до пят.
— Я вижу, что ты веришь в свой сон, — сказал он. — И хотя это и не остановит Фотрела, я начинаю верить в него тоже. Если это случится, у тебя будет возлюбленный, которому я отказал. Он и мне по сердцу и будет крепко бороться за тебя. Если я умру, моя игра кончена. Тогда начинай свою сначала, милая Сайсели, и начни ее скорее, прежде чем аббат станет тебя преследовать. Хоть я был и груб, не поминай меня лихом, и пусть будет с тобой божие и мое благословение. А вот и Джефри зовет; если лошади будут стоять, они замерзнут. Ну прощай. Не бойся за меня, у меня надета под плащом кольчуга. Ложись опять в постель и согрейся. — Он поцеловал ее в лоб, отстранил от себя и ушел.
Так Сайсели и рассталась с отцом навсегда.
Весь этот день сэр Джон и его слуга Джефри скакали вперед по снегу. Но иногда они были вынуждены идти пешком по глубоким сугробам. Они ехали лесной тропой и хотели добраться до одной фермы в прогалине среди лесов за два часа до заката, переночевать в ней и на рассвете направиться в Фенс и Кембридж. Это, однако, оказалось невозможным: дорога была уж очень плоха. И получилось так, что немногим ранее пяти часов, когда темнота сомкнулась над ними, принеся с собой холод, и стонущий ветер, и неожиданный снегопад, они были вынуждены укрыться в хижине лесничего, построенной из прутьев, и дождаться, пока луна не выйдет из-за облаков. Там они накормили лошадей захваченным с собой зерном, поели сами сухого мяса и ячменных лепешек, запас которых нес Джефри в сумке на плече. Трапеза была убогая, в полной темноте, но она помогла хоть немного утолить голод и провести время. Наконец луч света проник через дверь в хижину.
— Луна взошла, — сказал сэр Джон. — Поедем, пока лошади не замерзли. Ничего не ответив, Джефри взнуздал лошадей и вывел их из хижины. В это время появилась полная луна, как огромный белый глаз между двумя черными грядами облаков, и покрыла серебром весь мир. Она осветила печальную картину; сверкающая равнина снега, местами поросшая кустарником боярышника, и то тут, то там мрачные очертания подстриженных дубов; это была опушка леса, и люди приходили сюда обрубать верхушки деревьев для топлива.
На расстоянии примерно ста пятидесяти ярдов, на гребне склона возвышался округлой формы холм, созданный не природой, а рукой человека. Никто точно не знал, но существовало предание, что однажды, сотни или тысячи лет назад, здесь произошла великая битва, в которой был убит король, и его победоносная армия, чтобы увековечить его память, насыпала над его останками этот холм.
В этой легенде говорилось, что это был морской король, поэтому для него построили или принесли сюда с берега реки лодку со всеми приспособлениями для гребли и усадили его в нее; также говорили, что по ночам можно видеть, как он в доспехах верхом на лошади объезжает окрестности, будто все еще руководит битвой. Во всяком случае холм назывался Королевским курганом, и люди боялись проходить мимо него после захода солнца.
Держа стремя своего хозяина, чтобы помочь ему сесть на лошадь, Джефри Стоукс вдруг вскрикнул и указал на что-то. Взглянув по направлению его вытянутой руки, сэр Джон в ясном лунном свете увидел всадника, неподвижного, как статуя, на самой вершине Королевского кургана. Казалось, он был закутан в длинный плащ, но его шлем сверкал на голове, как серебро. В следующую минуту край черной тучи скрыл диск луны, и, когда туча прошла, человека на лошади уже не было.
— Что этот парень там делал? — спросил сэр Джон.
— Парень? — дрожащим голосом ответил Джефри. — Я не видел никакого парня. Это был могильный призрак. Мой дедушка, вероятно, встретил его, потому что погиб в лесу неизвестно какой смертью; волки, которых было очень много в те дни, обглодали дочиста его кости; за сотни лет его встречали и многие другие и всегда как раз перед смертью. Плохой вестник -этот могильный призрак, и тот, кому он попался на глаза, поступит мудро, если повернет своих лошадей к дому; я бы тоже так сделал сегодня вечером, если бы мог поступить по-своему, хозяин.
— Какой в этом смысл, Джефри? Если он предрекает смерть, пусть придет смерть. Да я и не верю этим сказкам. Твое привидение просто лесной сторож или пастух.
— Лесной сторож или пастух не слоняются в метель в стальном шлеме на прекрасной лошади, когда нет скота для охраны и нельзя рубить деревья. Думайте, как хотите, хозяин, только упаси меня боже от таких сторожей и пастухов. Они, я полагаю, вестники ада.
— Значит, это был шпион, следивший за тем, куда мы едем, — ответил сэр Джон.
— Если так, то кто послал его? Блосхолмский аббат? В таком случае я бы лучше предпочел встретить дьявола, потому что с аббатом беды-то уж наверно не миновать. Я думаю, что нам лучше вернуться в Шефтон.
— Если тебе страшно, ты так и сделай, Джефри, а я для честного дела не побоюсь ни сатаны, ни аббата и поеду дальше один.
— Нет, хозяин. Много лет назад, когда мы были моложе, я сражался около вас на Флодденском поле, и сэр Эдуард, отец Кристофера Харфлита, был убит рядом с нами, а голоштанные рыжебородые шотландцы крепко нас нажимали, однако мне ни разу не захотелось удрать, даже когда детина с топором свалил вас и мы думали, что все погибло. Так зачем мне удирать сейчас? Хотя, по правде сказать, я боюсь этой нечисти больше, чем всех горцев по ту сторону Твида
[102]. Едем; человек умирает только раз, и не все ли равно, когда это случится, потому что мне нечего терять в этом паршивом мире.
И так, без лишних слов, они отправились дальше, все время оглядываясь по сторонам. Вскоре лес стал гуще, и дорога, по которой они ехали, вилась то между огромными стволами первобытных дубов, то по краям болот, то сквозь колючий кустарник. Иногда дорогу очень трудно было различить, так как снег засыпал ее и под дубами было очень темно. Но Джефри родился в лесах и с детства различал по виду каждое дерево в тех местах, поэтому они благополучно ехали по правильной дороге. Но лучше было бы им никуда не ехать!
Когда они достигли перекрестка, где три другие дороги пересекали их путь, Джефри Стоукс, ехавший впереди, поднял руку.
— Что такое? — спросил сэр Джон.
— Следы десятка или доброй дюжины подкованных лошадей, проехавших часа через два после того, как снег выпал в последний раз. Интересно — кто бы это мог быть?
— Должно быть, путешественники, как и мы. Едем дальше, парень; до фермы осталось не больше мили.
Но Джефри Стоукс возразил:
— Хозяин, не нравится мне все это. Здесь скакали воины, а не странствующие торговцы или фермеры, и мне думается…
Мне думается, я узнаю их следы. Я говорю вам, нам лучше повернуть, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку.
— Поворачивай тогда ты, — равнодушно пробурчал сэр Джон. — Я замерз, устал и хочу покоя.
— Молите господа, чтобы вы не нашли его навсегда, — пробормотал Джефри, пришпорив лошадь.
Они поехали дальше через мертвую зимнюю тишину, прерывавшуюся лишь криками голодной совы, ищущей и не находящей пищи, или шорохом лисьих шагов, когда лиса петляя, пробиралась по снегу мимо них.
Наконец они выехали на окаймленную лесом и такую сырую поляну, что только болотные деревья могли там расти. Направо от них была небольшая, покрытая льдом заводь, с высохшим коричневым тростником, торчавшим тут и там на ее поверхности, а на противоположной стороне заводи росла группа совершенно обстриженных ив; их верхушки были срублены для столбов жителями расположенной недалеко отсюда лесной фермы. Усталая лошадь понюхала воздух и заржала, и в ответ ей совсем близко тоже послышалось ржание.
— Слава богу! Мы находимся ближе к ферме, чем я думал, — сказал сэр Джон.
— Когда он произнес эти слова, из-за колючего кустарника, служившего укрытием, появилось несколько человек, мчавшихся на них галопом, и лунный свет осветил обнаженные клинки в их руках.
— Воры! — закричал сэр Джон. — А ну-ка на них, Джефри, и пробьемся к ферме.
Слуга помедлил; он видел, что врагов было много и они не были просто грабителями, но его хозяин вытащил свой меч, пришпорил лошадь, и Джефри должен был последовать его примеру. Через двадцать секунд они уже были среди них, и кто-то предложил им сдаться. Сэр Джон бросился на этого парня и, поднявшись на стременах, ударил его. Тот мешком свалился на землю и теперь неподвижно лежал на снегу, окрасившемся алым цветом вокруг него. Один из всадников напал на Джефри, но тот повернул свою лошадь, и удар просвистел мимо, а затем Джефри острием меча отшвырнул его так, что всадник тоже упал и, чуть вздрагивая, остался лежать на снегу. Остальные, решив, что встреча была чересчур горячей, круто повернули и опять исчезли среди колючего кустарника.
— Теперь едем к ферме, — сказал Джефри.
— Не могу, — ответил сэр Джон. — Один из этих мошенников ранил мою кобылу. — И он указал на кровь бежавшую из глубокой раны в передней ноге лошади, которую она поднимала с жалобным видом.
— Возьмите мою, — сказал Джефри. — Я ускользну от них и пешком.
— Ни за что! К ивам! Мы будем защищаться там. — И, спрыгнув на землю, он побежал под прикрытие деревьев, а следом за ним верхом ехал Джефри. Раненая лошадь попыталась, прихрамывая, последовать за ними, но не смогла, так как у нее были разорваны сухожилия.
— Кто эти негодяи? — спросил сэр Джон.
— Оруженосцы аббата, — ответил Джефри. — Я видел лицо того которого я заколол.
Лицо сэра Джона омрачилось.
— Тогда нам конец, друг; они не посмеют нас выпустить.
В то время как он говорил, около них просвистела стрела.
— Джефри, — продолжал он, — у меня с собой есть документы; их нельзя потерять, с ними будет потеряно наследство моей девочки. Возьми их. — И он сунул пакет ему в руки. — И этот кошелек тоже. В нем порядочно денег. Беги отсюда куда угодно и спрячься на время в каком-нибудь потайном убежище. Не то они заставят тебя молчать. А потом, я поручаю это твоей совести, вернись с подмогой и повесь этого мошенника-аббата — ради твоей, Джефри. Она и господь вознаградят тебя за это.
Слуга сунул кошелек и бумаги в какой-то глубокий карман.
— Как я могу оставить вас, когда вам грозит смерть? — пробормотал он, скрипя зубами.
Не успели эти слова слететь с его губ, как он услышал, что в горле хозяина что-то заклокотало, и увидел стрелу, выпущенную откуда-то сзади и пронзившую ему горло. Опытный воин, он сразу понял, что рана была смертельна. Тогда он больше не колебался.
— Христос да успокоит вас! — сказал он. — Я выполню ваше приказание или умру. — И, повернув лошадь, он вонзил в нее шпоры, и та помчалась быстрее оленя.
Несколько мгновений сэр Джон наблюдал за тем, как он удалялся. Потом он выбежал из-за прикрытия, потрясая мечом над головой, — выбежал на открытое место, освещенное лунным светом, чтобы привлечь стрелы на себя. И они быстро посыпались на него, но прежде чем он упал — ибо его кольчуга была достаточно крепкой, — Джефри, припав к шее лошади, был уже в безопасности. Хотя убийцы упорно преследовали его, им не удалось его поймать.
Они искали его несколько дней в Шефтоне, ни в каком-либо другом месте. Джефри хорошо знал, что все дороги оцеплены, поэтому, не смея пробраться к дому, скакал как заяц, пока не добрался до моря; там стоял корабль, направляющийся в чужие страны, и на рассвете Джефри был уже в открытом море.
3. СВАДЬБА
На следующий день после гибели сэра Джона Сайсели Фотрел около полудня завтракала в Шефтон Холле. Она едва притронулась к грубой зимней пище, так как на душе у нее было неспокойно. Ее разлучили с любимым человеком, потому что он был накануне разорения, а ее отец отправился в путешествие, и она скорее догадывалась, чем знала, что оно было очень опасным. Молодая девушка, без друзей поблизости, в большом старом зале чувствовала себя покинутой. Сидя в этой огромной комнате, она вспоминала, до какой степени все было иным в годы ее детства, пока какая-то заразная болезнь, название и происхождение которой ей не было известно, не унесла ее мать, двух братьев и сестру — всех в одну неделю, не тронув только ее. Тогда в доме звучали веселые голоса, а теперь воцарилась тишина; и она одна, с нею только ее спаниель
[103]. Кроме того, большая часть челяди уехала на повозках, нагруженных годовым запасом остриженной шерсти, которую отец берег до того момента, когда цены на нее вздорожали. И по такому глубокому снегу они вернутся не раньше чем через неделю, а то и позже.
О! Тревога, как зимние облака, давила ее сердце, и она, хотя была молода и красива, почти жалела о том, что не умерла тогда со своими братьями и не обрела наконец покой.
Чтобы подбодрить себя, она отпила из кубка пряного эля, поставленного около нее слугой и накрытого салфеткой, и была рада, что он согрел и немного успокоил ее. Как раз в эту минуту отворилась дверь и вошла ее кормилица, миссис Стоуэр. Она была красавицей в расцвете лет; ее мужа и ребенка унесла лихорадка, когда ей не было еще и девятнадцати, после чего ее привезли в Холл, чтобы нянчить Сайсели ибо мать девочки была очень больна после родов. Эмлин была высокой и смуглой, свои черные сверкающие глаза она унаследовала от отца, испанца благородного происхождения; ходили слухи, что в жилах ее матери текла цыганская кровь.
Во всем мире Эмлин Стоуэр любила только двоих людей: свою воспитанницу Сайсели да одного друга детства, некоего Томаса Болла, теперь брата-мирянина
[104], скотника при аббатстве. Рассказывали, что в ранней юности он ухаживал за ней и она не противилась этому, но, когда трагически погибли ее родители, она, повинуясь воле опекуна, бывшего блосхолмского настоятеля, вышла замуж против своего желания; Томас же облекся в одежды брата-мирянина, так как был йоменом
[105] из хорошей семьи, хотя и малообразованным.
Сайсели почувствовала в поведении кормилицы нечто странное, предвещавшее беду. Та остановилась около двери, повертела задвижку, чего никогда раньше не делала, потом повернулась и, выпрямившись, встала прямо против Сайсели, как картина в раме.
— Что случилось, няня? — спросила Сайсели дрожащим голосом. — Судя по твоему виду, у тебя есть новости.
Эмлин Стоуэр прошла вперед, оперлась рукой о дубовый стол и ответила:
— Вести недобрые, если это правда. Будь готова, моя голубка!
— Скорее, Эмлин, — тяжело дыша спросила Сайсели. — Кто погиб? Кристофер?
Эмлин покачала головой, и Сайсели с облегчением вздохнула, добавив:
— Тогда кто же?
— Ах, дорогая, ты теперь сирота.
Голова девушки склонилась на грудь. Потом она подняла ее и спросила: — Кто сказал тебе? Скажи мне всю правду, или я умру.
— Мой друг, — имеющий связь с аббатством; не спрашивай его имени.
— Я его знаю, Эмлин. Томас Болл, — прошептала в ответ Сайсели.
— Мой друг, — повторила высокая смуглая женщина, — рассказал мне, что сэр Джон Фотрел, наш господин, был убит бандой вооруженных людей и он сам убил двоих.
— Из аббатства? — спросила Сайсели так же шепотом.
— Кто знает? Я думаю, ими. Говорят, что стрела в его горле была как раз такой, какие они там делают. Джефри Стоукса преследовали, но он спасся бегством на каком-то тотчас же отплывшем корабле.
— Смерть ему за это, трусу! — воскликнула Сайсели.
— Не вини его пока. Он встретил другого моего друга и просил передать: он уехал, повинуясь последней воле своего хозяина; он слишком много видел, и для него бродить в окрестностях значило идти на верную смерть; но если он будет жив, то вернется с документами из-за моря, когда наступят лучшие времена. Он просит, чтобы вы в нем не сомневались.
— Документы? Какие документы, Эмлин?
Та пожала плечами.
— Откуда мне знать? Наверное, те, которые ваш отец повез с собой в Лондон и боялся потерять. Несгораемый ящик в его комнате открыт.
Теперь бедная Сайсели вспомнила, что ее отец говорил о каких-то документах, которые он собирался взять с собой, и начала плакать.
— Не плачь, дорогая, — сказала ее кормилица, гладя своей сильной рукой каштановые волосы Сайсели. — Так суждено богом, и с этим покончено. Теперь ты должна позаботиться о себе. Твоего отца нет, но кое-кто у тебя остался.
Сайсели подняла заплаканное лицо.
— Да, у меня есть ты, — сказала она.
— Я! — ответила Эмлин с беглой улыбкой. — Нет, какая от меня польза? Прошли те дни, когда тебе нужна была нянька. Ты мне что-то говорила о своем разговоре с отцом перед его отъездом, что-то насчет сэра Кристофера? Молчи! На разговоры нет времени; ты должна ехать в Крануэл Тауэрс.
— Зачем? — спросила Сайсели. — Он не может вернуть моего отца к жизни, право, показалось бы странным, что в такое время я посещаю мужчину в его собственном доме. Пошли к нему с этими вестями. Я останусь, чтобы похоронить моего отца и, — добавила она гордо, — чтобы отомстить за него. — Если так, голубка, ты останешься здесь, пока тебя тоже не похоронят в том же монастыре. Слушай! Я еще не рассказала тебе всех новостей. Аббат Мэлдон претендует на земли Блосхолма на основании какого-то хитрого закона. Из-за этого твой отец поссорился с аббатом в тот вечер. Вместе с землями ты попадешь под его опеку, как когда-то я была отдана под власть этого монастыря. До захода солнца сюда со своими оруженосцами приедет аббат, чтобы забрать все, а тебя для безопасности посадить в монастырь, где твоим мужем станет святая церковь.
— Господи боже мой! Неужели это так? — сказала Сайсели, вскакивая. -А большинство наших людей уехало! Я не смогу защитить дом от этого иноземного аббата, а осиротевшая наследница может продать только движимое имущество! О! Теперь я понимаю, что хотел сказать мой отец. Прикажи готовить лошадей. Я поеду к Кристоферу. Однако постой, няня. Что ему со мной делать? Это может показаться ему бесстыдным и оскорбить его.
— Думаю, что он жениться на тебе. Думаю, что сегодня ночью ты будешь его женой. Если же он не захочет, я узнаю почему, — гневно добавила она.
— Женой! Вечером! — воскликнула девушка, покраснев до корней волос. -А отец только что умер! Как это можно?
— Мы поговорим об этом с Харфлитом. Может быть, он, как и ты, захочет подождать и попросить оглашения в церкви или изложит дело перед лондонским юристом. Но я приказала приготовить лошадей и послала одну записку аббату с уведомлением, что ты приедешь узнать об участи отца, поэтому он не тронется с места до вечера; и другую в Крануэл Тауэрс, чтобы мы смогли найти нам кров и пищу. А теперь живо бери твой плащ и капюшон. Драгоценности в шкатулке у меня, потому что Мэлдон добивается их больше, чем даже ваших земель, и с ними все деньги, какие я нашла. Кроме того, я велела швее уложить кое-какие платья. Аббат голоден и скоро зашевелится. У нас нет времени для разговоров.
Через три часа при красном зареве заката Кристофер Харфлит, стоявший у дверей, увидел, что к нему по снегу едут верхом две женщины. Он узнал их еще тогда, когда они были довольно далеко.
— Значит, это правда, — сказал он отцу Роджеру Нектону, старому священнику Крануэла, вызванному им из прихода. — Я думал, этот дурак посыльный был пьян. Что же могло случиться, святой отец?
— Думаю, что сэр Джон погиб, сын мой, потому что, наверное, ничто иное не привело бы сюда леди Сайсели без свиты, с одной только служанкой. Весь вопрос с том — что произойдет дальше? — И он искоса взглянул на него. — Я-то знаю что, если бы все исполнилось по моему желанию, — ответил Кристофер с веселым смехом. — Скажите, отец, если бы вышло так, что эта леди захотела бы этого, смогли бы вы нас обвенчать?
— Без сомнения, сын мой, с согласия родителей. — И снова он взглянул на него.
— А если бы не было родителей?
— Тогда с согласия опекуна, так как невеста несовершеннолетняя.
— А если бы опекун не был объявлен или признан?
— Тогда такой брак, совершенный должным порядком, как всякое церковное таинство, будет нерушим, пока не велит судьба и пока папа его не отменит. Но ты знаешь, в этой стране папу не любят именно из-за брачного вопроса. Разреши мне объяснить тебе закон, церковный и гражданский…
Но Кристофер уже бежал к воротам, и наставление старого проповедника осталось недосказанным…
Они встретились в снежной метели; Эмлин Стоуэр поехала вперед, оставив их наедине.
— Что случилось, дорогая? — спросил он. — Что случилось?
— О Кристофер! — ответила Сайсели, всхлипывая. — Мой бедный отец умер — убит, по словам Эмлин.
— Убит! Кем?
— Воинами блосхолмского аббата, сказала мне Эмлин. Там, в лесу, вчера ночью. И по словам той же Эмлин, аббат собирается приехать в Шефтон, чтобы взять меня под опеку и заточить в монастырь. И потому, хоть и странно поступать так, но, оставшись беззащитной, я убежала к вам, — мне так велела Эмлин.
— Мудрая женщина эта Эмлин, — прервал Кристофер. — Я всегда ценил ее советы. Но неужели вы приехали ко мне только потому, что так велела Эмлин? — Не только поэтому, Кристофер. Я приехала от отчаяния: лучше быть с другом, чем одной. Куда еще я могла поехать? Кроме того, мой бедный отец, хотя и был очень сердит на вас, велел мне — это были его последние слова, — если возникнет необходимость, просить вашей помощи и…
О! Кристофер, я приехала, потому что вы клялись любить меня — я верила этому. Если бы я попала в монастырь, мать Матильда, настоятельница, хоть она добра и друг мне, может быть, и не выпустила бы меня оттуда, ведь ее начальник аббат, а он-то мне не друг. Он хочет отнять наши земли и знаменитые драгоценности. Эмлин захватила их с собой.
За это время они переехали ров и очутились у крыльца дома, и поэтому, не ответив, Кристофер, нежно снимая ее с седла, крепко прижал к груди; это, ему казалось, было самым лучшим ответом.
Подошел грум, чтобы увести лошадей: он притронулся в знак почтения к шапке и с любопытством посмотрел на них, а Сайсели, опершись на плечо своего возлюбленного, прошла сквозь сводчатую дверь Крануэл Тауэрса и попала в зал, где полыхал яркий огонь. Перед камином, грея тонкие руки, стоял отец Нектон и оживленно беседовал с Эмлин Стоуэр. При приближении молодых людей разговор оборвался — очевидно, речь шла о них.
— Госпожа Сайсели, — несколько возбужденно сказал добрый старик, -боюсь, что печальные обстоятельства привели вас сюда. — И он замолчал, не зная, что добавить.
— Да, действительно, — ответила она, — если все, что я слышала, правда. Говорят, что мой отец убит злодеями, но я точно не знаю, за что и кем, и что аббат Блосхолма собирается взять меня под свою опеку и заточить меня в Блосхолмский женский монастырь, а я не хочу туда идти. Я убежала сюда от него, потому что у меня нет другого убежища, хотя вы дурно можете истолковать мой поступок…
— Только не я, дитя мое. Я не буду выступать против аббата, потому что по церковному уставу он выше меня, но, примите во внимание, я ему не присягал в верности, так как этот приход ему не принадлежит, и я не бенедиктинец
[106]. Все же скажу вам правду. Я считаю этого человека бесчестным. Руки у него загребущие; мало того, он не англичанин, а испанец, которого кто-то подослал сюда вредить нашему королевству, высасывать его богатства, устраивать бунты и доносить обо всем происходящем на пользу врагов Англии. — Однако у него при дворе есть друзья. Так, по крайней мере, сказал мой отец.
— Да, да, у таких людей всегда бывают друзья — деньги покупают их, хотя, может быть, для него и ему подобных черный день недалек. Да, ваш бедный отец погиб бог знает как, хотя я давно думал, что ему несдобровать, ибо он всегда говорил правду, да и вы с вашим богатством — лакомый кусочек для Мэлдона. А теперь, что нам дальше делать? Это тяжелый случай. Хотите ли вы укрыться в каком-нибудь другом монастыре?
— Нет, — ответила Сайсели, искоса взглянув на своего возлюбленного.
— Тогда, что же делать?
— О! Я не знаю, — сказала она и разрыдалась. — Что мне сказать вам, когда я в таком смятении и печали? У меня был единственный друг — мой отец, хотя временами он бывал груб. Однако по-своему он любил меня, и я послушалась его последнего совета. — И, потеряв остатки мужества, она опустилась на стул и, схватившись за голову, стала раскачиваться из стороны в сторону.
— Это неправда, — смело сказала Эмлин. — Разве я, вскормившая тебя, не друг тебе и разве отец Нектон не друг, и сэр Кристофер не друг? Уж если все вы потеряли разум, то я его сохранила, и вот мой совет! Там, на расстоянии не далее двух выстрелов из лука, есть церковь, а перед собой я вижу священника и пару, которая сойдет за жениха и невесту. И мы можем найти свидетелей и кубок вина, чтобы выпить за ваше здоровье, а после этого пусть блосхолмский аббат беснуется. Что скажете вы, сэр Кристофер?
— Вы знаете, что я думаю, няня Эмлин; но что скажет Сайсели? О! Сайсели, что скажете вы? — И он
наклонился над ней.
Она поднялась, все еще всхлипывая, обхватила его шею руками и положила ему голову на плечо.
— Я думаю, что это воля божья, — прошептала она, — и зачем сопротивляться ей мне — его рабе и вашей, Крис?
— А теперь, что скажете вы, святой отец? — спросила Эмлин, указывая на молодых людей.
— Что еще можно сказать? — ответил старый священник, отворачиваясь. -Если вы потрудитесь прийти в церковь минут через десять, то найдете там свечу на алтаре, священника на амвоне и дьячка с открытой книгой. Большего мы не можем сделать за такое короткое время.
Затем он замолк, словно ожидая ответа, но, не услышав возражений, прошел через зал и вышел в дверь.
Эмлин взяла Сайсели под руку, повела ее в отведенную им комнату и там, как могла лучше, подготовила ее к свадебному торжеству. Не было красивого платья, чтобы ее нарядить, да, по правде говоря, и времени, чтобы наряжаться.
Но она причесала ее красивые каштановые волосы и, открыв шкатулку с восточными драгоценностями — великой гордостью Фотрелов, самым редкостным и древними в округе, украсила ее ими. Она надела на ее высокий лоб обруч с ниспадающими с него сверкающими бриллиантами, привезенными, как рассказывала легенда, предком ее матери — Карфаксом — из Святой земли, где когда-то они были личной собственностью языческой королевы, а на шею ожерелье из больших жемчужин. Для ее груди и пальцев нашлись броши и кольца, а для талии — драгоценный пояс с золотой пряжкой; а в ее уши она вдела две лучшие драгоценности: две большие розовые жемчужины, похожих на цветущий боярышник, когда он начинает вянуть. Наконец, она накинула ей на голову вуаль из диковинно сплетенных кружев и с гордостью отступила назад, чтобы взглянуть на нее.
Теперь Сайсели, все время молчавшая и не сопротивлявшаяся, в первый раз заговорила:
— Как они попали сюда, няня?
— Твоя мать надела их, когда венчалась, и ее мать тоже, так мне говорили. И однажды я уже надевала их на тебя, когда тебя крестили, голубка!
— Может быть; но как ты привезла их сюда?
— Под платьем на груди. Не зная, когда мы снова вернемся домой, я привезла их, думая что когда-нибудь ты выйдешь замуж и тогда они тебе пригодятся. А теперь, как это не странно, наступил час свадьбы.
— Эмлин, Эмлин, я уверена, что ты заранее задумала все это, и один бог знает, чем это кончится.
— Потому и бывает начало, дорогая, чтобы в предначертанное время наступил конец.
— О, но каким будет этот конец? Может быть, ты надела на меня саван. По правде говоря, я чувствую себя так, будто рядом со мной смерть.
— Она всегда рядом, — беззаботно ответила Эмлин. — Но пока она не трогает, — какое это имеет значение? Слушай, моя голубка; во мне течет испанская и цыганская кровь, а я верю предчувствиям и скажу тебе кое-что для твоего успокоения. Как бы часто не протягивала смерть к тебе свою руку, она не тронет тебя долгие, долгие годы, пока ты со временем не станешь почти такой же худой, как она! О! У тебя будут горести, как и у всех нас, может, хуже, чем у большинства, но ты дитя Счастья, ты выжила, когда все остальные погибли, и ты победишь и поддержишь других, как кит поддерживает морских уток. Поэтому дай, как и я, щелчок смерти, — и она сделала соответствующий жест, — и будь счастлива, пока можешь, а когда будешь несчастна, жди, пока наступят счастливые дни. А теперь иди за мной и, хотя твой отец убит, улыбайся, как должно улыбаться в подобный час, потому что какой мужчина захочет печальную невесту?
Они спустились в зал по широкой дубовой лестнице, где ожидал их Кристофер. Смущенно взглянув на него, Сайсели увидела, что под плащом у него была надета кольчуга и меч был привешен сбоку к поясу; с ним было несколько вооруженных людей. С минуту он не отрываясь, в смятении смотрел на ее сверкающую красоту, потом произнес:
— Не бойся напоминания о войне в час любви. — И он дотронулся до своих блестящих доспехов. — Сайсели, наша свадьба столь же странная, как и счастливая, и кто-нибудь может попытаться помешать ей. Теперь пойдем, моя дорогая леди. — И, низко поклонившись, он взял ее за руку и повел из дома; за ними следовала Эмлин, а вокруг, спереди и сзади, — слуги с факелами. Был сильный мороз, и снег хрустел под ногами. На западе, на сумрачном небе все еще горели последние красные отблески заката, а над ними, из-за выпуклого края земли, поднималась огромная луна. В саду, среди кустов и на тополях, окаймлявших ров, черные дрозды и дрозды-рябинники пели свою зимнюю вечернюю песню, в то время как вокруг серой башни соседней церкви все еще вились галки.
Эта картина, которая в ту минуту Сайсели, казалось, и не заметила, навсегда запечатлелась в ее памяти: холодные снега, чернильные деревья, тяжелое небо, сверкающий лик луны, дымный свет факелов, подхваченный и отраженный ее драгоценностями и кольчугой жениха, крики зимних птиц, лай собаки вдалеке, чужое крыльцо церкви, приближавшаяся с каждым шагом, продолговатые могильные камни, скрывавшие кости сотен людей; в свое время эти люди детьми проходили мимо них, потом женихами и невестами, и, наконец, тут пронесли окоченевшие белые тела тех, кто был раньше мужчинами и женщинами.
Теперь Сайсели и Кристофер оказались в крыле старого храма, где их, словно мечом, ударило холодом. При дымном свете факелов было видно, что, несмотря на короткий промежуток времени, вести об этой удивительной свадьбе распространились в округе, так как повсюду стояли группами, по крайней мере, десятка два людей, а некоторые из них сидели на дубовых скамьях около алтаря.
Все они повернулись и с любопытством смотрели, как жених и невеста прошли к алтарю, где стоял священник в облачении, а так как зрение у священника было неважное, то за ним стоял старый дьячок, высоко державший конюшенный фонарь, чтобы тот мог читать по книге.
Они дошли до резной перегородки и, по знаку священника, встали на колени. Отчетливым голосом он начал службу; вскоре, по вторичному знаку, молодая пара поднялась, подошла к перилам алтаря и снова встала на колени. Лунный свет, льющийся через западное окно, освещал их обоих, придавая им сходство с холодными белыми мраморными статуями, коленопреклоненными на могильной плите рядом с ними.
В течение всего обряда Сайсели, как зачарованная, смотрела на эти статуи, и ей казалось, что они и Харфлиты, крестоносцы давно прошедших дней, лежавшие совсем рядом, ласково и задумчиво следили за ней. Она дала нужные ответы; кольцо, хотя и слишком узкое, было надето ей на палец (в течение всей последующей жизни это кольцо временами причиняло ей боль, но она ни за что не хотела снять его), а потом кто-то поцеловал ее. Сначала она подумала, что это, должно быть, ее отец, и затем, вспомнив, чуть не заплакала, но услышала, как голос Кристофера называет ее женой, и поняла, что она была обвенчана.
Пока старый дьячок все еще держал фонарь над отцом Роджером, тот записал что-то в маленькой книге с пергаментным переплетом, спросив год ее рождения и полное имя; это показалось ей странным, — ведь он был на ее крестинах. Затем ее муж, пользуясь алтарем вместо стола, расписался в книге не очень-то быстро, так как он был плохой грамотей, и она тоже расписалась в последний раз своей девичьей фамилией; расписался и священник, и по его приказанию расписалась также и Эмлин Стоукс, умевшая хорошо писать. Потом, как бы спохватившись, отец Роджер вызвал некоторых прихожан, и они тоже хотя довольно неохотно, подписались как свидетели. Пока они это делали, он объяснил им, что ввиду особых обстоятельств лучше, чтобы были свидетельские показания, и что он собирается послать экземпляры этой записи разным сановникам и даже самому святому отцу в Рим.
Узнав это, они, казалось, пожалели, что связались с таким делом, и один за другим исчезли в темноте церковного крыла и из памяти Сайсели. Наконец все было кончено. Отец Нектон дул на маленькую книжку, пока не высохли чернила, потом спрятал ее под платьем. Старый дьячок, положив в карман полученное от Кристофера щедрое вознаграждение, осветил молодым путь через крыло церкви к выходу, затем запер за ними дубовую дверь, погасил свой фонарь и потащился по снегу к трактиру, чтобы там поболтать об этой свадьбе и выпить горячего пива.
В сопровождении факелоносцев Сайсели и Кристофер молча шли рука об руку к Тауэрсу, куда Эмлин, поцеловав невесту, ушла раньше. Добавив к своим бесчисленным летописям еще одну, быть может самую странную из всех церемонию, древняя церковь, оставшаяся позади, погрузилась в такое же безмолвие, как покойники в своих могилах.
Придя в Тауэрс, новобрачные вместе с Эмлин и отцом Роджером уселись за превосходнейший ужин, какой только мог быть приготовлен в столь короткий срок. Это был очень странный свадебный пир. Несмотря на малое число сотрапезников, сердечности хватало, так как старый священник произнес заздравную речь, пересыпанную латинскими словами, которых они не поняли; и все домашние, собравшиеся послушать его, выпили за них по кубку вина. Потом прекрасную невесту, которая то краснела, то бледнела, увели в лучшую комнату, наспех приготовленную для нее. Но Эмлин слегка задержалась, так как ей надо было кое-что сказать новобрачному.
— Сэр Кристофер, — сказала она, — вы очень быстро обвенчались с самой прекрасной леди, какую когда-либо освещало солнце или луна, вы можете считать себя счастливым. Однако такие большие радости редко достаются без горестей, и я думаю, горести эти близки. Найдутся люди, которые позавидуют вашему счастью, сэр Кристофер.
— Но ведь им не изменить случившегося, Эмлин, — ответил он с беспокойством. — Узел, завязанный сегодня вечером, не может быть развязан. — Никогда, — вставил отец Роджер. — Хотя, может быть, обстоятельства и внезапность этого союза необычны, но таинство совершено перед лицом всего мира с полного согласия обеих сторон и святой церкви. Мало того, еще до рассвета запись об этом я пошлю в регистратуру епископа и еще кое-куда, чтобы в последующие дни его не смогли оспаривать, и дам копии вам и кормилице вашей леди, ее ближайшему другу.
— Этот союз не может быть разорван ни на земле, ни на небе, -торжественно ответила Эмлин, — однако возможно, что его разрубит меч. Сэр Кристофер, я думаю, что правильнее всего как можно скорее уехать отсюда.
— Только, конечно, не сегодня вечером, няня! — воскликнул он.
— Нет, не сегодня вечером, — ответила она с еле заметной улыбкой. -Ваша жена пережила утомительный день, и у нее не хватило бы сил. Кроме того, нужно сделать приготовления, а сейчас это невозможно. Но завтра, если для вас будут открыты дороги, я думаю, мы должны отправиться в Лондон, где она сможет попросить защиты закона, потребовать свое наследство и попросить расследовать смерть отца.
— Это хороший совет, — сказал священник, и Кристофер, не отличавшийся разговорчивостью, кивнул головой.
— Как бы то ни было, — продолжала Эмлин, — у вас в доме есть шесть человек, а вокруг него имеются и другие. Отправьте посланца и соберите их всех здесь на рассвете, прикажите им захватить с собой провизии и какое у них есть оружие и луки. Поставьте также часового и, после того как отец и посланные уйдут, прикажите поднять подъемный мост.
— Чего вы боитесь? — спросил Кристофер, очнувшись от задумчивости.
— Я боюсь блосхолмского аббата и его наемных головорезов; для них закон не писан — об этом теперь знает душа погибшего сэра Джона; или же они используют законы, чтобы скрыть свои гнусные дела. Аббат уж постарается не допустить, чтобы такое сокровище проскользнуло у него между пальцев, а времена настали беспокойные.
— Увы! Увы! Это правда, — сказал отец Роджер, — этот аббат безжалостный человек, который ни с чем не считается, потому что он очень богат и у него много друзей как здесь, так и за морями. Однако он безусловно не посмеет…
— Это мы узнаем, — прервала Эмлин. — Тем временем, сэр Кристофер, встряхнитесь и отдайте приказание.
Кристофер созвал своих людей, поговорил с ними, после чего они очень помрачнели, но, будучи верными слугами и любя его, обещали выполнить все, как он велел.
Немного позже, сделав копию брачного свидетельства и подписав его, отец Роджер ушел вместе с посланцем. Подъемный мост подняли над рвом, двери заперли, и в башне у ворот поставили часового; тогда Кристофер, забыв обо всем, даже об опасности, угрожавшей им, пошел к той, что ждала его.
4. КЛЯТВА АББАТА
На следующее утро, вскоре после того как рассвело, Эмлин вызвала Кристофера и дала ему письмо.
— Когда оно пришло? — спросил он, подозрительно поворачивая его.
— Посыльный принес его из Блосхолмского аббатства, — ответила она.
— Жена, Сайсели, — позвал он через дверь, — будь добра, пойди сюда.
Она пришла очень скоро в длинном меховом плаще, необычайно хорошенькая, и, обняв свою кормилицу, спросила, что случилось.
— Вот, моя дорогая, — ответил он, протягивая ей бумагу. — Я никогда особенно не любил науки, а сегодня утром я, кажется, ненавижу ее; ты же больше училась, прочти ее.
— Мне не нравится эта большая печать, Крис; она не предвещает ничего хорошего, — слегка побледнев, с беспокойством ответила Сайсели.
— Послание, находящееся внутри, не мушмула
[107], делающаяся мягче от хранения, — сказала Эмлин. — Дайте его мне. Меня обучили в монастыре, я смогу прочесть их каракули.
Сайсели, не возражая, вручила Эмлин письмо; та взяла его своими сильными пальцами, сломала печать, вытащила шелк, развернула и прочла. Послание гласило:
«Сэру Кристоферу Харфлиту, госпоже Сайсели Фотрел, Эмлин Стоуэр, служанке, и всем другим, кого это может касаться.
Я, Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма, услышав о смерти сэра Джона Фотрела, рыцаря, от жестоких рук лесных воров и бродяг, в соответствии с исключительным правом, установленным законом и обычаем, вчера вечером принял на себя обязанности опекуна над вашей личностью и собственностью Сайсели, единственным оставшимся в живых его потомком. Мои посланцы вернулись с сообщением, что вы бежали из вашего дома в Шефтон Холле. Далее они сообщили, что, по слухам, вы отправились с вашей кормилицей, Эмлин Стоуэр, в Крануэл Тауэрс, в дом сэра Кристофера Харфлита. Если это так, то, ради вашего доброго имени, необходимо, чтобы вы немедленно покинули его, так как о вас и выше упомянутом сэре Кристофер Харфлите уже ходят сплетни. Поэтому я намереваюсь, если позволит господь, отправиться сегодня в Крануэл Тауэрс и если вы окажетесь там, то в качестве вашего законного опекуна и духовного отца приказать вам, несовершеннолетнему подростку, отправиться со мной в монастырь Блосхолма. Там я решил, во исполнение моей воли, оставить вас до тех пор, пока не найдется подходящий для вас муж, если только бог не обратит ваше сердце к себе и вы не останетесь в его стенах как одна из Христовых невест.
Клемент, аббат.”
Прочитав письмо, все трое поняли, что на них надвигается беда, и несколько мгновений стояли неподвижно, глядя друг на друга, затем Сайсели заговорила:
— Принеси мне бумагу и чернила, няня. Я отвечу аббату.
Все было принесено, Сайсели написала круглым девическим почерком:
«Милорд аббат, В ответ на ваше письмо я ставлю вас в известность о том, что мой благородный отец (причину жестокой смерти которого необходимо расследовать и отомстить за нее) приказал мне, прощаясь, искать убежища, как Вы и предположили, в этом доме, из опасения, что меня постигнет такая же судьба от рук его убийц. Здесь, вчера, я обвенчалась перед лицом бога и людей в церкви Крануэла, как вы можете узнать из прилагаемой бумаги. Вам теперь незачем искать мне мужа, так как мой дорогой супруг сэр Кристофер Харфлит и я соединены до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Заявляю также, что я не признавала и не признаю за Вами права теперь, или когда-либо раньше, опекать мою особу или унаследованные мною земли и богатства, коими я обладаю.
Ваша покорная слуга — Сайсели Харфлит.”
Это письмо Сайсели переписала начисто, запечатала и затем оно было отдано посланцу аббата, который положил его в сумку и ускакал так быстро, как только возможно было по глубокому снегу.
Они следили из окна за его отъездом.
— Теперь, — сказал Кристофер, обернувшись к жене, — я думаю, дорогая, что чем быстрее мы тоже уедем, тем лучше. Этот аббат здорово проголодался, и я сомневаюсь, чтобы письмо удовлетворило его аппетиты.
— Я тоже так думаю, — сказала Эмлин. — Вы оба приготовьтесь и поешьте. Я пойду и прикажу оседлать лошадей.
Часом позже все было готово. Три лошади стояли у двери, а с ними охрана из четырех всадников. За такое короткое время Кристофер мог собрать немногих арендаторов и слуг — и в ответ на его призыв их собралось в Тауэрсе двенадцать человек; из них четверо имели оружие и коней. Хотя Сайсели пыталась показаться бодрой и счастливой, она вздрогнула, увидев их через открытую дверь. Снег шел не переставая.
— Странный медовый месяц предстоит нам, моя голубка, — тревожно сказал Кристофер.
— Это все неважно, пока мы едем вместе, — весело ответила она, но ее слова прозвучали неискренне, — хотя, — добавила она, и что-то словно сдавило ей горло, — хотя я бы хотела остаться здесь, пока не будет найдено и похоронено тело моего отца. Меня все время преследует мысль, что он лежит где-то в снегу, точно зарезанный бык.
— А я хочу похоронить его убийц! — воскликнул Кристофер. — Клянусь именем господа, я не оставлю этого дела, пока все не будет кончено. Не думай, дорогая, что я забыл о твоем горе, потому что я мало говорю о нем, но свадьба и похороны плохо вяжутся друг с другом. Поэтому будем радоваться, пока можно, ведь горести прошлого не избавляют нас от горестей будущего. Пойдем сядем на лошадей — и прочь отсюда, в Лондон, поищем там друзей и справедливости.
Потом, сказав несколько слов своим домашним, он посадил Сайсели на лошадь, и они поехали сквозь медленно падающий снег, думая, что в последний раз видят Тауэрс и расстаются с ним на долгие дни. Но этому не суждено было осуществиться. Когда они проезжали по большой блосхолмской дороге, намереваясь оставить аббатство слева, и были уже в трех милях от Крануэла, внезапно какой-то высокий человек, одетый в серую шубу из овчины, с монашеским капюшоном на голове и толстым посохом в руках, выскочил из-за забора и остановился перед ними.
— Кто ты? — спросил Кристофер, кладя руку на меч.
— Вы бы меня отлично узнали, если бы капюшон был откинут, — ответил он хрипло, — но если вы хотите знать мое имя, меня зовут Томас Болл, пастух, вон из того аббатства.
— Твой голос мне знаком, — сказал Кристофер, смеясь. — А теперь какое у тебя дело, брат Болл?
— Хочу найти стадо годовалых бычков, убежавших на опушку леса; они питаются, как и все мы, тем, что ухитряются найти, а погода наступает такая плохая, что они, того гляди, умрут с голоду. Вот какое у меня дело, сэр Кристофер. Но я вижу с вами моего старого друга, — и он кивнул в сторону Эмлин, которая следила за ним, не слезая с лошади, — так, с вашего разрешения, я спрошу ее, не хочет ли она исповедаться, так как отправляется, по-моему, в опасное путешествие.
Кристофер хотел показать жестом, что спешит, так как ему совсем не хотелось болтать с пастухом. Но Эмлин, следившая за ним, позвала:
— Поди сюда, Томас. Я сама отвечу тебе. У меня всегда найдутся грешки, чтоб наполнить кошелек священника, да и благословение получить неплохо, чтобы согреться.
Он зашагал вперед и, взяв ее лошадь под уздцы, отвел немного в сторону, где их не могли слышать, и тотчас же начал с всадницей оживленную беседу. Через одну-две минуты Сайсели, тихим шагом ехавшая впереди, оглянулась и увидела, как Томас Болл проскочил через забор по другую сторону дороги и исчез в падающем снегу, а Эмлин пришпорила лошадь, чтобы догнать их.
— Стойте, — сказала она Кристоферу, — у меня есть новости. Аббат со всеми своими оруженосцами и слугами, а их сорок человек или даже больше, ждет нас там, под прикрытием Блосхолмской рощи, намереваясь силой захватить леди Сайсели. Какой-то шпион донес ему о нашем отъезде!
— Я никого не вижу, — сказал Кристофер, вглядываясь в расположенную в низине рощу, так как они находились примерно в четверти мили от нее и на самом подъеме дороги. — Но это не так трудно проверить. — И он позвал двух лучших ездоков, приказал им ехать вперед и доложить, если кто-нибудь скрывается за лесом.
Всадники уехали, а они остались на месте и, сильно встревоженные, молча ждали.
Минут через десять, еще до того, как разглядели что-либо сквозь густо падающий снег, они услышали стук копыт множества скачущих лошадей. Затем появились два всадника, которые, приблизившись, закричали:
— Аббат и все его люди преследуют нас. Назад, в Крануэл, пока вас не захватили!
Кристофер помедлил одно мгновение, но, поняв, что счетырьмя мужчинами и двумя требующими охраны женщинами невозможно прорваться сквозь такой большой отряд, и, уже совсем ясно слыша приближающийся стук копыт, быстро дал приказание.
Они развернулись, и как раз вовремя, потому что в ту же минуту, не более чем в двухстах ярдах от них, появились первые всадники аббата, мчавшиеся по склону холма. Началась погоня; к счастью, лошади у них были хорошие и свежие, и все-таки, прежде чем они увидели Крануэл Тауэрс, преследователи уже были только в девяноста ярдах от них. Но здесь, на равнине, их лошади, почуяв стойло, должным образом ответили на хлысты и шпоры и вырвались немного вперед. Оставшиеся увидели их и побежали к подъемному мосту. Когда они были в пятидесяти ярдах от рва, лошадь Сайсели споткнулась и упала, сбросив ее в снег, затем поднялась и поскакала одна. Кристофер остановился около Сайсели и, когда она встала испуганная, но невредимая, протянул свою руку и, посадив на седло перед собой, помчался вперед, в то время как сзади них кричали ему: «Сдавайся!”
Под двойной тяжестью его лошадь бежала медленнее. Все же они достигли моста, прежде чем их догнали, и прогрохотали по нему.
— Поднять! — крикнул Кристофер, и все, кто там был, даже женщины, взялись руками за рычаги.
Мост начал подниматься, но тут пять или шесть воинов аббата, оставив лошадей, прыгнули на него и, ухватившись руками за его край, когда он был всего в шести футах от земли, продолжали висеть на нем, поэтому его не могли сдвинуть, и он остановился, не поднимаясь вверх и не опускаясь вниз. — Отпустите, вы, негодяи! — закричал Кристофер, но в ответ на это один из них с помощью своих товарищей вскарабкался на край моста и встал там, повиснув на цепях.
Тогда Кристофер выхватил у одного из слуг лук со стрелой в тетиве и снова закричал:
— Слушай, твоя жизнь в опасности!
В ответ человек прокричал что-то о приказаниях лорда аббата.
Кристофер посмотрел и увидел, что остальные сошли с лошадей и бежали к мосту. Он прекрасно понимал, что, если они достигнут моста, игра проиграна. Поэтому он больше не колебался, а, нацелившись, быстро натянул и отпустил тетиву. На этом расстоянии он не мог промахнуться. Стрела ударила человека туда, где его шлем соединялся с кольчугой, и, пройдя через горло, поразила его насмерть. Остальные, испугавшись, что их ждет такая же судьба, выпустили мост из рук, и, освобожденный от тяжести, он медленно поднялся и опустился со стороны дома, где был прочно закреплен. Впоследствии стало известно — об этом можно сказать и сейчас, — что этот человек был капитаном охраны аббата. Больше того, это он пронзил стрелой горло сэра Джона Фотрела и убил его каких-нибудь сорок часов назад. Так и случилось, что он умер подобной же смертью, а значит, один из убийц доброго рыцаря получил справедливое возмездие.
Теперь люди бежали назад, боясь, что за этой стрелой последуют другие, а Кристофер молча наблюдал за их бегством. Сайсели, стоявшая рядом с ним, закрыв лицо руками, чтобы не видеть зрелища смерти, вдруг опустила их и, повернувшись к своему мужу, сказала, указывая на труп, лежавший на снегу в луже крови:
— Как знать, сколько еще последует за ним? Думаю, что это лишь первый тур долгой игры, супруг мой.
— Нет, дорогая, — ответил он, — второй; первый был сыгран два дня назад у Королевского кургана, там в лесу, а кровь всегда призывает кровь. — Ах, — ответила она, — кровь призывает кровь. — Затем, подумав о том, что она осиротела, о том, каким будет ее медовый месяц, она повернулась, и, плача, пошла в свою комнату.
Пока Кристофер все еще стоял в нерешительности, подавленный совершенным убийством, не зная, что ему делать дальше, он увидел, как три человека отделились от группы воинов и поехали по направлению к Тауэрсу; один из них держал над головой белую ткань, как посланный для переговоров. Тогда Кристофер поднялся на маленькую орудийную башню около ворот, а следом за ним пошла Эмлин; спрятавшись за зубчатой кирпичной стеной, она могла все видеть и слышать, но оставаться незамеченной. Достигнув дальнего конца рва, тот, кто держал белое полотно, откинул капюшон своего длинного плаща, и они увидели, что это был сам блосхолмский аббат, — его темные глаза сверкали, а оливкового цвета лицо побелело от ярости.
— По какому праву вы охотитесь за мной на моих же землях и так бесцеремонно стучитесь в мои двери, милорд аббат? — спросил Кристофер, облокотившись на парапет ворот.
— По какому праву вы убиваете моего слугу, Кристофер Харфлит? -спросил аббат, указывая на труп, лежавший на снегу. — Разве вы не знаете, что проливший кровь заплатит своей кровью, что по нашим древним хартиям я имею право восстанавливать справедливость? И, клянусь святым именем господним, я это сделаю! — добавил он сдавленным голосом.
— Вот как, — задумчиво повторил Кристофер, — «заплатит своей кровью». Может быть, поэтому и умер этот парень. Скажите мне, аббат, не был ли он среди тех, которые недавно проезжали при лунном свете около Королевского кургана и встретили там случайно сэра Джона Фотрела?
Удар был сделан наугад, однако казалось, он попал в цель, по крайней мере челюсть аббата отвисла и слова, которые он собирался произнести, так и замерли на его губах.
— Я не понимаю значения ваших слов, — немного более спокойным голосом сказал он, — не знаю как погиб мой покойный друг и сосед, сэр Джон, да упокоит господь его душу! Однако о нем, вернее, о том, что он оставил, мы должны сейчас поговорить. Вы, говорят, похитили его дочь, несовершеннолетнюю девушку и, я боюсь, прикрываясь фальшивым браком, довели ее до позора — преступление более отвратительное, чем это убийство. — Нет, лишь посредством законного брака я доставил ей ничтожную честь стать законной женой Кристофера Харфлита. Если есть сила в обрядах святой церкви, тогда рука самого господа так крепко связала нас, как только мужчина может быть связан с женщиной, и смерть единственный священник, могущий развязать этот узел.
— Смерть! — повторил аббат медленно, с любопытством глядя вверх на него.
Некоторое время он молчал, потом продолжил:
— Пусть будет так; суд божий совершается постоянно, и у него есть много проницательных и быстрых посланцев, таких как этот. — Однако я мирный человек, и хотя вы убили моего слугу, я хотел бы решить наше дело полюбовно, если это возможно. Послушайте теперь, сэр Кристофер, вот мое предложение. Уступите мне Сайсели Фотрел…
— Сайсели Харфлит, — перебил Кристофер.
— Сайсели Фотрел, и я клянусь вам, над ней не будет совершено никакого насилия, и она не будет выдана замуж до тех пор, пока король, или главный викарий, или какой-либо суд, назначенный королем, вынесет решение по этому смехотворному делу и не объявит ваш смехотворный брак потерявшим силу.
— Что! — прервал Кристофер насмешливо. — Неужели аббат Блосхолма объявляет, что светская власть нашего королевства обладает правом развода?
[108] Раньше, когда дело шло о королеве Екатерине, я слышал, как он, а также и другие утверждали иное.
Аббат закусил губу, но продолжал, не обращая внимания:
— Я так же не подам на вас жалобы по поводу убийства моего слуги, за что бы при иных обстоятельствах вас бы следовало повесить. Я напишу об этом как о несчастном случае, а потом выдам вознаграждение его семье. Теперь вы слышали мое предложение, — отвечайте.
— А что, если я откажусь от великодушного предложения выдать ту, что для меня дороже тысячи жизней?
— Тогда, в силу моих прав и власти, я возьму ее силой, Кристофер Харфлит, и, если случится несчастье, вы ответите за это головой.
Тут Кристофер не смог сдержать своей ярости.
— Вы осмеливаетесь угрожать мне, верному англичанину, вы, лжесвященник и иностранец-предатель, — закричал он, — находящийся, как все знают, на жалованье у Испании
[109] и под покровом монашеской одежды строящий козни против страны, на землях которой вы разжирели, как конская пиявка? Почему Джон Фотрел был убит два дня тому в лесу? Вы не хотите отвечать? Тогда я отвечу. Потому, что он ехал ко двору, чтобы показать правду о вас и вашем предательстве, и за это вы убили его. Почему вы заявляете право на мою жену как на вашу подопечную? Потому, что вы хотите присвоить ее земли и богатство, чтобы оплачивать свои интриги и излишества. Вы думаете, что при дворе вы купили себе друзей и что ради денег те, в чьих руках власть, закроют глаза на ваши преступления? Может быть, и так, но это временно. Подождите, подождите! Не все глаза там слепы, не все уши глухи. И ваша голова будет поднята выше, чем вы думаете, — так высоко, что попадет на верхушку Блосхолмской башни для предупреждения всем тем, кто попытается продать Англию ее врагам. Джон Фотрел лежит мертвый, в горле у него стрела вашего головореза, но Джефри Стоукс с бумагами уехал. А теперь совершайте последнюю подлость, Клемент Мэлдон. Вам нужна моя жена — попробуйте взять ее.
Аббат слушал, слушал внимательно, впитывая каждое зловещее слово. Его смуглое лицо побелело от страха, потом потемнело от гнева. Вены на лбу вздулись, даже на таком расстоянии Кристофер мог это видеть. Он был так зол, что его лицо смешно исказилось, и Кристофер, заметив это, разразился искренним смехом.
Аббат, не привыкший к насмешкам, прошептал что-то двум людям, которые были с ним, после чего они одновременно подняли принесенные с собой самострелы и дернули спусковые крючки. Одна стрела, описав широкую дугу, ударилась о стену дома сзади и крепко вонзилась в сплетение украшений из гвоздей. Но другая, нацеленная лучше, ударила Кристофера повыше сердца; он пошатнулся, но стрела, пущенная снизу, ударившись о кольчугу, надетую на нем, проскользнула над его левым плечом. Люди, увидев, что он не был ранен, развернули лошадей и поскакали прочь, а Кристофер, положив другую стрелу на тетиву лука, оттянул ее к уху, целясь в аббата.
— Отпускай и покончи с ним, — пробормотала Эмлин из своего убежища за парапетом.
Но Кристофер с минуту подумал, потом закричал:
— Подождите немного, сэр аббат, мне надо сказать вам еще кое-что.
Аббат тоже поворачивал коня и не обратил на его слова никакого внимания.
— Подождите! — прогремел Кристофер. — Или убью вашу прекрасную кобылу.
А так как аббат все еще тянул за удила, он выпустил стрелу. Цель была настигнута точно. Стрела прошла как раз через изгиб шеи, разорвав связки между костями так, что бедное животное, выпрямившись, встало на дыбы и рухнуло наземь, сбросив своего седока в снег.
— Теперь, Клемент Мэлдон, — закричал Кристофер, — будете ли вы слушать или останетесь в снегу вместе с вашей лошадью и слугой и не услышите ничего больше до дня страшного суда? Если вы еще не догадались, то знайте, что я с юности упражнялся в стрельбе из лука. Если вы сомневаетесь, подымите руку, и я пропущу стрелу у вас между пальцев. Аббат, сбитый с ног, но не пострадавший, медленно поднялся и стоял теперь между трупами лошади и человека.
— Говорите, — сказал он глухим голосом.
— Милорд аббат, — продолжал Кристофер, — минуту назад вы пытались убить меня, и, если бы моя кольчуга была ненадежной, вам удалось бы это. Сейчас ваша жизнь в моих руках, ибо вы видели, что я не промахнусь. Ваши слуги идут вам на помощь; прикажите им остановиться или… — И он поднял лук.
Аббат повиновался, и люди, поняв его знак, остановились там, где были, на таком расстоянии, что не могли ничего слышать.
— У вас на груди распятие, — продолжал Кристофер. — Возьмите его в правую руку и дайте клятву.
Аббат опять повиновался.
— Клянитесь так, — говорил Кристофер, повторяя слова спрятавшейся за парапетом Эмлин. — Я, Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма, перед ликом всемогущего бога на небесах, в присутствии Кристофера Харфлита и других на земле, — и резким кивком головы он указал на окна дома, где собрались и слушали все, кто в нем был, — даю клятву на распятии. Клянусь, что оставлю все притязания на опекунство над душой и телом Сайсели Харфлит, урожденной Сайсели Фотрел, законной жены Кристофера Харфлита, и все притязания на земли и богатства, которыми она владеет или которыми владел ее отец Джон Фотрел, рыцарь, или ее мать, покойная госпожа Фотрел. Клянусь, что не буду поднимать никакого дела ни в каком суде, ни в церковном, ни в светском, при этом или другом царствовании против вышеупомянутой Сайсели Харфлит или против вышеупомянутого Кристофера Харфлита, ее мужа, также не буду искать случая нанести оскорбление ни их душе, ни их телу или телам и душам тех, кто им верен, и с этой минуты они могут жить и умереть, не опасаясь ни меня, ни тех, кто мне подчинен. Поцелуйте распятие и принесите клятву, Клемент Мэлдон.
Аббат выслушал; его сердце никогда не отличалось мягкостью, а гнев был так велик, что он, казалось, раздулся, как обозленная жаба.
— Кто дал вам право диктовать мне клятвы? — спросил он наконец. — Я не буду клясться. — И он бросил распятие на снег.
— Тогда я буду стрелять, — ответил Кристофер. — Ну поднимите крест.
Но Мэлдон молча стоял со сложенными на груди руками. Кристофер нацелился и выстрелил; мало нашлось бы в Англии таких стрелков как он, -его стрела проткнула меховую шапку Мэлдона и сбила ее, не задев бритого лба аббата.
— Следующая попадет на два дюйма ниже, — сказал он, вставляя в тетиву новую стрелу. — Я не буду больше тратить зря хорошие стрелы.
Тогда, чтобы спасти свою жизнь, которой он весьма дорожил, Мэлдон очень медленно наклонился и, подняв распятие со снега, поднес его к своим губам, поцеловал и пробормотал:
— Клянусь.
Но клятва, данная им, сильно отличалась от повторенной Кристофером, потому что, как преследуемая лиса, он умел ответить хитростью на хитрость. — Теперь, когда я — рукоположенный аббат
[110] — сделал по вашему, считая, что должен был уступить для того, чтобы, оставшись в живых, исполнять свой долг на земле, волен я отправиться по своим делам, Кристофер Харфлит? — спросил он с горькой иронией.
— Почему же нет? — спросил Кристофер. — Только, будьте любезны, с этого времени не вмешивайтесь в мои дела. Завтра мы с моей супругой собираемся ехать в Лондон, и нам не хотелось бы встретиться с вами на дороге.
Подняв свою шапку и вытащив из нее стрелу, аббат повернулся, пошел назад к своим людям, и вскоре они, поднявшись на горку, ускакали к Блосхолму.
— Теперь все хорошо кончилось; он дал мне клятву, которую едва ли осмелится нарушить, — сказал вскоре Кристофер. — А что скажешь ты, няня?
— Я скажу, что вы даже больший простак, чем я считала, — сердито ответила Эмлин, поднимаясь с места и потягиваясь, так как у нее свело все члены. — Клятва? Тьфу! Он уже освобожден от нее, так как она была дана под угрозой смерти. Разве вы не слышали, как я вам шепотом советовала пронзить стрелой его сердце вместо того, чтобы откалывать мальчишеские шутки с его шапкой?
— Я не хотел убивать аббата, няня.
— Глупец! Какая разница между ним и его слугами? А он еще скажет, что вы покушались на его жизнь, но промахнулись, и покажет шапку и стрелу в качестве вещественных доказательств. Но мои слова теперь уже не помогут, и скоро вы услышите об этом прямо от него самого. Идите, приготовьте свой дом к обороне и не осмеливайтесь ступить ногой за порог. Там вас ждет смерть.
Эмлин была права. Через три часа безоружный монах пришел, несмотря на метель, в Крануэл Тауэрс и бросил через ров письмо, привязанное к камню. Потом он прибил бумагу к одному из дубовых столбов наружных ворот и без единого слова ушел так же, как и пришел. В присутствии Кристофера и Сайсели Эмлин распечатал и прочитала второе письмо так же, как она прочитала первое.
Оно было коротким и гласило:
«Запомните, сэр Кристофер Харфлит и все остальные, к кому это может иметь отношение, что клятва, которую я, Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма, дал вам сегодня, совершенно недействительна и не может иметь последствий, так как она была вырвана у меня под угрозой немедленной смерти. Запомните дальше, что доклад о совершенном вами убийстве направлен его величеству королю, шерифу
[111] и другим представителям власти этого графства
[112] и что в силу моих прав и власти, церковной и гражданской, я буду продолжать дело о возвращении ко мне моей подопечной, по имени Сайсели Фотрел, со всеми землями и другой собственностью, бывшей в руках его отца, покойного сэра Джона Фотрела. От ее имени я уже вступил во владение имуществом и воспользуюсь всеми средствами, какие понадобятся, чтобы схватить вас, Кристофер Харфлит, и передать в руки закона. Кроме того, посредством уведомления, посланного при сем, предупреждаю всех, кто примыкает к вам и содействует в совершаемых вами преступлениях, что и телам их и душам грозит гибель.
Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма.”
5. ЧТО ПРОИЗОШЛО В КРАНУЭЛЕ
Прошла неделя. В течение первых трех дней в Крануэл Тауэрсе ничего или почти ничего не произошло: нападения никто не предпринимал. Однако Кристофер с помощью дюжины домашних слуг и мелких арендаторов обнаружил, что они окружены со всех сторон. Раза два кое-кто пытался выехать на недалекое расстояние, но тотчас вынужден был вернуться обратно, так как из близлежащих рощиц, из деревенских коттеджей и даже из дверей церкви появлялись превосходящие по численности группы людей. Они нигде не подъезжали к ним близко, и поэтому жертв не было. Отчасти это было даже плохо: не хватало радостного возбуждения настоящей борьбы, оставался только страх перед постоянной опасностью.
В других отношениях дела тоже шли плохо. Так, прежде всего, у них кончилось пиво, а затем израсходовали и весь запас остальных возбуждающих напитков, и им приходилось пить одну воду. Затем кончилось топливо, потому что почти все заготовленное находилось на ферме на расстоянии четверти мили от замка; на второй день осады эту ферму подожгли, и она сгорела со всем, что в ней было, а скот и лошади были уведены неизвестно куда.
Дошло до того, что они могли поддерживать огонь только в кухне, и то не очень жаркий, лишь для приготовления пищи, сжигая двери надворных строений и половицы чердака. Да и пищи было немного: только запас солонины, свинины в уксусе, копченой грудинки да немного овсянки и муки, из которых спекли лепешки и хлеб.
На четвертый день кончилось и это, и им пришлось довольствоваться вяленым мясом, несколькими яблоками, вместо овощей, и горячей водой, которую они пили, чтобы согреться. Наконец топить стало нечем; они вынуждены были есть сырое мясо и болели от этого. Мало того, наступила оттепель, и дом заледенел; поэтому днем у них зуб на зуб не попадал, а по ночам, из-за постоянного недоедания, им едва хватало силы протянуть до утра под всеми одеялами, какие были.
Ах, какими длинными казались эти ночи, без единого огонька в камине, без такого пустяка, как зажженная свеча! В четыре часа темнело, и темнота была беспросветна, так как луна поднималась невысоко, а туман не рассеивался до тех пор, пока около семи часов следующего утра не становилось светло. Боясь атаки, они все время прислушивались в темноте, так что не имели возможности спокойно выспаться.
Некоторое время все мужественно переносили эти лишения, даже арендаторы, хотя до них дошли слухи, что их фермы опустошены, а жены и дети выгнаны и нашли приют, где кому удалось.
Сайсели и Эмлин не роптали. Действительно, новобрачная, не хмурясь, переживала свой страшный медовый месяц. Она с мужем медленно прогуливалась вдоль рва или от окна к окну в пустых комнатах, пока, наконец, усталость не осиливала их, и они, передав дозор другим, не падали в изнеможении на какую-нибудь кровать, чтобы поспать хоть немного. Только одна Эмлин, казалось, никогда не спала. Но, в конце концов, их сотоварищи стали выражать недовольство.
Однажды утром на рассвете, после очень тяжелой ночи, они дождались Кристофера и сказали ему, что были готовы бороться за него и его супругу, но так как нет никакой надежды на помощь, они больше не могут мерзнуть и ждать голодной смерти, — короче говоря, они должны или покинуть этот дом, или сдаться. Он терпеливо выслушал их, понимая, что они правы, и затем посовещался с Сайсели и Эмлин.
— Наше положение безвыходно, дорогая жена. Что теперь делать, раз для нас нет надежды на подкрепление? Ибо никто ведь не знает, в каком мы состоянии! Сдаться или попытаться бежать под покровом тьмы?
— Только не сдаваться, — ответила Сайсели, заглушив рыдания. — Если мы сдадимся, они, конечно, нас разлучат, и безжалостный аббат отправит тебя на тот свет, а меня в монастырь.
— Это может случиться в любом случае, — пробормотал Кристофер, отворачиваясь. — А что скажешь ты, няня?
— Я думаю, надо бороться, — храбро ответила Эмлин. — Здесь нам, конечно, нельзя оставаться; откровенно говоря, сэр Кристофер, кое-кому здесь я не доверяю. Но что поделаешь? У них желудки пусты, руки заледенели, их жены и дети неизвестно где, и, вдобавок ко всему, над ними нависло тяжкое проклятье церкви. И всего этого не было бы, если бы они вас предали. Давайте возьмем оставшихся лошадей и ускользнем в ночной тишине, если сможем; если же не сможем, то умрем, как умирали люди и получше нас.
Так они решили испытать судьбу, полагая, что хуже, чем сейчас, быть не может, и провели весь остаток дня, готовясь, кто как умел. Семь лошадей все еще находились в конюшне, и, хотя они застоялись без движения, их накормили сеном и напоили.
На них они предполагали ехать, но сначала хотели откровенно объясниться с верными им людьми.
Поэтому около трех часов дня Кристофер созвал всех людей под воротами и с грустью поведал им все. Он объяснил им, что здесь больше нельзя оставаться, а сдаться означало бы обречь новобрачную на вдовство.
Они должны бежать, взяв с собой столько спутников, сколько у
них лошадей, если, разумеется, кто-нибудь рискнет отправиться в такое путешествие. Если нет, то он и обе женщины поедут одни.
Тогда четверо самых верных людей, долгие годы служивших Кристоферу и его отцу, вышли вперед, говоря, что, как бы опасно это ни оказалось, они разделят его судьбу до конца. Он коротко поблагодарил их; тогда один из оставшихся спросил, что же им теперь делать, раз он собирается покинуть их, доведя до такого положения.
— Один бог знает, что я предпочел бы умереть, — ответил Кристофер от всей души. — Но, друзья мои, подумайте, в каком мы положении. Если я останусь здесь, — что будет с моей женой? Увы! Дело дошло до того, что вам приходится выбирать: или уйти с нами и рассеяться по лесу, где вас, я думаю, не будут преследовать, потому что этот аббат с вами не враждует; или вы останетесь здесь, а завтра на рассвете сдадитесь. В том и другом случае вы можете сказать, что я заставил вас остаться и что вы не пролили ничьей крови; об этом я дам вам бумагу.
Так они мрачно беседовали все вместе и, наконец, решили, что, когда сэр Кристофер и его супруга уедут, они тоже разойдутся и спрячутся как можно лучше. Но среди них был один мелкий фермер, по имени Джонатан Дикси, рассуждавший иначе. Этот Джонатан был арендатором Кристофера, но его втянули в дело защиты Крануэл Тауэрса почти что против его воли, по настоянию самого крупного из арендаторов Кристофера, с дочерью которого он был обручен. Это был ловкий молодой человек, и даже во время осады он, применив способ, который нет необходимости описывать, ухитрился переправить послание блосхолмскому аббату, где говорил, что, будь это в его власти, он был бы рад оказаться в любом другом месте. Поэтому он был уверен, что его ферма останется нетронутой, какова бы ни была судьба всех остальных.
Теперь он решил выпутаться из этой печальной истории как можно скорее, ибо Джонатан принадлежал к числу людей, предпочитающих всегда находиться на стороне победителя.
Поэтому хотя он и сказал: «Так! Так!» — громче своих товарищей, как только стало темно, пока другие готовили лошадей и сменяли караул, он перебросил через ров позади конюшни лестницу и убежал, карабкаясь по ее ступенькам, под прикрытием находившегося на лугу коровника.
Полчаса спустя, постаравшись натолкнуться на людей аббата и попасть в плен, он стоял перед ним в коттедже, служившем штабом. Сначала Джонатан ничего не хотел говорить, но когда они в конце концов пригрозили вытащить его на улицу и повесить, он, по его словам, для спасения жизни развязал язык и все рассказал.
— Так, так, — сказал аббат, когда тот кончил. — Господь благоволит к нам. Эти птички в наших сетях, и, значит, день святого Илария я буду справлять у себя в Блосхолме. За твою услугу, мастер Дикси, ты станешь моим управляющим в Крануэл Тауэрсе, когда он будет принадлежать мне.
Но можно сразу сказать, что все кончилось совсем не так, и он не только не получил места управляющего в Крануэле, но когда вся правда стала известна, невеста Джонатана не пожелала иметь с ним ничего общего, а люди тех мест разграбили его ферму и выгнали его из графства, и о нем с тех пор не было ни слуху ни духу.
Тем временем все было приготовлено к отъезду, и Кристофер, оставшись в Тауэрсе наедине с Сайсели, попрощался с ней в темноте, так как им нечем было осветить комнату.
— Это отчаянная попытка, — сказал он ей, — и я не могу сказать, чем она кончится и увижу ли я когда-нибудь снова твое милое личико. И все же, дорогая, мы провели вместе несколько счастливых часов; и если я погибну, а ты останешься жить, я уверен, что ты всегда будешь меня помнить, пока, как нас учили, мы не встретимся снова там, где никакой враг не сможет мучить нас и где нет холода, голода и темноты. Сайсели, если так суждено и у тебя будет ребенок, научи его любить отца, даже если он никогда его не увидит. Тут она обвила его руками и плакала, плакала, плакала.
— Если ты умрешь, — рыдала она, — то, наверное, умру и я. Хоть я еще молода, но этот мир для меня полон скорби, а теперь, когда мой отец умер, без тебя, супруг мой, он превратится в ад.
— Нет, нет, — ответил он, — живи, пока хватит сил, потому что — кто знает? — часто самое худшее приводит к лучшему. Ведь и у нас были свои радости. Поклянись, что будешь жить, голубка!
— Хорошо, если ты тоже в этом поклянешься, потому что, может быть, умру я, а ты останешься жить. Мечи в темноте не выбирают цели. Давай пообещаем друг другу, что мы оба будем жить, вместе или врозь, пока господь не призовет нас.
Так, в ледяном мраке, дали они эту клятву, скрепив ее поцелуями. Время наконец наступило, и они, рука об руку, ощупью, пошли во двор, немного успокоившись оттого, что ночь была очень благоприятной для выполнения их плана. Снег растаял, и сильный ветер, очень бурный, но не холодный, дул с юго-запада, раскачивая высокие вязы, которые скрипели и стонали, как живые существа. Кристофер и Сайсели были уверены, что при таком ветре, как этот, их никто не услышит и не увидит под мрачным и беззвездным небом, а дождь, ливший между порывами ветра, смоет следы их коней.
Они молча оседлали лошадей и с четырьмя людьми — к этому времени все остальные ушли — переехали через подъемный мост, опущенный, чтобы они могли бежать. На расстоянии примерно трехсот ярдов их путь проходил через старый известковый карьер, вырытый много поколений назад; по обе стороны тропинки густо проросли деревья.
Когда они приближались к карьеру, в ночной тишине внезапно впереди заржала лошадь, и одно из их животных ответило ржанием.
— Стойте, — пролепетала Сайсели, слух которой обострился от страха. -Я слышу, как движутся люди.
Они натянули поводья и прислушались. Да, между порывами ветра слышался едва уловимый звук, как будто бряцали оружием. Они вперили взор в темноту, но ничего не смогли разглядеть.
Опять заржала лошадь, и ей ответило ржанье. Один из слуг выругал про себя животное и грубо ударил его плашмя мечом, и тогда отдохнувшая лошадь понеслась, закусив удила. В следующую минуту в известковом карьере перед ними поднялся невообразимый шум — шум окриков, удары меча, а потом тяжелый стон, словно сорвавшийся с губ умирающего человека.
— Засада! — воскликнул Кристофер.
— Можем мы объехать ее? — спросила Сайсели, и в ее голосе прозвучал ужас.
— Нет, — ответил он — ручей разлился; мы увязнем. Чу! Они атакуют нас. Обратно в Тауэрс, другого выхода нет.
Так они повернули и помчались, преследуемые криками и стуком копыт множества скачущих лошадей. Через две минуты они были уже там, — женщины, Кристофер и трое мужчин проскакали через мост.
— Поднять мост! — закричал Кристофер, и они спрыгнули с лошадей и, спотыкаясь, побежали к рычагам; слишком поздно, так как всадники аббата уже вступили на него.
Тогда началась битва. Лошади врагов шарахались назад от дрожавшего моста, поэтому ездоки спешились и ринулись вперед, но были встречены Кристофером и его тремя союзниками: в этом узком месте они могли заменить сотню.
Жестокие удары наносились в темноте наугад; двое из людей аббата упали, после чего низкий голос скомандовал:
— Вернитесь и подождите рассвета.
Когда они ушли, таща с собой раненых, а Кристофер и его слуги снова попытались поднять мост, они увидели, что он не двигается.
— Какой-то предатель испортил цепи, — сказал Кристофер тихим от отчаяния голосом. — Сайсели и Эмлин, идите в дом. Я и каждый, кто захочет, останемся здесь, чтобы покончить с этим делом. Когда меня убьют, сдайтесь. Я думаю, что впоследствии король рассудит нас по справедливости, если вы сможете до него добраться.
— Я не пойду, — застонала Сайсели. — Я умру с тобой.
— Нет, ты пойдешь, — сказал он, топая ногой, и, когда он произносил эти слова, стрела просвистела между ними. — Эмлин, тащи ее туда, пока ее не убили. Скорее, говорю я, скорее, или проклятье господа и мое обрушится на вас. Разожми руки, жена; как я могу сражаться, если ты висишь у меня на шее? Что! Неужели я должен ударить тебя? Ну что ж, вот и вот!
Она разжала руки и со стоном упала на грудь Эмлин, которая полунесла, полувела ее через двор, где скакали на свободе испуганные лошади.
— Куда мы идем? — всхлипнула Сайсели.
— В центральную башню, — ответила Эмлин, — там, кажется, безопаснее. К этой башне, которая дала название всему замку
[113], они шли ощупью. В отличие от остальной части дома, построенного главным образом из дерева, башня была каменной, ибо являлась частью старой постройки времен норманнов. Спотыкаясь, они медленно поднимались по ступенькам, пока наконец не достигли крыши, так как инстинктивно искали места, откуда могли что-нибудь видеть, если бы появились звезды. Здесь, на этом возвышении, они укрылись и ждали конца, каким бы он ни был, — ждали молча.
Сколько времени прошло, они не знали, пока наконец из-под крыши кухни, позади дома, не вырвалось пламя, которое подхватил ветер и понес на стены основного здания, так что вскоре оно тоже заполыхало. Дом подожгли; кто — неизвестно, хотя, говорили, что предатель Джонатан Дикси вернулся и сделал это то ли за плату, то ли для того, чтобы в этой ужасной катастрофе было забыто его собственное преступление.
— Дом горит, — сказала Эмлин спокойно. — Теперь, если ты хочешь спасти свою жизнь, иди за мной. Под этой башней есть погреб, где нас не тронет пламя.
Но Сайсели даже не двинулась, потому что при свете яростного, все разгорающегося пламени она могла видеть то, что происходило внизу, и как раз случилось так, что ветер относил дым в другую сторону. Там, за мостом, собралась стража аббата, а в воротах стоял Кристофер и трое его людей с обнаженными мечами, во дворе же, как ошалелые, метались и ржали от страха лошади.
Один из солдат взглянул наверх и увидел, что две женщины стоят на вершине башни, затем крикнул что-то аббату, сидевшему на лошади рядом с ним. Он посмотрел и тоже увидел их.
— Сдавайтесь, сэр Кристофер, — закричал он, — леди Сайсели горит. Сдавайтесь, чтобы мы могли спасти ее.
С минуту Кристофер колебался, потом повернулся и решил побежать через двор. Слишком поздно; ибо, когда он подошел, пламя вырвалось через крышу главного строения, и передняя стена, яростно полыхая, упала во двор и забаррикадировала дверь, так что дом превратился в пылающий очаг, куда нельзя было войти и где никто не мог бы выжить.
Тогда, казалось, им овладело безумие. С минуту он пристально смотрел вверх на фигуры двух женщин, стоящих высоко над клубящимся дымом и все охватывавшим пламенем. Потом вместе со своими тремя людьми он с ревом бросился в гущу солдат, последовавших за ним во двор, словно пытаясь проложить дорогу к аббату, скрывавшемуся сзади. Это было ужасное зрелище, потому что он и те, кто был с ним, сражались яростно и убили многих врагов. Вскоре из четверых в живых остался только Кристофер. Мечи и копья ударялись о его доспехи, но он не падал, а падали те, кто с ним сражался. Огромный детина с топором очутился позади него и со всей силы ударил по его шлему. Меч выпал из рук Харфлита; он медленно повернулся, посмотрел наверх, потом, вытянув руки, тяжело рухнул на землю.
Аббат спрыгнул с лошади и побежал к нему, встав около него на колени. — Погиб! — воскликнул он и начал отходную его отлетевшей душе — так, по крайней мере, показалось всем.
— Погиб, — повторила Эмлин, — и какой доблестной смертью!
— Погиб, — простонала Сайсели таким страшным голосом, что все внизу услышали ее. — Погиб, погиб! — и без чувств упала на грудь Эмлин.
В эту минуту оставшаяся часть крыши провалилась, скрыв башню столбами пламени и пеленой дыма. Оставаться здесь означало неминуемую гибель. Подняв сильными руками свою хозяйку, как она обычно делала, когда Сайсели была маленькой, Эмлин нашла верхнюю ступеньку лестницы, и, когда ветер на минуту рассеял дым, все бывшие внизу увидели, что обе женщины исчезли, и решили, что они погибли в огне.
— Теперь вы можете вступить на Шефтонские земли, аббат! — воскликнул голос во тьме ворот, ибо в этой суматохе нельзя было различить, кто говорит. — Но если бы мне посулили все земли Англии, я не хотел бы отвечать за эту невинную кровь!
Лицо аббата мертвенно побледнело и, хотя было достаточно жарко, его зубы застучали.
— Кровь падет на голову этого похитителя женщин, — с усилием воскликнул он, глядя вниз на Кристофера, лежавшего у его ног. — Поднимите его, чтобы над ним, погибшим при совершении убийства, мог свершиться суд. Неужели никто не может войти в дом? Кто спасет леди Сайсели, получит полный карман золота!
— Неужели кто-нибудь может остаться в живых, войдя в ад? — ответил тот же голос из мрака и дыма. — Ищите ее чистую душу в раю, если вам удастся попасть туда, аббат.
Страх был на лицах тех, кто поднял Кристофера и других убитых и раненых и понес их прочь, предоставив Крануэл Тауэрсу догорать дотла, ибо воздух там так раскалился, что никто не мог вынести этого жара.
Прошло два часа. Аббат сидел в маленькой комнате Крануэлского коттеджа, где он жил во время осады Тауэрса. Было около полуночи; однако, несмотря на усталость, он не мог отдыхать; конечно, если бы ночь не была такой темной и ненастной, он провел бы время в пути, возвращаясь в Блосхолм. На душе у него было неспокойно. Правда, все шло хорошо. Сэр Джон Фотрел был мертв — убитый «преступниками»; сэр Кристофер был мертв — разве его тело не лежало там, в коровнике? Сайсели, дочь одного из них и жена другого, тоже была мертва, сгорев в пожаре Тауэрса, и потому драгоценности и огромные земли, которых он домогался, безусловно попадут к нему в руки без всяких дальнейших хлопот. Ибо Кромуэл был подкуплен, а кто другой посмел бы попытаться вырвать их у могущественного блосхолмского аббата, который имеет на них известные права?
И все же он чувствовал себя очень неспокойно, потому что, как говорил тот голос (чей это был голос, он не знал, но голос казался знакомым): «Кровь этих людей падет на твою голову», — и тут он вспомнил текст святого писания, им же процитированный Кристоферу: «Кровь пролитая взывает о крови». Кроме того, хотя он и заплатил генеральному викарию, чтобы тот поддерживал его, монахи не были в большом почете при английском дворе, и если эта история дойдет до него — а это могло случиться, так как даже бессильные мертвецы находят друзей, — то не исключена возможность, что ему зададут вопросы, на которые будет трудно ответить. Перед небом он мог оправдаться во всем, что сделал, но перед королем Генрихом, если правда дойдет до его королевских ушей (король ведь присвоил себе права самого папы), — это будет не так-то легко.
В комнате было холодно после зноя, который они испытали на пожаре. В жилах аббата текла южная, горячая кровь; он стал зябнуть; его охватило уныние и тоска; он начал задумываться — насколько же в глазах бога цель оправдывает средства? Он открыл дверь дома и, держась за нее, чтобы сильный зимний ветер не сорвал ее со слабых петель, громко позвал брата Мартина, одного из своих капелланов. Вскоре пришел Мартин, появившись из коровника с фонарем в руках, — высокий, тонкий человек с тревожным и грустным взглядом, длинным носом и умным ликом. Поклонившись, он спросил, что угодно его начальнику.
— Мне угодно, брат, — ответил аббат, — чтобы ты закрыл дверь от ветра, потому что этот проклятый климат убивает меня. Да, если сможешь, затопи камин, но дрова слишком сырые, они не горят, а дымят. Видишь, я был прав: если так будет продолжаться, к утру мы превратимся в окорока. Ну хватит, не надо, растопим завтра утром, сегодня вечером мы видели достаточно огня; садись, выпей кубок вина, — нет, я забыл, ты пьешь только воду; тогда съешь кусок хлеба с мясом.
— Спасибо, милорд аббат, — ответил Мартин, — но я не могу притрагиваться к мясному: сегодня пятница.
— Пятница или нет, мы ведь уже притрагивались к мясу — к плоти людей — там, в Тауэрсе, сегодня вечером, — ответил аббат с принужденным смехом. — Однако делай, что велит тебе совесть, брат, и ешь хлеб. Скоро полночь и можно будет заесть мясом.
Тощий монах поклонился и, взяв ломоть хлеба, начал жевать его, потому что и вправду чуть ли не умирал от голода.
— Ты молился у трупа этого кровожадного мятежника, причинившего нам столько вреда и потерь? — спросил вскоре аббат.
Секретарь кивнул и, проглотив корку, сказал:
— Да, я молился над ним и над другими. Во всяком случае он был храбр, и, должно быть, ему тяжело было видеть, как его молодую жену сожгли, словно ведьму. Кроме того, я обдумал это дело и не понимаю, в чем заключался его грех, — ведь он только храбро сражался, когда на него напали. Брак его без сомнения вполне законный, а должен ли он был испросить вашего разрешения на него — это вопрос, о котором судебные инстанции христианского мира могли бы спорить.
Аббат нахмурился; он не любил столь откровенного и беспристрастного тона, когда вопрос так близко касался его.
— Недавно вы удостоили меня чести, выбрав меня одним из своих исповедников, хотя я думаю, что вы мне всего не говорите, милорд аббат; потому я и поверяю вам свои мысли, — продолжал, как бы извиняясь, брат Мартин.
— Тогда продолжай. Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что мне не нравится это дело, — медленно отвечал он в промежутках, когда переставал жевать хлеб. — Вы поссорились с сэром Джоном Фотрелом из-за земель, принадлежавших аббатству, как вы говорите. Бог знает, кто прав, я не разбираюсь в законах, но ведь он отрицал это, -я сам слышал его слова там, в вашей комнате, в Блосхолме. Он отрицал это и обвинил вас в предательстве, достаточном для того, чтобы отправить на виселицу весь Блосхолм, о чем опять-таки правду знает один бог. Вы в гневе угрожали ему, но он и его слуга были вооружены и поэтому победили, а на следующий день они оба поехали в Лондон с какими-то документами. Да, в ту ночь сэр Джон Фотрел был убит в лесу, хотя его слуге Стоуксу удалось бежать с документами. Так кто же убил его?
Аббат взглянул на него, затем, казалось, принял внезапное решение.
— Наши люди, оруженосцы, собранные мной для защиты нашего монастыря и церкви. Я приказал схватить его живым, но старый английский бык не сдавался и боролся так яростно, что все кончилось иначе, к моему сожалению.
Монах положил хлеб — казалось, он больше не мог есть.
— Ужасное злодеяние, — сказал он. — За него вам придется когда-нибудь ответить перед богом и людьми.
— За него нам всем придется отвечать, — поправил аббат, — вплоть до самого последнего монаха и солдата, и тебе не меньше, чем всем нам, брат, потому что разве ты не присутствовал при нашей ссоре?
— Да будет так, аббат. Я невинен и готов отвечать.
Но это не все. Леди Сайсели, услышав об этом убийстве — нет, нечего вам гневаться, иначе этого не назвать — и узнав, что вы претендуете на опеку над ней, бежала к своему жениху, сэру Кристоферу Харфлиту и в тот же день была обвенчана с ним приходским священником этой церкви.
— Это был незаконный брак. Не было сделано должного оглашения. Мало того, как могла моя подопечная обручиться без моего разрешения?
— Ей не принесли извещения о назначении опеки, если даже она установлена, по крайней мере так она заявила, — спокойно и упрямо ответил Мартин. — Я думаю, что во всей Европе не найдется суда, который не признал бы этого открыто совершенного брака, когда станет известно, что они оба некоторое время жили как муж и жена и мужем и женой были признаны окружающими, — даже сам папа этого не сделает.
— Ты заявил, что не законовед, а законы толкуешь, — вставил саркастически Мэлдон. — Ну, какое это имеет значение, если брак разрушен смертью? Муж и жена, даже если их брак действителен, оба умерли: все кончено.
— Нет, ибо теперь их жалоба — в небесном суде, а там придется отвечать каждому из нас; и небо может побудить к действию свои орудия на земле. Нет, не нравится, не нравится мне это; и я скорблю о них, таких любящих, храбрых и молодых. Их кровью и кровью многих других запятнаны наши руки — из-за чего? Из-за полоски плоскогорья и болота, которые король или кто-нибудь другой могут завтра же у нас отнять.
Аббат, казалось, съежился под тяжестью этих печальных и серьезных слов, и некоторое время они молчали. Потом он собрался с мужеством и сказал:
— Я рад, что ты помнишь, что их кровью запятнаны не только мои, но и твои руки; может быть, теперь ты будешь их прятать.
Он встал и пошел к двери, потом к окну — убедиться, что снаружи никого нет, затем, вернувшись, вскричал яростно:
— Дурак! Неужели ты думаешь, что все это совершено было ради нового поместья? Правда, эти земли принадлежат нам по праву и нам нужен доход, который можно с них получать, по за этим кроется нечто большее. Всей церкви в нашем королевстве угрожает проклятый сын велиала
[114], сидящий на троне. Но что это с тобой, сын?
— Я англичанин и не люблю слушать, когда английского короля называют сыном велиала. Я знаю, грехи его велики и черны, как, впрочем, и грехи других людей, но все же — сын велиала! Одних этих слов достаточно, чтобы вас повесить, если бы король их услышал!
— Хорошо, пусть он будет ангелом благородства, если тебе это больше нравится. Во всяком случае, нам грозит беда. Вопреки законам божеским и человеческим наша благословенная королева, Екатерина Испанская, отвергнута в угоду какой-то девке, занявшей ее место
[115]. Даже и теперь у меня есть сведения из Кимболтона
[116], что она умирает там от медленно действующего яда; так говорят, и я этому верю. У меня есть и другие вести. Фишер
[117] и Мор
[118] умерщвлены, а в следующем месяце в парламенте будет поставлен вопрос об уничтожении малых монастырей и присвоении их богатств
[119], а затем наступит и наша очередь. Но мы не будем покорно терпеть все это: прежде чем окончится этот год, вся Англия будет в огне, и я, Клемент Мэлдон, я — я зажгу его. Теперь ты знаешь правду, Мартин. Предашь ли ты меня, как сделал бы этот мертвый рыцарь?
— Нет, милорд аббат, ваши тайны в безопасности. Я ведь ваш капеллан, а своенравный и мстительный король и вправду причинил много вреда богу и его слугам. И все же я говорю, что мне это не нравится, и я не знаю, чем все это окончится. Мы, англичане, — люди упорные, и вам — испанцам — нас не понять и не сломить, а Генрих силен и хитер, да и народ стоит за него. — Я знал, что могу тебе доверять, Мартин, и недаром так открыто говорил с тобой, — продолжал Мэлдон более мягким тоном. — Хорошо, ты узнаешь все. Великий император Германии и Испании на нашей стороне, как и должно быть, если принять во внимание его кровь и веру. Он отомстит за несправедливости, причиненные церкви и его тетке — королеве. Я знаю его, являюсь здесь его посланцем, и то, что я делаю, сделано по его приказанию. Но мне нужно больше денег, чем он может дать мне, вот почему я поднял дело о Шефтонских землях. У леди Сайсели есть огромной ценности украшения, хотя боюсь, они погибли в огне сегодня вечером.
— Грязные деньги — корень всех зол, — пробормотал брат Мартин.
— Да, но также источник всякого блага. Деньги, деньги. Мне нужно много денег, чтобы покупать людей и оружие, чтобы защищать небесную твердыню — церковь. Никаких жизней не жаль во славу и утверждение бессмертной церкви. Пусть погибают! Мой друг, ты боишься; гибель этих людей тяготит твою совесть, — увы, мне тоже тяжко. Я любил эту девушку, которую ребенком держал на руках, и я любил даже ее грубого отца, я любил его за честное сердце, хотя он всегда не доверял мне — испанцу — и имел на то основания. Любил я и Харфлита, лежащего там; он был храбрец, но не из тех, кто бы стал служить нашему делу. Они погибли, и за их пролитую кровь мы должны просить отпущения.
— Если сможем его получить.
— О, сможем, сможем. Оно уже лежит у меня в сумке под знакомой тебе печатью. Не бойся и за нашу бренную оболочку. В Англии подымается такой ветер, что все случившееся сегодня — перед ним только легкое дуновение. Какое значение имеют несколько выпущенных стрел, пожар, погибшие жизни, когда дело идет о столкновении между светской и духовной властью, когда решается вопрос, кто из них будет обладать скипетром в великой Британии? Мартин, у меня есть для тебя поручение, и оно может привести тебя к епископству, прежде чем все будет окончено, и если таковы твои мысли и цели, и ты преодолеешь свои сомнения и колебания, у тебя хватит ума, чтобы управлять. Корабль «Большой Ярмут», отплывший несколько дней назад в Испанию, прибит обратно к берегу и завтра утром должен снова поднять якорь. У меня есть письма для испанского двора; ты повезешь их, а также передашь кому следует мои устные объяснения, которые не могут быть доверены бумаге: за них нам грозила бы виселица. Корабль направляется в Севилью, но ты последуешь за императором, где бы он ни был. Ты поедешь, не правда ли? — И он взглянул на него искоса.
— Я повинуюсь приказанию, — ответил Мартин, — хотя я мало знаю испанцев и испанский язык.
— В каждом городе есть бенедиктинский монастырь, а в каждом монастыре — переводчик, и ты будешь официально направлен к ним, образующим великое братство. Значит, решено. Иди и подготовься как можно лучше. Мне надо писать письма. Стой! Чем скорее похоронят этого Харфлита, тем лучше.
Прикажи этому здоровому парню, Боллу, найти церковного сторожа и помочь вырыть могилу, потому что на рассвете мы его похороним. Теперь иди, иди; я сказал тебе, что должен писать. Возвращайся через час, и я вручу тебе деньги на поездку, а также сообщу все, что ты должен будешь передать устно.
Брат Мартин поклонился и вышел.
— Опасный человек, — пробормотал аббат, когда за ним закрылась дверь, — слишком честный для нашей игры и слишком уж англичанин. Патриотизм так и пробивается сквозь его рясу. У монаха не должно быть ни родины, ни родни.
Но в Испании его кое-чему научат, и я уж постараюсь, чтобы его задержали там на достаточно долгий срок. Теперь пора приняться за письма. — И он сел за грубо сколоченный стол и начал писать.
Полчаса спустя дверь отворилась, и вошел Мартин.
— Что еще? — спросил раздраженно аббат. — Я сказал: «Возвращайся через час».
— Да, вы это сказали, но у меня хорошие новости, и я думал, что вам было бы интересно их услышать.
— Тогда выкладывай. В наши дни это редкость. Нашли драгоценности? Нет, это невозможно. Дом все еще горит. — И он взглянул через окно. -Какие новости?
— Лучше, чем драгоценности, — Кристофер Харфлит жив. Когда я молился над ним, он повернул голову и пробормотал что-то. Думаю, что его только оглушили. Вы искусны в медицине, пойдите и посмотрите на него.
Через минуту аббат склонился над бесчувственным телом Кристофера, лежавшим на грязном полу коровника. При свете фонарей он пощупал искусными пальцами его раненую голову, с которой сняли разбитый шлем, в после этого дослушал его сердце и пульс.
— Череп рассечен, но не разбит, — сказал он. — Я думаю, что он может пролежать без сознания много дней, но если за ним ухаживать и кормить его, то этот молодой и сильный человек будет жить. Если же его оставить одного в этом холоде, он умрет к утру; и может быть, лучше, если он умрет. — И он взглянул на Мартина.
— Это было бы настоящим убийством, — ответил секретарь. — Пойдемте отнесем его к огню и вольем молока ему в горло. Мы еще можем его спасти. Поднимайте его за ноги, а я возьму за голову.
Аббат сделал это не особенно охотно, как показалось Мартину, скорее, как человек, у которого нет выбора.
Полчаса спустя, когда раны Кристофера были смазаны мазью и ему в горло было влито молоко, которое он проглотил, хотя и был без чувств, аббат, глядя на него, сказал Мартину:
— Ты отдал приказания насчет похорон Харфлита, не так ли?
Монах кивнул.
— А ты сказал кому-нибудь, что в настоящее время ему могила не нужна? — Никому, кроме вас.
Аббат некоторое время раздумывал, потирая бритый подбородок.
— Я думаю, что похороны должны состояться, — сказал он вскоре. — Не пугайся: я не собираюсь хоронить его живым. Но в коровнике лежит еще один мертвец — Эндрью Вудс, мой слуга, шотландский солдат, убитый Харфлитом. У него здесь нет друзей, и никто не потребует его тела, а они примерно одного роста и объема. Завернутый в одеяло труп никто не распознает, а люди будут думать, что Эндрью похоронили вместе с остальными. Пусть он хотя бы после смерти поднимется выше своего звания и займет могилу рыцаря. — С какой целью вы хотите сыграть такую безбожную шутку, тем более, что через день все разъяснится? — спросил Мартин, пристально глядя на него. — Ведь все увидят, что сэр Кристофер жив.
— С весьма благой целью, мой друг. Пусть лучше все считают сэра Кристофера Харфлита мертвым; ибо, если узнают, что он жив, его могущественный родственник, живущий на юге, может навлечь на нас много неприятностей.
— Вы думаете?.. Если так, то, клянусь богом, я не стану в этом участвовать!
— Я сказал — считать мертвым. Куда девалась сегодня твоя сообразительность? — раздраженно ответил аббат. — Сэр Кристофер поедет с тобой в Испанию под именем больного брата Луиса; он, как и я, родом оттуда и хотел, как мы все знаем, вернуться домой, но слишком тяжело болен, чтобы осуществить это. Ты будешь ухаживать за Харфлитом, и на корабле он или умрет или выздоровеет, в зависимости от божьей воли. Если он выздоровеет, то наше братство окажет ему в Севилье гостеприимство, несмотря на его преступления, а к тому времени, когда он опять вернется в Англию, что будет не скоро, люди забудут эту нашу схватку, переживая надвигающиеся более грандиозные события. Никто ему не повредит, поскольку леди, на которой он якобы женился, без сомнения умерла. Кстати, пусть он узнает об этом от тебя, если вновь обретет сознание.
— Странная игра, — пробормотал Мартин.
— Странная или нет, это моя игра, и я ее должен сыграть. Поэтому не задавай вопросов, а подчиняйся и дай клятву молчать, — холодно и жестко ответил аббат. — Крытые носилки, принесенные сюда для раненых, находятся в соседней комнате. Закутаем этого человека в одеяло и в монашескую рясу и положим его на них. Потом пусть братья, умеющие не задавать вопросов, отнесут его в Блосхолм, как одного из мертвецов, а перед рассветом, если он еще будет жив, на корабль «Большой Ярмут». Корабль будет стоять у причала в полумили от ворот аббатства. Торопись и помоги мне. Я догоню тебя с письмами и прослежу, чтобы тебе выдали все нужные вещи из нашей кладовой. Я еще должен поговорить с капитаном, прежде чем он поднимет якорь. Не трать больше времени на разговоры, а подчиняйся и храни все в тайне.
— Я подчинюсь и сохраню все в тайне, как велит мне долг, — ответил брат Мартин, смиренно поклонившись. — Но чем кончится все это дело, знают только бог и его ангелы. Повторяю — мне оно не нравится.
— Очень опасный человек, — пробормотал аббат, глядя вслед Мартину. -Ему тоже следует побыть в Испании. И подольше. Я позабочусь об этом!
6. ПРОКЛЯТЬЕ ЭМЛИН
На следующее утро после сожжения Тауэрса, как раз перед самым рассветом, труп, небрежно завернутый в саван, был перенесен из деревни на Крануэлское кладбище, где была вырыта неглубокая могила — его последний приют.
— Кого мы так спешно хороним? — спросил высоченный Томас Болл, один в темноте вырывший могилу, так как велено было сделать это срочно, а перепуганный суматохой могильщик убежал.
— Злодея этого, сэра Кристофера Харфлита, нанесшего нам такие потери, — сказал старый монах; ему приказали совершить обряд погребения, так как священник, отец Нектон, тоже уехал, боясь мести аббата за свое участие в бракосочетании Сайсели. — Печальная история, очень печальная история. Ночью они венчались и ночью же погребены: она — в пламени, он — в земле.
Поистине, о господи, неисповедимы пути твои, и горе тому, кто подымает руку против твоих помазанников!
— Верно, что неисповедимы, — ответил Болл. Стоя в могиле, он взял труп за голову и положил его между своими широко расставленными ногами. -Настолько неисповедимы, что простой человек задумывается, каков будет неисповедимый конец всего этого и почему этот благородный молодой рыцарь стал неисповедимым образом намного легче, чем был. Наверное, из-за всех постигших его бед и голодухи в сожженном Тауэрсе. Почему не положить его в склеп вместе с предками? Это бы избавило меня от работы в обществе привидений, часто посещающих это место. Что вы говорите, отец? Потому что плита замурована, а вход заложен кирпичами и не найти каменщика? Тогда почему бы не подождать, пока он не найдется? Да, неисповедимо, поистине неисповедимо! Но как я осмеливаюсь задавать вопросы? Если милорд аббат приказывает, монах повинуется, ибо у настоятеля нашего пути тоже неисповедимы.
— Теперь все в порядке — лежит прямо на спине, ногами на восток, по крайней мере, я так думаю, потому что в темноте я не мог как следует разобраться, и вся неисповедимая история неисповедимо заканчивается. Дайте-ка мне вашу руку, чтобы выбраться из ямы, отец, и читайте скорее молитвы над грешным телом этого безбожного парня, осмелившегося жениться на любимой девушке и освободить от уз плоти души нескольких святых монахов или, вернее, нанятых ими головорезов (монахи-то ведь не дерутся), за то, что они хотели разлучить тех, кого сочетал бог — то есть, я хочу сказать дьявол, и присоединить их доходы к поместьям матери церкви.
Затем старый священник, дрожавший от холода и мало что разбиравший в путаной речи Болла, начал бормотать заупокойные молитвы, пропуская все, что не помнил наизусть. Так еще одно зерно было посажено на поле смерти и бессмертия, хотя, когда и где оно прорастет и что оно принесет, монах не знал и не стремился узнать: ему хотелось только поскорее убежать обратно от всех этих страхов и схваток назад, в свою привычную келью.
Все было кончено. Монах и носильщики ушли, прорываясь сквозь резкий сырой ветер и предоставив Томасу Боллу зарывать могилу, что он усердно делал до тех пор, пока они не скрылись из виду или, вернее, пока их уже не было слышно.
Когда они ушли, он спустился в яму как бы для того, чтобы утоптать рыхлую почву, и там, защищенный от ветра, уселся на ноги трупа и, раздумывая, стал отдыхать.
— Сэр Кристофер мертв, — пробормотал он сам себе. — Когда я был мальчишкой, я знал его деда, а мой дед говорил мне, что знал его деда, а что его дед знал прадеда его деда — и так было триста лет сряду, а теперь я сижу на оцепеневших пальцах последнего из них, зарубленного, подобно бешеному быку, в своем собственном дворе испанским священником и его наемниками, чтобы захватить богатство его жены. О! Да, это неисповедимо, воистину неисповедимо; и леди Сайсели мертва, сожженная, как обыкновенная ведьма. И Эмлин мертва — Эмлин, которую я столько раз обнимал на этом самом кладбище до того, как они силой заставили ее выйти замуж за старого жирного управляющего, а из меня сделали монаха.
Но мне она дала свой первый поцелуй, и — святые угодники! — как она проклинала старого Стауэра, возвращаясь по той вон тропинке! Я стоял там, за деревом, и слышал ее. Она сказала, что будет плясать на его могиле и плясала; я видел, как она это делала при лунном свете на следующую же ночь после того, как его похоронили: одетая в белое, она танцевала на его могиле. Да, Эмлин всегда выполняла свои обещания. Это у нее в крови. Мать ее была цыганской ведьмой, иначе она никогда не вышла бы замуж за испанца, — ведь все мужчины ее племени влюблены были в ее прекрасные глаза. Эмлин тоже ведьма или была ведьмой; ведь говорят, что она умерла, но мне как-то не верится — не из тех она, кто так просто умирает. Все же она, пожалуй, умерла, и для спасения моей души это к лучшему. О несчастный человек! О чем ты думаешь? Отыди от меня, сатана, если найдешь, куда отойти. Могила для тебя не место, сатана, но я хотел бы, чтобы ты сейчас находилась со мной, Эмлин. Ты, должно быть, была ведьма, потому что после тебя мне никогда не нравилась никакая другая женщина, а это противоестественно, — ведь на безрыбье и рак — рыба. Ясно — ведьма, и самая вредная, но, моя любимая, ведьма ты или нет, я хотел бы, чтобы ты была жива, и ради тебя я сломаю шею этому аббату, даже если погублю свою душу. О Эмлин, моя любимая, моя любимая! Помнишь, как мы целовались в рощице у реки?.. Разве может какая-нибудь женщина любить так, как ты?
И он продолжал стонать, раскачиваясь взад и вперед на ногах трупа, пока, наконец, алый яркий луч восходящего солнца не забрался в темную яму, осветив прежде всего полусгнивший череп, не замеченный Боллом в разрыхленной земле. Болл поднялся и выкинул его оттуда со словами, которые неуместны на устах монаха, но ведь и мысли, которым он только что предавался, тоже не должны были возникать в его голове. Затем он принялся за дело, задуманное им в те мгновения, когда он отвлекался от своих любовных мечтаний, — в некотором роде темное дело.
Вытащив нож из ножен, он разрезал грубые швы савана и онемевшими руками стащил его с головы трупа.
Солнце скрылось за тучей, и, чтобы не терять времени, он начал ощупывать лицо трупа.
— У сэра Кристофера нос не был перебит, — бормотал он про себя, -если только это не произошло в последней схватке; но тогда кости не могли бы еще срастись, а тут кость крепкая. Нет, нет, у него был очень красивый нос.
Солнечный луч появился снова, и Томас, вглядевшись в мертвое лицо, разразился вдруг хриплым смехом:
— Именем всех святых! Вот еще один фокус нашего испанца. Это пьяница Эндрью — шотландец, превратившийся в мертвого английского рыцаря. Кристофер убил его, а теперь он стал Кристофером. Но где же сам Кристофер? Он немного подумал, потом, выскочив из могилы, начал торопливо ее зарывать.
— Ты Кристофер, — сказал он, — хорошо, оставайся Кристофером, пока я не смогу доказать, что ты Эндрью. Прощай, сэр Эндрью-Кристофер; я пойду искать тех, кто получше тебя. Если ты мертв, то мертвые, может быть, живы. После этого и Эмлин, возможно, не померла. О, нынче дьявол разыгрывает веселые шутки вокруг Крануэл Тауэрса, и Томас Болл хочет принять в них участие.
Он был прав. Дьявол разыгрывал веселую шутку. По крайней мере, так думал не один только Томас. Например, те же мысли приходили в голову заблуждавшегося, но честного фанатика Мартина, когда он смотрел на все еще бесчувственное тело сэра Кристофера, названного братом Луисом и благополучно доставленного на борт «Большого Ярмута»; теперь, мертвый или живой — Мартин и сам не знал этого, — Кристофер лежал в маленькой каюте, предназначенной для них двоих.
Глядя на него и качая своей лысой головой, Мартин чуть ли не ощущал в этой тесной каюте запах серы, который, как он хорошо знал, был любимым запахом дьявола.
Сам капитан, косоглазый, угрюмый моряк, хорошо известный в Данвиче, где его прозвали Загребущим Ханжой за пылкое стремление приобретать, где только можно, деньги и искусно прятать их, казалось, ощущал нечистое влияние его величества сатаны. Плавание до сих пор было неудачно: отъезд задержался на шесть недель, то есть до самого плохого времени года, -пришлось ожидать каких-то таинственных писем и груза, который его хозяева велели ему везти в Севилью. Затем он вышел из реки с попутным ветром только для того, чтобы его вернула назад ужасающая буря, чуть не потопившая корабль.
Кроме того, шестеро его лучших людей сбежали, боясь путешествия в Испанию в такое время года, и он был вынужден взять наудачу других. Среди них был чернобородый широкоплечий парень, одетый в кожаную куртку; на каблуках у него были шпоры, притом окровавленные, — видимо, он не успел их снять. Этот столь яростно гнавший своего коня всадник добрался до корабля на лодке, когда якорь был уже поднят и, бросив лодку на произвол судьбы предложил хорошие деньги за проезд к Испанию или в любой другой иностранный порт и немедленно расплатился наличными. Загребущий взял деньги, хотя и с сомнением в душе, и выдал квитанцию на имя Чарльза Смита, не задавая вопросов, так как за это золото ему не надо было отчитываться перед хозяевами. Впоследствии этот человек, сняв шпоры и солдатскую куртку, принялся работать вместе с командой, — кое-кто из матросов, казалось, знал его, а во время случившейся потом бури он показал себя человеком сильным и полезным, хотя и не опытным моряком.
Все же этот Чарльз Смит и его окровавленные шпоры вызывали у капитана недоверие, и, если бы у него хватало рабочих рук и он не взял с негодяя солидные деньги, он бы с удовольствием высадил его на берег, когда они опять вошли в реку, особенно теперь, когда он услышал, что в Блосхолме было совершено убийство, что сэр Джон Фотрел лежит убитый в лесу. Может быть, этот Чарльз Смит и убил его. Ну что ж, даже если так, это ведь не его дело, а он не мог пренебречь рабочими руками.
Теперь же, когда наконец погода установилась, в самый момент подъема якоря является вдруг блосхолмский настоятель, чье распоряжение и заставило его задержаться, с каким-то худолицым монахом и другим пассажиром — по словам аббата, то был больной из его братии, — завернутым в одеяла и, по всей видимости, бездыханным.
Почему, удивлялся проницательный Загребущий Ханжа, больной монах носит кольчугу? Ведь он нащупал ее сквозь одеяло, когда помогал поднять больного по лестнице, хотя, правда, сапоги на ногах у этого человека были монашеские. И почему голова монаха, как он заметил, когда покрывало на минуту соскользнуло, была обвязана окровавленным полотном?
Но когда он осмелился спросить аббата, что означает это таинственное обстоятельство, его милость, как раз отсчитывавший плату за проезд, дал ему весьма резкий ответ:
— Вам ведь приказано во всем мне подчиняться, капитан, и подчинение вряд ли совместимо с вмешательством в мои дела. Еще слово — и я сообщу о вас некоторым лицам в Испании, умеющим обращаться с интриганами. Если вы хотите снова увидеть Данвич, то придержите язык.
— Прошу прощения, милорд аббат, — сказал Загребущий, — но на корабле творятся такие дела, что мне становится страшно. Не может плаванье быть удачным, если дважды поднимают якорь в одном и том же порту.
— Вы не улучшите положения, капитан, вынюхивая мои дела и дела церкви. Или вы хотите, чтобы я наложил на вас ее проклятие?
— Нет, ваша милость, наоборот, я хочу, чтобы вы сняли проклятие, -ответил Загребущий Ханжа, который был крайне суеверен. — Сделайте это, и я повезу дюжину больных священников в Испанию, даже если им нравится носить кольчугу для умерщвления плоти.
Аббат улыбнулся и затем, подняв руку, произнес какие-то слова по-латыни, и так как Загребущий их не понял, то счел весьма благотворными. Как раз, когда они слетали с губ настоятеля, «Большой Ярмут» начал двигаться,
так как моряки поднимали якорь.
— Я не стану сопровождать вас в этом плавании, а потому прощайте, -сказал аббат. — Святые будут с вами, как и мои молитвы. Поскольку вы не пойдете через Гибралтарский пролив, где, я слышал, скрывается много язычников-пиратов, при хорошей погоде ваше путешествие окончится вполне благополучно. Еще раз прощайте. Я поручаю вашему попечению брата Мартина и нашего больного друга и потребую отчета о них, когда мы встретимся снова. «Надеюсь, это случится не здесь, по сю сторону ада: не нравится мне этот испанский аббат и его пассажиры, мертвые или живые», — думал про себя Загребущий, когда он с поклоном провожал его из каюты.
Минутой позже аббат, торопливо и озабоченно сказав Мартину несколько слов, начал спускаться по трапу в лодку, где на веслах сидели его люди, медленно ведя ее в уровень с кораблем. Спускаясь, он оглянулся и в липком утреннем тумане, почти таком же плотном, как шерсть, увидел лицо человека, которому было приказано держать лестницу, и узнал в нем Джефри Стоукса, спасшегося бегством во время убийства сэра Джона — спасшегося бегством с проклятыми бумагами, стоившими жизни его хозяину. Да, это Джефри Стоукс, никто иной. Аббат намеревался что-то сказать, но, прежде чем одно слово слетело с его губ, произошел несчастный случай.
Аббату показалось, что будто весь корабль яростно ударил его сзади, так яростно, что он полетел головой вперед, упал в лодку между гребцами и лежал там, будучи не в силах пошевелиться и вздохнуть.
— Что случилось? — спросил капитан, услышав шум.
— Аббат поскользнулся или трап соскользнул, уж не знаю, что там произошло, — ответил Джефри сердито, уставившись на носок своего морского сапога. — Во всяком случае, он теперь в лодке, в полной безопасности.
Повернувшись, он прошел к носовой части судна и исчез в тумане, бормоча себе под нос:
— Очень хороший удар, хотя немного высоковато. Но я хотел бы, чтобы он соскользнул с лестницы, предназначенной для другой цели. Этот мерзкий убийца хорошо бы выглядел с веревкой на шее. Не решился я на большее, хотя и это помогло заткнуть его лживую глотку, прежде чем он меня выдал. О, мой бедный хозяин, мой бедный старый хозяин!
Тяжко страдая от ушибов и ссадин, чувствуя себя очень плохо, через час с небольшим аббат Мэлдон вернулся к развалинам Крануэл Тауэрса. Могло показаться странным, что он направился туда, но, сказать правду, его смятенное сердце не давало ему покоя. Все планы настоятеля до сих пор осуществлялись великолепно. Сэр Джон Фотрел был мертв — конечно, это преступление, но преступление необходимое, так как если бы рыцарь остался жив и приехал в Лондон с документами в кармане, аббату пришлось бы поплатиться своей собственной жизнью и жизнью многих других, ибо кто знает, какие истины могут быть вырваны у жертвы, пытаемой на дыбе. Мэлдон всегда боялся дыбы; этот кошмар преследовал его по ночам, хотя честолюбивое коварство его натуры и дело, которому он служил душой и сердцем, постоянно подвергали аббата опасности изведать подобную участь.
В момент, когда он не был настороже, когда у него от вина развязался язык, он отдал себя во власть сэра Джона Фотрела, надеясь привлечь его на сторону Испании, а потом, забыв об этом, сделал его своим самым злейшим врагом. Этот враг должен был погибнуть, ибо, если бы он остался в живых, не только сам аббат мог погибнуть, но рухнули бы и все планы о восстании церкви против короны. Да, да, это было законно, и ему наверняка простят в случае, если правда обнаружится. До сегодняшнего утра он надеялся, что ее никто не узнает, но теперь выяснилось, что Джефри Стоукс бежал на корабле «Большой Ярмут».
О, если бы только он увидел его минутой раньше; если бы только что-то — а может быть, это был сам нечестивый негодяй Джефри? — что-то не ударило его так сильно в спину и не швырнуло в лодку, где он лежал почти без сознания, пока судно уплывало от них вниз по реке. Итак, оно ушло, и с ним Джефри. Но в конце-то концов он был всего лишь простым слугой, и даже если ему что-нибудь известно, у него никогда не хватит ума воспользоваться своим знанием, хотя, правда, он оказался достаточно умным, чтобы бежать из Англии.
На теле сэра Джона не нашли никаких бумаг. Без сомнения, старый рыцарь успел передать их Джефри, покинувшему теперь королевство в одежде моряка. О! Какой злой случай привел его на борт одного и того же судна с сэром Кристофером Харфлитом!
Да, сэр Кристофер Харфлит, возможно, умер бы; если бы брат Мартин не был таким дураком, он наверняка бы умер; но факт оставался фактом — этот монах, вообще способный, в таких делах был дураком, его совестливость в данных обстоятельствах становилась помехой. Если Кристофера можно будет спасти, то Мартин спасет его, как он уже спас его в коровнике, даже если и передаст его потом в руки инквизиции
[120]. Все же умереть он еще может, несмотря на уход; судно тоже может погибнуть, особенно в такое время года, о чем следует пламенно молиться. Нужно также при первой оказии отправить в Испанию кое-какие письма, благодаря которым действия брата Мартина и сэра Кристофера Харфлита, если он выживет и попадет туда, встретятся со всевозможными препятствиями.
Тем временем, размышлял Мэлдон, и в других отношениях все шло не так, как нужно бы. Он хотел объявить себя опекуном Сайсели и заточить ее в монастырь, чтобы овладеть ее огромными землями, необходимыми ему для святого дела, но он не желал ее смерти. Право, он любил эту девушку, зная ее с детства, и ее невинная кровь легла тяжелым грузом на его душу, ведь в глубине сердца он никогда не стремился к кровопролитию. Все же не он, а само небо умертвило ее, и теперь этого нельзя было исправить. А раз она мертва, ее наследство, думал он, перейдет к нему в руки без дальнейших неприятностей, ибо у него — аббата с правами епископа, занимающего место в палате лордов, — были люди в Лондоне, которые за плату могли замять расследование этого темного дела.
Нет, нет, он не должен быть мягкосердечным. Потому что, в конце концов, он достиг многого, за что нужно быть благодарным. Дело их продолжается — великое дело церкви, которой угрожают и которой он посвятил свою жизнь. Генрих — еретик — падет. Испанский император — он любит аббата, своего шпиона, — вторгнется и захватит Англию. И Мэлдон еще доживет до того дня, когда святая инквизиция начнет работать в Вестминстере
[121], а он сам — да, он сам — разве ему на это не намекнули? — сядет в долгожданной кардинальской красной шапке
[122] на престол епископа Кентерберийского
[123], а затем — о великая мечта! — затем, может быть окажется и в Риме с тройной папской тиарой
[124] на голове!
Шел сильный дождь, когда аббат в сопровождении двух монахов и полдюжины оруженосцев подъехал к Крануэлу. Дом превратился в кучу дымящегося пепла, обуглившихся балок и обожженной глины, и среди них сквозь дождь, превращавшийся в облака пара, чуть виднелась угрюмая старая Нормандская башня; языки пламени напрасно лизали ее каменные стены.
— Зачем мы пришли сюда? — спросил один из монахов, с трепетом глядя на эту ужасную картину.
— Чтобы найти тела леди Сайсели и ее служанки и предать их земле по христианскому обряду, — ответил аббат.
— После того как их убили самым нехристианским способом, -пробормотал про себя монах, затем добавил вслух: — Вы всегда были милосердны, милорд аббат, и хотя она не послушалась вас, с благородной леди нельзя поступить иначе. А кормилица Эмлин была ведьмой и кончила тем, чего заслуживала, если, конечно, она действительно умерла.
— Что ты хочешь сказать? — резко спросил аббат.
— Я хочу сказать, что раз она была ведьмой, то огонь мог и не тронуть ее.
— Дал бы тогда господь, чтобы он не тронул и ее хозяйки. Но этого не может быть. Только дьявол мог выжить в пекле этой печи. Посмотрите, даже башня выжжена.
— Да, этого не может быть, — ответил монах, — поэтому, раз мы их никогда не найдем, давайте отслужим погребальную службу над этой огромной мрачной могилой и уйдем — чем скорее, тем лучше, потому что в этом месте наверно гнездятся привидения.
— Сперва мы должны разыскать их кости, там, под этой башней; на ней мы их видели в последний раз, — ответил аббат, добавив тихо: — Помни, брат, у леди Сайсели были драгоценные украшения, составляющие часть ее наследства; если они были завернуты в кожу, пламя могло пощадить их. В Шефтоне их не удалось найти. Значит, они здесь, но нельзя поручать поиски простому народу. Вот почему я поторопился прийти сюда сам. Понимаешь? Монах кивнул головой. Сойдя с лошадей, они отдали их слугам и начали осматривать развалины, причем аббат опирался на руку своего подчиненного; он чувствовал сильную боль от удара, который Джефри нанес ему в спину своим матросским сапогом, и от синяков, полученных при падении в лодку. Сначала они прошли под не тронутой огнем сторожевой башней у ворот и попали во двор, где их окутал удушливый дым тлеющего хлама, так что дальше они идти не могли: следует помнить, что стены дома обрушились не внутрь его, а во двор. Здесь они обнаружили лежащее под трупом лошади тело одного из людей, убитых Кристофером в последней схватке, и велели его вынести. Затем, оставив мертвеца под воротами, они в сопровождении своих людей обошли вокруг развалин, придерживаясь внутренней стороны рва, пока не дошли до маленького садика для прогулок с задней стороны дома.
— Посмотрите, — испуганно сказал монах, указывая на опаленные кусты, бывшие когда-то беседкой.
Аббат посмотрел туда, но сперва ничего не мог различить из-за клубов дыма. Вскоре дуновение ветра отогнало их в сторону, и там он увидел фигуры двух женщин, стоявших рука об руку. Его люди тоже увидели их и громко закричали, что это призраки Сайсели и Эмлин. Пока они кричали, эти фигуры, по-прежнему держась за руки, стали двигаться к ним, и они увидели, что это действительно были Сайсели и Эмлин, но живые и совершенно невредимые.
С минуту царило глубокое молчание; потом аббат спросил:
— Откуда вы появились, мисс Сайсели?
— Из огня, — ответила она тихим невозмутимым голосом.
— Из огня! Как вы выжили в этом огне?
— Бог послал своего ангела, чтобы спасти нас, — ответила она так же тихо.
— Чудо, — пробормотал монах, — настоящее чудо!
— Или, может быть, колдовство Эмлин Стоуэр, — воскликнул один из стоявших позади, и Мэлдон вздрогнул при этих словах.
— Отведите меня к моему мужу, милорд аббат, чтобы его сердце не разбилось при мысли, что я мертва, — сказала Сайсели.
И опять наступила такая глубокая тишина, что можно было услышать стук каждой капли падающего дождя. Дважды аббат безуспешно пытался заговорить, но все же наконец произнес:
— Человек, которого ты называешь своим мужем, но который был не мужем твоим, а похитителем, погиб прошлой ночью в схватке, Сайсели Фотрел.
Она стояла с минуту неподвижно, как бы обдумывая его слова, потом сказала тем же неестественным голосом:
— Вы лжете, милорд аббат. Вы всегда были лжецом, как отец ваш дьявол. Хотя я видела, как Кристофер упал, он на самом деле жив — да, я знаю это и еще многое другое. — И она закрыла рукой глаза, словно для того, чтобы не видеть лица своего врага.
Теперь аббат задрожал от ужаса — ведь он-то знал, что лжет, хотя никто из присутствовавших тогда и не подозревал об этом. Ему казалось, что его внезапно призвали на Страшный суд, где все тайное должно стать явным. — Злой дух вселился в тебя, — сказал он хрипло.
Она опустила руку, указывая на него:
— Нет, нет; я знала только одного злого духа, и вот он стоит передо мной.
— Сайсели, — продолжал он, — перестань богохульствовать! Увы! Я должен сказать тебе правду. Сэр Кристофер Харфлит мертв, и его похоронили на этом кладбище.
— Что! Благородного рыцаря зарыли так быстро, даже не положив в гроб? Значит, вы похоронили его живым, и настанет день, когда он, живой, выступит против вас. Слушайте все мои слова. Кристофер Харфлит появится живой и невредимый и даст показания против этого дьявола в монашеской одежде, а потом, а потом… — Тут она дико захохотала, затем вдруг упала и осталась лежать неподвижно.
Тогда красивая и смуглая от своей испанской или, может быть, цыганской крови Эмлин, все время стоявшая молча, сложив руки на высокой груди, наклонилась и посмотрела на нее. Потом выпрямилась, и ее лицо казалось лицом прекрасного демона.
— Она умерла! — воскликнула она. — Моя голубка умерла. Она, вскормленная моей грудью, знатнейшая леди всей нашей округи, владетельница Блосхолма, Крануэла и Шефтона, в чьих жилах текла кровь славных рыцарей и даже древних королей, умерла, убитая жалким иноземным монахом, умертвившим всего десять дней назад ее отца, там, у Королевского кургана, там, у заводи. О! Стрела в его горле! Стрела в его горле! Я прокляла руки, выпустившие ее, и сегодня эти руки, посиневшие руки мертвеца, уже в могиле. И так же я проклинаю тебя, Мальдонадо, злодей-настоятель, рукоположенный самим сатаной, тебя и всю твою шайку палачей! — И она разразилась потоком испанских ругательств, которые аббат отлично понимал. Но вот Эмлин остановилась и посмотрела назад, на тлеющие развалины.
— Этот дом сожгли! — воскликнула она. — Так запомни слова Эмлин: точно так же будет гореть твой дом, и твои монахи разбегутся, визжа, как крысы, из горящего стога. Ты присвоил чужую землю — она будет отнята у тебя, и отняты будут твои собственные земли, все до последнего акра. Не останется даже клочка, чтобы зарыть тебя, потому что, монах, тебя и не придется хоронить: птицы обчистят твои кости, а на небо тебе суждено попасть только в их зобах. Убийца, если Кристофер Харфлит умер, он все же оживет, как поклялась его супруга, потому что его потомство восстанет против тебя. О! Я забыла; как может это случиться, как может это случиться, раз и она умерла вместе с ним, а их брачное покрывало превратилось в саван, сотканный черными монахами? И все же так будет, так будет! Каким образом, я не знаю, но потомство Кристофера Харфлита восстанет, оно будет хозяином там, где хозяйничали блосхолмские аббаты, и от отца к сыну станет передаваться повесть о последнем из них — испанце, устраивавшем заговоры против английского короля и погубившем себя самого. Ярость Эмлин, как штормовой ветер, меняла направление. Забыв аббата, она повернулась к монаху, стоявшему рядом с ним, и прокляла его. Потом она прокляла наемных оруженосцев, находившихся тут же и отсутствовавших, -многих из них поименно, и, наконец, — самое страшное преступление — она прокляла папу и короля Испании и призвала бога на небесах и Генриха Английского на земле отомстить за несправедливости, причиненные леди Сайсели, за убийство сэра Джона Фотрела и за убийство сэра Кристофера Харфлита, отомстить каждому из них в отдельности и всем вместе.
Такими яростными и страшными были ее неистовые речи, что все, кто их слышал, стояли оторопев. Аббат и монах прижались друг к другу, солдаты крестились и бормотали молитвы, а один из них, подбежав к Эмлин, упал на колени и стал уверять ее, что он не принимал никакого участия в этом деле, потому что вернулся только накануне вечером из поездки и только утром был вызван сюда.
Эмлин, которая на мгновение смолкла, чтобы передохнуть, выслушав его, сказала:
— Тогда я снимаю проклятие с тебя и твоих близких, Джон Эти. Теперь подними мою леди и отнеси ее в церковь, там она будет лежать, как подобает ее званию, хотя и без своих украшений, великолепных, бесценных украшений, из-за которых за ней охотились, как за кроликом. Ей придется лежать без своих драгоценностей, без жемчугов и диадемы, без колец, пояса и ожерелья из сверкающих жемчужин, стоившего гораздо больше, чем все эти жалкие земли; ожерелье, которое некогда носила жена султана. Они погибли, хотя, может быть, этот аббат нашел их. Сэр Джон Фотрел для сохранности повез их в Лондон, а добрый сэр Джон мертв; бродяги в лесу напали на него, и стрела пущенная сзади, пронзила ему горло. Те, кто убил его, захватили эти драгоценности, и мертвая невеста должна лежать без них, украшенная лишь своей собственной красой, данной ей богом. Подними ее, Джон Эти, а вы, монахи, начинайте погребальное пение, мы пойдем в церковь. Невеста, лишь на днях стоявшая перед алтарем, теперь будет лежать перед ним, как последняя жертва богу от Клемента Мальдонадо. Сначала отец, потом муж, а теперь жена — милая, молодая жена!
Так бушевала она, и все, как громом пораженные, стояли перед ней, а Джон Эти поднимал Сайсели. И вдруг Сайсели, которую все считали умершей, открыла глаза, высвободилась из его рук и встала на ноги.
— Смотрите, — вскрикнула Эмлин, — разве я вам не говорила, что потомство Харфлита должно жить, чтобы отомстить всему вашему племени? Вот уже встала та, кто сохранит его семя. Где же мы теперь найдем убежище, пока вся Англия не узнает эту историю? Крануэл разрушен, хотя он поднимется снова, а Шефтон присвоен врагом. Где же нам укрыться?
— Оттащите прочь эту женщину, — сказал аббат хриплым голосом, — ее колдовство отравляет воздух. Посадите леди Сайсели на лошадь и отвезите ее в Блосхолмскую женскую обитель, где о ней позаботятся.
Люди, хотя и очень неуверенно, двинулись вперед, чтобы исполнить его приказание. Но Эмлин, услышав то, что он сказал, подбежала к аббату и прошептала ему что-то на ухо на чужом языке; он отшатнулся от нее, перекрестился.
— Я передумал, — сказал он слугам. — Миссис Эмлин напомнила мне, что вскормила леди своей грудью, заменяя ей мать. Пока они должны остаться вместе. Отведите их обеих в монастырь, где они будут жить, и забудьте слова этой женщины, потому что она сошла с ума от страха и горя и сама не понимала того, что говорила. Пусть бог и его святые простят ей, как прощаю я.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ АББАТА
В Блосхолмской женской обители — длинном сером доме, расположенном под тенью холма и огороженном высокой стеной, — все было спокойно. За стеной при доме был также большой, довольно запущенный сад и часовня — все еще красивая, хотя и начавшая разрушаться.
Когда-то Блосхолмский женский монастырь, построенный ранее аббатства, был богатым и знаменитым. Во времена Эдуарда I его основательница, некая леди Матильда из рода Плантагенетов
[125], удалившаяся от света после того, как ее муж был убит в крестовом походе, не имея детей, принесла в дар ему все свои земли. Другие знатные леди, сопровождавшие ее туда или искавшие там приюта в последующие времена, поступали таким же образом, поэтому монастырь стал могущественным и богатым, так что в момент наивысшего процветания в его стенах перебирали четки более двадцати монахинь.
Потом на противоположном холме выросло гордое аббатство, получившее королевскую грамоту, утвержденную папой, по которой Блосхолмский монастырь был присоединен к Блосхолмскому аббатству, и блосхолмский аббат стал духовным руководителем всех его монахинь. С этого времени богатство монастыря пошло на убыль, так как под тем или иным предлогом аббаты растаскивали по кусочкам его земли, чтобы расширять свои собственные владения.
Ко дню, когда начинается наша повесть, весь доход женской обители снизился до 130 фунтов в год на тогдашние деньги, и даже с этой суммы аббат взимал церковную десятину. Теперь в этом большом доме, когда-то густо населенном, жило всего шесть монахинь, одна из которых фактически была служанкой, а старый монах из аббатства служил мессу в красивой часовне, где лежали останки всех умерших до этого инокинь. В некоторые праздники служил сам аббат, исповедовал монахинь, отпуская им грехи, и давал свое святое благословение. В эти дни он просматривал счета обители и, если в ней имелись наличные деньги, брал часть из них для своих нужд, почему настоятельница и не очень радовалась его появлению.
Именно в этот древний и мирный дом, наутро после великого пожарища были препровождены обезумевшая Сайсели и ее служанка Эмлин. Сайсели и раньше уже хорошо его знала, так как в течение трех лет, еще ребенком, она каждый день ходила сюда учиться у матери Матильды; каждая настоятельница принимала это имя в честь его основательницы и в соответствии с ее завещанием.
Это были счастливые годы, потому что старые монахини любили ее, когда она была юной и невинной, и она тоже любила каждую из них. Теперь волею судьбы ее привезли обратно в ту же тихую комнату, где она играла и училась, — ее, молодую жену и молодую вдову.
Но обо всем этом бедная Сайсели узнала лишь спустя три недели, когда наконец ее блуждающий ум прояснился и глаза опять увидели мир. В ту минуту при ней никого не было; лежа, оглянулась она вокруг себя. Место было ей знакомо. Она узнала глубокие окна, выцветшие гобелены, изображающие Авраама, ножом мясника разрезающего горло Исааку и Иону, выскочившего из глотки гигантского карпа с выпученными глазами (модель для своего «кита» бесхитростный художник нашел в кастрюле) и очутившегося прямо у ворот своего замка, где его ждала семья. Да, она помнила эти забавные картины, помнила, как часто размышляла, сможет ли тяжело раненный Исаак выжить, сможет ли простершая руки жена Ионы выдержать внезапное потрясение, увидев мужа, выскочившего из чрева «кита».
Там был и великолепный камин из обтесанного камня, а над ним, в искусном обрамлении из золоченого дуба, сверкало много щитов с гербами, но без шлемов, потому что они принадлежали разным высокородным настоятельницам.
Да, конечно, это была большая комната для гостей Блосхолмского монастыря, а так как теперь у монахинь бывало мало гостей, а комнат для их размещения было много, эта комната была отдана ей, наследнице сэра Джона Фотрела, в качестве классной. И там она лежала, думая, что опять стала ребенком, счастливым, беззаботным ребенком, или что, может быть, это ей снится, пока, наконец, не открылась дверь и не появилась мать Матильда, а следом за ней Эмлин с подносом, на котором стояла дымящаяся серебряная миска. Да, это была мать Матильда в черном монашеском платье и в белом платке, с серебряным распятием на груди, символом ее должности, и золотым кольцом с большим изумрудом, на котором было вырезано изображение святой Екатерины во время пытки на колесе. Это старинное кольцо с самого основания носила каждая настоятельница Блосхолма. Да и без того нельзя было не узнать мать Матильду; кто хоть раз ее видел, не мог забыть ласкового старческого благородного лица с красивыми губами, орлиным носом и живыми добрыми серыми глазами.
Сайсели попыталась подняться, чтоб поклониться, по обычаю детских лет, но тотчас поняла, что не в силах сделать это, и, увы, опять тяжело упала на подушку. После этого Эмлин, с грохотом поставив поднос на стол, подбежала к Сайсели и, обвив ее руками, начала по своему обыкновению бранить ее, хотя и очень мягким голосом; а мать Матильда, опустившись на колени у кровати, возблагодарила Иисуса и всех его благословенных святых, хотя сначала Сайсели не поняла, за что она, собственно, благодарит его.
— Разве я больна, преподобная мать? — спросила она.
— Теперь уж нет, дочь моя, но ты была очень больна, — ответила настоятельница приятным тихим голосом. — Теперь мы думаем, что бог вылечил тебя.
— Сколько времени я здесь? — спросила она.
Настоятельница начала вспоминать, пересчитывая свои четки, отбрасывая по зерну на день — ибо в таких местах времени не замечают, — но задолго до того, как она кончила, Эмлин быстро ответила:
— Вчера вечером исполнилось три недели, как сгорел Крануэл Тауэрс. Тогда Сайсели вспомнила и с горестным стоном отвернулась к стене, а настоятельница стала упрекать Эмлин, говоря, что она убила ее.
— Не думаю, — ответила няня тихим голосом. — Думаю, у нее есть то, что не даст ей умереть. — И этих слов настоятельница тогда не поняла. Эмлин была права. Сайсели не умерла. Напротив, она стала здоровее телом, и ей стало лучше, хотя прошло много времени, прежде чем к ней вернулся рассудок. И действительно, она как привидение скользила по дому в своем черном траурном платье, ибо теперь она больше не сомневалась, что Кристофер умер и что она, всего неделю побыв женой, теперь овдовела так же, как и осиротела.
В этом бескрайнем отчаянии к ней вернулся покой; свет пролился на мрак ее души, как луна в полночь над истомленным морем. Она больше не была одна: убитый Кристофер оставил ей свой образ. Если она выживет, она родит ему ребенка, и поэтому она, конечно, должна жить. Однажды вечером, на коленях во время молитвы, она шепотом сообщила о своей тайне настоятельнице Матильде, отчего старая монахиня зарделась, как девочка, однако, помолившись про себя, положила тонкую руку ей на голову в знак благословения.
— Лорд аббат заявляет, что твой брак не был законным, дочь моя, хотя почему, я не понимаю, раз мужем стал тот, кого выбрало твое сердце и ты была обвенчана с ним рукоположенным в духовный сан священником перед алтарем господа и в присутствии прихожан.
— Мне все равно, что он говорит, — упрямо ответила Сайсели. — Если я незаконная жена, то, значит, никогда ни одна женщина не была законной.
— Дорогая дочь, — ответила мать Матильда, — не нам, неученым женщинам, оспаривать мудрость святого аббата, без сомнения вдохновленного свыше.
— Если он вдохновлен, то уж никак не свыше, мать. Разве бог и его святые повелели бы ему убить моего отца и моего мужа, чтобы захватить мое наследство или чтобы держать меня здесь в заключении — правда, не очень тяжком? Такое вдохновение свыше не приходит.
— Тише, тише! — сказала настоятельница, боязливо оглядываясь вокруг. — Горе лишило тебя рассудка. Кроме того, у тебя нет доказательств. В этом мире столько для нас непонятных вещей. Раз он аббат, то не может поступать неправильно, хотя нам его поступки и могут казаться несправедливыми. Но давай больше не будем говорить об этом; я ведь узнала обо всем лишь от злоязычной твоей Эмлин, не побоявшейся, как мне сказали, проклясть его самым страшным проклятием. Я же собиралась сказать тебе, что каким бы ни был закон, я считаю твой брак истинным и законным, а его последствия, если они будут, чистыми и неопороченными, и каждую ночь буду молиться, чтобы на будущего твоего отпрыска сошло самое щедрое небесное благословение.
— Благодарю вас, дорогая матушка, — ответила Сайсели, вставая и уходя.
Когда она ушла, настоятельница тоже встала и в беспокойстве начала расхаживать взад и вперед по трапезной, где происходил этот разговор. Ее терзали сомнения: если все это не клевета (но не могло же оно все быть клеветой), значит, аббат, которому она, англичанка, в глубине души всегда не доверяла, — этот смуглый ловкий испанский монах — был не святой, а гнусный негодяй? Но как же мог рукоположенный аббат оказаться негодяем? Должно быть какое-то объяснение, только она почему-то не в состоянии его найти.
Вскоре новость распространилась по монастырю, и если сестры любили Сайсели и до этого, то теперь они полюбили ее вдвойне. Сомнениям относительно законности ее брака они, как и настоятельница, не придавали никакого значения, потому что разве он не был совершен в церкви? Но то, что в их монастыре должен был родиться ребенок — ах! это было радостным событием, событием, не случавшимся здесь уже две сотни лет, когда — увы! (так говорили легенды и записи) — произошел ужасный скандал, о котором говорят только шепотом. Ибо — да будет это всем известно! — их обитель (что бы там ни бывало в других) — одна из тех, о которых ничего худого сказать нельзя.
Одетые в черные платья, эти старые монахини все еще оставались такими же женщинами, как и их матери, выносившие их, и новость о ребенке взбудоражила их до глубины души. Между собой, в часы отдыха, они почти ни о чем другом не говорили, и даже их молитвы в большинстве своем были посвящены тому же самому. А бедная, слабоумная старая сестра Бриджет, на которую до сих пор смотрели сверху вниз, потому что она была единственная из семьи не благородного происхождения, теперь стала очень популярной. Потому что сестра Бриджет в молодости была замужем и родила двух детей; после того как она овдовела, они оба умерли от оспы, и ее лицо осталось изрытым той же болезнью; оттого ли, что у нее не было надежды на другого мужа, как утверждали ее соседи, или потому, что ее сердце было разбито, как говорила она, но она приняла пострижение.
Теперь она назначила себя главным помощником Сайсели и, хотя эта леди была совершенно здорова и крепка, преследовала ее своими советами и ядовитыми микстурами собственного изготовления, пока Эмлин, налетев на старуху Бриджет, как буря, не выставила ее из комнаты и не выбросила все лекарства через окно.
В том, что сестры так заинтересовались столь незначительным вопросом, в самом деле не было ничего удивительного; надо представить себе, что если они и до этого вели жизнь отшельниц, то, с тех пор как среди них появилась леди Сайсели, эта жизнь стала еще в десять раз более замкнутой. Вскоре они узнали, что она и ее служанка, Эмлин Стоуэр, фактически находились здесь в заключении, а это означало, что и они, ее хозяева, тоже были заключенными. Никому не разрешалось входить в монастырь, кроме молчаливого монаха, исповедовавшего их и служившего мессу, и по приказанию аббата, сестрам не разрешали выходить за пределы монастыря по какому бы то ни было поводу. Так как единственным для них средством: общения с теми, кто жил за стенами обители, был угрюмый глухой садовник, назначенный на эту должность, чтобы шпионить за ними, до них доходило извне очень немного новостей. Они были почти что умершими для мира, который, хотя они этого и не знали, как раз тогда был занят вопросами, близко касающимися всех церковных учреждений, в том числе и их монастыря.
Наконец однажды, когда Сайсели и Эмлин сидели с саду под цветущим деревом боярышника, ибо теперь наступила теплая июньская погода, к ним вдруг торопливо подошла сестра Бриджет с известием, что блосхолмский аббат желает их видеть. От этого Сайсели почувствовала себя худо, а Эмлин выругала Бриджет, спрашивая, не покинули ли ее остатки ума, если она считает это имя настолько приятным для ее хозяйки, что выкрикнула его ей прямо в уши.
Бедная старушка, не отличавшаяся умом и страшно боявшаяся Эмлин, после того как та выбросила в окно ее лекарства, начала всхлипывать, уверяя, что не хотела сделать ничего плохого. Но Сайсели очнувшись, успокоила ее и отослала обратно — передать лорду настоятелю, что сейчас она к нему явится.
— Ты боишься его, госпожа? — спросила Эмлин, когда они собрались идти.
— Побаиваюсь, няня. Он вел себя как человек, которого надо бояться, — не правда ли? Мой отец и мой муж попали в его сети, и разве он пощадит последнюю рыбу в своем пруду — очень тесном пруду? — И она взглянула на высокие стены вокруг нее. — Я боюсь, чтобы он нас с тобой не разлучил и удивляюсь, как он этого еще не сделал.
— Дело в том, что мой отец был испанцем, и от него я знаю вещи, которые могут погубить аббата вместе с его друзьями — папой и императором. Кроме того, он верит, что у меня дурной глаз, и боится моего проклятия. Все же когда-нибудь он может попытаться умертвить меня — кто знает? Но тогда я унесу с собой тайну драгоценностей, потому что это лишь моя тайна; даже не твоя — ведь, если бы ты ее знала, они бы вытянули ее из тебя. Он захочет сделать тебя монахиней, но ты отвергни это, только без резкости. Скажи, что ты подумаешь об этом после рождения ребенка. До тех пор он ничего не сможет сделать, а если последние новости матери Матильды верны, к тому времени, может быть, в Англии не будет больше монахинь.
В старый приемный зал, которым пользовались только когда приезжали гости или в других торжественных случаях, они вошли через боковую дверь совсем тихо и потому сразу же близко от себя увидели сидящего в кресле аббата; перед ним стояла настоятельница и отдавала отчет в своих расходах. — Можете вы без него обходиться или нет, — услышали они его резкий голос, — но я должен получать ваш полугодовой доход. Времена сейчас плохие; нам, служителям бога, угрожает король-прелюбодей и его гордые министры, поклявшиеся ободрать нас до нитки и довести до голодной смерти. Я только что из Лондона и, хотя нашему врагу, Анне Болейн, отрубили ее капризную голову
[126], говорю вам — опасность велика. Нужны деньги, чтобы поднять восстание, ибо без них вооружаться нельзя, а из Испании поступают гроши. Я договорился продать земли Фотрелов за ту цену, какую дадут, но до сих пор не могу предъявить на них документы. Или эта упрямая девчонка должна дать расписку в передаче мне прав, или постричься, иначе, пока она жива, какой-нибудь юрист или родственник сможет опротестовать продажу. Но готова ли она дать первые обеты? Если нет, я буду считать, что в этом большая доля вашей вины.
— Нет, — ответила настоятельница, — на это есть причины. Вы уезжали и не слышали. — Она поколебалась и, нервно оглянувшись, увидела Сайсели и Эмлин, стоящих позади нее. — Что ты здесь делаешь, дочь моя? — спросила она с такой строгостью, какой еще никогда не проявляла.
— Право, не знаю, матушка, — ответила Сайсели. — Сестра Бриджет сказала нам, что лорд аббат желал нас видеть.
— Я же велела ей сказать, чтобы вы ждали его в моей комнате… -сказала настоятельница раздраженным голосом.
— Ну, — прервал аббат, — похоже, что ваша посланная просто дура; если это та изрытая оспой ведьма, то у нее не осталось мозгов уже много лет назад. Опекаемая Сайсели, здравствуй. После горестей, постигших тебя, о которых, с твоего разрешения, мы не будем говорить, потому что бесполезно тревожить подобные воспоминания, я надеялся, что ты сменишь свою мирскую одежду на лучшую, и очень жалею, что это не так. Но, перед тем как ты вошла, святая мать говорила о каком-то препятствии, стоящем между тобой и господом. Что это? Может, мой совет поможет тебе? Надеюсь, не эта женщина сбивает тебя с толку. — И он хмуро взглянул в сторону Эмлин, которая тотчас же спокойно ответила:
— Нет, милорд аббат, я не стою между ней и господом с его святыней; я защищаю ее от человека и его несправедливости. Все же, если желаете, могу сказать вам об этом препятствии — оно послано самим богом.
Тут старая настоятельница, покраснев до корней седых волос, наклонилась вперед и прошептала на ухо аббату слова, от которых он вскочил, как будто его ужалила оса.
— Порази его чума! Не может быть, — сказал он. — Что ж, если так, придется проглотить и эту пилюлю. Жаль, впрочем, что так случилось, -добавил он с усмешкой на смуглом лице. — Много лет прошло с тех пор, как в этих стенах родился внебрачный ребенок, а теперь дело обстоит так, что это может расшатать их и наделать вам бед…
— Я знаю, что такое потомство опасно, — прервала Эмлин, глядя Мэлдону прямо в глаза. — Мой отец говорил мне об одном молодом монахе в Испании, -я забыла его имя, — из-за которого некие дамы по такому же поводу были подвергнуты пытке. Но кто смеет говорить о незаконности ребенка госпожи Сайсели Харфлит, вдовы сэра Кристофера Харфлита, убитого блосхолмским аббатом?
— Молчи, женщина! Где нет законного брака, там не может быть законного ребенка…
— Который смог бы получить законно унаследованное имущество. Скажите, милорд аббат, разве сэр Кристофер тоже сделал вас своим наследником? Тогда, не дав ему ответить, Сайсели, молчавшая все это время, вдруг заговорила:
— Осыпайте меня какими вам угодно оскорблениями. Милорд аббат, вы отняли у меня отца, мужа, сердце вырвали мне из груди, отнимите у меня также и мое богатство, если сможете. Мне это все равно. Но не клевещите на моего ребенка, если он у меня родится, и не смейте затрагивать его права. Не думайте, что вы сможете сломить мать так же, как сломили девушку: перед вами окажется разъяренная волчица.
Он смотрел на нее да и все смотрели на нее, потому что в глазах Сайсели было что-то, заставившее их отвести взгляд. Клемент Мэлдон, знавший жизнь и понимавший, как волчицы могут бороться за своих волчат, прочел в них предостережение, принудившее его изменить тон.
— Ну, ну, ну, дочь моя, — сказал он, — какой смысл говорить попусту о ребенке, которого нет и, может, никогда не будет? Когда он родится, я его окрещу, и мы поговорим.
— Когда он родится, вы не коснетесь его и пальцем. Я бы предпочла, чтобы он лучше сошел в могилу некрещеным, чем отмеченным вашим кровавым крестом.
Он махнул рукой.
— Есть другой вопрос или скорее два, о которых я должен поговорить с тобой, дочь моя. Когда ты дашь свои первые обеты?
— Мы поговорим об этом после того, как родится мой ребенок. Это дитя греха, вы говорите, а я, неисправимая, безнравственная женщина, не готова для того, чтобы дать святой обет, и вы не можете меня к нему принудить, -ответила она с горькой насмешкой.
Опять он махнул рукой, потому что волчица показала зубы.
— Второй вопрос, — продолжал он, — заключается в том, что мне нужна ваша подпись под документом. Это всего лишь формальный документ, и я боюсь, вы не сможете его прочесть, как и я, по правде сказать. — И с какой-то лицемерной улыбкой он вытащил неразборчивый документ и развернул его перед ней на столе.
— Что? — засмеялась она, отшвыривая пергамент в сторону. — Вы забыли, что вчера я стала совершеннолетней и поэтому не нахожусь больше под вашей опекой, если даже когда-либо и была? Вам следовало продать мое наследство поскорее, потому что теперь ваши права стоят не больше, чем прошлогодние гнилые яблоки, а я ничего не подпишу. Будьте свидетелями, мать Матильда и ты, Эмлин Стоуэр, что я ничего не подписала и ничего не подпишу. Клемент Мэлдон, аббат Блосхолма, я свободная совершеннолетняя женщина, даже если, как вы утверждаете, распутница. Какое вы имеете право заковывать в цепи распутницу, не являющуюся монахиней? Отоприте ворота и дайте мне уйти. Теперь он почувствовал всю остроту ее волчьих клыков.
— Куда бы ты пошла? — спросил он.
— Прямо к королю, чтобы изложить перед ним мое дело, как собирался сделать мой отец в прошедшее рождество.
Речь эта была смелой, но безрассудной. Волчица не сдержалась и зарычала — зарычала на охотника с окровавленным мечом.
— Кажется, твой отец не добрался до короля со своим лживым доносом, не доберешься, пожалуй, и ты, Сайсели Фотрел. Времена сейчас жестокие, пахнет восстанием, в лесах и на дорогах бродит много отчаянных людей. Нет, нет, ради своей безопасности оставайся здесь, пока…
— Пока вы не умертвите меня. О! Это у вас на уме. Знайте, я просила у бога помощи, милорд аббат. И какой бы тяжкой ни была моя судьба, какой бы близкой ни представлялась мне смерть, я не боюсь вас — и я и мой ребенок, — ибо господь уже приготовил камень, который упадет на вашу голову. Этот камень похож на топор.
Тут старая настоятельница воздела руки к небу и открыла от ужаса рот, но аббат вскочил со своего места в ярости или, может быть, в страхе?
— Ты назвала себя распутницей, — воскликнул он, — но я назову тебя еще и ведьмой, и если ты заслуживала снисхождения, то теперь должна погибнуть в огне как ведьма. Мать Матильда, я приказываю вам, во имя данных вами обетов, хорошенько стеречь эту ведьму и докладывать мне о ее колдовстве. Не годится, чтобы подобная тварь ходила повсюду и причиняла зло невинным. Ведьма и распутница, уходи к себе!
Сайсели выслушала, потом без единого слова рассмеялась презрительным смехом и, повернувшись, вышла из комнаты, а следом за ней пошла настоятельница.
Но Эмлин не двинулась с места. Она осталась, и на ее смуглом красивом лице играла улыбка.
— Не повезло вам, хоть вы и бросали кости, налитые свинцом, — сказала она смело.
Аббат набросился на нее с ругательствами.
— Женщина, — сказал он, — если она ведьма, ты — демон-искуситель, и ты наверняка сгоришь, даже если она избежит этого. Именно ты научила ее вызывать дьявола.
— Тогда вам лучше оставить меня в живых, милорд аббат, чтобы я могла научить ее, как обуздать его. Нет, не угрожайте мне: ведь на дыбе я, чего доброго, заговорю, а птицы небесные разнесут повсюду то, что я расскажу. Его лицо побледнело; потом он вдруг спросил:
— Где драгоценности? Мне они нужны. Отдай мне драгоценности, и ты будешь свободна, и, возможно, твоя проклятая хозяйка тоже.
— Я сказала вам, — ответила она. — Сэр Джон взял их с собой в Лондон, и если они не были найдены на его теле, значит, он или выбросил их или Джефри Стоукс увез их туда, куда он уехал. Обшарьте болото, обыщите лес, найдите Джефри и спросите его.
— Ты лжешь, женщина! Когда ты и твоя хозяйка бежали из Шефтона, слуга видел у тебя в руках шкатулку.
— Правильно, милорд аббат, но драгоценностей уже там не было; там были только любовные письма моей хозяйки, а их она не хотела оставлять.
— Тогда где шкатулка и где эти письма?
— Нам не хватало топлива во время осады, и мы сожгли и то и другое. Когда у женщины есть муж, ей не нужны его письма. Уж вы, Мальдонадо, -многозначительно добавила она, — вы-то должны знать, что не всегда благоразумно хранить старые письма. Хотела бы я знать, что бы вы дали за кое-какие письма, которые я видела и которые не сожжены!
— Проклятое отродье сатаны, — прошипел аббат, — как смеешь ты издеваться надо мною? Когда Сайсели венчалась с Кристофером, она надела те самые жемчужины. Я слышал об этом от тех, кто видел ее с ожерельем на груди, с бесценными жемчужинами и ушах, похожими на розовые бутоны.
— Ого! Ого! — сказала Эмлин. — Значит, вы признаете, что она была обвенчана, а сами только что обозвали ее, чистую душу, распутницей! Ладно, милорд аббат, не будем больше кривить душой: да, на ней были драгоценности. Джефри ничего с собой не увез, кроме вашего смертного приговора.
— Тогда где же они? — спросил он, ударив кулаком по столу.
— Где? О, там, где вы их никогда не найдете, — взвились в небо, когда бушевал пожар. Боясь, чтобы нас не ограбили, я спрятала их за секретной панелью в ее комнате, в надежде вернуться за ними позже. Идите выгребайте золу; вы, может быть, найдете один или два треснутых бриллианта, но не жемчужины: они в огне испаряются. Вот вам, наконец, правда, и много она принесет вам пользы.
Аббат застонал. Как большинство испанцев, он легко возбуждался и ничего не мог с этим поделать; вся горечь, скопившаяся у него в сердце, прорвалась наружу.
Эмлин потешалась над ним.
— Видите, как мудрым и могущественным мира сего случается самих себя перехитрить. Клемент Мальдонадо, я знаю вас около двадцати лет. Когда меня называли блосхолмской красавицей и старый аббат, ваш предшественник, взял меня под опеку церкви, вы находили для меня более нежные слова, чем те, которыми обзываете сегодня, хотя я-то всегда ненавидела
вас — ведь вы затравили моего отца. Да, я следила за вашим возвышением и увижу ваше падение, и я знаю ваше сердце и все его желания. Деньги — вот чего вы домогаетесь и что хотите получить, иначе вам не добиться своей цели. Вам нужны были драгоценности, а не Шефтонские земли, которые теперь невысоко ценятся, а скоро совсем потеряют цену. Да, на одну из этих розовых жемчужин, если их продать евреям, можно закупить три прихода — и людей и дома. Ради этих драгоценностей вы послали на смерть одних, причинили горе другим, а свою собственную душу навеки погубили, хотя, если бы вы были благоразумны и посоветовались со мной, все эти драгоценности или по меньшей мере некоторые из них перешли бы к вам. Сэр Джон был не дурак. Он охотно расстался бы с одной или двумя жемчужинами, цены которых не знал, чтобы прекратить непримиримую вражду с церковью и отстоять права свои и своей дочери. А теперь, ослепленный безумием, вы сожгли их — сожгли драгоценности, которыми можно было бы заплатить выкуп за короля или, вернее, с помощью которых его можно было бы свергнуть. О! Если бы вы только об этом догадывались, вы бы отрубили руку, поднесшую факел к стенам Крануэл Тауэрса, потому что теперь вам не хватит золота, и все ваши грандиозные планы провалятся и погребут вас под собою, как вы хотели похоронить нас в Крануэле.
Аббат, терпеливо слушавший эту длинную и горькую речь, снова застонал.
— Ты умная женщина, — сказал он. — Мы понимаем друг друга, потому что мы одной крови. Ты знаешь, в чем дело; какой совет ты бы мне дала?
— Тот, которого вы не примете, будучи заранее обречены за свои грехи. Все же вот он — мой искренний совет. Освободите леди Сайсели, верните ей земли, сознайтесь в ваших злодеяниях. Уезжайте из королевства, прежде чем Кромуэл отвернется от вас, а Генриху станет все известно, уезжайте, взяв с собой все золото, какое вы сможете собрать, подкупите императора Карла, чтобы он дал вам епархию
[127] в Гренаде или еще где-нибудь, но не близ Севильи, по причинам, вам известным. Там вы будете жить в почете, и наступит день, немало времени спустя после вашей смерти, когда многое забудется, и вас, возможно, канонизируют, как святого Клемента Блосхолмского.
Аббат посмотрел на нее задумчиво.
— Если бы я искал только покоя в старости, твой совет мог бы мне пригодиться, но я играю по более высокой ставке…
— А проиграть можете свою голову, — прервала его Эмлин.
— Не совсем, женщина, потому что в любом случае эта голова выиграет игру. Если она останется у меня на плечах, то будет носить архиепископскую митру или шапку кардинала, а может быть, и еще более гордую тиару; если же она упадет с плеч, то — небесный венец мученика!
— Ваша голова? Ваша голова? — воскликнула Эмлин с презрительным смехом.
— Почему же нет? — ответил он угрюмо. — Тебе случилось узнать о некоторых ошибках моей юности, но в них я давным-давно раскаялся, и эти грехи отпущены мне полностью. — И он перекрестился. — Если бы это было не так, кто избежал бы адских мук?
Эмлин, стоявшая все это время, уселась, облокотившись на стол и положив подбородок на сложенные руки.
— Верно, — сказала она, глядя ему в глаза, — никто из нас не избежал бы их. Но, Клемент Мэлдон, как насчет грехов, в которых вы не покаялись и которые совершили уже в зрелом возрасте? Сэр Джон Фотрел, например, сэр Кристофер Харфлит, например, леди Сайсели, например; не говоря уже о черной измене и еще кое о чем.
— Даже если бы все эти обвинения были справедливы, что я отрицаю, это не грехи, — ведь все они вместе и каждый в отдельности совершены были мною не ради себя, а ради церкви, ради того, чтобы одолеть ее врагов, воздвигнуть вновь ее разрушающиеся стены, навеки укрепить ее в этом королевстве.
— И вознести вас, Клемент Мэлдон, на самый высокий шпиль ее храма, откуда сатана покажет вам все царства земные, клятвенно обещая, что они будут ваши.
Очевидно, аббат не обиделся на эту смелую речь; действительно, искусно нарисованная Эмлин картина, казалось, понравилась ему. Он только мягко поправил ее, сказав:
— Не сатана, а господь — властитель сатаны. — С минуту он помолчал, оглядел комнату, чтобы убедиться, что двери закрыты и они одни, и продолжал: — Эмлин Стоуэр, ты умнее и мужественнее любой женщины из тех, кого я знал. Ты знаешь жизнь и ее тайны, почему суеверные дураки и называют тебя ведьмой, а я считаю пророчицей или ясновидящей. Это все у тебя в крови, я полагаю, — ведь твоя мать была из цыганского племени, а отец — высокородный испанский дворянин, очень образованный и умный, хотя и мерзкий еретик, поэтому ему и пришлось для спасения жизни бежать из Испании.
— Чтобы умереть в Англии при весьма странных обстоятельствах. Святая инквизиция терпелива, и у нее длинные руки. Если я верно припоминаю, именно это дело о ереси моего отца впервые привело вас в Блосхолм, где, после его гибели и публичного сожжения его книги, вы многого достигли.
— Ты всегда права, Эмлин, и потому нет необходимости напоминать тебе о том, что мы с ним были давнишними врагами в Испании; вот почему меня выбрали, чтобы выследить его, и почему тебе довелось узнать кое-что обо мне.
Она кивнула, и он продолжал:
— Достаточно об отце-еретике — теперь о матери-цыганке. Говорят, она сама наложила на себя руки, чтобы избежать казни.
— Нечего ходить вокруг да около, аббат, давайте, как старые друзья, говорить правду. Вы хотите сказать — она покончила с собой, чтобы не быть сожженной вами, как ведьма: ведь у нее имелись кое-какие несожженные письма, и она угрожала вам пустить их в ход, как и я.
— Зачем вспоминать все это, Эмлин? — сказал он мягко. — Она умерла, но перед смертью научила тебя всему, что знала. Конец истории немногословен. Ты влюбилась в сына старого йомена Болла или говорила, что влюбилась в него — долговязого глупого Томаса, который теперь брат-мирянин в аббатстве…
— Или говорила, что влюбилась, — повторила она. — Во всяком случае, он-то влюбился в меня и, может быть, я хотела, чтобы меня защищал честный человек, в те дни еще молодой и красивый. К тому же тогда он не был глуп. Это с ним сталось после того, как он попал к вам в руки. О! Довольно об этом, — продолжала она, подавляя готовый прорваться гнев. — Красивая дочь ведьмы была под опекой церкви, а вы вертели тогдашним аббатом, и он заставил меня выйти замуж за старого Питера Стоуэра и стать его третьей женой. Я прокляла его, и он умер; я и предупредила его, что он умрет, а я родила ребенка, и он тоже умер. Тогда со всем, что у меня осталось, я нашла приют у сэра Джона Фотрела, которого всегда был мне другом, и стала кормилицей его дочери, единственного существа, если не считать еще одного человека, которое я люблю в этом большом и жестоком мире. Вот вся история; а теперь, что еще вы от меня хотите, Клемент Мальдонадо — злонамеренный человек.
— Эмлин, я хочу того, чего всегда хотел и в чем ты всегда мне отказывала, — твоей помощи, твоего соучастия. Я имею в виду соучастие твоего ума и знаний, которыми ты обладаешь, — ничего больше. В Крануэл Тауэрсе ты накликала на меня беду. Сними это проклятие, потому что, сказать по правде, оно тяжким грузом давит мне душу. Давай похороним прошлое, подадим друг другу руки и будем друзьями. Ты умеешь угадывать будущее. Помнишь, когда ты думала, что Сайсели умерла, ты сказала, что ее потомство все равно поднимется против меня, а теперь похоже на то, что так и будет.
— Что бы вы мне дали? — спросила Эмлин с любопытством.
— Я дам тебе богатство, я дам тебе то, что ты любишь еще больше, -власть, а также и высокое положение, если захочешь. Вся церковь прислушается к твоим словам. В этом королевстве да и во всем мире все твои желания будут удовлетворены. Я говорю правду; я даю в залог душу свою и честь тех, кому я служу, ибо мне дано такое право. Взамен я прошу от тебя твою мудрость; предсказывай мне будущее, указывай путь, каким я должен идти.
— Больше ничего?
— Еще две вещи: во-первых, ты должна найти для меня эти сожженные драгоценности, а с ними и старые несожженные письма; во-вторых, ребенок леди Сайсели не должен остаться в живых и сделать то, что ты мне предсказала. Ее жизнь я дарю тебе: одной монахиней больше или меньше -значения не имеет.
— Благородное предложение; и в данном случае я уверена, что вы заплатите обещанную цену, если останетесь живы. Но что, если я откажусь?
— Тогда, — ответил аббат, ударив кулаком по столу, — тогда смерть для вас обеих — умрете, как ведьмы, потому что я не позволю вам погубить меня. Помни: я здесь хозяин, а вы — пленницы. Очень немногие знают, что вы живете здесь, если не считать горсточки слабоумных женщин, боящихся даже слово вымолвить, — марионеток, которые танцуют, когда я дергаю за веревочку; и уж я прослежу, чтобы ни единая душа не приблизилась к этим стенам. Выбирай же между смертью, со всеми ее ужасами, и жизнью, со всеми ее надеждами.
На столе стояла деревянная чаша с большим букетом роз. Эмлин придвинула ее к себе и, взяв розы, бросила их на пол. Потом она подождала, пока вода успокоится, и сказала:
— Трудная задача, но если у меня на самом деле есть колдовская сила, здесь я найду решение.
Он не отрываясь глядел на нее, как зачарованный; она же дунула на воду и долгое время смотрела на нее. Наконец подняла глаза и сказала:
— Смерть или жизнь — такой выбор вы предложили мне. Хорошо, Клемент Мальдонадо, от своего имени и от имени леди Сайсели и ее мужа сэра Кристофера и ребенка, который должен родиться, и во имя бога, властителя наших судеб, я выбираю смерть.
Наступило торжественное молчание. Потом аббат поднялся и сказал:
— Хорошо! Да падет это на твою голову.
Опять наступило молчание, и так как она не отвечала, он повернулся и направился к двери; она же продолжала смотреть в чашу.
— Хорошо, — повторила она, когда он положил руку на щеколду. — Я сказала вам, что выбрала смерть, но я не сказала, чью смерть я выбрала. Играйте вашу игру, милорд аббат, а я буду играть свою, помня, что бог назначает ставки. И я подтверждаю гневные слова, сказанные мною в Крануэле. Ждите беды, ибо теперь я знаю — она постигнет вас и всех, кто будет вместе с вами.
Потом, глядя ему вслед, она неожиданным резким движением опрокинула чашу на стол.
8. ЭМЛИН ПРИЗЫВАЕТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА
Одна за другой протекали для Сайсели и Эмлин недели их заключения, не принося им ни надежд, ни вестей. И действительно, хотя они не могли видеть нитей зловещей сети, в которой их держали, они чувствовали, как она стягивается все туже. В глазах матери Матильды, когда она смотрела на Сайсели, думая, что никто этого не замечает, отражались страх, жалость и любовь. Остальные монахини тоже боялись, хотя было ясно, что они сами не знали чего. Однажды вечером Эмлин, застав настоятельницу одну, засыпала ее вопросами: она спрашивала, что именно для них готовится и почему ее леди, свободную совершеннолетнюю женщину, удерживают здесь против ее воли.
На лице старой монахини появилось выражение замкнутости. Она ответила, что ничего особенного не знает, а насчет заключения — что ж, она должна подчиняться приказаниям своего духовного начальства.
— Тогда, — выпалила Эмлин, — знайте: вам же будет хуже. Говорю вам, что умрет моя леди или будет жить, найдутся люди, чтобы призвать вас к строгому ответу: да, найдутся люди, чтобы выслушать мольбы беспомощных. Мать Матильда, Англия уже не та, какой она была, когда вас еще девочкой похоронили в этих заплесневелых стенах. Где сказано, что бог позволяет свободную и ни в чем не повинную женщину держать в тюрьме, как преступницу? Отвечайте.
— Я не могу, — простонала мать Матильда, ломая свои тонкие руки. -Правды добиться трудно, здесь повсюду охрана; и, что бы я ни думала, я должна делать то, что мне приказано, чтобы не погибла моя душа.
— Ваша душа! Вы, затворницы, всегда думаете с своей жалкой душонке. Что вам до других людей и до их души! Значит, вы не поможете мне?
— Я не могу, не могу, ведь я и сама в оковах, — снова ответила она.
— Пусть будет так, мать Матильда; тогда я сама помогу себе; и когда я это сделаю, да поможет вам всем господь. — И, презрительно пожав широкими плечами, она вышла, оставив бедную старую настоятельницу чуть ли не в слезах.
Угрозы Эмлин были такими же смелыми, как и ее сердце, но могла ли она исполнить хотя бы десятую их долю? Конечно, право было на их стороне, но, как известно заключенным во все времена, право — это не труба иерихонская и ему не сокрушить высоких стен. Да и Сайсели не могла помочь ей. Теперь, когда погиб ее муж, она была занята только одним — мыслями о своем будущем ребенке.
До всего остального ей, казалось, не было никакого дела. У нее не было друзей, с которыми она могла бы повидаться; она понимала, что имущество у нее отнято; значит, думала она, эта тихая обитель — самое подходящее место для рождения ребенка.
Когда он родится и она поправится, можно будет подумать о другом. А пока она ощущала бесконечную усталость и не понимала, зачем Эмлин напрасно говорит с ней о свободе. Если бы она была свободна, что бы она делала, куда бы пошла? Монахини были очень добры к ней; они любили ее так же, как и она их.
Так они беседовали, и Эмлин, слушая ее, не решалась сказать ей правду: что здесь можно опасаться за жизнь ребенка. Она боялась, что это известие, пожалуй, убьет и мать и дитя. Поэтому она перестала ее тревожить и решила рассчитывать только на себя.
Сначала она думала о побеге, но оставила эту мысль, потому что положение Сайсели не позволяло подвергнуть ее опасности. Да и куда им было идти? Тогда ей пришла в голову мысль об избавителе, но — увы! — кто может спасти их? Влиятельные люди в Лондоне, может быть, могли вмешаться в это дело как политическое, но к влиятельным людям трудно добиться даже свободному. Однако, если бы она была на свободе, то нашла бы способ заставить их выслушать ее, но она была пленницей, да и не могла в такое время покинуть свою госпожу. Что же тогда оставалось делать? Придумать для освобождения какую-нибудь хитрость.
Вероятно, это можно было бы сделать за деньги — ценой украшений Сайсели; потайное место, где они находились, знала только она одна, — и ими же откупиться от преследователей? Но Эмлин не собиралась делать ни того ни другого: она считала, что это не было выходом. Очутись они за этими стенами, их все равно не оставили бы в живых: слишком уж много они знали. Однако же здесь, в монастыре, ребенка Сайсели наверняка погубят -он ведь будет наследником всего имущества. Что же может вернуть им свободу и обеспечить безопасность?
Страх, пожалуй, тот самый страх, благодаря которому израильтяне избавились от рабства. O! Если бы только она могла найти Моисея, способного навлечь египетскую чуму на этого аббата-фараона — ту самую чуму, которой она ему угрожала. Но хотя она твердо верила, что чума поразит его (она сама удивлялась тому, что так верила в это), все же не могла выполнить свое проклятие. Оставался Томас Болл! Если бы она могла поговорить с верным Томасом Боллом, неистовым и хитрым человеком, которого все считали придурковатым!
Томас Болл заполнил все мысли Эмлин — Томас Болл, любивший ее всю жизнь, готовый погибнуть, чтобы услужить ей. Тщетно пыталась она как-нибудь снестись с ним. Старый садовник настолько глух, что не сможет или не захочет понять. Глупая Бриджет по ошибке отдала письмо, написанное ему, настоятельнице, которая, ничего не говоря, сожгла его у нее на глазах.
Монахов, приносивших в монастырь продукты, всегда принимали три сестры, поставленные для того, чтобы шпионить друг за другом и за ними, так что она не могла даже приблизиться к этим монахам. Священник, служивший мессу, был старым ее врагом; с ним она ничего не могла сделать, а больше никому не разрешалось подходить к монастырю; только раз или два появлялся сам аббат, который в течение нескольких часов разговаривал взаперти с настоятельницей, но с ней больше не говорил.
Почему, думала Эмлин, пространство меньше полумили между ней и Томасом Боллом непреодолимо? Если бы он стоял на расстоянии двадцати ярдов от нее, она могла бы заставить его уразуметь, что ей нужно. Почему же этого нельзя сделать, когда он находится на расстоянии пятисот ярдов?
Эта мысль овладела ею; естественные препятствия сводили ее с ума.
Она отказывалась считаться с ними. Все ночи напролет размышляла она, лежа в постели, пока Сайсели спокойно спала рядом с ней; ее сильная душа рвалась к душе ее давнишнего возлюбленного, Томаса Болла, приказывая ему слушать, подчиниться, прийти.
Сначала ничего не произошло. Потом через некоторое время у нее появилось смутное чувство, что ей ответили; хотя она не могла ни видеть, ни слышать Томаса, она как-то ощущала его близость. Потом однажды, в полдень, выглянув из верхнего слухового окна, она увидела, как за воротами происходит свалка, и услышала сердитые голоса. Томас Болл пытался силой пробить себе путь к двери, но его выталкивали люди аббата, всегда стоявшие там на страже.
Вечером она узнала правду от монахинь, не подозревавших, что она подслушивает их разговор. Оказалось, что Томас, показавшийся им не то сумасшедшим, не то пьяным, пытался ворваться в монастырь. Когда его спросили, чего он хочет, он сказал, что сам хорошенько не знает, но ему надо поговорить с Эмлин Стоуэр. Услышав это, она улыбнулась про себя, ибо теперь знала: он услышал ее и найдет какой-нибудь способ выполнить ее волю и прийти.
Два дня спустя Томас действительно пришел, и вот каким способом. Кончался сентябрьский вечер, наступали сумерки, а Эмлин, оставив Сайсели отдыхать на постели (теперь она зачастую ложилась ненадолго перед ужином), ушла в сад, чтобы подышать вечерней прохладой. Там она ходила до тех пор, пока сад ей не надоел, потом вошла через боковую дверь в старую часовню и уселась, чтобы поразмыслить, около алтаря, недалеко от раскрашенной деревянной статуи святой девы в человеческий рост, стоявшей против стены. На эту статую она часто смотрела, так как ей казалось странным, что она как бы наполовину вделана в кирпичную кладку. Глазные орбиты ее были пустыми, и наблюдательной Эмлин казалось, что в них когда-то были вделаны драгоценные камни, или же это был образ не богоматери, а скорее слепой святой Люции.
Пока Эмлин размышляла, сидя в одиночестве, потому что в такое время никто не заходил в часовню и она пустовала до утра, ей показалось, что она услышала по соседству со статуей странные звуки, словно там кто-то шевелился. Тут многие, но только не Эмлин, испугались бы и ушли, а она сидела, не двигаясь, и слушала. Не поворачивая головы, она стала наблюдать. Лучи заходящего солнца, проникавшие через западное окно, почти полностью освещали фигуру, и благодаря им она увидела — или ей показалось, — что глазные орбиты уже не пустые: в них были двигавшиеся и сверкавшие глаза.
Тут на мгновение стало страшно даже Эмлин. Потом ей пришло в голову, что, может быть, священник или одна из монахинь следили за ней из-за статуи, а это ее нисколько не беспокоило. Или, может быть, произошло одно из тех чудес, о которых она так много слышала, но никогда не переживала. А зачем ей бояться чудес или соглядатаев? Она будет сидеть на том же месте и посмотрит, что случится. Но долго ждать ей не пришлось, потому что вскоре голос, хриплый мужской голос прошептал:
— Эмлин! Эмлин Стоуэр!
— Да, — ответила она тоже шепотом. — Кто говорит?
— А кто, ты думаешь? — спросил голос с усмешкой. — Может быть, черт? — Если черт дружественный, то, кажется, я не стану возражать; мне в этом уединенном месте скучновато. Появись, кто бы ты ни был, человек или дьявол, — ответила Эмлин решительно. Однако же она незаметно перекрестилась под плащом: в те времена народ верил, что черти являются людям, чтобы причинять им вред.
Статуя начала скрипеть, потом открылась, как дверь, хотя с большим трудом, словно ее петли долго не двигались, как на самом деле и оказалось. Внутри, подобно трупу в поставленном вертикально гробу, появилась фигура, крупная сильная фигура, одетая в рваную монашескую рясу, увенчанная огромной головой с огненно-рыжими волосами и нависшими бровями, под которыми сверкали безумные серые глаза. Сердце Эмлин замерло, — сатана все же не подходящее общество для смертной женщины, — но затем словно подскочило в ее груди и потом стало биться ровно, как обычно. И она спокойно сказала:
— Что ты там делаешь, Томас Болл?
— Вот это я и хотел бы знать, Эмлин. Днем и ночью в течение долгих недель ты звала меня, и потому я пришел.
— Да, я звала тебя; но как ты пришел?
— Старой дорогой монахов. Они давно забыли о ней, но мой дед говорил мне про нее, когда я был мальчишкой, и, наконец, лиса показала мне, где она проходит. Это мрачная дорога; и когда я впервые попробовал по ней пойти, я думал, что задохнусь, но теперь воздух не такой уж плохой. Когда-то она доходила до аббатства и, может быть, и теперь доходит, но моя дверь и дверь госпожи лисы находится в рощице около стены парка, где никто не стал бы ее искать. Если ты хочешь лисенка, чтобы поиграть с ним, я могу принести его тебе. Или, может быть, ты хочешь чего-нибудь посущественнее? — добавил он, усмехаясь.
— Да, Томас, к хочу гораздо большего. Слушай, — горячо воскликнула она, — сделаешь ли ты то, что я тебе скажу?
— Там видно будет, миссис Эмлин. Ведь я всю свою жизнь исполнял твои приказания и не получал награды. Она прошла через алтарь и уселась против него, почти совсем прикрыв дверь и разговаривая с ним сквозь щель.
— Если ты не получил награды, Томас, — сказала она мягко, — то кто виноват в этом? Кажется, не я. Я любила тебя, когда мы были молоды, — не правда ли? Я бы отдалась тебе душой и телом — ведь так? Но кто встал между нами и погубил нашу жизнь?
— Монахи, — простонал Томас, — проклятые монахи, выдавшие тебя замуж за Стоуэра, потому что он заплатил им.
— Да, проклятые монахи. А теперь твоя молодость прошла, и любовь -любовь молодости — уже позади нас. Я была женой другого человека, Томас, а могла быть твоей. Подумай об этом: твоей любящей женой, матерью твоих детей. А тебя — тебя они покорили и превратили в слугу, в пастуха, использовали твою силу, сделали тебя носильщиком, полоумным, как они тебя называют; однако они считают, что тебе все-таки можно давать поручения, потому что ты умеешь держать язык за зубами; они сделали тебя вьючным мулом аббатства, не смеющим брыкаться, батраком на твоей же собственной, захваченной ими земле — тебя, чей отец был свободный йомен. Вот что они сделали с тобой, Томас, а со мной, находившейся под опекой церкви… Ну хватит, мне не хочется говорить об этом. Скажи, как бы ты отплатил им, если бы дать тебе волю?
— Как бы я отплатил? Как бы отплатил? — задохнулся Томас, доведенный до бешенства рассказом о всех причиненных ему обидах. — Ну, если бы я осмелился, я бы перерезал каждому из них глотку и выпотрошил их, как оленей, — и он заскрипел своими белыми зубами. — Но я боюсь. Они владеют моей душой, и каждый месяц я должен исповедоваться. Ты помнишь, Эмлин, я предупредил тебя, когда ты и твоя леди собрались ехать в Лондон перед осадой. Ну, потом — я должен был покаяться в этом — аббат сам выслушал мою исповедь. Мучительную наложил он на меня епитимью! [епитимья — церковное наказание (поклоны, пост, длительные молитвы и т.
П.)] Я еще не закончил ее, а у меня уже ребра проступили сквозь кожу, спина же стала похожа на корзину из красных ивовых прутьев. Только об одном я им не рассказал -ведь это, в конце концов, не грех, — о том, что отвернул саван и поглядел на труп.
— Ах! — сказала Эмлин, глядя на него. — Тебе нельзя доверять. Ну, я так и думала. Прощай, Томас Болл, трус. Я найду себе другого друга, настоящего мужчину, а не хнычущую, загнанную монахами гончую, ставящую непонятное для него латинское благословение выше своей чести. Господи боже! Подумать только, что я когда-то любила подобного человека! О! Мне стыдно! Мне стыдно! Пойду вымою руки. Закрой свою ловушку и убирайся прочь по крысиной тропе, Томас Болл, и живым или мертвым никогда не осмеливайся заговаривать со мной. Не забудь также рассказать своим монахам, как я призывала тебя к себе — потому что это колдовство, ты сам знаешь, — и меня сожгут, зато спасешь свою душу. Господи боже! Подумать только, что ты был когда-то Томасом Боллом! — И она сделала вид, что собирается уходить.
Он протянул свою ручищу и поймал ее за платье.
— Что же ты прикажешь мне, Эмлин? Я не могу переносить твоего презрения. Сними его с меня, или я убью себя.
— Самое лучшее, что ты можешь сделать, И дьявол будет тебе лучшим хозяином, чем чужеземный аббат. Прощай навсегда.
— Нет, нет; скажи — чего ты хочешь? Пусть погибает моя душа, я сделаю все.
— Сделаешь? Правда, сделаешь? Если так подожди минуту! — она побежала на другой конец часовни, закрыла двери, потом, вернувшись к нему, сказала: — Теперь подойди, Томас, и, раз ты снова мужчина, поцелуй меня, как ты обычно делал более двадцати лет тому назад. Ты не будешь исповедоваться в этом, не правда ли? Ну, вот. Теперь встань на колени перед алтарем и дай клятву. Нет, выслушай сначала, потому что это великая клятва.
Эмлин сказала ему, в чем он должен поклясться. Это была действительно великая и ужасная клятва. Принеся ее, он должен был стать рабом Эмлин, объединиться с ней в борьбе против монахов Блосхолма и в особенности против аббата Клемента Мэлдона, в отплату за все обиды, нанесенные им обоим; в отплату за убийство сэра Джона Фотрела и сэра Кристофера Харфлита; за то, что он обокрал и держит в тюрьме Сайсели Харфлит, дочь первого и жену второго. Связав себя клятвой, он должен был делать все, что она ему прикажет. Он должен был поклясться, что ни во время исповеди, если бы до этого дошло дело, ни на ложе пыток или на эшафоте он не скажет ни слова об их тайном сговоре. Он должен был просить у бога, чтобы, в случае, если он изменит этой клятве, душа его обречена была бы на вечные муки; и он должен был призвать небо в свидетели всех данных им обещаний.
— Теперь, — сказала Эмлин, произнеся все слова этой ужасной клятвы, -будешь ли ты мужчиной, поклянешься ли и тем самым отомстишь за мертвых и спасешь невинных от смерти? Или ты, знающий мою тайну, будешь по-прежнему пресмыкаться перед настоятелем и, вернувшись в Блосхолмское аббатство, предашь меня?
С минуту он подумал, почесывая свою рыжую голову, ибо клятва страшила его, что, впрочем, было понятно. В его душе, где он все это взвешивал, чашки весов стояли вровень, и Эмлин не знала, какая из них перетянет. И тут она употребила всю свою женскую силу: положив руку на его плечо, она наклонилась вперед и прошептала ему на ухо:
— Ты помнишь, Томас, как в первый раз мы признались друг другу в нашей юной любви? Это было в весенний день в рощице у ручья, когда у наших ног цвели душистые нарциссы — нарциссы и дикие лилии. Помнишь, как мы поклялись друг другу всей жизнью, да, настоящей и будущей жизнью, и для нас обоих земля превратилась в рай? А потом, ты помнишь, как мимо нас прошел монах — это был Клемент Мэлдон, — и он оледенил нас взглядом своих жестоких глаз и сказал: «Что ты делаешь с дочерью ведьмы? Она тебе не пара». И тогда… О Томас, я больше не могу. — И она разрыдалась, а потом добавила: — Не клянись ни в чем, уходи и предай меня, если хочешь. Я не буду питать к тебе злобы, даже если ты предашь меня на смерть, ибо как можно было надеяться, что ты после двадцати лет монашества останешься мужчиной? Уходи, скорее уходи, пока нас не застали вместе и твоя добрая слава ничем не опорочена. Уходи, не медли и предоставь меня и мою леди и ее еще не родившегося ребенка той участи, которую нам готовит Мэлдон. Забудь рощицу у реки! Забудь увядшие лилии!
Томас слушал; большие синие жилы выступали у него на лбу, его широкая грудь вздымалась, слова застряли в горле. Затем они полились обильным потоком.
— Я не уйду, дорогая; я поклянусь в чем хочешь, твоими глазами и твоими губами, цветами, по которым мы шли, всеми прошедшими годами жгучих страданий, горя и позора, богом, восседающим на небесном престоле, и дьяволом в адском огне. Пойдем, пойдем! — он побежал к алтарю и схватил стоявшее там распятие. — Произнеси снова эти слова или любые другие, и я повторю их и дам клятву, и пусть огненные черви заживо грызут меня во вехи веков, если я нарушу хоть одно ее слово. — В темных глазах Эмлин вспыхнул огонек торжества, она наклонилась над коленопреклоненным мужчиной и в сгустившемся мраке зашептала-зашептала, а он шепотом же повторял ее слова и в подтверждение целовал распятие.
Когда все было кончено, они отошли от алтаря обратно к раскрашенной статуе.
— Значит, ты все же мужчина, — сказала она с громким смехом. — Теперь слушай, мужчина — мой мужчина: если мы переживем все это и ты тогда пожелаешь, я стану твоей женой, да, твоей женой — это будет моей платой тебе и моей гордостью; слушай же мои приказания. Видишь, я Моисей, а там в аббатстве сидит фараон с очерствевшим сердцем, а ты ангел, ангел разрушения, держащий меч чумы египетской. Вечером в аббатстве будет пожар — такой же пожар, какой был в Крануэл Тауэрсе. Нет, нет, я знаю: церковь не сгорит и каменные строения тоже. Но дортуары, и кладовые, и стога сена, и коровьи хлева — они здорово запылают после такой засухи, а если телеги превратятся в золу, то на чем они привезут свой урожай? Сделаешь ли ты это, мой мужчина?
— Конечно. Разве я не поклялся?
— Тогда за работу, а потом — завтра или на следующий день -возвращайся с докладом. Теперь меня часто будут привлекать одиночество и молитва; поэтому жди, пока опять не увидишь меня здесь одну, стоящую на коленях у алтаря. Стой! Оденься в саван, чтобы тебя сочли за призрак, если увидят, — они ведь считают, что в часовне появляются призраки. Не сомневайся, к тому времени я найду тебе немало работы. Ты меня понял?
Он кивнул головой.
— Все, все понял, особенно твое обещание. О! Теперь-то я не умру; я буду жить для того, чтобы потребовать его исполнения.
— Хорошо. Получай в счет будущего. — И она снова поцеловала его. -Иди.
Он шатался, опьяненный радостью; потом сказал:
— Еще одно слово: у меня кружится голова, я забыл тебе сказать. Сэр Кристофер жив или же был жив…
— Что ты хочешь сказать? — произнесла она свистящим шепотом. — Именем Христа, торопись: я слышу снаружи голоса!
— Вместо Кристофера они похоронили другого человека. Я разрезал полотно и посмотрел. Кристофера отправили за границу, тяжело раненного, на корабле — черт возьми, я забыл его название, — на том же корабле, на котором уехал Джефри Стоукс.
— Благослови тебя господь за эти вести! — воскликнула Эмлин странным, тихим голосом. — Уходи, кто-то подходит к двери!
Деревянная фигура со скрипом захлопнулась и теперь смотрела на нее так же спокойно, как смотрела уже в течение ряда поколений. С минуту Эмлин стояла неподвижно, держась рукой за сердце. Потом она быстро пошла через часовню, открыла дверь и на крыльце встретила входящую мать Матильду, другую монахиню и старуху Бриджет, шептавшихся между собой.
— О! Это вы, миссис Стоуэр, — сказала мать Матильда с явным облегчением. — Сестра Бриджет клялась, что слышала в часовне мужской голос, когда приходила на закате солнца закрывать ставни.
— Неужели? — равнодушно ответила Эмлин. — Тогда ей повезло больше, чем мне: я ведь стосковалась по звукам мужского голоса в доме, где болтают одни женщины. Не возмущайтесь, матушка, я не монахиня, и господь сотворил для этого мира не одних только женщин, иначе нас с вами здесь бы не было. Но раз уж вы заговорили об этом, значит, в часовне и вправду происходит что-то странное. Не всякий решился бы оставаться здесь в одиночестве: дважды во время молитвы я слышала странные звуки, а однажды, когда не было солнца, на меня упала какая-то холодная тень. Наверно, призрак того мертвеца, о котором столько врали. Ну, я-то никогда не боялась привидений. А теперь мне надо идти и взять ужин для моей леди — сегодня вечером она будет ужинать в своей комнате.
Когда она ушла, настоятельница покачала головой и, как обычно, ласково сказала:
— Странная женщина и резкая, но, сестры мои, мы не должны ее строго судить, ведь она из чуждого нам мира и, боюсь, пережила много горя, от которого мы защищены нашими священными обетами.
— Да, — ответила сестра, — но я думаю, что она видела призрак, появляющийся в этой часовне, многие утверждают, что он являлся им, и я сама видела его однажды, еще когда была послушницей. Настоятельница Матильда, я имею в виду четвертую, ту, что якшалась с монахом Эдуардом Хромым и внезапно умерла после…
— Тише, сестра; не будем злословить о покойнице, покинувшей землю около двухсот лет назад. Даже если ее неспокойный дух все еще приходит сюда, как говорят многие, я не понимаю, почему бы он стал говорить мужским голосом.
— Возможно, то был голос монаха Эдуарда, — ответила сестра. — Видно, он все еще не оставляет ее в покое, как и при жизни, если легенда говорит правду. Миссис Эмлин сказала, что ей призраки нипочем, и я вполне этому верю, она ведь дочь ведьмы, и взгляд у нее какой-то странный. Вы видели у кого-нибудь такие смелые глаза, матушка? Как бы то ни было, я терпеть не могу привидении и лучше месяц проведу на хлебе и на воде, чем останусь одна в этой часовне, на закате или после заката солнца. У меня мурашки бегут по спине, когда я думаю об этом; говорят, что некрещеное дитя тоже тут бродит и что-то невнятно лепечет около купели, надеясь получить святое крещение — ух! — И она содрогнулась.
— Довольно, сестра, довольно нечестивых речей! — сказала опять мать Матильда. — Будем думать о святых вещах, чтобы враг рода человеческого не мог к нам подойти.
Но в ту же ночь, около часу, враг этот очень близко подошел к Блосхолму, явившись к облике пожара. Внезапно монахини были подняты с постелей отчаянным набатом. Подбежав к окнам, они увидели огромные языки пламени, плясавшие на крышах аббатства. Они раскрыли оконные створки и в ужасе смотрели на пожар. Сестру Бриджет даже послали разбудить глухого садовника и его жену, живших около ворот, чтобы они пошли и узнали, в чем дело, почему слышатся крики и не напало ли на Блосхолм какое-нибудь войско.
Прошло много времени, прежде чем Бриджет вернулась; путаный рассказ слабоумной, переданный со слов глухого садовника, понять было нелегко. Крики доносились по-прежнему, и пожар в аббатстве разгорался все яростнее. Монахини уже думали, что наступил их последний час; они опустились на колени у открытых окон и принялись молиться.
Как раз в эту минуту среди них появились Сайсели и Эмлин и стали смотреть на великое пожарище.
Вдруг Сайсели повернулась и, устремив большие голубые глаза на Эмлин, сказала громко, так что услышали все.
— Аббатство горит. Ой, няня, мне рассказывали, будто там, среди развалин Крануэла Тауэрса, ты говорила, что это так будет! Ты, конечно, пророчица.
— Огонь призывает огонь, — ответила Эмлин угрюмо, а стоявшие тут же монахини подозрительно посмотрели на нее.
Пожар был ужасен; он, казалось, начался в дортуарах, даже на расстоянии были видны полуодетые монахи, спасавшиеся через окна: некоторые — с помощью связанных постельных принадлежностей, некоторые — выпрыгивая из окон, несмотря на высоту.
Вскоре крыша здания провалилась и град горящих углей посыпался на соломенные крыши хлевов и сараев, на сметанные стога, на постройки гумна; так пламя перекинулось и на них, и еще до рассвета все сгорело.
Одна за другой монахини, наблюдавшие пожар из монастыря, устав от горестного зрелища и в страхе бормоча молитвы, отправились спать. Но Эмлин продолжала сидеть у открытого окна, пока край чудесного сентябрьского солнца не показался над холмами. Так сидела она, подпирая голову рукой, и ее строгое лицо было неподвижно, как у статуи. Только в темных глазах, отражавших языки пламени, казалось, мелькала жестокая радость.
— Томас хорошее оружие, — наконец пробормотала она про себя, — славно нанес первый удар. И это еще цветочки. Подожди, Клемент Мальдонадо, ты запросишь пощады у Эмлин.
9. БЛОСХОЛМСКОЕ КОЛДОВСТВО
В тот же день в полдень аббат снова явился в монастырь и послал за Сайсели и Эмлин. Они застали его одного в приемной; лицо у него было встревоженное, и он шагал взад и вперед по комнате.
— Сайсели Фотрел, — сказал он без всякого приветствия, — когда мы в последний раз виделись, ты отказалась подписать принесенный мною документ. Это ничего не значит, потому что тот покупатель уехал по своему делу.
— Сказав, что его не удовлетворяют доказательства ваших прав? -спросила Сайсели.
— Да! Но кто научил тебя рассуждать о правах и о тонкостях закона? Впрочем, зачем спрашивать?.. — И он бросил сверкающий взор в сторону Эмлин. — Ладно, бог с ним сейчас… У меня с собой документ, который ты должна подписать. Прочти его, если хочешь. Он тебе ущерба не причинит -это всего лишь предписание арендаторам земель, принадлежавших твоему отцу, уплатить мне как лицу, осуществляющему опеку.
— Значит, они отказываются, видя, что вы все захватили, милорд аббат? — Да, кто-то их подстрекает, и эти упрямые скоты не хотят платить без указания, подписанного твоей рукой и скрепленного печатью. На фермах, обрабатывавшихся твоим отцом, я собрал урожай, но вчера вечером при пожаре сгорело все до последнего зернышка, до последней шерстинки.
— В таком случае я прошу вас все это точно учесть, милорд, чтобы я могла получить от вас должное возмещение, когда мы начнем сводить счеты: я ведь никогда не разрешала вам стричь моих овец и собирать мой хлеб.
— Тебе нравится дерзить мне, девчонка, — ответил он, кусая губы. — У меня нет времени для перебранки. Подписывай, а ты будь свидетельницей, Эмлин Стоуэр.
Сайсели взяла документ, взглянула на него, потом медленно разорвала его на четыре части и бросила их на пол.
— Грабьте меня и моего еще не рожденного ребенка, если хотите и можете, но я, во всяком случае, не буду соучастницей вора, — сказала она спокойно. — Если вам нужна подпись, можете подделать ее, потому что я ничего не подпишу.
На лице аббата отразилась вся его злость.
— А ты забыла, несчастная, — спросил он, — что здесь ты в моей власти? Известно тебе, что таких непокорных грешников запирают в мрачную темницу и налагают на них покаяние — дают только хлеб и воду и хлещут прутьями? Исполнишь ты мое приказание или подвергнешь себя всему этому? Красивое лицо Сайсели вспыхнуло, и на минуту ее голубые глаза наполнились слезами стыда и ужаса. Затем они снова прояснились; она смело взглянула на него и ответила:
— Я знаю, что убийца может быть также и мучителем. Тому, кто погубил отца, ничего не стоит подвергнуть истязаниям дочь. Но я знаю также, что существует бог, защищающий невинных, хотя иногда он не сразу протягивает им руку помощи, и к нему я обращаюсь, милорд аббат. И я знаю, что принадлежу к роду Фотрелов и Карфаксов, и что ни одна женщина и ни один мужчина моей крови никогда еще не покорялись страху и страданию. Я ничего не подпишу. — И, повернувшись, она вышла из комнаты.
Аббат и Эмлин остались одни. Прежде чем она смогла заговорить, потому что у нее от ярости не поворачивался язык, он начал бранить и проклинать ее и угрожать ей и ее хозяйке ужаснейшими пытками, какие только мог вообразить испанский инквизитор. Наконец он остановился, чтобы передохнуть, и она перебила ого:
— Молчите, злодей, чтобы крыша над вами не обрушилась; я уверена, что каждое ваше жестокое слово превратится в змею, которая вас ужалит. Разве то, что случилось вчера ночью, не является для вас предостережением или вам нужны другие уроки?
— Ого! — ответил он. — Значит, ты знаешь об этом, не правда ли? Я так и думал — всему виной твое колдовство.
— Как я могла не знать об этом, когда все небо полыхало? Жирным монахам Блосхолма зимой придется потуже затянуть пояса. Присвоенные земли как будто не приносят счастья, и кровь Джона Фотрела превратилась в огонь. Берегитесь, говорю я, берегитесь! Нет, я больше не хочу слушать ваших безумных речей. Только троньте хоть пальцем эту несчастную леди, если посмеете, и вы поплатитесь за все! — И она тоже повернулась и ушла.
Прежде чем уйти из монастыря, аббат переговорил с матерью Матильдой. — Сайсели, ради спасения ее души, надо заставить вести себя как следует, — сказал он. — Сначала лаской, потом суровостью и даже, если придется, бичеванием. Также ради спасения ее души, нельзя подпускать к ней служанку Эмлин, так как, без сомнения, Эмлин опасная ведьма.
А когда наступит время родов, аббат пришлет подходящую женщину ухаживать за нею, женщину, опытную в таких делах, ради спасения жизни матери и жизни ее ребенка. Теперь, когда на них свалилось это страшное несчастье — пожар в аббатстве, нанесший им такие ужасные убытки, не говоря даже о смерти двух слуг и о других людях, обожженных и искалеченных, — у него нет времени распространяться о подобных мелочах, но он надеется, что она его поняла. И тут-то мягкая и кроткая мать Матильда до глубины души огорчила и удивила аббата, своего духовного начальника.
Она решительно ничего не поняла. Предложенные им меры воздействия, какими бы ни были недостатки и слабости леди Сайсели, энергично заявила настоятельница, не могут быть к ней применены: по ее мнению, Сайсели уже и так много выстрадала за пустяки, а теперь еще ждет ребенка; потому с нею надо обращаться как можно бережнее. Что касается ее, то в этом деле она умывает руки и скорее обратится к генеральному викарию в Лондоне, который, насколько ей известно, рассматривает такие дела, чем подчинится подобным приказаниям. Или, на худой конец, она выпустит леди Харфлит и ее служанку за ворота и призовет милосердных людей оказать им помощь. Тем не менее, если его милость захочет прислать искусную женщину, чтобы ухаживать за Сайсели в ее положении, она не будет возражать при условии, что эта женщина пользуется доброй славой. Но, как бы то ни было, в данных обстоятельствах с ней бесполезно говорить о хлебе и воде, и мрачной темнице, и бичевании. Ничего подобного не произойдет, пока она является настоятельницей. Прежде чем кто-либо на это решится, она и сестры уйдут из монастыря и призовут королевский двор решать это дело.
Теперь аббат оказался в положении сторожевого пса, который привык пугать и мучить какую-нибудь овечку, а затем вдруг, после того как она отъягнилась, столкнулся с совершенно другим существом; овечка уже не боится, не бежит, но, обретя силу барана, отталкивает его, борется, прыгает, бьет головой и копытами. Может ли пес справиться с неистовой, неожиданно прорвавшейся яростью овцы, казалось рожденной для того, чтобы быть им растерзанной? Что ему остается делать, как не бежать в полном смятении, задыхаясь, в свою конуру? То же самое было с аббатом, когда мать
Матильда яростно обрушилась на него в защиту своего ягненка — Сайсели. С Эмлин он мог сцепиться зубами — но мать Матильда!.. Его собственная прирученная добыча! Это было уж слишком! Он мог только уйти, проклиная всех женщин и их вечные прихоти, из-за которых мужчины никогда не знают, чего от них ждать.
Во всяком случае, из всех людей на земле меньше всего можно было ожидать чего-либо подобного от матери Матильды.
Так и получилось, что в монастыре, несмотря на все эти страшные угрозы, все шло по-прежнему. Такие уж наступили времена, что даже всемогущий лорд аббат, имевший «право виселицы», не мог довести дело до крайности. Сайсели не заперли в темницу на хлеб и воду и, тем более, не бичевали. Не разлучили ее и с няней-Эмлин. Правда, настоятельница отчитала Сайсели за сопротивление установленным властям, однако, выговорившись до конца, она поцеловала ее, благословила и назвала «своей милой девочкой, своей голубкой и своей радостью».
Но если все было по-прежнему в обители, то в аббатстве все постоянно менялось и царило крайнее возбуждение. Не прошло и трех дней после пожара, как целое стадо в восемьсот овец ринулось на Красный утес и свалилось с него, а все пастухи тех мест знают, что там — отвесный обрыв высотой в сорок футов. Никогда еще баранина не была такой дешевой в Блосхолме и в его окрестностях, как наутро после той ночи, и каждый батрак на десять миль в окружности мог приобрести зимний тулуп, потратив только время на то, чтобы содрать шкуру с мертвой овцы. Кроме того, пастухи клялись, что они видели как сам дьявол с рогами и копытами верхом на осле гнал этих овец.
Потом стал являться призрак сэра Джона Фотрела, одетый в доспехи, иногда верхом, иногда пеший, но всегда ночью. Сначала этот ужасный дух был замечен в садах Шефтон Холла, где он встретил назначенного аббатом сторожа (ведь теперь дом был заперт), когда тот шел ставить силки для кроликов. Сторож был уже в преклонном возрасте, однако немногие лошади могли бы покрыть расстояние между Шефтоном и Блосхолмским аббатством так быстро, как он это сделал в ту ночь. С тех пор ни он, ни кто другой не соглашались сторожить Шефтон, ставший жилищем привидения, которое, как все могли видеть, иногда горело в окнах, словно свеча. Более того, вышеупомянутый призрак бродил по всей округе; в темные и бурные ночи он стучался в двери тех, кто при его жизни брал у него в аренду землю, и загробным голосом вещал, что он был убит блосхолмским аббатом и его присными и что аббат держит его дочь в заточении. При этом, угрожая ужасной местью, призрак требовал от всех людей, чтобы они привлекли аббата к ответу, не присягали и не платили ему аренды.
Призрак нагнал на всех такой ужас, что проворного Томаса Болла послали выследить, что же это, собственно, такое. Томас вернулся и объявил, что он видел его, что призрак назвал его по имени, но что он, будучи храбрым малым и не сомневаясь, что имеет дело с человеком, выстрелил в него из лука. Однако стрела прошла насквозь через его тело, призрак же рассмеялся и сразу исчез. В доказательство этому Томас привел аббата и его монахов на то самое место и показал им, где стоял он и где стоял призрак, показал и стрелу, глубоко вонзившуюся в стоявшее неподалеку дерево, точно опаленную огнем, потому что все перья на ней странным образом обгорели. Потом, дабы рассеять страхи и во избежание соблазна, аббат в полном облачении наложил торжественное заклятие на то место, где, по словам Томаса Болла, прошел призрак.
После того как на духа было наложено такое строгое заклятие (вроде как на первый камень фундамента), аббат и его монахи возвращались домой лесом, но по дороге ужасный голос, принадлежавший, как все признали, сэру Джону Фотрелу, произнес из чащи, в полной темноте, так как уже наступила ночь, следующие слова:
— Клемент Мальдонадо, аббат Блосхолма, я, убитый тобою, призываю тебя встретиться со мной не позже чем через год перед престолом господним.
Тут все обратились в бегство. Бежал и аббат — впрочем, он утверждал, что его понесла лошадь; отставший от них Томас Болл, как выяснилось, перегнал их всех и вернулся домой первым, потому что по дороге читал «Ave».
После этого призрака сэра Джона больше не видели, хотя вся округа искала его. Без сомнения, призрак сделал свое дело, хотя аббат объяснял это иначе. Однако стали твориться другие дела — еще, пожалуй, похуже. Однажды в лунную ночь среди коров поднялось страшное смятение; они мычали и носились по полю, куда их пригнали после дойки. Думая, что к ним забежали собаки, пастух и сторож — теперь после захода солнца никто в Блосхолме не соглашался выходить один — пошли посмотреть, что случилось, и вскоре повалились наземь полумертвые от страха. Они увидели, что там, прислонившись к воротам и смеясь, стоял сам мерзкий дьявол — черт с рогами и хвостом и с чем-то похожим на вилы в руках.
Сами не зная как, добрались они до дому, но только после этой ночи коров этих никто доить не мог; мало того, некоторые коровы преждевременно отелились и стали такими буйными, что их пришлось зарезать.
Потом пошли слухи, что даже в монастыре, и особенно в часовне, стали являться призраки. Оттуда слышались голоса, и Эмлин Стоуэр, молившаяся там, вышла из часовни, клянясь, что она видела, как огненный шар катался вдоль и поперек бокового крыла; человеческая голова в центре этого шара пыталась заговорить с ней, но не могла.
Это дело расследовал сам аббат, спросив Эмлин, узнала ли она лицо, находившееся в огненном шаре. Она ответила, что, кажется, узнала. Оно показалось ей очень похожим на лицо одного человека из собственной охраны аббата, по имени Эндрью Вудс и по прозванью пьяница Эндрью — шотландца, убитого, как говорят, сэром Кристофером Харфлитом в ночь великого пожарища. Но, очевидно, после смерти Эндрью очень изменился, поэтому она и не совсем уверена, что то был он. Одно только ей стало ясно: он несомненно пытался сообщить ей что-то.
Вспомнив о том, что было проделано с телом вышеупомянутого Эндрью, аббат замолчал. Он лишь многозначительно спросил Эмлин, как могло случиться, что, видя такие ужасы, она не боится бывать в часовне одна: ему сообщили, что она часто туда ходит. Эмлин же со смехом ответила, что боится людей, а не духов, добрые они или злые.
— Да, — воскликнул он в припадке ярости, — ты их не боишься, женщина, потому что ты — ведьма и вызываешь их сама, и мы не избавимся от этого колдовства, пока ты и вся твоя шатия не сгорят в огне.
— Если так, — холодно ответила Эмлин, — в следующий раз, когда мы увидимся, я спрошу у мертвого Эндрью, что он хотел мне сообщить, если он не предпочтет сообщить это лично вам.
Так они и расстались. Но в ту ночь произошло самое худшее. Было около часу пополуночи, когда аббата, спавшего с открытым окном, разбудил голос, говоривший с шотландским акцентом и несколько раз назвавший его по имени, призывая выглянуть и посмотреть. Аббат и другие монахи поднялись и посмотрели, но ничего не смогли увидеть, потому что ночь была темная и шел дождь. Тем не менее, когда рассвело, их поиски увенчались успехом: на расстоянии всего лишь нескольких ярдов от спальни лорда аббата, уставив глаза прямо в окна этой комнаты, торчала насаженная на шпиль монастырской церкви страшная голова Эндрью Вудса!
Разгневанный аббат спрашивал, кто совершил это ужасное дело, но монахи, уверенные, что это штуки того же, кто околдовал коров, только пожали плечами и предложили разрыть могилу Эндрью, чтобы посмотреть, потерял ли он свою голову.
Это, в конце концов, было сделано, хотя, по особым соображениям, аббат запретил нарушать покой мертвеца.
Итак, могила была вскрыта, когда Мэлдон уезжал в одно из своих таинственных путешествий. И — о ужас! — там не было Эндрью, а лишь дубовая балка, зашитая в одеяло, набитое соломой в форме человеческого тела. Ведь настоящий Эндрью или, вернее, его останки находились, как вы помните, в другой могиле, в которой, как все полагали, лежал сэр Кристофер Харфлит.
С этого дня повсюду на пятьдесят миль в окружности стали передавать сказки о так называемом блосхолмском колдовстве: полным основанием для подобных разговоров служила высохшая голова Эндрью, насаженная на шпиль, откуда никто не решался ее снять ни из жалости к покойнику, ни за деньги. Все отметили, что аббат перешел в другую спальню, после чего, если не считать болезни монахов, возникшей, как полагают, от выпитого ими кислого пива, вся эта сумятица улеглась.
Действительно, в то время люди думали о другом, так как воздух был насыщен слухами о надвигающихся переменах. Король угрожал церкви, а церковь готовилась противостоять королю. Говорили об упразднении монастырей — некоторые фактически уже были упразднены — и еще больше говорили о восстании католиков в графствах Йорк и Линкольн; все это были важные дела, заставлявшие аббата Мэлдона часто отлучаться из дома.
Однажды он вернулся из долгого путешествия усталый, но удовлетворенный, и наряду с другими новостями, ожидавшими его тут, он нашел записку от настоятельницы, над которой размышлял, пока завтракал. Было также письмо из Испании, которое он тотчас же внимательно прочитал. Прошло девять месяцев с тех пор, как отплыл корабль «Большой Ярмут».
В течение этого времени стало известно только, что он не достиг Севильи; поэтому, как и все другие, аббат считал, что он пошел ко дну где-нибудь в открытом море. Это печальное событие он перенес со смирением, хотя оно и означало потерю очень важных писем: зато на борту было несколько лиц, которых он не желал более видеть, в особенности сэра Кристофера Харфлита и слугу сэра Джона Фотрела, Джефри Стоукса, захватившего с собой, по слухам, некие неприятные документы. Даже секретаря и капеллана, брата Мартина, не стоило жалеть как человека, по мнению аббата, более подходившего для неба, чем для земли, где лучшие люди должны порою идти на сделки со своей совестью.
Короче говоря, исчезновение «Большого Ярмута» было мудрым решением дальновидного провидения, убравшего некоторые камни преткновения из-под ног аббата, которым последнее время приходилось ступать по неровной и тернистой дороге. Ведь мертвые не могут говорить, хотя призрак сэра Джона Фотрела и оскалившаяся голова пьяницы Эндрью на шпиле, казалось, доказывали обратное. Кристофер Харфлит и Джефри Стоукс на дне Бискайского залива не могли выдвинуть против него неприятных обвинений, и ему не придется больше иметь дела ни с кем, кроме забытой в заточении женщины и еще не родившегося ребенка.
Теперь обстоятельства опять изменились: письмо из Испании говорило ему, что «Большой Ярмут» не утонул, так как двое из экипажа спаслись, -каким образом, об этом ничего не говорилось. Спасшиеся заявляли, что корабль был захвачен в плен турецкими или другими язычниками-пиратами и был уведен в какое-то неизвестное место через узкий пролив Гибралтар. Поэтому, если сэр Кристофер перенес это путешествие, он все еще мог быть жив, так же как Джефри Стоукс и брат Мартин. Но вряд ли это было возможно. Вернее всего, они погибли в бою, ибо все трое были неистовые вояки -англичане, или, в лучшем случае, были приговорены к турецким галерам, откуда никогда не возвращался даже один из тысячи.
Значит, в общем, у него почти не было причин опасаться тех, кто умер или все равно что умер, особенно теперь, когда грозили другие, более непосредственные опасности.
Все, чего он боялся и что стояло между ним или, вернее, между церковью и очень богатым наследством, была девушка в монастыре, неродившийся ребенок и, конечно, Эмлин Стоуэр. Ну, он был уверен, что ребенок не выживет да и мать, может быть, тоже. Что касается Эмлин — ее сожгут за колдовство, как она того заслуживает; теперь уже скоро, так как у него есть время проследить за этим; если не Сайсели поправится, то хотя ему и жаль ее, она — соучастница ведьмы, должна по справедливости вместе с ней отправиться на костер. Пока же насчет ребенка надо принять меры — мать Матильда сообщала ему, что сроки наступают.
Аббат позвал монаха, служившего ему, и велел передать женщине, известной под именем Меггс-Камбалы, чтобы она немедленно явилась в аббатство. Через десять минут она вошла: оказывается, ее уже предупредили, что она должна быть все время под рукой.
Эта Меггс-Камбала, слывшая в той местности повивальной бабкой, была особой лет пятидесяти, невероятно толстой, с плоским лицом, маленькими продолговатыми глазками и маленьким изогнутым ртом, за что ее и прозвали Камбалой. Она почтительно приветствовала аббата, приседая до тех пор, пока ему не показалось, что она валится назад, и, получив его отеческое благословение, опустилась в кресло, которое совсем исчезло под ее объемистым телом.
— Вам любопытно, наверное, почему я призвал вас сюда, друг мой, -ведь здесь ваши услуги никому не могут понадобиться, — начал с улыбкой аббат.
— О нет, милорд, — ответила женщина. — Я слышала, что нужно ухаживать за супругой сэра Кристофера Харфлита в ее положении.
— Я бы хотел называть ее благородным словом «супруга», — вздохнув, сказал аббат. — Но мнимый брак не дает права так называться, миссис Меггс, и — увы! — бедное дитя, если ему суждено родиться, будет лишь незаконнорожденным, заклейменным позором с момента появления на свет. Теперь Камбала — отнюдь не дура — начинала понимать его намеки.
— Грустно это, ваше святейшество, весьма грустно, и даже, можно сказать, вовсе худо. Ну, да ничего, поправим дело еще до того, как все произойдет. Такое внезапное, случайное появление приносит счастье — я имею в виду приезд вашей милости, — а здесь таких ребят очень много, как всегда поблизости от монастырей…
То есть, я хочу сказать, повсюду вообще. К тому же они обычно вырастают дурными и неблагодарными, как я хорошо могу судить по своим трем — хотя, правда, меня успели сразу же выдать замуж. Ну, словом, я хотела сказать, если уже такое случается, то иногда истинное благословение, если бедный невинный младенец умрет с самого начала и, таким образом, избегнет позорного клейма и насмешек. — И она замолчала.
— Да, миссис Меггс. По крайней мере, в подобных случаях мы не должны роптать на волю божию — при условии, конечно, если младенец проживет достаточно долго, чтобы его окрестить, — добавил он поспешно.
— Нет, ваше кардинальское святейшество, нет. Именно это я говорила прошлой весной дочери Смита. Сон у меня очень крепкий — ну, я случайно заспала ее отродье, а проснувшись, смотрю — ребенок уже посинел и не двигается. Она, как увидела, расстроилась, разревелась, словно корова, потерявшая своего первого теленка, а я ей и говорю: «Мари, это не я, это сам господь бог. Мари, ты должка радоваться, что моя тяжесть избавила тебя от твоего бремени, и ты можешь похоронить малютку почти даром. Мари, поплачь немного, если хочешь, все-таки ведь первый твой ребенок, не хули господа и не грози небу кулаком — не любит этого господь бог».
— А! — протянул аббат и без особого интереса спросил: — Что же Мари тогда сделала?
— Что она сделала, бесстыдная тварь? Она мне тогда говорит: «Ты кулака боишься, старая свинья, и душишь поросят. Так я тебя по-другому двину», — и она оттолкнула верхнюю перекладину с моего забора (мы разговаривали стоя у ворот); перекладина-то дубовая, размером три на два, как хватит меня, до сих пор на голове шрам, а Мари еще крикнула: «Довольно тебе, или, может, столб из ворот вывернуть?» Уж если я чего не люблю, так это кольев, особенно дубовых и острием к тебе.
Так болтала, по своему обыкновению, гнусная старая карга; аббат же молча смотрел в потолок. Когда наконец она остановилась, чтобы передохнуть, он сказал:
— Хватит мне слушать о пороках и насилиях. Такие несчастные случаи возможны, и вас винить нельзя. Теперь, добрая миссис Меггс, возьметесь ли вы за это дело? Монахини о нем ведь понятия не имеют. Хотя сейчас времена тяжелые и в последнее время наш дом понес много потерь, за ваше искусство будет хорошо заплачено.
Женщина поерзала своими большими ногами и уставилась на пол, потом внезапно подняла глаза и впилась в настоятеля взглядом, сверлившим, как шило.
— А если случится так, что невинный младенец из моих рук отправится прямо на небо, как, бывало, многие отправлялись, плату я все же получу?
— Тогда, — ответил аббат с какой-то вымученной улыбкой, — тогда, я думаю, миссис, вам следует заплатить вдвое, чтобы утешить вас и вознаградить за то, что люди, пожалуй, усомнятся в вашем искусстве.
— Вот это благородная сделка, — ответила она, и глаза ее загорелись жадностью. — Такую только с аббатом и заключишь. Но, милорд, говорят, в обители появляется призрак, а призраков я боюсь. Мужчина или женщина, с кольями или без них, матушке Камбале все равно, но призраков не хочу ни за что. Да и миссис Стоуэр — ведьма и может околдовать меня, а монашки полны всяких причуд и могут своими молитвами свести честную душу в могилу.
— Ну, ну, у меня мало времени. Чего вам нужно? Выкладывайте.
— Постоялый двор у брода — вашей милости в следующем месяце понадобится съемщик. Это хороший, доходный дом для тех, кто умеет держать язык за зубами и не смотреть куда не надо, а после страшного скандала и злостной клеветы, которая пошла из-за ребенка Смитовой дочки, мои дела идут не так, как раньше. Так вот, если бы мне получить его и не платить арендной платы первые два года, чтобы у меня хватило времени наладить дело…
Аббат больше не мог выносить этой особы; он поднялся со стула и резко сказал:
— Я буду помнить. Да, обещаю. А теперь ступайте; преподобная мать извещена о том, что вы к ней явитесь. И докладывайте мне каждое утро и вечер об этом деле. Послушайте, что это вы делаете? — вскричал он, потому что она вдруг упала на колени и вцепилась в его одежды своими толстыми и грязными пальцами.
— Отпущения, святой отец: я прошу отпущения и благословения — pax Meggiscum
[128] и так далее.
— Отпущения? Нечего отпускать.
— Нет, милорд, есть что отпускать, но хотелось бы знать, вам-то кто отпустит вашу долю греха? Мне иногда по ночам не дают спать сонмы ангелочков, вот почему я не выношу призраков. Я уж лучше зимой буду пить за ужином слабый холодный эль и есть непрожаренную свинину, только бы мне не встретиться с призраком даже мертворожденного ребенка.
— Вон отсюда! — произнес аббат таким голосом, что она поднялась на ноги и ушла, не получив отпущения и благословения.
Когда за ней закрылась дверь, он подошел к окну и, хотя ночь была бурной, распахнул его настежь.
— Святые угодники! — пробормотал он. — Эта гнусная убийца отравляет воздух. Как это господь терпит на земле подобные существа? Разве она не может заниматься своим адским ремеслом не так нагло? О! Клемент Мальдонадо, как низко ты пал, если вынужден пользоваться подобным орудием и для таких дел! Однако другого выхода нет. Не для меня, а ради церкви, о господи! Великий заговор разрастается, и все люди обращаются ко мне, его вдохновителю и организатору, за деньгами. Денег, только денег — и не пройдет и шести месяцев, как поднимется Йоркшир и Северные графства, не пройдет и года, как антихрист Генрих погибнет, а принцесса Мария
[129] будет прочно сидеть на троне с императором и папой в качестве сторожевых псов. Упрямая Сайсели должна умереть, и ее ребенок должен умереть, а потом я вырву тайну драгоценностей из уст этой ведьмы Эмлин — даже на дыбе, если понадобится. Не один раз видел я эти драгоценности; на них можно прокормить целую армию; но, пока жива Сайсели и ее отродье, как мне их получить? Поэтому -увы! — они должны умереть, но — горе! — старая карга права. Кто даст мне отпущение за дело, которое мне самому мерзко? Не для себя, не для себя, о мой заступник, а ради церкви! — И, распростершись на полу перед изображением святого, которого он считал своим покровителем, уткнувшись головой ему в ноги, аббат зарыдал.
10. БАБКА МЕГГС И ПРИЗРАК
Меггс-Камбала водворилась со всеми принадлежностями своего ремесла в обители, в качестве повивальной бабки при Сайсели. Устроилось это, правда, не без труда, ибо Эмлин, которой хорошо известна была печальная слава этой женщины и которая подозревала, что от нее можно ожидать самого худшего, изо всех сил противилась ее водворению; однако тут мягко, но решительно вмешалась настоятельница. Она признала, что и ей не особенно по сердцу эта особа, которая так странно выглядит, так быстро говорит и пьет столько пива. Однако по наведенным справкам выяснилось, что она очень искусна в подобного рода делах. Уверяли, что она достигла полного успеха в исключительно трудных случаях, от которых лекарь отказывался, как от безнадежных, хотя, конечно, бывали и такие, когда ей ничего не удавалось сделать. Но обычно — так передавали настоятельнице — это происходило с бедняками, не имевшими возможности хорошо заплатить. В данном же случае вознаграждение будет щедрое, ибо мать Матильда обещала ей большую сумму из своих личных средств; а кроме того, раз врач-мужчина не мог быть допущен сюда, где было искать другого знающего человека? Ни она сама, настоятельница, ни другие монахини для этого не годились, ибо никто из них не был замужем, кроме старой Бриджет, полоумной и уже давным-давно обо всем этом позабывшей. Не могла помочь и Эмлин, которая была почти девочкой, когда у нее родился ребенок, а с той поры уже не решала. Так что и выбора-то не было.
Эмлин пришлось сдаться на эти доводы, хотя она и не доверяла толстой противной бабке, которая с первого же взгляда не понравилась и бедняжке Сайсели. Однако страх заставил Эмлин смириться и обращаться со старухой вежливо: не то она, пожалуй, не захочет постараться ради ее госпожи. Поэтому Эмлин, как раба, выполняла все ее прихоти, сдабривала ей пряностями пиво, стелила постель и даже безропотно выслушивала ее гнусные шуточки и болтовню.
Наконец все совершилось, и ребенок, красивый и крепкий мальчуган, появился на свет. И Камбала торжественно выставила его напоказ в корзинке, прикрытой овечьей шкурой, а Эмлин, и мать Матильда, и все монахини целовали и благословляли его. И сразу же во избежание какой-либо случайности (вот она, отеческая предусмотрительность аббата!) он был окрещен поджидавшим уже священником и наречен Джоном Кристофером Фотрелом: Джоном по деду, Кристофером по отцу, а фамилия Фотрел дана ему была потому, что аббат, считая его незаконнорожденным, не желал, чтобы он именовался Харфлитом.
Итак, ребенок родился, и матушка Меггс божилась, что из двухсот трех ребят, появившихся с ее помощью на свет божий, он был самый лучший — по меньшей мере девяти с половиной фунтов весом. Судя по тому, как он кричал и двигался, мальчуган был здоровый и жизнеспособный: когда он ухватился ручонками за толстые указательные пальцы Камбалы, она на глазах изумленных монашек приподняла его на этих своих пальцах, а затем выпила целую четверть сдобренного пряностями эля за его здоровье и долголетие.
Но если ребенок отличался жизнеспособностью, то Сайсели близка была к смерти. Она чувствовала себя очень, очень худо и, возможно, не выжила бы, но Эмлин пришла в голову хорошая мысль. Ибо, когда Сайсели стало совсем плохо, а Камбала, качая головой и заявляя, что она уже ничего сделать не может, ушла выпить неизменного эля и подремать, Эмлин подкралась к своей госпоже и взяла в свои руки ее холодную руку.
— Дорогая, — произнесла она, — послушай, что я скажу. (Но Сайсели не шелохнулась.) Дорогая, — повторила она, — выслушай меня: я кое-что слышала о твоем муже.
Бледное лицо Сайсели слегка шевельнулось на подушке, и синие глаза ее открылись.
— О моем муже? — прошептала она. — Ведь его нет в живых, да и меня скоро не будет. Что ты могла о нем слышать?
— Он не умер, он жив, по крайней мере я так думаю, хотя доселе скрывала это от тебя.
Голова Сайсели на мгновение приподнялась, а глаза уставились на Эмлин с радостным удивлением.
— Ты морочишь меня, няня? Нет, ты бы этого никогда не сделала. Дай мне молока, теперь я буду пить. Послушаю, что ты скажешь, и обещаю, что не умру, пока ты не поведаешь всего. Если Кристофер жив, то и мне незачем умирать. Ведь я только одного хотела — соединиться с ним.
И Эмлин шепотом рассказала ей все, что знала. Это было немного, только то, что Кристофер не был погребен в могиле, куда его якобы положили, что он, раненный, был перенесен на корабль «Большой Ярмут». Об участи этого корабля Эмлин, к счастью, ничего не слыхала. Как ни скудны были эти известия, на Сайсели они подействовали, как волшебное лекарство, ибо разве не означали они возвращение надежды — надежды, которая девять долгих месяцев была мертва и, казалось, погребена вместе с Кристофером? С этого мгновения Сайсели стала поправляться.
Когда Камбала, отоспавшись после пьянства, вернулась к постели больной, она изумленно уставилась на нее и пробормотала что-то насчет колдовства, так уверена была она, что Сайсели умрет: в те времена подобным образом погибали многие женщины, попавшие в такие же руки. По правде сказать, для нее это было горьким разочарованием, ибо она знала, что тот, кому она служила, хотел этой смерти; теперь он, чего доброго, сдаст постоялый двор у брода кому-нибудь другому. Да к тому же еще и ребенок был не заморыш, а существо вполне жизнеспособное. Ну, тут уж она сумеет поправить дело, а если все произойдет быстро, то и мать, пожалуй, помрет с горя. Однако сделать это будет труднее, чем кажется на первый взгляд: за ребенком-то следит много любящих глаз.
Когда она заявила, что возьмет его на ночь к себе в постель, Эмлин яростно воспротивилась. Обратилась к настоятельнице, и та, зная, что бабка пьет, и наслышавшись об участи ребенка Смитов и многих других, приказала не отдавать ей мальчика. Так как мать была еще слишком слаба, чтобы взять его к себе, ребенка уложили рядом с нею, в колыбельке. И постоянно днем и ночью одна, а то и несколько ласковых монахинь стояли у изголовья колыбельки, словно ангелы-хранители. И питала его сама природа, ибо с первого же дня Сайсели давала ему грудь, так что бабка не могла примешать к молоку ничего такого, что заставило бы мальчика заснуть навеки.
Так и шли день за днем, и сердце бабки Меггс разрывалось от ярости и, можно сказать, отчаяния, пока наконец не выпал случай, которого она ждала. В один прекрасный вечер, когда монахини ушли к вечерне (но не в часовню, ибо с тех пор, как распространились слухи о привидении, они избегали этого места в сумерки), Сайсели, к которой возвращались силы, попросила Эмлин переодеть ее и перестелить ей постель. А ребенка поручили сестре Бриджет, души в нем не чаявшей, и велели ей погулять с ним по саду, ибо дождь прошел и вечер был приятный и теплый. Она и пошла в сад, но по дороге ее перехватила Камбала. Все думали, что бабка спит, на самом же деле она пошла следом за Бриджет, а придурковатая монашка ее очень боялась.
— Ты что делаешь с моим младенчиком, дура старая? — закричала она, почти вплотную приблизив лицо к лицу Бриджет. — Уронишь его, а ругать станут меня. Отдавай-ка мне ангелочка, не то я перешибу тебе нос. Давай, говорю, и убирайся подобру-поздорову.
Старая Бриджет, растерянная и перепуганная, отдала ей ребенка и побежала прочь. Но затем, немного успокоившись или повинуясь какому-то безотчетному чувству, возвратилась, спряталась за кустами сирени и стала наблюдать.
Увидела она, что Камбала оглянулась по сторонам, желая убедиться, что за ней не следят, и зашла с ребенком в часовню. Послышался звук задвигаемого засова. Бриджет, как она впоследствии рассказывала, очень испугалась, сама не зная чего, и какое-то внезапное побуждение заставило ее подбежать к окну алтаря, взобраться на стоявшую под ним тачку и заглянуть в часовню. И вот что ей довелось увидеть.
Бабка Меггс стояла на коленях в алтаре, и монахиня сперва подумала, что она молится. Но тут луч заходящего солнца осветил часовню, и Бриджет заметила, что на плиточном полу перед бабкой лежит ребенок и что чертовка засовывает свой толстый указательный палец ему в горло, так что личико у него уже почернело, а бабка при этом что-то дико бормочет. Застыв на месте от ужаса, Бриджет не смогла ни двинуться, ни крикнуть.
И вот, пока она стояла, словно окаменевшая, внезапно появилась какая-то мужская фигура в ржавых доспехах. Камбала подпила глаза, увидела ее и, вытащив палец из горла ребенка, принялась отчаянным голосом вопить.
Человек, не говоря ни слова, вынул из ножен меч и поднял его, а детоубийца между тем кричала:
— Призрак! Призрак! Пощадите меня, сэр Джон, я бедная женщина, а он мне заплатил. Пощадите меня Христа ради!
С этими словами она без сознания упала на пол, стала корчиться, извиваться и наконец затихла.
Тогда человек или же призрак взглянул на нее, вложил меч в ножны и, подняв с полу ребенка, который теперь снова стал дышать и кричать, направился с ним вон из часовни. Затем до сознания Бриджет дошло, что он стоит перед ней и протягивает ей ребенка. Лица его она видеть не могла, так как забрало было опущено, но услышала глухой голос, говоривший:
— Это дар небес леди Харфлит. Скажи ей, чтобы она не ведала страха, ибо одного дьявола я уже скосил, а другие созрели дли жатвы.
Бриджет взяла ребенка и упала наземь, и в то же мгновение: монашки, встревоженные отчаянными воплями Меггс, ворвались во главе с матерью Матильдой через боковой проход. Они тоже увидели мужскую фигуру и узнали на шлеме и щите герб Фотрелов. Но призрак не заговорил с ними, а скрылся за деревьями и исчез.
Прежде всего они позаботились о ребенке, которого, как они думали, этот человек намеревался похитить. Затем, убедившись, что ничего худого с ним не случилось, стали расспрашивать старуху Бриджет, но от нее невозможно было добиться толку: она только бормотала что-то, указывая сперва на тачку, а затем на окно алтаря. Под конец мать Матильда поняла, в чем дело, и, взобравшись на тачку, заглянула по примеру Бриджет в окно.
Заглянула, увидела и без чувств упала навзничь.
Прошел час. У ребенка не оказалось серьезных повреждений: — только незначительные царапины и кровоподтеки вокруг нежного ротика, — и он заснул на материнской груди. Бриджет пришла в себя и наконец рассказала всю историю всем, кроме Сайсели, которая так ничего еще и не знала, ибо ее и Эмлин комната находилась в противоположном конце здания, и они не слышали криков.
Послали за аббатом, и он явился в сопровождении своих монахов, как раз когда разразилась гроза и полил ливень. Он тоже выслушал рассказ -лицо его было бледно; монахи в ужасе творили крестное знамение. Под конец он спросил о Меггс. Ему ответили, что, живая или мертвая, она еще, видимо, в часовне, куда никто пока не решился войти.
— Пойдем поглядим, — сказал аббат.
Когда подошли к часовне, дверь, как и передавала Бриджет, оказалась запертой изнутри.
Послали за кузнецами, которые принялись ломать засов. Все прочие стояли под дождем и ждали. Наконец дверь была открыта, и все во главе с аббатом вошли в часовню с факелами и свечами, так как теперь уже совсем стемнело. На полу у алтаря что-то лежало. Когда это место было освещено факелами, все увидели нечто такое, от чего бросились бежать прочь, призывая на помощь всех святых. И при жизни бабка Меггс не отличалась привлекательностью, но после того как ее постигла такая смерть… Наступило утро. Лорд аббат со своими монахами собрались в приемной, а против них сидели леди, настоятельница и монахини. Тут же находилась и Эмлин.
— Колдовство! — закричал аббат, стуча кулаком по столу. — Черное колдовство! Сам сатана и злейшие его демоны блуждают по округе и ютятся в вашей обители. Минувшей ночью они себя показали…
— Тем, что спасли ребенка от жестокой смерти и покарали мерзкую убийцу, — прервала его Эмлин.
— Молчи, ведьма! — закричал аббат. — Отыди от меня, сатана. Знаю я тебя и твоих присных! — При этих словах он взглянул на настоятельницу.
— Что вы имеете в виду, милорд аббат? — вызывающе спросила мать Матильда. — Я и мои сестры вас не понимаем. Эмлин Стоуэр права. Можно ли называть колдовством то, что завершилось ко благу? Да, призрак сэра Джона Фотрела появился здесь, и мы все его видели. Но что он сделал? Уничтожил злодейку, которую вы к нам подослали, и спас невинного младенца, когда она уже засунула ему в горло палец, чтобы прервать его невинную жизнь. Если это колдовство, так я тоже ведьма. Скажите-ка, на что эта негодяйка намекала, когда молила призрак пощадить ее, вопя, что она бедная женщина, которую подкупили совершить злодеяние? Кто подкупил ее, милорд аббат? Даю клятву, что у нас в обители — никто. А кто превратил сэра Джона Фотрела из живого человека в духа? Почему он теперь призрак?
— Я здесь не для того, чтобы загадки разгадывать, женщина. А ты кто такая, чтобы задавать мне подобные вопросы? Тебя я смещаю, а на всю твою обитель налагаю отлучение. Приговор церкви решит вашу участь. Не осмеливайтесь переступать за порог вашего дома, пока не соберется трибунал, который будет вас судить. И не рассчитывайте, что вам удастся спастись. Англия ваша прогнила, и повсюду растекается ересь, но, — добавил он, понизив голос, — огонь еще жжет, а в лесу много хвороста. Пусть души ваши приготовятся к суду. Теперь же мне пора идти.
— Делайте, что вам угодно, — ответила разъяренная мать Матильда. -Когда нам предъявят обвинение, мы будем держать ответ. А пока просим вас забрать останки вашей наймитки; мы не желаем находиться в ее обществе, и у нас она не обретет погребения. Милорд аббат, хоть вы и ваши предшественники присвоили себе не принадлежащие вам права, но грамота на основание нашей обители дана королем Англии. Утверждена она Эдуардом Первым, и с того дня только сам король, и никто другой, может подписывать назначение настоятельницы. А мое подписано собственноручно Генрихом Восьмым. Вы меня сместить не можете, на аббата я пожалуюсь королю. Прощайте, милорд. — С этими словами она в сопровождении своей свиты из пожилых монахинь выплыла из комнаты, как оскорбленная королева.
Когда после ужасной гибели детоубийцы ребенка передали матери невредимым, Сайсели быстро поправилась. Через неделю она уже встала и начала ходить, а через десять дней была уже совсем здорова, здоровее, чем когда-либо. Насчет аббата ничего не было слышно, и хотя все знали, что с его стороны по-прежнему грозит опасность, радовались краткой передышке до нового громового удара.
Однако в пробудившемся уме Сайсели возникло острое желание побольше узнать о том, на что намекнула ее кормилица, когда она лежала на смертном одре. День за днем донимала она Эмлин расспросами, пока не выпытала все, а именно, что новость исходила от Томаса Болла и что это он, облаченный в доспехи ее отца, спас ребенка от гибели. Теперь она во что бы то ни стало пожелала сама увидеть Томаса, уверяя, что хочет поблагодарить его. Но Эмлин хорошо понимала, что Сайсели надо услышать из его собственных уст все обстоятельства и все подробности того, что можно узнать насчет Кристофера.
Некоторое время Эмлин противилась этому, ибо хорошо понимала, какую опасность представила бы подобная встреча. Но она не в состоянии была отказать в чем-либо своей госпоже и под конец уступила.
В назначенный час, на закате солнца, Эмлин и Сайсели зашли в часовню. Сайсели сказала монахиням, что хочет поблагодарить бога за избавление от стольких опасностей. Они преклонили колени перед алтарем и, делая вид, что молятся, услышали стуки — сигнал, означавший, что Томас Болл прибыл. Эмлин постучала в ответ — это значило, что все в порядке, после чего деревянная фигура повернулась, и перед ними предстал Томас, одетый, как и раньше, в доспехи сэра Джона Фотрела. На мгновение Сайсели показалось, что она видит покойного отца — так похож был на него Томас в этой столь знакомой ей броне, — и ноги ее подкосились.
Но Томас преклонил пред ней колено, поцеловал ей руку, осведомился о здоровье ее мальчика и спросил, довольна ли она тем, как он ей служит.
— Да, тысячу раз да, — ответила она. — О друг мой, теперь я нищая пленница, но если ко мне вернется мое достояние, все, что я имею, будет принадлежать тебе. А пока я благословляю тебя, и да будет над тобою благословение божие, благородный человек!
— Не благодарите меня, леди, — ответил честный Томас. — По правде-то говоря, служил я Эмлин, ибо мы много лет были друзьями, хотя монахи и разлучили нас. А что касается ребенка и этого чертова отродья, Камбалы, то благодарите бога, а не меня, ведь я вовсе не собирался появиться в тот вечер и оказался в часовне лишь случайно. Я намеревался идти за скотом, и тут мне что-то словно шепнуло, чтобы я надел доспехи и появился в часовне. Меня словно какая-то рука толкала, а остальное вы сами знаете. Полагаю, что теперь бабка Меггс тоже знает, — мрачно добавил он.
— Да, да, Томас, я благодарю бога, чей перст вижу во всем этом деле, как благодарю тебя, его орудие. Но есть и другие вещи, о которых мне говорила Эмлин. Она сказала, ах, она сказала, что мой муж, которого я считала убитым и погребенным, на самом деле был только ранен, и его не похоронили, а отправили за море. Расскажи мне все об этом, ничего не опуская, но побыстрее, — времени у нас мало. Я хочу все узнать из твоих собственных уст.
И вот, путаясь и запинаясь по своему обыкновению, он поведал ей слово в слово все, что сам видел и что узнал от других. Сводилось же это к тому, что сэра Кристофера увезли за границу на «Большом Ярмуте», тяжело раненного, но не мертвого, и что вместе с ним отправились Джефри Стоукс и монах Мартин.
— С тех пор прошло десять месяцев, — сказала Сайсели. — Неужто о корабле не было никаких известий? Он ведь мог бы уже возвратиться обратно. Немного поколебавшись, Томас ответил:
— Из Испании никаких известий не приходило. Затем, хотя я даже Эмлин ничего об этом не говорил, прошел слух, что корабль погиб со всем своим экипажем. А потом рассказывали другое…
— Что же именно?
— Леди, двое из его команды прибыли в Уош. Я сам их не видел, и они опять пошли в плаванье — в Марсель во Францию. Но я беседовал с пастухом, сводным братом одного из них, и тот рассказал мне, что слыхал от него, будто на «Большой Ярмут» напали два турецких пиратских корабля и захватили его после славного боя, в котором капитан и многие другие были убиты. Этот человек с товарищем сумели бежать в шлюпке и дрейфовали по морю туда и сюда, пока идущая на родину каравелла не подобрала их и не доставила в Гулль. Вот все, что я знаю, хроме еще одного.
— Еще одного? Чего же, Томас? Что мой муж погиб? — Нет, нет, как раз наоборот, что он жив или был жив, ибо эти люди видели, как он, и Джефри Стоукс, и священник Мартин — он, я хорошо знаю, не трус — дрались как черти, пока турки не одолели их численностью, не связали им рук и не перетащили всех троих невредимыми на свои корабли, намереваясь, видимо, превратить таких храбрых парней в рабов.
Хотя Эмлин и старалась остановить Сайсели, та стала забрасывать Томаса вопросами, на которые он отвечал, как мог, пока, наконец, до его ушей не долетел какой-то необычайный звук.
— Взгляните на окно! — вскричал он.
Они взглянули, и кровь застыла у них в жилах: сквозь стекло смотрело на них темное лицо аббата, а рядом с ним виднелись и другие лица.
— Не выдавайте меня, не то я буду сожжен, — прошептал Томас. -Скажите им только, что вам привиделся призрак. — Неслышно, как тень, он скользнул в свою нишу к исчез.
— Что теперь делать, Эмлин?
— Только одно — Томаса надо спасти. Держаться смело и стоять на своем. Не твоя вина, что дух твоего отца появляется в часовне. Помни, только дух его, и ничего больше. А, вот и они!
При этих ее словах дверь широко распахнулась, и в часовню ворвались аббат и с ним вся толпа его служителей. В двух шагах от обеих женщин они остановились, тесно прижавшись друг к другу, словно роящиеся пчелы, — так им было страшно, и только один голос крикнул: «Хватайте ведьм!” У Сайсели прошел всякий страх, и она смело обратила к ним лицо.
— Что вам от нас нужно, милорд аббат? — спросила она.
— Мы хотим знать, колдунья, что за существо сейчас говорило с тобой и куда оно девалось?
— Это был тот же, кто спас мое дитя и призвал меч господень на голову убийцы. На нем были доспехи моего отца, но лицо его осталось скрытым. Он исчез, как и появился, куда — я не знаю. Узнайте это сами, если можете.
— Женщина, ты над нами смеешься! Что это существо говорило тебе?
— Оно говорило об убийстве сэра Джона Фотрела у Королевского кургана и о тех, кто совершил это злодеяние. — И она пристально посмотрела на аббата, так что тот опустил глаза.
— А еще что?
— Оно сообщило мне, что муж мой жив и что вы не похоронили его, как уверяли меня, а отправили его в Испанию. И оно предрекло, что он возвратится оттуда, чтобы отомстить вам. Оно поведало мне, что моего мужа взяли в плел мавры, а с ним Джефри Стоукса, слугу моего отца, и священника Мартина, вашего секретаря. Затем оно подняло взор и исчезло, или же нам показалось, что оно исчезло, хотя, может быть, оно еще находится среди нас.
— Да, — ответил аббат, — сатана, с которым вы тут беседовали, всегда среди нас. Сайсели Фотрел и Эмлин Стоуэр, вы обе зловредные ведьмы, в чем сами признались. Слишком долго терпел мир божий ваши колдовские дела; теперь же вы ответите за них перед богом и людьми, ибо мне, лорду настоятелю Блосхолмского аббатства, даны право и власть заставить вас это сделать. Схватите этих ведьм и заточите их в комнате, где они живут, пока я не соберу церковный трибунал, который будет их судить.
Сайсели и Эмлин схватили и повели в обитель. Когда они шли через сад, им повстречались мать Матильда с монахинями; те уже второй раз в этом месяце выбегали узнать, что за шум поднялся в часовне.
— Что еще случилось, Сайсели? — спросила настоятельница.
— Теперь мы, оказывается, ведьмы, матушка, — ответила она с грустной улыбкой.
— Да, — вмешалась Эмлин, — и обвиняют нас в том, что дух убитого сэра Джона Фотрела будто бы говорил с нами.
— Что, что? — вскричала настоятельница. — Разве можно объявлять ведьмой женщину только за то, что ей явился дух ее отца? Может быть, и бедная сестра Бриджет ведьма? Ведь тот же призрак передал ей ребенка!
— Верно, — сказал аббат. — Я об ней забыл. Она из той же шайки, ее тоже надо схватить и заточить. Надеюсь всей душой, что, когда наступит час суда, других ведьм обнаружить не придется. — И он угрожающе взглянул на бедных монашек.
Итак, Сайсели и Эмлин заточены в своей комнате, и монахи бдительно стерегли их, но дурному обращению они не подвергались. В их положении мало что изменилось, за исключением того, что теперь они сидели под замком. Ребенок находился при Сайсели, и монахиням разрешено было навещать пленниц.
И все же над ними обеими нависла мрачная тень тяжкой беды. Они хорошо сознавали — и казалось, им даже все время
стараются напоминать об этом, -что их ожидает суд и смертная казнь по чудовищному и гнусному обвинению, будто они общались с неким темным и страшным созданием, именовавшимся врагом рода человеческого, ибо все верили, что люди наделены властью вызывать его к себе, чтобы он давал им советы и помогал во всех делах. Но они-то сами хорошо знали, что то был Томас Болл, и все случившееся казалось им нелепостью. Однако не приходилось отрицать, что означенный Томас, по наущению Эмлин, причинил блосхолмским монахам немало зла, отплатив им или, вернее, их настоятелю его же монетой. Но что было делать? Раскрыть правду означало предать Томаса жестокой участи, которую и им самим, вероятно, пришлось бы разделить, хотя, может быть, они очистились бы от обвинения в колдовстве.
Эмлин изложила все эти соображения Сайсели, не высказавшись ни «за» ни «против», и ждала ее решения. Оно и последовало — скорое и окончательное.
— Этого узла нам все равно не развязать, — сказала Сайсели. — Не станем никого выдавать и доверимся воле божьей. Я уверена, — добавила она, — что бог нам поможет, как помог, когда бабка Меггс едва не удавила моего мальчика. Не хочу я защищаться за счет других. Пускай бог решает.
— Со многими, кто вверялся богу, случались странные вещи: все зло мира тому свидетельство, — неуверенно промолвила Эмлин.
— Может быть, — ответила с обычным своим спокойствием Сайсели, -потому только, что верили недостаточно и не так, как нужно. Как бы то ни было, но этот путь я избираю и пойду по нему — хоть в огонь, если придется.
— В тебе как будто заложены семена душевного величия, но что из них вырастет? — ответила Эмлин, пожимая плечами.
На следующий же день вера Сайсели подверглась жестокому испытанию. Аббат явился поговорить наедине с Эмлин. Пел он все ту же песню.
— Отдайте мне драгоценности, и тогда с тобой и с твоей госпожой все еще может обойтись по-хорошему. А не то пойдете на костер.
Как и раньше, она стала уверять, что ничего о них не знает.
— Найдите драгоценности, или вы будете сожжены, — ответил он. -Неужели какие-то жалкие камешки вам дороже жизни?
Тут Эмлин поколебалась, хоть и не ради себя, и сказала, что поговорит со своей госпожой.
Он велел ей сделать это поскорее.
— Я думала, драгоценности погибли в огне. Эмлин, разве ты знаешь, где они находится? — спросила Сайсели.
— Да, тебе я ничего не говорила, но знаю. Скажи только слово, и я отдам их, чтобы тебя спасти.
Сайсели призадумалась, поцеловала ребенка, которого держала на руках, потом громко рассмеялась и ответила:
— Нет, не будет так. Не разбогатеет этот аббат от моего добра. Я уже сказала тебе, что не на драгоценности я надеюсь. Сожгут меня или я буду спасена, только ему их не видеть.
— Хорошо, — сказала Эмлин, — я сама так думаю; я ведь говорила об этом лишь ради тебя. — И она пошла сообщить решение Сайсели аббату.
Он явился в комнату к Сайсели разъяренный и пригрозил обеим женщинам, что они будут отлучены от церкви, подвергнуты пытке, а затем сожжены. Но Сайсели, которую он пытался запугать, даже бровью не повела.
— Что ж, пусть так и будет, — ответила она, — постараюсь все перенести, насколько хватит сил. Ничего об этих драгоценностях я не знаю, но если они и существуют, то принадлежат мне, а не вам, в колдовстве же я неповинна. Делайте свое дело, ибо я уверена, что конец ему будет совсем не такой, как вы думаете.
— Что! — вскричал аббат. — Значит, дух зла опять у тебя побывал, что ты так уверенно говоришь! Ладно, колдунья, скоро ты у меня запоешь по-другому!
И, подойдя к двери, он велел вызвать настоятельницу.
— Посадить этих женщин на хлеб и на воду, — сказал он, — и подготовить их к дыбе, чтобы они выдали своих сообщников.
Но доброе лицо матери Матильды приняло непреклонное выражение.
— У нас в обители этого не будет, милорд аббат. Закон мне известен, вам такая власть не дана. И более того, если вы их отсюда возьмете — они ведь мои гостьи, — я обращусь с жалобой к королю, а пока что подниму против вас всю округу.
— Разве я не прав, что у них имеются сообщники? — злобно усмехнулся аббат и ушел восвояси.
Но о пытке разговор больше не поднимался. Угроза пожаловаться королю пришлась аббату не по вкусу.
11. СУД И ПРИГОВОР
Настал день суда. Еще с рассвета Сайсели и Эмлин видели, как через ворота обители снует народ, и слышали, как рабочие устраивают все, что нужно, в парадном зале под самой их комнатой. Около восьми часов одна из монашек принесла им завтрак. Лицо у нее было бледное, испуганное. Говорила она шепотом и все время оглядывалась, словно думая, что за ней следят. Эмлин спросила, кто будет их судить, и монахиня ответила:
— Аббат, какой-то чужой темнолицый приор
[130] и старый епископ. О сестры мои, да поможет вам бог, да защитит он всех нас! — И с этими словами она скрылась.
Тут мужество на миг оставило Эмлин, ибо на что они могли рассчитывать перед таким трибуналом? Аббат был их самым беспощадным врагом и обвинителем, чужой приор — кто-нибудь из его друзей — одного с ним поля ягода. Что же касается духовного лица, прозванного Старым епископом, то он был известен как самый, может быть, жестокий человек в Англии, бич еретиков — до того времени, как ересь вошла в моду
[131], — охотник за ведьмами и колдунами. К тому же все знали, что ради своей выгоды он готов был пойти на что угодно. Но Сайсели она ничего не сказала — да и зачем? Та и сама все скоро узнает. Они поели, хорошо сознавая, что силы им понадобятся. Затем Сайсели покормила ребенка и, передав его Эмлин, преклонила колени, чтобы помолиться. Она еще не кончила, когда дверь распахнулась и появилось целое шествие. Сперва шли два монаха, потом шесть вооруженных людей из стражи аббата, потом настоятельница с тремя монахинями. При виде юной красавицы, преклонившей колени для молитвы, даже стражники, эти грубые люди, остановились, словно не решаясь помешать ей. Но один из монахов беззастенчиво закричал:
— Хватайте эту проклятую лицемерку, а если она не пойдет по доброй воле, тащите ее насильно. — И он протянул руку, словно намереваясь схватить ее за плечо.
Но Сайсели поднялась и, глядя ему прямо в лицо, сказала:
— Не дотрагивайтесь до меня. Я следую за вами. Эмлин, передай мне ребенка, и пойдем.
И так они двинулись, окруженные стражей; впереди шли монахи, а позади — опустив головы — монахини. Вот вступили они в парадный зал, но у порога им велели остановиться, пока не освободят проход.
Сайсели никогда потом не забывала, каким пришлось ей увидеть этот зал. Высокий сводчатый потолок из орехового дерева, наведенный сотни лет назад руками, не жалевшими ни труда, ни материала, и между балками потолка лучи утреннего солнца, игравшие так ярко, что она могла различить даже паутину с угодившей в нее вялой осенней осой. Она помнила и толпу собравшихся поглядеть, как она публично предстанет перед судом, а ведь многих из этих людей она знала еще с детства.
Как смотрели они на нее, стоящую у подножия лестницы с уснувшим ребенком на руках! Все это были нарочно подобранные люди, подготовленные к тому, чтобы осудить ее, — это она могла и видеть и слышать! Ведь кое-кто из них указывал на нее пальцами, хмурился, пытался кричать: «Ведьма!» -как им было велено. Но криков этих никто не подхватил. Когда они увидели ее, дочь Фотрела, жену Харфлита, знатных людей округи, стоящую перед ними во всем блеске своей прелести и невинности, с дремлющим у ее груди младенцем, их это словно сразило: даже на самых суровых лицах проступила жалость, а на некоторых и гнев, только не против нее.
Затем ей бросились в глаза трое судей за большим столом, у которого устроились и секретари из монахов. Посредине Старый епископ с жестоким лицом и крючковатым носом, в пышном облачении и митре; пастырский посох его стоял позади, прислоненный к деревянным панелям стены, а сам он глядел прямо перед собой маленькими, похожими на бусины, глазками. Слева от него — угрюмого вида, с тяжелой нижней челюстью приор из какого-нибудь отдаленного графства, одетый в простую черную рясу с поясом вокруг талии. А справа Клемент Мэлдон, блосхолмский настоятель и враг ее дома; его чужеземное, оливково-смуглое лицо казалось любезным, черные быстрые глаза внимательно следили за всем, обостренный слух схватывал каждое слово, даже произнесенное шепотом; он что-то тихо сказал епископу, и тот мрачно улыбнулся в ответ. Наконец, на огороженном веревкой месте под охраной стражника — несчастная, полубезумная старуха Бриджет, бормотавшая какие-то слова, на которые никто не обращал внимания.
Теперь проход расчистился, и им велели идти вперед. На полпути какое-то яркое пятно привлекло внимание Сайсели — это была рыжая борода Томаса Болла. Глаза их встретились, и в его взгляде она увидела страх. Ей сразу же стало понятно: он боится, что будет выдан и обречен на страшную пытку.
— Не бойся ничего, — шепнула она, проходя мимо.
Он услышал или, может быть, по взгляду Эмлин понял, что ему ничего не угрожает; во всяком случае, у него вырвался вздох облегчения.
Теперь они тоже вступили в огороженное веревкой пространство и там остановились.
— Ваше имя? — спросил один из секретарей, указывая на Сайсели своим гусиным пером.
— Всем известно, что меня зовут Сайсели Харфлит, — спокойно ответила она; писец грубо возразил, что она лжет, и тут опять разгорелся старый спор о законности ее брака, причем аббат настаивал на том, что она по-прежнему Сайсели Фотрел, мать незаконнорожденного ребенка.
Епископ проявил к этому некоторый интерес, стал задавать вопросы и даже склонялся, скорее, на ее сторону, ибо, когда дело касалось религии, он хорошо разбирался в законах и старался быть справедливым. Впрочем, под конец он от этого вопроса отмахнулся, довольно грубо заметив, что если хоть половина того, что он о ней слышал, — правда, для нее вскоре уже не будет иметь значения, каким именем она звалась при жизни, и велел писцам именовать ее Сайсели Харфлит или Фотрел.
Затем сказала свое имя Эмлин, а сестру Бриджет записали безо всяких вопросов. Потом прочитали обвинительное заключение, очень длинное, полное технических терминов, отдельных слов и целых фраз по-латыни. И из всего этого Сайсели поняла, что их обвиняют в разных ужасающих преступлениях, в том, что они вызывали дьявола и он являлся к ним в образе чудовища с рогами и копытами, а также в образе ее покойного отца. Когда обвинительное заключение было прочитано, им велели отвечать, и они заявили о своей невиновности. Вернее, заявили только Сайсели и Эмлин, ибо Бриджет начала что-то очень длинно рассказывать, и понять ее было невозможно. Ей велели умолкнуть, после чего на речи ее уже никакого внимания не обращали.
Тут епископ спросил, были ли эти женщины подвергнуты пытке, и, получив отрицательный ответ, выразил по этому поводу сожаление: ведьмы, сказал он, явно очень упорные, и, подвергнув их некому дисциплинарному воздействию, можно было бы избежать лишней возни. Спросил он также, были ли обнаружены у них на теле колдовские знаки, то есть места, где дьявол поставил свою печать и где, как известно, избранники его не ощущают боли. Он даже поднял вопрос о том, чтобы судебное разбирательство было отложено, пока ведьм не исколют булавками, чтобы найти колдовские знаки, но в конце концов отказался от своего предложения, дабы не терять времени.
Последний вопрос был поднят хмурым приором, который высказал мнение, что ребенка тоже следует обвинить, ибо и он ведь, по-видимому, общался с дьяволом: говорят же, что от смерти его спас дьявол, который взял его на руки и передал монахине Бриджет, — это к тому же единственное свидетельство против означенной Бриджет. Если она виновна, то как может быть невинным ребенок? Не следует ли их сжечь вместе, ибо очевидно же, что младенец, которого нянчил сам дух зла, проклят богом.
Законник-епископ признал этот довод интересным, но в конце концов решил, что безопаснее будет пренебречь им, приняв во внимание младенческий возраст преступника. Он добавил, что значения это не имеет, ибо можно не сомневаться, что гнусный враг рода человеческого вскоре сам предъявит права на свое добро.
Под конец, перед вызовом свидетелей, Эмлин потребовала адвоката, который бы взял на себя их защиту, но епископ, усмехнувшись, ответил, что в этом нет никакой нужды, ибо у них и так имеется лучший из адвокатов -сам сатана.
— Верно, милорд, — сказала, подняв глаза, Сайсели, — у нас лучший из адвокатов; только вы его неправильно назвали. Бог, защитник невинных, -наш адвокат, и на него я полагаюсь.
— Не кощунствуй, колдунья! — закричал старик; и начался допрос свидетелей.
Передавать его во всех подробностях не стоит, да это и заняло бы слишком много времени — он тянулся несколько часов. Прежде всего обсуждались молодые годы Эмлин и очень подчеркивалось, что мать ее была цыганка, покончившая самоубийством, а отец осужден инквизицией после того, как публично сожгли написанный им еретический труд. Затем давал показания сам аббат; хотя таким образом он оказался одновременно и судьей и главным свидетелем, никому это не показалось странным, ведь речь шла об обвинении в колдовстве. Он сообщил об исступленных речах Сайсели после сожжения Крануэл Тауэрса, добавив, что она и ее сообщница Эмлин спаслись от пожара явно благодаря волшебству, иначе они никак не могли бы остаться в живых. Он рассказал о том, как Эмлин угрожала ему, после того как поглядела в сосуд с водой, и обо всех ужасных делах, которые совершались в Блосхолме и были несомненно вызваны этими ведьмами. В этом он был прав, хотя и не знал, как все это происходило на самом деле. Он поведал о гибели повивальной бабки, о том, какой у нее был вид после смерти — при этом все присутствующие содрогнулись от ужаса, — и, наконец, о появлении призрака сэра Джона Фотрела, который общался с обвиняемыми в часовне обители, а затем бесследно исчез.
Когда он кончил свою речь, Эмлин попросила разрешения в свою очередь задать ему вопросы, но в этом ей было отказано на том основании, что лица, обвиненные в таких ужасных преступлениях, не имеют права на перекрестный допрос.
После этого заседание было прервано на обед. Обвиняемым тоже принесли пищу, но они вынуждены были есть там, где стояли. А хуже всего было то, что Сайсели пришлось и ребенка кормить при всей собравшейся толпе, которая глазела на нее, грубо издевалась и злилась, когда Эмлин и несколько монахинь окружили и заслонили Сайсели как бы живой ширмой.
Судьи возвратились, и снова начались показания свидетелей. Хотя большая часть этих показаний была совершенно несущественна, их набралось столько, что под конец Старый епископ устал и заявил, что больше он ничего слышать не хочет. Тут судьи принялись задавать сперва Сайсели, а затем Эмлин вопросы такого гнусного рода, что, с негодованием отрицательно ответив на первые из них, они потом уже просто замолчали, отказываясь что бы то ни было отвечать, — явное доказательство их вины, как с торжеством отметил хмурый приор. Наконец запас этих омерзительных вопросов иссяк, и Сайсели задали последний — хочет ли она что-нибудь сказать в свою защиту. — Да, я имею что сказать, — ответила она, — но я устала и вынуждена говорить кратко. Я не ведьма и не понимаю, в чем меня обвиняют. Блосхолмский аббат, выступающий в качестве судьи, мой злейший враг. Он притязал на земли моего отца — теперь он наверно захватил их — и зверски умертвил у Королевского кургана в лесу упомянутого отца моего, когда тот ехал в Лондон, чтобы подать на него жалобу и раскрыть его измену перед его милостью королем и королевским советом…
— Лжешь, ведьма! — крикнул аббат, но Сайсели, не обратив на это внимания, продолжала:
— Потом он и его вооруженные наемники напали на дом моего мужа, сэра Кристофера Харфлита, и сожгли его, умертвив или попытавшись умертвить — я не знаю точно его участи, — означенного супруга моего, который так и пропал без вести. Потом он заточил меня и мою служанку Эмлин Стоуэр в этой обители и пытался принудить меня подписать бумаги, по которым к нему перешло бы мое и моего сына имущество. Я отказалась пойти на это, и именно потому он предал меня суду: говорят, что у осужденных за колдовство отнимают все их достояние, а завладевают им те, у кого хватит силы его удержать. Заявляю, наконец, что не признаю власти этого трибунала, и обращаюсь с жалобой к королю, который рано или поздно услышит мой вопль и отомстит за нанесенные мне обиды, а может быть и за мою смерть, тем, кто в них повинен. Услышьте эти слова мои, добрые люди! Я обращаюсь к королю и ему одному, после бога, вверяю свое дело, а если мне суждено погибнуть, то и опекунство над моим осиротевшим сыном, которого аббат тоже пытался убить, подослав свою наймитку, гнусную тварь, — да настигнет ее суд божий, как настигнет он и вас, убийцы ни в чем не повинных людей!
Так говорила Сайсели. И, кончив говорить, она, измученная усталостью и горем, упала на пол — ибо в течение всех этих долгих часов ей приходилось стоять на ногах, — да так и осталась лежать с ребенком на руках; жалостное это было зрелище, и тронуло оно даже суеверные души собравшихся здесь людей.
Однако ее слова о том, что она обращается с жалобой к королю, видимо, испугали злобного Старого епископа. Он повернулся к аббату и затеял с ним какой-то спор. Сайсели прислушалась и уловила кое-что из его речей:
— Тогда пусть вся ответственность ложится на вас. Я сужу это дело лишь с церковной точки зрении и прикажу, чтобы в протоколах так и было записано. Что же касается приведения приговора в исполнение и вопроса об имуществе осужденной, то здесь я умываю руки. Занимайтесь этим сами.
— Так говорил Пилат! — крикнула Сайсели, подняв голову и глядя ему прямо в глаза. Потом голова ее снова упала, и она замолкла.
Тут открыла рот Эмлин, и из него полился целый поток слов.
— А известно ли вам, — начала она, — кто такой и что из себя представляет этот испанский священник, который судит нас за колдовство? Послушайте-ка, я вам скажу. Много лет назад он бежал из Испании, потому что натворил там гнусных дел. Спросите-ка его о монахине Изабелле, двоюродной сестре моего отца, о том, какой конец постиг ее и других, что были с нею. Спросите-ка его…
В это время один монах, которому аббат что-то шепнул, подкрался к Эмлин сзади и накинул ей на голову покрывало. Но своими сильными руками она сорвала его и закричала:
— Он убийца и предатель! Он замышляет убить короля. Я могу доказать это, Фотрел потому и погиб, что знал…
Аббат что-то крикнул, и снова монах, здоровенный парень, по имени Амброз, закрыл ей рот покрывалом. Она опять освободилась и, повернувшись к народу, закричала:
— Многим из вас я в свое время помогала. Неужто у меня друга не осталось? Неужто в Блосхолме нет никого, кто отомстит за меня этой скотине Амброзу. Кое-кто, верно, найдется!
Но тут Амброз, с помощью других монахов, набросился на нее, ударил по голове и стал трясти, пока она, задыхаясь, почти лишившись сознания, не упала на пол.
Быстро обменявшись несколькими словами со своими коллегами, епископ вскочил с места и в сумерках, сгущающихся в зале — ибо солнце уже зашло, -прочитал приговор суда.
Прежде всего он заявил, что обвиняемые найдены виновными в злостнейшем колдовстве. Затем он со всей подобающей торжественностью отлучил преступниц от церкви и отдал их души во власть сатаны, их господина. Под конец, как бы между прочим, он приговорил их тела к сожжению, не указав, однако, когда, кто и каким образом должен совершить казнь. В это мгновение из темноты раздался чей-то громкий голос:
— Ты превышаешь свою власть, поп, и посягаешь на права короля. Берегись!
Начался шум; одни кричали «верно», другие — «нет». Когда же все утихло, епископ или, может быть, аббат — разглядеть было невозможно -воскликнул:
— Церковь защищает свои права! Пускай король заботится о своих.
— Да он и позаботится, — ответил тот же голос. — Он уже показал это римскому папе. Монахи, ваша песенка спета.
Опять поднялся ужасающий шум. И правда, вся эта сцена или, вернее, шум, царивший кругом, кому угодно могли показаться странными. Епископ со своего места вопил от ярости, словно курица, потревоженная ночью на насесте; хмурый приор мычал, точно бык; народ волновался и кричал то одно, то другое; секретарь требовал, чтобы ему дали свечу, а когда, наконец, ее принесли и она, как слабая звездочка, замерцала в густом мраке, он трубкой приставил руку ко рту и заорал:
— А как насчет этой Бриджет? Оправдать ее?
Епископ ничего не ответил. Казалось, он испугался тех сил, которые сам же развязал; но аббат крикнул секретарю:
— На костер старую ведьму вместе с другими! — И тот записал это решение в протокол.
Когда стража окружила трех осужденных, чтобы увести их, у перепуганного ребенка вырвался тонкий жалобный крик. А епископ и его спутники, предшествуемые монахом со свечкой в руке — это как раз был Амброз, ударивший Эмлин, — целой процессией двинулись через зал к парадной двери.
Но не успели они дойти до нее, как свеча была вырвана из руки Амброза, воцарился полнейший мрак, а во мраке поднялась страшная суматоха. Раздавались вопли, шум борьбы, крики о помощи. Понемногу все стихло, зал начал пустеть, ибо ни у кого, по-видимому, не было желания там задерживаться. Зажгли факелы, и глазам оставшихся в зале предстало необычайное зрелище.
Епископ, аббат, чужой приор лежали в разных местах, избитые, окровавленные, одежды с них были сорваны, так что они оказались полуголыми; рядом с епископом валялся его разломанный пополам посох: похоже было, что и обломали его о голову самого епископа. Но хуже всего пришлось монаху Амброзу: он лежал, прислоненный к одному из столбов, поддерживающих свод; ноги его обращены были носками вперед, а лицо смотрело назад, ибо кто-то свернул ему шею, как гусю в Михайлов день. Епископ огляделся по сторонам и почувствовал, как болят его раны.
Потом он позвал свою свиту:
— Принесите мне плащ и подайте лошадь; хватит с меня Блосхолма и всех этих колдовских штук. Теперь вы уж сами распутывайте свои дела, аббат Мэлдон; мне в них что-то не везет. — При этих словах он взглянул на свой сломанный посох.
Так закончился большой процесс блосхолмских ведьм.
Сайсели наконец заснула, и Эмлин оберегала ее сон. Так как никакого другого подходящего помещения не было, их опять отвели в прежнюю комнату, но теперь они находились там под вооруженной стражей, чтобы им не вздумалось бежать. Однако Эмлин хорошо сознавала, что на бегство рассчитывать нечего: даже если бы им и удалось выбраться из стен обители, как смогли бы они скрыться, не имея друзей себе в помощь, пищи, чтобы не умереть с голоду, и лошадей для дальнейшего путешествия? Не пройдя и мили, они оказались бы настигнутыми погоней. К тому же Сайсели не пожелала бы расстаться с ребенком, да и вряд ли была в состоянии куда-либо двинуться после всего, что перенесла. Так Эмлин и сидела без сна, и сердце ее полно было горечи, гнева и страха, ибо она не видела впереди ни малейшего луча надежды. Тьма окружала их со всех сторон.
Дверь открылась, потом ее снова закрыли и заперли на ключ. Из-за занавески выступила высокая фигура настоятельницы со свечой в руках, сверкнувшей во мраке, как звезда. Она стояла и осматривалась, подняв свечу; и у Эмлин, когда она ее увидела, мелькнула одна мысль: может быть, она, так любившая Сайсели, поможет им? Разве сейчас образ ее — ласковое лицо, свеча во мраке — не представился ей воплощением самой надежды? Эмлин встала навстречу настоятельнице, приложив палец к губам.
— Она спит, не будите ее, — прошептала она. — Вы пришли сказать нам, что завтра мы будем сожжены?
— Нет, Эмлин. Старый епископ велел, чтобы это совершилось не ранее как через неделю: ему надо время, чтобы, проехав через всю Англию, возвратиться домой. По правде говоря если бы не то, что его избили в темноте и свернули шею брату Амброзу, я думаю, он вообще не довел бы дела до казни, чтобы не иметь потом неприятностей. Но сейчас он взбешен, клянется, что в зале на него набросились злые духи и что те, кто их вызвал, должны умереть. Эмлин, кто же убил брата Амброза? Люди или…
— Думаю, что люди, матушка. Дьявол никому шеи не сворачивает — это только монахам такое снится. Кого может удивить, если у моей госпожи сохранились верные друзья? Она ведь самая знатная леди в наших местах, и с ней поступили так жестоко. Наши люди просто перетрусили, а то бы они уже давно камня на камне в этом аббатстве не оставили и глотки бы перегрызли всем, кто скрывается за его стенами.
— Эмлин, — снова начала настоятельница, — во имя Христово и ради спасения своей души, скажи ты мне правду, — есть во всем этом деле колдовство или нет? А если нет, то что же оно все означает?
— Не больше в нем колдовства, чем в вашем добром сердце. Все это сделал человек. Имени его я вам не назову, чтобы вы его как-нибудь не подвели. Человек надел на себя доспехи Фотрелов и потайным ходом пришел в часовню посоветоваться с нами. Человек спалил кельи и скирды аббатства, разогнал скот, надев себе на голову козью шкуру, и вытащил из могилы череп пьяницы Эндрью. Не сомневаюсь, что его же рука свернула шею Амброзу, который меня ударил.
— А! — сказала настоятельница. — Кажется, я теперь догадываюсь; только очень уж у тебя грубое орудие, Эмлин. Ну, не бойся, тайны твоей я никому не выдам. — Она помолчала, потом заговорила опять: — Ох, и рада же я, что вражья сила тут ни при чем! А вот все в это верят. Теперь мне ясно виден мой путь, и я пойду по нему хоть до смерти, если придется. Да, да, я вас спасу или сама погибну.
— Какой путь, матушка?
— Эмлин, в течение всех этих месяцев вы никаких новостей не слышали, но я многое знаю. Слушай, сейчас происходят важные события. Король, или лорд Кромуэл, или оба они вместе ведут войну против монастырей послабее, уничтожают их, захватывают их владения, прогоняют оттуда монахов и пускают нищими по миру. Его милость посылает в монастыри королевских комиссаров; они там творят суд и расправу. Они и сюда намеревались явиться, но у меня есть друзья и кое-какие свои личные средства — я ведь из хорошего и небедного рода, — и мне удалось их подкупить. Один из этих комиссаров, Томас Ли, как я недавно узнала, ведет расследование в Бэйфлитском монастыре в Йоркшире. А настоятель там мой двоюродный брат Альфред Стакли; от него я нынче утром получила письмо. Эмлин, я отправлюсь к этому жестокому человеку, — все говорят, что он жесток. Я старая и слабая женщина, но я проникну к нему и предложу ему эту древнюю обитель, которой управляю, только бы спасти твою жизнь и Сайсели, а также старой Бриджет.
— Вы поедете, матушка? О, да благословит вас бог! Но как вы это сделаете? Они ведь не дадут вам уехать.
Старая монахиня выпрямилась и ответила:
— А кто имеет право запретить блосхолмской настоятельнице отправиться туда, куда ей нужно? Уж, наверно, не какой-то там испанский аббат. Слуги этого надменного монаха тоже хотели помешать мне в моем собственном доме зайти сюда, в вашу комнату, но я дала им такую отповедь, что они ее не забудут. В моем распоряжении имеются лошади, но что правда, то правда — я не могу ехать одна: сил у меня мало, да и трудно мне будет за пределами монастыря, — я ведь не была в миру уже много лет. Вот мне и вспомнился этот рыжеволосый монастырский батрак, Томас Болл. Говорили мне, что он хоть и чудаковат, но человек смелый, с которым мало кто решается потягаться, и что к тому же он умеет обращаться с лошадьми и знает все дороги. Как ты думаешь, Эмлин Стоуэр, согласится этот Томас Болл стать моим спутником, с разрешения ли аббата или без него? — И она снова посмотрела прямо в глаза Эмлин.
— Может быть, очень может быть; он риска не побоится, по крайней мере таким он мне помнится с моих молодых лет, — ответила та. — Да и предки его в течение ряда поколений служили Фотрелам и Харфлитам и в мирное время и на войне, так что он, без сомнения, любит мою госпожу. Но как с ним сговориться?
— Это не трудно было бы, Эмлин. Он как раз стоит на страже за воротами. Но надо передать ему какой-нибудь условный знак.
Эмлин на миг задумалась, потом сняла с пальца сердоликовый перстень в виде сердца.
— Отдайте ему и скажите, что та, кто носила этот перстень, велит ему сопровождать ту, у кого он в руках сейчас, повсюду, до смерти, если придется. И что это нужно для спасения жизни той, что носила кольцо, и еще другой. Он — человек простой души, и, если аббат не перехватит его, я думаю, он поедет с вами.
Мать Матильда взяла кольцо и надела себе на палец. Затем она подошла к ложу Сайсели и посмотрела на нее и на мальчика, спавшего на ее груди. Протянув над ними свои тонкие руки, она призвала на них обоих благословение божие и пошла к выходу.
Но Эмлин удержала ее за платье.
— Постойте, — сказала она. — Вы думаете, я не понимаю, но ошибаетесь. Вы все отдаете ради нас. Даже если вы останетесь живой и невредимой, эта обитель, которой вы руководили столько лет, будет закрыта, овцам вашим придется разбрестись по свету и голодать на старости лет, а в загоне овечьем, что стоял четыреста лет, поселятся волки. Я очень хорошо это понимаю, и она, — тут Эмлин указала на спящую Сайсели, — тоже поймет.
— Ей ты ничего не говори, — прошептала мать Матильда, — меня может постичь неудача.
— Может, конечно, а может быть, дело и выйдет. Если будет неудача и нас сожгут, бог воздаст вам за ваши старания. Если удача и мы будем спасены, клянусь вам от ее имени, вы не пострадаете. Есть у нас припрятанное богатство; стоит оно многих обителей. Вы и ваши сестры получите свою долю, и комиссар этот не останется внакладе. Пусть он знает, что у нас имеется малая толика заплатить ему за труды и что только блосхолмский аббат может нам в этом помешать. А теперь, миледи Маргарет -кажется, так звали вас раньше и будут звать после, когда вы порвете с попами и монашками, — благословите меня тоже и знайте, что, живая или мертвая, я считаю вас человеком великой и святой души.
Настоятельница благословила ее, удалилась величавой своей походкой, и дубовая дверь сперва открылась, а потом закрылась за нею.
Через три дня аббат навестил их один, без спутников.
— Гнусные и проклятые ведьмы, — сказал он, — я пришел объявить вам, что в следующий понедельник в полдень вы будете сожжены на лужайке против ворот аббатства. И лишь благодаря милосердию церкви не предали вас пытке, чтобы обнаружить сообщников, а я полагаю, у вас их было немало.
— Покажите мне королевский указ на это убийство, — сказала Сайсели.
— Ничего я тебе не покажу, кроме костра, ведьма. Покайся, покайся, пока не поздно. Адский огонь уже ждет тебя.
— И моего ребенка тоже, милорд аббат?
— Отродье твое возьмут у тебя перед тем, как ты взойдешь на костер, и положат на землю, — он ведь окрещен и слишком юн, чтобы его сжечь. Если кто сжалится над ним — ладно, а нет — на том же самом месте его и похоронят.
— Да будет так, — ответила Сайсели. — Бог мне его дал, он пусть его и спасает. Оставь меня, убийца, наедине с ним. — Тут она повернулась и ушла.
Аббат и Эмлин остались вдвоем.
— Правда, что в понедельник нас сожгут? — спросила она.
— Можешь не сомневаться. Разве что хворост не зажжется. Однако, -медленно произнес он, — если некие драгоценности найдутся и будут вручены мне, дело, возможно, удастся передать на рассмотрение другого трибунала.
— А наши мучения только оттянутся. Боюсь, милорд аббат, что эти драгоценности так и не будут найдены.
— Что ж, тогда вы сгорите, и, может быть, на медленном огне, так как недавно прошли дожди и дрова сырые. Говорят, это ужасная смерть.
— Не сомневаюсь, что вы сами ее испытаете, Клемент Мэлдон, теперь или впоследствии. Но об этом мы поговорим, когда все кончится, — об этом и многом другом. Я имею в виду суд божий. Нет, нет, я не угрожаю, как вы, но так оно и будет. А пока у меня к вам последняя, предсмертная просьба. Я хочу повидать двух человек — настоятельницу Матильду, которой мне надо поведать одну тайну, и Томаса Болла, монастырского слугу у вас в аббатстве, с которым я некогда была помолвлена. Ради себя самого не вздумайте мне отказать.
— Я бы охотно согласился, если бы это от меня зависело, но тут я бессилен, — ответил аббат, с любопытством глядя на нее. Он подумал, что им она, возможно, сообщила бы то, что отказывается открыть ему, — место, где спрятаны драгоценности, — он уж потом заставил бы их сказать, где оно.
— Почему же, милорд аббат?
— Потому что настоятельница куда-то тайно уехала по своим делам, а Томас Болл исчез тоже неизвестно куда. Если они или кто-нибудь из них возвратится до понедельника, ты их увидишь.
— Если же они не вернутся, я увижу их впоследствии, — ответила Эмлин, пожав плечами. — Это неважно. Прощайте, милорд аббат, пока мы не встретимся у костра.
В воскресенье, то есть накануне казни, аббат явился снова.
— Три дня тому назад, — сказал он, обращаясь к ним обеим, — я предлагал вам на известных условиях возможность сохранить жизнь, но вы, упорствующие в своем злодействе ведьмы, не захотели слушать. Теперь я предлагаю вам единственное, что еще в моей власти, — не жизнь, конечно, для этого уже слишком поздно, но смерть без мучений. Если вы отдадите мне то, чего я домогаюсь, палач отправит вас на тот свет прежде, чем вас коснется пламя, — неважно, как он это сделает. Если же нет, — я уже сказал вам: прошли сильные дожди и, говорят, хворост довольно сырой.
Сайсели слегка побледнела — кто бы не побледнел даже в те жестокие времена! — а затем спросила:
— А что вам нужно такое, что мы можем вам дать? Признание своей вины, чтобы обелить вас в глазах людей? Если так, то этого вы не добьетесь, хотя бы тела наши горели понемножку, дюйм за дюймом.
— Да, я хочу этого, но ради вас самих, а не ради себя, ибо кто признает свою вину и покается, тот может получить отпущение. Однако мне и другое нужно — великолепные драгоценности, которые вы спрятали и которые можно употребить ко благу церкви.
Тогда Сайсели проявила все мужество, которое было у нее в крови.
— Никогда, никогда! — закричала она, обратив на него горящий взор. -Пытайте и убивайте меня, если хотите, но достояния моего вам не похитить. Я не знаю, где находятся эти драгоценности, но, где бы они ни были, пусть там и лежат, пока их не найдут мои наследники или пока они не рассыплются прахом.
Лицо аббата приняло злобное выражение.
— Это твое последнее слово, Сайсели Фотрел?
Она наклонила голову, он же повторил свой вопрос Эмлин, которая ответила:
— Что говорит моя госпожа, то и я скажу.
— Пусть же будет так! — вскричал он. — Наверно, вы, колдуньи, надеетесь на дьявола. Что ж, посмотрим, поможет ли он вам завтра.
— Бог нам поможет, — спокойно ответила Сайсели. — Придет время, и вы вспомните мои слова. С тем он и ушел.
12. КОСТЕР
Последняя ночь была ужасна. Пусть те, кто следил за этим рассказом, представят себе, в каком состоянии находились эти две женщины — одна из них почти девочка, — которые завтра, под глумленье и проклятия суеверной толпы, должны были безвинно претерпеть мучительную смерть, если, конечно, не считать преступлением затеи Эмлин и Томаса Болла, к которым Сайсели почти не имела отношения. Однако тысячам других, тоже ни в чем не повинным, приходилось претерпевать подобную же, а то и еще худшую участь в те времена, кое-кем именуемые «добрыми, старыми», времена рыцарей и любезных кавалеров, когда даже малых детей пытали и сжигали «святые» и «ученые» мужи, трепетавшие перед дьяволом и его деяниями: ведь считалось, что дьявола можно видеть или хотя бы ощущать его присутствие.
Жестокость их была жестокостью страха. Несомненно, что хотя аббат Мэлдон преследовал и другие священные для него цели, он верил в то, что Сайсели и Эмлин занимались мерзостным колдовством, что они общались с сатаной ради мщения ему, аббату, и потому были слишком большими злодейками, чтобы оставаться в живых. Старый епископ тоже в это верил, верили и хмурый приор и большая часть невежественных людей, что жили в округе и знали об ужасных вещах, творившихся в Блосхолме. Разве некоторые из них не видели взаправду, как злой дух с рогами, копытами и хвостом угонял монастырский скот, а другим разве не встретился призрак сэра Джона Фотрела, который, без сомнения, был также чертом, только в другом облике? О, эти женщины были виновны, несомненно виновны и заслуживали костра! Какое значение имело то, что мужа и отца одной из них убили, а другая тоже претерпела в прошлом горькие, но позабытые уже обиды? По сравнению с колдовством убийство было вещью для всех привычной, незначительным, вполне обычным преступлением, которое всегда может совершиться там, где замешаны человеческие страсти и нужды.
Ужасная это была ночь. Иногда Сайсели ненадолго засыпала, но большую часть времени она молилась. Ожесточившаяся Эмлин не спала и не молилась, лишь раз или два вознесла она мольбу о том, чтобы мщение поразило аббата, ибо вся душа ее возмущалась и гнев душил при мысли о том, что она со своей любимой госпожой должна погибнуть позорной смертью, а враг их будет жить, торжествуя, окруженный почетом. Далее ребенок, видимо, нервничал и беспокоился, словно некое неосознанное чувство предупреждало его о неминуемой ужасной беде, он не был болен, но, вопреки своему обыкновению, беспрестанно просыпался и плакал.
— Эмлин, — сказала Сайсели уже под утро, но еще до рассвета, когда наконец ей удалось успокоить ребенка и он уснул, — как ты думаешь, сможет мать Матильда помочь нами?
— Нет, нет, и не помышляй об этом, родная. Она стара и слаба, дорога трудная и длинная; ей даже, может быть, и вовсе не удалось добраться до места. Наугад пустилась она в путь, и даже если и попала куда нужно, то, может быть, этот самый комиссар уже уехал, или не пожелал ее выслушать, или, возможно, почему-либо не в состоянии приехать сюда. Чего ему тревожиться о том, что каких-то двух ведьм собираются спечь за сотню миль от него? Это же пиявка, присосавшаяся к какому-нибудь жирному монастырю! Нет, нет, не рассчитывай на нее!
— Во всяком случае, она смелая и верная, Эмлин, и сделала все, что могла. Да будет над нею всегда милость божия! Ну, а что ты скажешь насчет Томаса Болла?
— Ничего, кроме того, что он рыжий осел, который кричать умеет, а лягнуть не смеет, — со злобой ответила Эмлин. — Не говори мне о Томасе Болле. Если бы он был мужчиной, так давно уже свернул бы шею этому мерзавцу аббату, вместо того, чтобы наряжаться козлом и охотиться за его коровами.
— Если то, что говорят, правда, он же свернул шею отцу Амброзу, -слегка улыбнувшись, возразила Сайсели. — Может быть, он просто ошибся в темноте.
— Если так, то это очень похоже на Томаса Болла: он всегда хотел того, что нужно, а делал обратное. Не говори о нем больше, я не хочу встретить свой смертный час с горечью в сердце. Мы теперь погибаем из-за веселых проказ Томаса Болла. Чума на него, безмозглого труса, вот что! А ведь я еще его поцеловала!
Сайсели слегка удивилась ее последним словам, но, решив, что расспрашивать не стоит, сказала: — Нет, нет, спасибо ему говорю я — он ведь спас моего мальчика от этой гнусной ведьмы.
На некоторое время опять воцарилось молчание, ибо о бедном Томасе Болле и его поведении говорить было уже нечего. Да и не хотелось им спорить о людях, с которыми им уже никогда не придется увидеться. Под конец Сайсели опять заговорила в темноте:
— Эмлин, я постараюсь быть мужественной. Но помнишь, как-то ребенком я хотела стащить только что сваренные и еще не застывшие леденцы и обожглась. Как мне было больно! Я буду стараться принять эту смерть так, как приняли бы ее мои предки, но, если не устою, ты не подумай обо мне плохо: дух ведь может быть силен, даже когда плоть слаба.
Эмлин молча скрипнула зубами, а Сайсели продолжала:
— Но это не самое худшее, Эмлин. Несколько мучительных минут — и все пройдет, и я усну, чтобы, надеюсь, проснуться в ином мире. Но вот если Кристофер действительно жив, как он будет страдать, когда узнает…
— Молю бога, чтоб он был жив, — перебила ее Эмлин, — ибо тогда уж наверно одним испанским попом станет меньше на земле и больше в аду.
— А ребенок, Эмлин, ребенок! — продолжала Сайсели дрожащим голосом, не обращая внимания на то, что Эмлин прервала ее. — Что будет с моим сыном? Он унаследовал бы все наше родовое достояние, если бы за ним сохранились его права, но кто за него заступится? Они и его убьют, Эмлин, или сделают все, чтобы он погиб, а это одно и то же: ведь иначе им не завладеть землями и имуществом.
— Если так, то все его страдания окончатся, и с тобою в небесах ему будет лучше, — вздохнув, сухо произнесла Эмлин. — Мне ничего больше не нужно: только чтобы ты с мальчиком попала в рай, где все святые и блаженные, а мы с аббатом в ад — там-то, среди чертей, мы и сведем счеты. Да, да, я кощунствую, но несправедливость доводит меня до безумия. Тяжко лежит она у меня на сердце, и тяжесть эту я сбрасываю, говоря горькие слова, но тяжело мне не за себя, а за тебя и за него. Родная моя, ты добрая, милая, господь услышит таких, как ты. Призови же бога, а если он не станет внимать, послушай, что скажу тебе я. У меня есть один способ легкой смерти. Не спрашивай какой, но если в последнюю минуту я нанесу тебе удар, не осуждай меня ни здесь, ни на том свете, ибо то будет удар, нанесенный любящей рукой, оказывающей тебе последнюю услугу.
Казалось, Сайсели не уразумела этих горьких слов, во всяком случае, она не обратила на них внимания.
— Я опять помолюсь, — прошептала она, — хотя боюсь, что врата неба закрыты для меня: ни луча света я не вижу. — И она опустилась на колени. Долго она молилась, но под конец усталость взяла свое, и Эмлин услышала, что она дышит ровно, как спящая.
«Пусть себе спит, — подумала она. — О, если бы у меня не оставалось сомнений, она бы не проснулась на рассвете! Я почти готова это сделать, но — что поделаешь? — нет у меня полной уверенности. Я бы отдала драгоценности, но какой смысл отдавать? Эти люди все равно убили бы ее, иначе им не завладеть имуществом. Нет, сердце мое велит мне ждать». Сайсели проснулась.
— Эмлин, — произнесла она тихим, дрожащим голосом, — слышишь меня, Эмлин? Мне снился сон.
Сна замолкла.
— Ладно, ладно, что же тебе снилось?
— Сама не знаю, Эмлин, — смущенно ответила она, — все сразу исчезло. Но ты не бойся, Эмлин; с нами все будет хорошо, и не только с нами, но также и с Кристофером и с ребенком. Да, да, и с Кристофером и с ребенком. — Тут она уронила голову на свое ложе и залилась счастливыми слезами. Потом опять поднялась, взяла на руки мальчика, поцеловала его, улеглась и спокойно
уснула.
Тотчас же после этого наступил рассвет, ясное утро, и Эмлин протянул руки навстречу солнцу, полная восторга и благодарности. Ужас исчез из ее сердца так же, как рассеялся ночной мрак. Она тоже поверила, что сам бог внушил надежду Сайсели, и на некоторое время душа ее обрела покой.
Когда около восьми часов утра дверь открылась, чтобы впустить монахиню, принесшую им поесть, та увидела зрелище, преисполнившее ее изумлением. У нее самой, бедняжки, глаза покраснели от слез, ибо, подобно всем в обители, она любила Сайсели, которую ей случалось нянчить, когда та была ребенком, а потому она вместе с другими сестрами провела бессонную ночь, молясь за нее, за Эмлин и за Бриджет — ведь и Бриджет предстояло погибнуть на костре. Она ожидала, что увидит несчастных жертв лежащими на полу и, может быть, потерявшими сознание от страха, а что же было на самом деле? Они сидели у окна, одетые в лучшие свои одежды, и спокойно разговаривали. Право же, когда она вошла в комнату, одна из них — это была Сайсели — даже слегка рассмеялась в ответ на что-то, сказанное другой.
— Доброе утро, сестра Мэри, — произнесла Сайсели. — Скажите мне, вернулась ли настоятельница?
— Нет, нет, и мы не знаем, где она. От нее не было ни одной весточки! Что ж, ей, по крайней мере, не придется увидеть этого ужасного зрелища. Вы хотите что-нибудь передать? Если да, то говорите скорей, пока стража меня не отозвала.
— Спасибо, — сказала Сайсели, — но я думаю, что сама передам ей все, что мне нужно.
— Что? Значит, по-вашему, матушки нашей нет в живых? Неужто нас постигнет еще и это горе? О, кто мог сообщить вам такую печальную новость? — Нет, сестра, я думаю, что она жива и что я, тоже еще живая, сама буду с ней говорить.
Сестра Мэри была, видимо, крайне удивлена. Каким образом, спрашивала она себя, заключенные, которых так строго охраняли, могли знать что-либо подобное? Оглядевшись, чтобы убедиться, что никто ее не видит, она сунула в руку Сайсели два каких-то пакетика.
— Храните это на себе до конца вы обе, — шепнула она. — Что бы они там ни говорили, но мы считаем вас ни в чем не повинными и не побоялись совершить ради вас великий грех. Да, мы открыли ковчежец с реликвиями и извлекли оттуда наше самое драгоценное сокровище — кусочек веревки, которой святая Екатерина была привязана к колесу. Мы разделили ее на три части — по одной прядке на каждую из вас. Если вы и вправду не виновны, он, может быть, совершит чудо: или огонь не загорится, или дождь погасит его, или аббат смягчится и пощадит вас…
— Вот уж это будет величайшее чудо, — перебила ее Эмлин с мрачной усмешкой. — Впрочем, мы вам от всего сердца благодарны и сохраним реликвии, если их у нас не отнимут. Но — слышите? — вас зовут обратно. Прощайте, и да благословит вас небо, добрые души.
Снова раздался громкий голос стражника. Сестра Мэри повернулась и убежала прочь, недоумевая: а может быть, обе эти женщины все-таки ведьмы? Иначе как они могли сохранить столько мужества, вести себя так не похоже на бедняжку Бриджет, которая плакала и стонала в своей келье внизу? Сайсели и Эмлин поели довольно охотно, зная, что в этот день им понадобятся все их силы, и, кончив еду, снова сели у окна, из которого могли видеть, как сотни людей на лошадях и пешком спускались с холма по дороге, ведшей к лужайке против ворот аббатства, хотя сама лужайка скрыта была за деревьями.
— Слушай, — сказала Эмлин. — Тяжело мне это говорить, но очень возможно, что ты видела всего только приятный сон и что, если это так, нас через несколько часов уже не будет в живых. А ведь мне известно, где спрятаны драгоценности, и без меня их никто никогда не найдет. Сообщить мне эту тайну какому-нибудь верному человеку, если представится возможность? Найдется ведь добрая душа — может быть, из числа монашек, которая позаботится о твоем мальчике; ему же драгоценности в будущем очень пригодились бы.
Сайсели немного подумала, потом ответила так:
— Нет, не надо, Эмлин. Я верю, что господь послал во сне своего ангела. А сделать, как ты говоришь, означало бы испытывать его, показать наше маловерие. Пусть тайна эта останется там, где она находится, — у тебя в сердце.
— Велика же твоя вера, — сказала Эмлин, с восхищением глядя на нее. -Ладно, пусть и меня она либо спасет, либо погубит. У тебя ее хватит на двоих.
Монастырский колокол пробил десять, и снизу до них донесся шум шагов и голоса.
— За нами идут, — сказала Эмлин. — Сожжение назначили на одиннадцать, чтобы после этого зрелища народ мог спокойно разойтись на обед. Ну, призови на помощь эту свою великую веру и храни ее крепко ради нас обеих, ибо моя что-то очень слабеет.
Дверь открылась, вошли монахи и вооруженная стража. Командир ее велел им встать и следовать за ними. Они молча повиновались. Сайсели накинула себе на плечи плащ.
— Тебе и без этого будет жарко, ведьма, — сказал этот человек с гнусной усмешкой.
— Сэр, — ответила она, — плащ мне понадобится, чтобы завернуть в него ребенка, когда мы с ним расстанемся. Передай мне мальчика, Эмлин. Вот теперь мы готовы. Нет, незачем нас вести. Убежать мы не можем и не станем усложнять вам дело.
— Бог свидетель, она храбрая девка! — пробормотал офицер своим товарищам, но один из монахов покачал головой и ответил:
— Колдовство! Скоро сатана оставит их на произвол судьбы.
Прошло еще несколько минут, и впервые за столько месяцев они вышли за ворота обители. Здесь их поджидала третья жертва, несчастная, старая, полубезумная Бриджет, завернутая в какую-то простыню, ибо монашеская одежда была с нее сорвана. Глаза у нее дико блуждали, седые пряди волос свисали по плечам; она трясла своей старой головой и с криком молила о пощаде. При виде ее Сайсели вздрогнула, ибо зрелище и впрямь было ужасное. — Успокойся, добрая моя Бриджет, — сказала она, когда они шли мимо нее, — ты же невиновна. Что тебе бояться?
— Огня, огня! — закричала несчастная старуха. — Я боюсь огня.
Потом им пришлось занять предназначенные для них в этом шествии места, и некоторое время они не видели Бриджет, хотя и не могли не слышать позади себя ее громких жалоб.
Процессия была длинная. Впереди шли монахи и певчие, затянувшие унылую похоронную песнь на латинском языке. За ними под конвоем двенадцати вооруженных стражников — жертвы, потом монахини, которых заставили присутствовать, а позади и вокруг шествия двигался народ, бесчисленная толпа людей, хотя многие из них жили миль за двадцать отсюда. Перешли через пешеходный мост, у которого находился постоялый двор, тот, что Камбала должна была получить за убийство ребенка.
Поднялись на косогор по дороге, грязной от осенних дождей, через рощу, куда открывался потайной ход Томаса Болла, и наконец добрались до лужайки перед высоким порталом аббатства.
Здесь их ожидало ужасное зрелище. В землю вбиты были три только что срубленных дубовых столба толщиной в четырнадцать дюймов, высотой побольше шести футов, таких, что уж наверное не сразу сгорят, а вокруг каждого из них уложены были одна на другую большие связки хвороста, с проходом между ними. Со столбов свисали новые тележные цепи, а поблизости стояли деревенский кузнец и его подмастерье с переносной наковальней и молотом для холодной заклепки этих цепей.
На некотором расстоянии от столбов шествие остановилось. Из ворот аббатства вышел настоятель в облачении и митре, впереди него церковные служки, а позади монахи. Он приблизился к месту, где стояли осужденные, и остановился. Один из монахов вышел вперед и прочел им приговор, которого они так и не поняли, ибо состоял он из латинских фраз и сложных юридических терминов. Затем аббат громким голосом призвал осужденных ради спасения их грешных душ признать свою вину и тем самым заслужить отпущение, прежде чем плоть их пострадает за гнусное преступление -колдовство.
В ответ на это Сайсели и Эмлин только покачали головой, заявляя, что в колдовстве они не повинны и потому каяться им не в чем. Но старая Бриджет дала другой ответ. Громким жалобным голосом объявила она, что она — ведьма, так же как до нее ведьмами были и мать ее и бабка. И собравшаяся толпа с увлечением выслушала рассказ о том, как Эмлин Стоуэр представила ее черту — он был в красных штанах, горбатый, лицом чернявый, с пучком рыжих волос под носом, — а также множество самых невероятных подробностей ее встреч с означенным врагом рода человеческого.
Когда ее спросили, что ей говорил черт, она ответила, что он велел ей околдовать блосхолмского аббата, так как тот был весьма святой человек, очень нужный богу, и делал на земле слишком много добра, а также препятствовал Эмлин Стоуэр и Сайсели Фотрел творить его, дьявола, волю, но дал им возможность сохранить в живых ребенка, которому предстоит сделаться страшным колдуном. Он сказал ей, кроме того, что бабка Меггс была ангелом (тут в толпе раздался смех), посланным убить означенного ребенка, который был на самом деле его, дьявола, сыном, о чем свидетельствуют черные брови, раздвоенный язык ребенка и соединенные перепонкой пальцы ног. Он также пообещал явиться в образе сэра Джона Фотрела, чтобы спасти ребенка и передать его ей, что он и сделал, прочитав наоборот «Отче наш» и велев ей воспитать ребенка «верным пятиугольнику».
Так бредила несчастная, обезумевшая старуха, а писец тем временем записывал фразу за фразой всю эту чепуху; под конец ей велели поставить под протоколом отпечаток своего пальца, и все это заняло очень много времени. Затем она попросила, чтобы ей даровали прощение и не сжигали, но получила ответ, что это невозможно. Тогда она пришла в ярость и спросила, зачем же ее вынудили нагородить столько лжи, раз все равно сожгут. Услышав этот вопрос, толпа разразилась хохотом, а священник, уже готовый дать Бриджет отпущение, передумал и велел приковать ее к столбу, что кузнец и сделал с помощью своего подмастерья и переносной наковальни.
Тем не менее ее «исповедь» торжественно прочитали Сайсели и Эмлин, после чего их спросили, упорствуют ли они в отрицании своей вины даже теперь, после того как все это выслушали. Вместо ответа Сайсели откинула капюшон с лица своего мальчика и показала, что брови у него вовсе не черные, а золотистые. Она также открыла его ножки, просунула мизинец ему между пальчиками и спросила, есть ли здесь перепонка. Кто-то ответил «нет», но один монах заорал: «Что из того? Сатана может сделать перепонку и снять ее!» Затем он вырвал ребенка из рук Сайсели, положил его на дубовый пенек, принесенный сюда именно для этого, и закричал:
— Пусть ребенок живет или умрет, как богу будет угодно.
Какой-то негодяй, стоявший тут же, ударил мальчика палкой, завопив: «Смерть ведьмину отродью!» Но высокого роста человек, в котором Сайсели узнала одного из арендаторов сэра Джона, подхватил оброненную палку и нанес негодяю такой удар, что тот камнем упал на землю, а потом всю жизнь ходил без одного глаза и с перебитым носом.
С этого момента уже никто не пытался повредить ребенку, который, как известно, по причине всего случившегося с ним в этот день, впоследствии носил прозвище Кристофер Дубовый Пенек.
Люди аббата подошли, чтобы привязать Сайсели к ее столбу, но, прежде чем они прикоснулись к ней, она сняла с себя плащ на шерстяной подкладке, бросила его йомену, который ударил того парня его же палкой, и сказала:
— Друг, заверни в это моего мальчика и побереги его, пока я не возьму его у тебя.
— Хорошо, леди, — ответил высокий человек, преклонив колено, — я служил твоему деду и отцу, послужу теперь сыну. — И, отбросив палку, он вынул из ножен меч и стал перед дубовым пеньком, на котором лежал ребенок. Никто и не попытался помешать ему, ибо все видели, что другие такие же люди собираются вокруг него.
Теперь кузнец принялся, хотя и довольно медленно, приковывать Сайсели цепью к столбу.
— Слушай, — сказала она ему, — немало лошадей подковал ты у моего отца. Кто бы мог подумать, что ты доживешь до того дня, когда свое честное ремесло обратишь против его дочери!
Услышав эти слова, тот заплакал, отшвырнул свои инструменты и побежал прочь, проклиная аббата. Подмастерье намеревался сделать то же самое, но его поймали и заставили довершить начатое. Потом приковали и Эмлин, так что, в конце концов, все уже было готово для ужасной развязки.
Главный палач — то был повар аббата — положил для растопки несколько сосновых щепок на стоявшую тут же жаровню и, ожидая последнего приказания, громко сказал своему помощнику, что ветер поднялся свежий и колдуньи живо сгорят.
Зрителям велели отойти подальше, и в конце концов они отошли, но многие из них при этом угрюмо перешептывались. Ибо здесь монахам нельзя было собрать только нужных людей, как во время суда, и аббат с тревогой подметил, что среди них его жертвы имеют немало друзей.
«Пора кончать, — подумал он, — пока сочувствие и жалость еще только в зародыше, пока они не превратились в буйный мятеж». И вот он быстро подошел к столбам, встал прямо против Эмлин и, понизив голос, спросил ее, отказывается ли она, как прежде, открыть ему, где спрятаны драгоценности; сейчас он еще может приказать, чтобы их умертвили легким способом, не предавая живыми огню.
— Пусть решает хозяйка, а не слуга, — твердо ответила Эмлин.
Он повернулся к Сайсели и задал ей тот же вопрос, но она промолвила: — Я уже сказала вам: никогда. Прочь от меня, злодей, ступайте, покайтесь в грехах своих, покуда еще не поздно.
Аббат изумленно взглянул на нее, сознавая, что в таком постоянстве и мужестве есть нечто почти сверхчеловеческое. Он был человек острого ума, наделенный сильным воображением, и мог представить себе, как он сам повел бы себя, находясь в подобном же положении. И хотя он торопился поскорее покончить с этим делом, им овладело величайшее любопытство — откуда у нее берутся такие силы, — и он даже теперь попытался его утолить.
— Обезумела ты, Сайсели Фотрел, или тебя опоили? — спросил он. -Разве тебе не известно, что ты почувствуешь, когда огонь начнет пожирать твое нежное тело?
— Не известно и никогда не будет известно, — спокойно ответила она.
— Ты что, по обещанию сатаны, твоего владыки, умрешь до того, как огонь коснется тебя?
— Да, я верю, что умру до того, как меня коснется огонь, но не здесь и не теперь.
Аббат рассмеялся резким, нервным смехом и громко обратился ко всем собравшимся:
— Эта ведьма говорит, что не будет сожжена, ибо такова воля неба. Правда, ведьма?
— Да, я так сказала. Будьте свидетелями моих слов, добрые люди, -ответила Сайсели ясным голосом.
— Хорошо, посмотрим! — крикнул аббат. — Эй ты, поджигай, и пусть небо или преисподняя спасут ее, если смогут!
Повар-палач подул на свою растопку, но либо он нервничал, либо не наловчился, только прошла минута, а то и больше, пока щепки вспыхнули. Наконец одна разгорелась, и он довольно неохотно наклонился, чтобы взять ее.
И вот тогда, посреди глубокой тишины, ибо весь собравшийся народ, казалось, затаил дыхание, а старуха Бриджет замолкла, лишившись чувств, за склоном холма послышался чей-то громовой голос:
«Именем короля, остановитесь! Именем короля, остановитесь!”
Все повернулись в ту сторону, и между деревьями показалась белая лошадь: с боков ее, израненных шпорами, струилась кровь, она уже не мчалась галопом, а тащилась, шатаясь от изнеможения, и сидел на ней богатырского вида человек с рыжей бородой. Одет он был в кольчугу и держал в руке топор лесоруба.
— Поджигай хворост! — закричал аббат, но повар, не отличавшийся храбростью, уронил горящие щепки, которые и затухли на мокрой земле. Теперь лошадь прорвалась сквозь собравшуюся толпу, подминая под себя людей. Длинными судорожными прыжками достигла она кольца, образовавшегося вокруг столбов, и в то мгновение, когда всадник соскакивал с нее, упала на землю, да так и осталась лежать, тяжело дыша, — силы оставили ее.
— Это же Томас Болл! — крикнул кто-то, а аббат продолжал взывать:
— Поджигайте хворост! Поджигайте хворост!
Один из стражников бросился вперед, чтобы снова запалить растопку. Но Томас поспел раньше. Схватив за ножки жаровню, он с такой силой ударил ею стражника, что на того посыпались горячие уголья, а железная клетка жаровни плотно села ему на голову. Томас же крикнул:
— Ты потянулся к огню — ну и получай!
Стражник покатился по земле и вопил от ужаса и боли до тех пор, пока кто-то не сорвал у него с головы раскаленную жаровню. Лицо его оказалось все в полосах, как жареная селедка. Но никто уже не обращал на него внимания, ибо теперь Томас Болл стоял перед столбами, размахивая своим топором и повторяя:
— Именем короля, остановитесь! Именем короля, остановитесь!
— Что это значит, негодяй?
— А то, что я сказал, поп. Ни шагу дальше, не то я раскрою тебе башку.
Аббат откинулся назад, а Томас продолжал:
— Фотрел! Фотрел! Харфлит! Харфлит! Вы все, кто ели их хлеб, живей сюда, разбросайте хворост, спасайте их кровь и плоть. Кто поднимется вместе со мной против Мэлдона и его палачей?
— Я! — ответили ему из толпы. — И я, и я!
— И я тоже! — закричал йомен, стоявший у дубового пенька. — Только я стерегу ребенка. Ну ладно, я заберу его с собой! — и, схватив под мышку кричащего младенца, он побежал к Томасу.
Другие тоже бросились вперед, разбрасывая во все стороны хворост.
— Разбивайте цепи! — снова загремел Болл, и в конце концов сильным мужским рукам удалось это сделать.
Единственные повреждения, которые в этот день оказались у Сайсели, были ссадины, полученные ею, когда рубили цепи. Теперь обе женщины были свободны. Сайсели вырвала ребенка из рук у йомена, который был очень рад, что избавился от него: сейчас предстояла другая работа, ибо стражники аббата уже бросились на них.
— Окружайте женщин, — гремел Болл, — и бей без промаха за Фотрелов, бей без промаха за Харфлитов! Ах ты, поповская собака, вот тебе, именем короля! — И топор его по рукоятку вошел в грудь командира — того самого, который сказал Сайсели, что ей и без плаща будет жарко.
Тут закипел жаркий бой. Сторонники Фотрелов — их было человек двадцать — обступили три дубовых столба кольцом, внутри которого стояли Сайсели, Эмлин и старуха Бриджет, все еще прикованная к своему столбу, так как никто не подумал — да и времени не было — освободить ее. На них напали стражники аббата — свыше тридцати человек, — которых подстегивал сам Мэлдон, взбешенный тем, что жертвы от него ускользнули, больше же всего боявшийся, чтобы слова Сайсели не оправдались и она оказалась бы уже не ведьмой, а пророчицей, вдохновленной свыше.
Трижды отступали нападавшие, но и треть оборонявшихся выбыла из строя, и теперь аббат придумал новый способ покончить с ними.
— Принесите луки, — крикнул он, — и перестреляйте их, луков у них нет!
И стражники побежали за оружием.
Теперь оборонявшимся пришла на помощь сообразительность Эмлин. Болл уже покачал своей рыжей головой и пробормотал, что похоже, будто им всем приходит конец, ибо против стрел ничего не поделаешь, но она ответила:
— А если так, зачем же стоять и ждать, пока нас не раздавят, дурень ты этакий? Надо прорваться, пока стрелы еще не посыпались, и укрыться за деревьями либо в обители.
— Женщина иногда может неплохо придумать, — сказал Болл. — Стройся, фотрелцы, и марш вперед.
— Нет, — вмешалась Сайсели, — сперва освободите Бриджет, а то они, чего доброго, все-таки сожгут ее. Иначе я не пойду.
Бриджет расковали и вместе с несколькими ранеными, поддерживая, потащили прочь оттуда. Началось отступление с боем, довольно, впрочем, успешное. И все же под конец бойцы не смогли бы устоять, так как женщины и раненые задерживали их, но, к счастью, подоспела помощь.
Когда они отходили к роще, теснимые с двух сторон разъяренными стражниками аббата, среди которых было много французов и испанцев, внезапно из-под склона холма, где проходила дорога, показалась мчавшаяся галопом лошадь, на которой сидела верхом женщина, вцепившись обеими руками в гриву, а позади этой всадницы — множество вооруженных людей.
— Смотри, Эмлин, смотри! — вскричала Сайсели. — Кто это? — Она не верила своим глазам.
— Да это же мать Матильда, — ответила Эмлин. — И, клянусь всеми святыми, странный у нее вид!
Вид и вправду был необычный, ибо монашеского покрывала на ней не было, волосы, всегда так заботливо уложенные, разлетались во все стороны, юбка поднялась и спуталась у колен, четки и крест, которые она носила на груди, болтались теперь сзади и били ее по спине, а платье было спереди разорвано. Словом, почтенная пожилая настоятельница никогда еще не появлялась в подобном виде. Она налетела на них, как вихрь, ибо ее испуганная лошадь уже почуяла блосхолмское стойло и, мрачно косясь на своего необычного всадника, ржала вовсю.
— Во имя божие, остановите эту ошалелую скотину!
Болл схватил лошадь под уздцы и так резко осадил ее, что всадница, не удержавшись, перелетела через ее голову и попала прямо в объятия того йомена, который стерег ребенка, и блаженно замерла у него на груди. Впоследствии мать Матильда с обычной своей милой улыбкой говорила, что раньше она и не знала, как приятна может быть близость мужчины.
Когда она наконец сняла руки с его шеи, йомен поставил ее на ноги, заявив, что это потруднее, чем держать под мышкой ребенка. Блуждающий взгляд настоятельницы упал на Сайсели.
— Итак, я поспела вовремя! Ну, никогда и слова теперь не скажу против этой лошади! — вскричала она и, тут же упав на колени, пробормотала благодарственную молитву.
Тем временем следовавшие за нею всадники осадили своих коней и задержались, а стражники аббата и сопровождавшая их толпа тоже остановились, не зная, как поведут себя эти чужие воины, так что Болл и его отряд вместе с женщинами оказались между ними.
Среди вновь прибывших был один толстый неуклюжий человек весьма спесивого вида, видимо привыкший ко всеобщему повиновению. Он выехал вперед и прерывающимся голосом — ибо он задыхался от быстрой езды -спросил, что означает весь этот беспорядок.
— Спросите у блосхолмского настоятеля, — ответил ему кто-то, — это все он натворил.
— Блосхолмский настоятель? Он-то мне и нужен, — надуваясь от важности, произнес толстяк. — Подойдите-ка сюда, настоятель Блосхолмского аббатства, и отдайте отчет во всем, что здесь происходит. А вы, ребята, -обратился он к своей охране, — постройтесь и будьте наготове на случай, если этот священник попытается сопротивляться.
Аббат в сопровождении нескольких монахов тоже выступил вперед и, смерив всадника взглядом, спросил:
— А кто это так грубо требует отчета от рукоположенного настоятеля?
— Рукоположенный настоятель? Рукоположенный павлин, беспокойный, мятежный, предатель-поп, чванливый испанский бродяга, который, говорят, набрал себе шайку наемных головорезов, чтобы нарушать спокойствие в королевстве и убивать добропорядочных англичан. Ладно, рукоположенный аббат, я скажу тебе, кто я такой. Я Томас Ли, посланец его милостивого величества и королевский комиссар, которому поручено обследовать так называемые духовные обители, и прибыл я сюда потому, что присутствующая здесь настоятельница Блосхолмского женского монастыря жаловалась мне на то, как поступаешь ты с некоторыми подданными его величества, коих, заявила она, ты из личной мести и ради присвоения их имущества обвинил в колдовстве. Вот кто я такой, мой преподобный расфуфыренный павлин-аббат. Едва Мэлдон дослушал до конца эту напыщенную речь, как ярость на его лице сменилась страхом. Он уже знал, что представляет собой этот доктор Ли и какая миссия на него возложена, и понял теперь, что означал крик Томаса Болла: «Именем короля!”
13. ПОСЛАНЕЦ
— Кто тут поднял всю эту суматоху? — заорал комиссар. — Почему здесь кровь, раненые и убитые люди? И что вы намеревались сделать с этими женщинами, из коих одна, по всей видимости, не низкого звания? — И он уставился на Сайсели.
— Суматоху поднял вон тот болван, Томас Болл, батрак моего монастыря; он ворвался к нам вооруженный, с криком: «Именем короля, остановитесь!”
— Почему же вы не остановились, сэр аббат? Разве с именем короля шутят? Знайте, что я послал этого человека.
— У него не было никакой грамоты, сэр комиссар, разве что его бычий голос и большой топор заменяли грамоту; я же не остановился, так как мы вершили суд и расправу над тремя зловреднейшими ведьмами.
— Вершили суд и расправу? Что за суд и чей? А у вас-то имеется грамота, разрешающая вам приводить в исполнение приговоры?
[132] Если есть, предъявите мне ее.
— Ведьмы эти осуждены были духовным трибуналом, членами которого являлись епископ, приор и я, и во исполнение нашего приговора они должны были на костре искупить свой грех, — ответил Мэлдон.
— «Духовный трибунал»! — загремел доктор Ли. — А разве духовные трибуналы имеют право поджаривать до смерти свободных людей Англии? Если не желаете идти под суд за покушение на убийство, предъявите мне грамоту, подписанную его милостивым величеством королем или членами его королевского суда. Что? Вы не отвечаете? У вас никакой грамоты нет. Я так и думал. Ого, Клемент Мэлдон, испанская собака, висельник, знайте, что за вами давно уже наблюдают, а теперь вы еще, по всей видимости, присваиваете себе королевские полномочия. — Тут он на миг остановился, затем продолжал: — Задержать это духовное лицо и зорко стеречь его, пока я не разберусь в этом деле.
Солдаты из охраны комиссара окружили Мэлдона, его же люди не осмелились помешать им: сражаться они больше не хотели, а разговор о королевской грамоте внушил им страх.
Затем комиссар обратился к Сайсели:
— Вы единственная дочь сэра Джона Фотрела, не правда ли, и утверждаете, что являетесь супругой сэра Кристофера Харфлита? Так, по крайней мере, показала присутствующая здесь настоятельница. Что тут с вами происходило и почему?
— Сэр, — ответила Сайсели, — я и моя служанка, а также старая монахиня Бриджет были обвинены в колдовстве и приговорены к сожжению вон у тех столбов. Правда, — добавила она, — я-то верила, что мы не погибнем.
— А почему вы верили, леди? Похоже, что пламя едва не добралось до ваших тел, — сказал он, взглянув на столбы и разбросанные связки хвороста. — Сэр, я верила, потому что господь бог послал мне во сне видение.
— Да, стоя у столба, она клялась, что это правда! — вскричал чей-то голос. — А мы-то думали, сошла с ума.
— Станете ли вы теперь отрицать, что она ведьма? — вмешался Мэлдон. -Если бы она не была из числа слуг сатаны, то могла ли пророчествовать о своем освобождении?
— Ну, если видения и пророчества — доказательства колдовства, тогда, поп, все святое писание просто ведьмин котел, — ответил Ли. — Тогда и блаженная дева Мария и святая Елизавета были ведьмы, а апостолов Петра и Иоанна тоже следовало сжечь. Продолжайте, леди, только свои сновидения вы оставьте до более подходящего времени.
— Сэр, — продолжала Сайсели, — мы и не думали заниматься колдовством, и все мое преступление состоит в том, что я не соглашаюсь признать своего сына незаконнорожденным и передать право на мои земли и имущество этому вот аббату, убийце моего отца, а возможно, и мужа. О, выслушайте, выслушайте меня вы и весь собравшийся здесь народ, и я постараюсь как можно короче поведать вам мою историю. Разрешаете вы мне говорить? Комиссар кивнул головой, и она стала рассказывать все с самого начала так коротко, так просто, так правдиво и серьезно, что весь народ обступил ее тесным кольцом, стараясь не упустить ни слова, и даже жесткое лицо доктора Ли смягчилось, когда он слушал. Около получаса или немного больше рассказывала она о смерти отца, о своем бегстве и замужестве, о сожжении Крануэл Тауэрс, о том, как она овдовела, если действительно муж ее погиб. О том, как ее заточили в обители и как поступил аббат с нею и Эмлин; о рождении ее ребенка и попытке повивальной бабки, нанятой аббатом, умертвить мальчика. О том, как их судили и приговорили к смерти, хотя они ни в чем не повинны и обо всем, что они претерпели в этот день.
— Если вы невиновны, — крикнул один из монахов, когда она остановилась, чтобы передохнуть, — что же это за существо в образе черта натворило бед тут в Блосхолме? Разве мы не видели все это собственными глазами?
И тут кто-то громко вскрикнул и указал на деревья: в их тени двигалось какое-то странное существо, а спустя мгновение оно вышло на свет. Еще раз толпа рассыпалась во все стороны — кто туда, кто сюда, -даже лошади закусили удила и помчались прочь. Ибо к ним направлялся сам сатана, которого теперь все могли хорошо видеть. На голове у него торчали рога, сзади болтался хвост, тело было покрыто шерстью, как у зверей, лицо страшное и пестро размалеванное, а в руке он держал острые вилы на длинной рукояти. Люди, очертя голову, пустились наутек; только комиссар, спешившись, стоял неподвижно, может быть просто потому, что оцепенел от страха, а подле него обе женщины и кое-кто из монахинь, в том числе настоятельница, которая упала на колени и принялась бормотать молитвы. Страшное существо продолжало идти прямо к ним, пока не дошло до королевского посланца. Тут оно отвесило ему поклон, издало бычье мычанье, затем принялось спокойно развязывать какие-то завязки — и, наконец, ужасное одеяние спало с него, и перед всеми предстал Томас Болл.
— Что означает этот маскарад, мошенник? — прохрипел доктор Ли.
— Вы говорите — маскарад, сэр? — усмехнувшись, ответил Томас. — Если так, то, значит, из-за таких маскарадов попы жгут на кострах женщин в нашей веселой Англии. Сюда, люди добрые, сюда! — загремел он во весь голос. — Поглядите-ка на сатану во плоти. Вот его рога. — И он поднял их так, чтобы все видели. — Когда-то они красовались на голове у козла вдовы Джонсон. Вот хвост; немало мух согнал он с живота одной монастырской коровы; вот страшная харя, я ее смастерил, размалевав красками кусок пергамента. Вот грозные вилы, которыми окаянных грешников загоняют туда, где пожарче; сколько угрей поймал я этим трезубцем там, в заводи! Имеется у меня в мешке и еще одна штучка — адское пламя; лучше всего оно получается из серы, смешанной с маслом, подсохшим на очаге. Живо сюда, задарма поглядите на черта в полном параде!
Толпа начала возвращаться, сперва с опаской, потом люди стали брать у него из рук вещи, которые он им протягивал, ощупывали их, пока, наконец, сперва один, другой, а затем уже все не расхохотались.
— Нечего ржать! — заорал Болл. — Что тут смешного, когда благородные леди да и другие, чья жизнь кое-кому дорога, — и он взглянул на Эмлин, -едва не изжарились, как сельди, только потому, что одному бедняге пришло в голову повалять дурака и нарядиться в шкуру, чтобы не замерзнуть, да вдобавок нагнать страху на злодеев. Слушайте вы все: это я морочил людям голову. Это я вельзевул
[133] да заодно и призрак сэра Джона Фотрела. Я зашел в часовню обители через известный мне потайной ход, спас вот этого младенца от гибели и так напугал убийцу, что она угодила прямо в ад; да, да, ряженый черт отправил ее к настоящему. Зачем я все это сделал? Чтобы защитить невинных и покарать злодея во всей его гордыне. Но злодей схватил невинных, а те не сказали ни слова, чтобы я не пострадал вместе с ними, и…
Ну, бог мой, остальное все знают! Еще немного, совсем немного, и дело бы плохо кончилось. Но я вовсе не такой дурень, каким притворялся много лет. К тому же у меня был добрый конь и тяжелый топор, а тут, в блосхолмской округе еще немало верных сердец; и вот вам доказательство: славные парни, что сейчас полегли мертвыми. И по земле ходят ангелы, хоть, правда, с виду они на ангелов не похожи. Вот один из них, а вот и другой. — Тут он указал пальцем сперва на толстого, напыщенного комиссара, а затем на растрепанную настоятельницу и добавил: -А теперь, сэр комиссар, за все, что я совершил во имя справедливости, прошу прощения у вас, ибо как на мне красовались чертовы рога и копыта, так вы ныне облачены величием и милосердием самого короля. Иначе аббат и его наемные палачи, которые считают себя господами и над королем и над народом, прикончат меня за все это, как прикончили немало людей и получше. Потому простите меня, ваше всемогущество, простите! — И он бросился перед ним на колени.
— Прощаю тебя, Болл, именем короля прощаю, — ответил Ли: титулы и звания, которые так щедро расточал ему хитрый Томас, польстили ему гораздо больше, чем можно было подумать.
— Я, комиссар его милостивого величества, объявляю, что за все сделанное тобой, а также начатое, но недоделанное ты никакому взысканию не подлежишь и против тебя не может быть возбуждено уголовное или гражданское дело, о чем мой секретарь составит тебе бумагу. Ну, славный парень, вставай, но не рядись больше в перья сатаны — не то, пожалуй, он покажет тебе и когти свои и клюв — это ведь не такая птичка, которую можно дразнить. Давайте-ка сюда этого испанца Мэлдона. Мне надо сказать ему кое-что.
Стали искать и тут и там, но аббата обнаружить не удалось. Солдаты клялись, что они не спускали с него глаз, даже когда старались улепетнуть от черта, однако он, несомненно, исчез.
— Мерзавец от нас ускользнул! — прорычал комиссар, побагровев от ярости. — Разыскать его и схватить! Мой приказ дает на это право любому. Начинайте охоту. Я иду в аббатство, — может быть, лиса укрылась в свою нору. Пять золотых крон тому, кто поймает этого лицемера и предателя. Теперь все, ревностно стараясь показать свою преданность королю и заработать кроны, разбрелись на поиски, так что три «ведьмы», Томас Болл, мать Матильда и монахини очутились почти в полном одиночестве и стояли, глядя друг на друга и на лежащих кругом убитых и раненых.
— Пойдемте в обитель, — сказала мать Матильда. — По солнцу я вижу, что наступает время вечерней молитвы, и, видимо, никто нас трогать не станет.
Томас подошел к ее лошади, которая паслась неподалеку, и подвел ее к настоятельнице.
— Ну нет, друг мой, — решительно вскричала та, — пока я жива, видеть не хочу эту зловредную скотину. Теперь я буду ходить пешком, а там пусть меня носят. Дарю тебе этого коня. Он мой, за него заплачено. Сестра, подай мне руку.
— Хорошо я поработал, Эмлин? — спросил Болл, подтягивая подпругу.
— Не знаю, — ответила она, искоса глядя на него. — Сперва ты праздновал труса, так что нас едва не сожгли за твои дела, ну, а потом, что и говорить, обрел разум. Впрочем, если верить тебе, ты его никогда не терял. Повадки твои тоже переменились, вон тот подлец капитан узнал, что ты умеешь обращаться с топором. Так что давай, парень, об этом больше не говорить; по правде сказать, аббат и его шпионы были жестокие хозяева и сломили твой дух своими епитимьями да разговорами об адских мучениях. Ладно, помоги моей госпоже сесть на лошадь, она совсем обессилела, а мне дай опереться на твое плечо. Стоять у столба нелегкое дело.
У Сайсели сохранились лишь очень туманные и путаные воспоминания о второй половине этого дня. Помнилось ей, что в церкви служили благодарственный молебен, и хотя уста ее почти не шептали молитв, сердце зато было преисполнено благодарности. Помнилось и то, что добрая сестра, которая снабдила их прядками из веревки святой Екатерины, получая обратно сохраненные заботливо реликвии, уверяла Сайсели и Эмлин, что спаслись они исключительно благодаря им. Помнилось, что она принимала какую-то пищу и давала мальчику грудь, а затем все исчезло до следующего утра, когда она проснулась и увидела, что солнце заливает ту самую комнату, из которой их вчера вывели, чтобы предать самой мучительной смерти.
Да, она проснулась и увидела, что рядом с нею Эмлин приводит в порядок ее одежду, как она делала в течение многих лет, и тут же на ярком солнце лежит ее мальчик и радостно лепечет, в блаженной своей невинности даже не ведая о миновавших ужасах. Сперва ей показалось, что она видела очень страшный сон, но постепенно вся правда дошла до ее сознания, и она невольно задрожала — да, теперь, когда вся тяжесть свалилась с ее сердца, она побледнела и задрожала, как осина на ветру.
О, если бы лошадь Томаса Болла обессилела на пять минут раньше, она, в чьих жилах сейчас так горячо билась алая кровь, была бы теперь лишь грудой обгорелых костей. А если бы вера оставила ее и она уступила аббату, так что ему не пришлось бы тратить время на уговоры у костра, Болл тоже явился бы слишком поздно.
Когда они позавтракали, их вызвали к настоятельнице, которая хотела поговорить с ними у себя в комнате. Они отправились к ней, с радостью ощущая, что их уже не держат под замком и они могут ходить куда угодно, и застали ее сидящей в высоком кресле; все тело у нее болело, и она не в состоянии была двинуться. Сайсели подбежала к ней, опустилась на колени и поцеловала ее, а настоятельница благословила молодую женщину левой рукой, так как правую стерла себе о поводья.
— А ведь, по правде говоря, Сайсели, — сказала она, улыбаясь, — это мне бы следовало стать перед тобой на колени, если бы у меня хватило сил. Теперь мне все рассказали, и, выходит, велика твоя вера.
— Да, правда, матушка, — коротко ответила Сайсели, ибо об этих вещах ей не хотелось распространяться, да и впоследствии она не любила много о них говорить, — все исполнилось благодаря вам.
— Дочь моя, я ведь оказалась только орудием; ну, да оставим пока разговоры обо всех этих святых делах. Может быть, потом ты мне о них расскажешь подробнее, а пока обратимся к делам мирским, которые не очень хороши. Твое освобождение куплено было довольно дорогой ценой, дочь моя: этот грубый и безбожный человек, королевский ревизор, сказал мне по дороге сюда, что наша обитель будет закрыта, ее земли и доходы перейдут в казну, а мне и моим сестрам придется на старости лет пропадать с голоду. По правде сказать, для того чтобы он согласился сюда приехать, я вынуждена была сама составить ходатайство об обследовании монастыря и подписать его. Теперь ты видишь, как сильно я люблю тебя, моя Сайсели.
— Матушка, — ответила она, — этого не должно, не может быть.
— Увы, дитя мое, что ты тут сделаешь? Эти ревизоры да и те, кто их посылает, жадный народ. Я слышала, что они повсюду отбирают земли и имущество у таких монахов и монахинь, как мы, и если уж очень повезет, кое-кто из монахов получит жалкое пособие на хлеб насущный. Когда-то у меня были свои средства, но они все ушли на выкуп фермы в долине, которую захватил аббат, и на то, чтобы удовлетворять его дальнейшие вымогательства.
— Послушайте, матушка. У меня есть богатство, спрятанное, я сама хорошо не знаю где, но Эмлин знает. Оно принадлежит только мне — это семейные драгоценности Карфаксов, перешедшие ко мне от матери. Из-за них-то мы и попали на костер: в обмен на сокровище аббат предлагал нам жизнь, а когда было уже слишком поздно, то более легкий конец, чем смерть от огня. Но я не позволила Эмлин раскрыть ему тайну: какое-то предчувствие было у меня, и теперь я знаю, что поступила правильно. Матушка, мы продадим эти камни и выкупим вашу землю, а может быть, и добьемся у его королевской милости разрешения не закрывать вашу обитель, так чтобы вы с прочими сестрами могли жить в ней и служить богу, как это делалось на протяжении многих поколений. Даю вам клятву от своего имени, от имени моего сына, а также и мужа, если он жив.
— Но если твой муж жив, милая моя Сайсели, ему, возможно, понадобится это богатство.
— Нет, матушка, он его не получит — разве что встанет вопрос о его жизни, свободе или чести. Да и сам он, узнав, что вы сделали для меня и нашего ребенка, с радостью отдаст вам его и все, что у него самого есть; да он будет считать это своим долгом.
— Хорошо, Сайсели, во имя божие и от своего собственного имени -благодарю тебя. Посмотрим еще, посмотрим! Только берегись, чтобы доктор Ли не узнал об этом сокровище. Но где оно спрятано, Эмлин? Не бойся открыть мне тайну; неплохо будет, если ее узнает кто-нибудь, кроме тебя, а я думаю, что опасность для вас миновала.
— Да, скажи, Эмлин, — сказала Сайсели. — Я раньше не расспрашивала тебя, опасаясь своей собственной слабости, но теперь мне любопытно. Здесь нас никто не услышит.
— Хорошо, госпожа, я тебе скажу. Помнишь, в тот день, когда сгорел Крануэл, мы искали убежища в центральной башне, откуда я унесла тебя, бесчувственную, в подземелье? Там мы пролежали всю ночь; и, когда ты была без сознания, я все время ощупывала пальцами стену, пока не обнаружила, что один камень от времени и сырости расшатался, — за ним оказалось пустое пространство. В этой дыре я и спрятала драгоценности; они лежали у меня на груди, завернутые в шелк. Потом я заполнила дыру мусором, собранным с полу, и положила на место камень, укрепив его кусками извести. Это третий камень, если считать от восточного угла, во втором ряду над полом. Туда я их положила, и там они лежат и поныне. Никто их в стене не обнаружит, разве что башню разрушат и сравняют с землей.
В это мгновение раздался стук в дверь.
Когда Эмлин открыла ее, вошла монахиня и сказала, что королевский ревизор хочет побеседовать с настоятельницей.
— Пусть он зайдет ко мне, — я ведь не могу двигаться, — сказала мать Матильда. — А вы, Сайсели и Эмлин, побудьте со мной, при таком разговоре не плохо иметь свидетелей.
Минуту спустя появился в сопровождении своих секретарей доктор Ли; он был пышно разодет и тяжело дышал, так как ему пришлось подняться по лестнице.
— К делу, к делу, — произнес он, не успев даже как следует ответить на приветствие настоятельницы. — Монастырь ваш секвестрирован по вашему собственному ходатайству, сударыня, поэтому мне незачем заниматься предварительным обследованием. Впрочем, я готов признать, что, по всем данным, слава у него неплохая: никаких скандальных историй о нем неизвестно — может быть, потому, что все вы уже вышли из возраста, когда занимаются шалостями. Предъявите-ка теперь все документы, акты на владение землей и данные по доходам от аренды, чтобы я мог принять их от вас по должной форме и объявить о закрытии обители.
— Сейчас я за ними пошлю, — смиренно ответила настоятельница, — а пока скажите же мне, что нам, бедным монахиням, теперь делать? Мне шестьдесят лет, и сорок из них я прожила в этом доме. Среди сестер тоже нет молодых, а некоторые еще старше меня. Куда нам деваться?
— Живите в миру, сударыня. Вы найдете, что там неплохо и для всех места хватает. Бросьте гнусавить молитвы, откажитесь от грубых суеверий -да, кстати, не забудьте передать нам все ценные ковчежцы для мощей и другие папистские эмблемы, отлитые из драгоценных металлов, которые у вас имеются, — и ступайте в широкий мир. Выходите замуж, если сможете найти мужей, занимайтесь полезными ремеслами. Делайте, что вам
вздумается, и благодарите короля, который освобождает вас от бремени нелепых обетов и из плена монастырских стен.
— Вы даруете нам свободу умирать с голоду. Понимаете ли вы, сэр, что делаете? Сотни лет жили мы в Блосхолме и в течение ряда поколений молились богу о душах людей и заботились о их земных нуждах. Никому мы не делали зла, а все, что получали от своей земли или от благочестивых деятелей, раздавали щедрой рукой, ничего себе не оставляя. Множество бедняков питалось у наших ворот, мы ухаживали за больными, обучали детей. Часто мы отказывали себе во всем, чтобы побольше раздавать. Теперь вы гоните нас из обители на верную гибель. Если на то воля божия, ничего не поделаешь; но что будет с бедняками Англии?
— Это, сударыня, дело Англии и ее бедняков. Теперь же, как я вам уже сказал, времени у меня мало. Я тороплюсь в Лондон доложить об этом вашем аббате: он настоящий мерзавец и я многое разузнал о его злодейских кознях. Поэтому прошу вас поскорее послать кого-нибудь за документами.
В этот миг вошла монахиня, неся поднос с печеньем и вином. Эмлин приняла его от нее и, налив вина в кубки, предложила ревизору и секретарям.
— Славное вино, — сказал он осушив кубок, — весьма благородное вино. Вы, монашки, приготовляете самые лучшие наливки. Пожалуйста, не забудьте включить его в инвентарь. Вы, милая моя, кажется, одна из тех, кого этот аббат намеревался сжечь? Да, да, а это ваша хозяйка, госпожа Фотрел или госпожа Харфлит? Мне как раз надо сказать ей два слова.
— Я к вашим услугам, сэр, — сказала Сайсели.
— Так вот, сударыня, вы и ваша служанка избежали костра, к которому, насколько я мог судить, вас приговорили без каких-либо оснований. Однако осудил вас компетентный духовный трибунал, и его решение остается в силе, пока король не дарует вам прощения, если ему угодно будет это сделать. Поэтому, я полагаю, что вам следует ожидать здесь его волеизъявления.
— Но сэр, — сказала Сайсели, — если добрым сестрам, приютившим меня, придется уйти отсюда, как же мы сможем жить в их доме одни? Вы, однако, говорите, что я не должна его покидать; и действительно, если бы даже мне и можно было его покинуть — куда я пойду? Дом моего мужа сожжен, мой собственный дом захвачен аббатом. С другой стороны, если я и здесь останусь, он тем или иным способом погубит меня.
— Мерзавец скрылся, — сказал доктор Ли, почесывая себе подбородок.
— Да, но он возвратится или же пришлет кого-либо из своих людей, а вы сами знаете, сэр, что эти испанцы злопамятны; я же долго с ним враждовала. О сэр, я молю короля оказать покровительство моему ребенку и мне, а также Эмлин Стоуэр.
Комиссар продолжал почесывать подбородок.
— Вы можете дать ценные показания против этого Мэлдона — не так ли?
— Да, — вмешалась Эмлин, — такие, что его можно будет десять раз повесить; и я тоже дам показания.
— И у вас имеются большие поместья, которые он захватил, — верно?
— Имеются, сэр, ибо род мой знатный и положение высокое.
— Леди, — промолвил он уже гораздо более почтительным тоном, -отойдите в сторону; мне надо с вами переговорить с глазу на глаз. — С этими словами он направился к окну, и она пошла за ним. — Скажите-ка мне, какова была стоимость вашего имения?
— Точно не знаю, сэр, но от отца слышала, что оно приносило около трехсот фунтов дохода.
Ревизор сделался еще почтительнее, ибо по тем временам это было большое состояние.
— Вот как, миледи. Большие деньги, весьма хорошее состояние, если вам удастся получить его обратно. Буду говорить с вами откровенно. Королевские комиссары не очень хорошо оплачиваются, расходы же у них большие. Если я устрою дела ваши таким образом, что вы получите обратно свое состояние и приговор за колдовство, вынесенный вам и вашей служанке, будет отменен, обещаете вы заплатить мне сумму, равную годовому доходу с вашего имущества, в возмещение тех затрат, которые мне придется сделать во время хлопот по вашему делу?
Теперь подумать надо было Сайсели.
— Разумеется, — наконец ответила она, — если вы сделаете еще одно -оставите добрых сестер спокойно доживать в их обители.
Он покачал своей большой головой.
— Сейчас это уж невозможно. Дело получило чересчур широкую огласку. Лорд Кромуэл скажет, что меня подкупили, и я, чего доброго, потеряю должность.
— Хорошо, — продолжала Сайсели, — тогда, если вы обещаете, что на один год их оставят в покое для того, чтобы они могли устроить как-нибудь свое будущее.
— Это я могу сделать, — сказам он, кивнув головой, — на том основании, что вели они здесь ничем не опороченную жизнь и защищали вас от врагов короля. Но в этом мире все непрочно. Я должен просить вас подписать одни документ; в нем вы признаете, что получили от меня заем в триста фунтов, которые будут возвращены мне с процентами после того, как вы вступите во владение своим имуществом.
— Составьте его, и я подпишу, сэр.
— Отлично, сударыня. Теперь, поскольку мы обо всем договорились, вы поедете со мной в Лондон, где будете в безопасности. Отправимся мы не сегодня, а завтра, с рассветом.
— В таком случае со мной должна поехать и моя служанка Эмлин, сэр, чтобы помогать мне с ребенком, а также Томас Болл, ибо он может доказать, что колдовство, за которое нас осудили, всего-навсего его проделки.
— Да, да, но дорожные расходы на троих будут весьма значительны. Есть у вас какие-нибудь деньги?
— Да, сэр. У Эмлин в одном из ее платьев зашито около пятидесяти фунтов золотом.
— А! Сумма вполне достаточная. Она даже слишком крупная, чтобы в наше беспокойное время вы могли одни везти ее без риска. Не дадите ли мне на хранение половину?
— С удовольствием, сэр, я вам вполне доверяю. Выполните только свое обязательство, а я буду твердо держаться моего.
— Хорошо. Когда Томасу Ли идут навстречу, он в долгу не остается -это всякий признает. Сегодня вечером я принесу документ, а вы мне передадите на хранение двадцать пять фунтов.
Затем он в сопровождении Сайсели вернулся туда, где сидела настоятельница, и сказал:
— Мать Матильда — ведь, кажется, таково имя ваше в иночестве? — леди Харфлит просила меня за вас, и ввиду того что вы так благородно обошлись с нею, я обещал от имени короля, что вы и ваши монашки будете жить здесь еще один год, с этого дня, после чего безропотно передадите свой монастырь его величеству; я же исходатайствую для вас пенсию.
— Благодарю вас, сэр. Для старого человека год отсрочки — большое дело. За год многое может приключиться, например — моя смерть.
— Не благодарите меня, — я просто человек, поступающий, как велят ему долг и справедливость. Документы, которые вы должны подписать, готовы будут после обеда. Кстати, скажу вам, что леди Харфлит со своей служанкой, а также этот смелый и умный парень, Томас Болл, завтра утром едут со мною в Лондон. Она вам все объяснит. В три часа я буду у вас.
Ревизор и его секретари вышли из комнаты так же спесиво, как вошли. Оставшись втроем с матерью Матильдой и Эмлин, Сайсели объяснила им, что произошло.
— Думаю, что ты правильно поступила, — сказала настоятельница, выслушав все до конца. — Человек этот — жадная акула, но лучше пусть он откусит тебе палец, чем проглотит всю целиком. А насчет нас ты, конечно, хорошо поторговалась — мало ли что может случиться за год? К тому же, дорогая Сайсели, в Лондоне тебе будет безопаснее, чем здесь. В надежде на такие деньги, как триста фунтов, этот комиссар будет беречь тебя как зеницу ока и продвинет вперед твое дело.
— Если кто-нибудь не пообещает ему побольше, например тысячу фунтов, чтобы он, наоборот, ставил палки в колеса, — вмешалась Эмлин. — Ну, да иного выхода не было, а бумажные обязательства ничего не стоят. Вот добрых двадцати пяти фунтов золотом мне жалко. Теперь же, матушка, нам надо собраться, а дела много. Прошу вас, пошлите кого-нибудь разыскать Томаса Болла; он, наверно, тут, неподалеку. Раз уж мы теперь не заключенные, я хотела бы пройти вместе с ним по одному делу, о котором вы, может быть, догадываетесь. В городе Лондоне нам могут понадобиться средства. Надо также раздобыть лошадей для нас самих и для багажа и еще о многом позаботиться.
Томаса Болла вскоре разыскали: он спал в одном из соседних домов, ибо после своих приключений и триумфа основательно выпил и долго не мог проснуться. Узнав об этом, Эмлин задала ему хорошую головомойку, заявила, что он не человек, а пивной бочонок, и наговорила много других неприятных слов. Под конец он вышел из себя и ответил, что не будь этого пивного бочонка, она сейчас была бы кучкой пепла. Тут она перевела разговор на другое и сообщила ему, в чем они нуждаются, а также о том, что ему предстоит сопровождать их в Лондон. На это он ответил, что к утру оседланы будут хорошие кони, благо он знает, где их раздобыть: в конюшне аббатства еще остались лошади, которым пробежка не повредит. Добавил он также, что рад будет на некоторое время расстаться с Блосхолмом: здесь у него со вчерашнего дня завелись враги — все те, чьи друзья лежат раненые или ждут погребения. После этого Эмлин шепнула ему что-то на ухо, и он в знак согласия кивнул головой, сказав при этом, что мешкать не станет и скоро будет готов.
В тот же вечер Эмлин отправилась куда-то верхом вместе с хорошо вооруженным Томасом, объяснив, что хочет испытать коней, на которых им предстоит завтра ехать. Вернулась она поздно — было уже совсем темно.
— Ну что, достала? — спросила Сайсели, когда они остались вдвоем у себя в комнате.
— Да, — ответила Эмлин. — Все до единой. Но кое-где каменная кладка обвалилась, и трудно было пробраться в подземелье. По правде сказать, без Томаса Болла с его бычьей силой мне самой никогда бы не справиться. К тому же аббат побывал уже там до нас и изрыл весь пол. Но, дурень такой, о стене он и не подумал так что все хорошо. Половину вещей я зашью в свою нижнюю юбку, половину в твою, чтобы риска было меньше. На случай, если нападут грабители, деньги, что нам оставил этот загребущий ревизор (я ведь половину отдала ему, когда ты подписала документ), мы будем открыто держать в кошельках на поясе. Дальше они искать не станут. О, чуть не забыла: кроме драгоценностей, у меня еще кое-что есть, вот оно. — С этими словами Эмлин вынула из-за корсажа пакет и положила его на стол.
— Что это? — спросила Сайсели, недоверчиво глядя на грязный лоскут парусины, в который он был завернут.
— Откуда мне знать? Разрежь и посмотри. Я знаю только, что, когда я стояла у ворот обители и ждала Томаса, который отводил лошадей в конюшню, какой-то человек в широком плаще вынырнул из-за завесы дождя и спросил, не Эмлин ли я Стоуэр. Я сказала «да»; тогда он сунул мне это в руку, велел непременно отдать леди Харфлит и исчез.
— У этого пакета такой вид, точно он прибыл из-за моря, — прошептала Сайсели, дрожащими пальцами торопливо вспарывая его. Наконец парусиновая оболочка была вскрыта, внутренний запечатанный конверт тоже, и в нем, среди прочих документов, оказался небольшой сверток пергаментных листков, покрытых корявыми, неразборчивыми письменами. Однако на обороте они смогли разобрать названия «Шефтон» и «Блосхолм», начертанные более крупными буквами. Что-то написано было и каракулями сэра Джона Фотрела, а под этой записью стояло его имя и другие, среди которых были имена отца Нектона и Джефри Стоукса. Сайсели некоторое время смотрела на документы, потом сказала:
— Эмлин, я узнаю эти пергаментные листки. Их мой отец взял с собой, когда ехал в Лондон, чтобы опровергнуть домогательства аббата, а вместе с ними были показания об изменнических речах, которые аббат вел в прошлом году в Шефтоне. Да, эту внутреннюю обшивку делала я сама из полотняных тряпок, взятых в коридорном стенном шкафу. Но как они сюда попали?
Не ответив ни слова, Эмлин взяла разрезанную материю и потрясла ее.
Не замеченная ими раньше полоска бумаги упала на стол.
— Может быть, тут мы найдем объяснение, — сказала она. — Прочитай, если сможешь. Тут, на внутренней стороне, что-то написано.
Сайсели схватила полоску бумаги. И так как исписана она была разборчивым почерком умелого писца, прочитала ее без труда, только голос ее дрожал. Вот что было в записке:
«Миледи Харфлит!
Это бумаги, которые Джефри Стоукс спас, когда погиб ваш отец. Они были отданы на хранение тому, кто вам сейчас пишет, далеко в заморских землях, и он возвращает их, не вскрыв. Супруг ваш жив и здоров, так же как и Джефри Стоукс, и хотя их задержали в пути, сэр Кристофер, без сомнения, сумеет добраться до Англии, куда не торопился возвращаться, думая, как и я думал, что вас нет в живых. Есть причины, мешающие мне, его и вашему другу, повидаться с вами или написать обстоятельнее, ибо долг призывает меня в другое место. Когда он будет выполнен, я разыщу вас, если буду жив. Если нет, то ждите спокойно, пока не обретете вновь свое счастье; я надеюсь, что это случится.
Некто, горячо любящий вашего супруга, а ради него — и вас.” Сайсели положила записку на стол, и из глаз ее хлынул поток слез.
— О, жестокий, жестокий, — рыдала она, — сообщить мне так много и вместе с тем так мало! Впрочем, нет, я просто неблагодарная дрянь, ведь Кристофер жив, и я дожила до того, что узнала об этом, хоть он и считает меня умершей.
— Клянусь душой, — сказала Эмлин, когда ей удалось успокоить Сайсели, — этот человек в плаще просто король всех вестников. Знай я только, что он принес, я бы у него все выпытала, даже если бы мне пришлось вцепиться в него, как жена Пентефрия вцепилась в Иосифа Прекрасного
[134]. Ну что ж, Иосиф скрылся, а на безрыбье и рак рыба, да и рак-то не плохой. К тому же ты получила документы, которые сейчас тебе особенно необходимы и, что еще лучше, письменное свидетельство, по которому предатель Мэлдон угодит на эшафот.
14. ДЖЕКОБ И ДРАГОЦЕННОСТИ
Путешествие в Лондон было для Сайсели делом необычным: никогда еще не отъезжала она больше чем на пятьдесят миль от своего дома, и лишь однажды, еще ребенком, провела месяц в городе, когда гостила у тетки в Линкольне. Правда, путешествовала она с удобствами, так как комиссар Ли не любил себя утруждать: по этой причине они пускались в дорогу поздно, а останавливались на ночлег рано, либо в какой-нибудь гостинице получше (если вообще в те времена существовали сносные гостиницы), либо в одном из монастырей, где он требовал всего самого лучшего, что только могли предложить ему перепуганные монахи. С ними, как заметила Сайсели, он обходился очень сурово: бранился, угрожал, производил тщательное обследование, зачастую обвинял их в преступлениях, которых они не совершали, и под конец вымогал большие взятки даже в тех случаях, когда в данное место ему никакого поручения не давалось, грозя, что вернется позже. Он также принимал доносчиков и записывал все скандальные сплетни и клеветнические сведения, которые они сообщали ему о тех, чей хлеб ели. Поэтому еще задолго до того, как они увидели Черинг Кросс, Сайсели возненавидела этого спесивого, властного и жадного человека, который скрывал жестокость под личиной добродетели и, преследуя свои личные цели, произносил громкие слова о боге и короле. Однако, наученная горьким опытом, она умела скрывать свои чувства, так как боялась нажить врага в человеке, имевшем возможность погубить ее, и скрепя сердце принудила к этому Эмлин. Дело осложнялось и тем, что Сайсели была красива и некоторые из спутников ревизора заговаривали с нею так, что не понять их было невозможно. Кончилось все это тем, что, налетев на одного из них, Томас Болл задал ему такую взбучку, какой тот еще никогда не получал, после чего возникли неприятности, от которых пришлось откупаться деньгами.
Однако в целом все шло не так уж плохо. Королевскому ревизору и его спутникам никто повредить не смел; осень стояла погожая, мальчуган ничем не болел, а места, по которым они проезжали, были для Сайсели полны новизны и интереса.
Наконец однажды, выехав из Барнета, они к вечеру добрались до столицы, показавшейся ей чудесным городом, — никогда еще не видала она такого множества домов и людей, деловито сновавших взад и вперед по узким улицам, которые с наступлением темноты освещались фонарями. Тут произошел оживленный спор, где им остановиться. Доктор Ли сказал, что он знает один дом, который им вполне подошел бы, но Эмлин и слышать об этом не хотела: она уверена была, что там их обворуют; мысль о драгоценностях, которые они втайне от всех хранили на себе, не давала ей покоя. Вспомнив о двоюродном брате своей матери, золотых дел мастере, по имени Смит, который еще года два тому назад был жив и обитал в Чипсайде, она заявила, что непременно его разыщет.
Они отправились в Чипсайд, взяв в качестве провожатого одного из писцов ревизора — не того, которого поколотил Болл, а другого, — и, наконец, поискав немного, обнаружили в глубине одного двора довольно невзрачный дом Джекоба Смита с тремя шарами вместо вывески. Эмлин спешилась и, так как дверь оказалась не запертой, вошла в дом, где ее встретил седобородый старик в поднятых на лоб роговых очках и с такими же, как у нее самой, черными глазами — ведь у них обоих текла в жилах цыганская кровь.
Разговора их Сайсели не слышала, но старик вышел к ней вместе с Эмлин и довольно долго осматривал ее и Болла с ног до головы, словно снимал с них мерку. Наконец он сказал, что от своей родственницы, которой не видел уже лет тридцать, он узнал, что обе они и их слуга хотят снять помещение; свободные комнаты у него есть, и они могут получить их за соответствующую плату.
Сайсели спросила, сколько это будет стоить, и, когда он назвал сумму — десять шиллингов серебром в неделю за всех троих и их лошадей, которые будут помещены в конюшне неподалеку, — велела Эмлин выдать ему один фунт золотом вперед. Он взял деньги, надкусил золотые монеты, чтобы убедиться в их качестве, но не спрятал в карман, а предложил жильцам сперва осмотреть помещение. Они прошли в комнаты и, найдя их чистыми и удобными, хотя и несколько темноватыми, заключили сделку с хозяином, после чего отпустили своего провожатого-писца с поручением сообщить адрес доктору Ли, пообещавшему известить их о ходе дела, как только ему удастся продвинуть его.
Когда он ушел, а Томас Болл в сопровождении подмастерья отвел в конюшню верховых и вьючную лошадь, старик стал вести себя иначе, пригласил их в комнату для посетителей, расположенную за мастерской, и послал свою домоправительницу, женщину не очень молодую, но приятной внешности, приготовить для всех еду. Сам же принялся угощать их всевозможными наливками из приземистых голландских бутылок. Он проявлял необыкновенную любезность, уверяя, что очень счастлив повидать родственницу, ибо теперь у него совсем не осталось близких людей — жена и двое детей умерли во время одной из частых в Лондоне эпидемий. К тому же родился он в Блосхолме, хотя и уехал оттуда полвека назад, знал деда Сайсели и мальчишкой играл с ее отцом. И он, как человек веселый и разговорчивый, стал засыпать их бесконечными вопросами о том и о сем, но они сочли более осторожным на некоторые из них не отвечать.
— Ага! — сказал он. — Вы хотите испытать меня, прежде чем довериться. Да и кто вас за это осудит в нашем жестоком мире? Но, может быть, я больше знаю о вас, чем вы думаете; ведь у меня такое ремесло, что мне приходится многое узнавать. Вот, например, слышал я о том, что в Блосхолме недавно был суд над ведьмами, довольно плохо окончившийся для некоего аббата, а также об исчезновении знаменитых драгоценностей Карфаксов, что весьма огорчило этого святого человека. Да, драгоценности, говорят, были самые настоящие: я, по крайней мере, слышал, что среди них имелись две розовые жемчужины, достойные королевской сокровищницы. Жалко, что они утеряны: ведь их владелицей была бы миледи, а мне, скромному золотых дел мастеру, очень хотелось бы на них взглянуть. Ну ладно, ладно; может быть, я их все-таки увижу: утерянное иногда снова находят. А вот и обед наш поспел; кушайте, кушайте, потом побеседуем.
Так прошла первая из многих приятных трапез, которые они разделяли со своим хозяином — Джекобом Смитом. Эмлин потихоньку навела о нем справку у всех соседей и узнала, что ее родственник пользуется самой доброй славой и всеобщим доверием.
— Так почему же и нам не довериться ему? — спросила Сайсели. — Нам ведь очень нужны друзья и люди, которым мы могли бы верить.
— Даже в отношении драгоценностей, госпожа?
— Даже и в этом отношении: ведь драгоценности — по его части; у него в железном сундуке они были бы сохраннее, чем зашитые на живую нитку в наших платьях: я из-за них ни днем ни ночью покоя не имею.
— Все-таки лучше обождем, — ответила Эмлин. — Когда они окажутся у него в сундуке, — кто знает, удастся ли нам вообще извлечь их оттуда?
На другой день после этого разговора к ним явился ревизор Ли и принес не очень приятные новости. По его словам, лорд Кромуэл заявил, что поскольку блосхолмский настоятель притязал на шефтонские земли, а теперь его права перешли или скоро перейдут к королю, король сам выступает как притязатель и от своих требований не откажется. К тому же деньги при дворе сейчас так нужны, тут доктор Ли бросал на них жесткий взгляд, что и речи не может быть об отказе от каких-либо ценностей, разве что за соответствующее возмещение. При этих словах он взглянул еще жестче.
— А откуда у миледи средства на это возмещение? — резко вмешалась Эмлин, опасаясь, как бы Сайсели себя не выдала. — Сейчас она лишь бездомная нищая, у которой едва наберется несколько фунтов золотом; и даже если бы ей удалось получить свое имущество, вашей милости известно ведь, что доходы с него за первый год уже обещаны.
— Ах, — с грустным видом произнес доктор, — дело, разумеется, обстоит плохо. Однако, — хитро добавил он, многозначительно подчеркивая свои слова, — только недавно дошел до меня слух, будто у леди Харфлит есть припрятанное богатство, доставшееся ей от матери, — разные ценные украшения и тому подобные вещи.
Сайсели вся вспыхнула, ибо маленькие глазки доктора Ли буквально влились в нее, а притворяться она не умела. Но с Эмлин дело обстояло иначе: та умела с волками выть по-волчьи.
— Послушайте, сэр, — сказала она, напуская на себя таинственность, -вам сказали правду. Были у нас разные ценные вещи. Зачем бы нам скрывать это от вас, нашего друга? Но — увы! — они у этого жадного мерзавца аббата. Он ощипал мою бедную леди, как птичку, которую собираются изжарить. Отберите их у него, сэр, и могу поручиться, что она отдаст вам половину, -ведь правда, миледи?
— Разумеется, — ответила Сайсели. — Доктору, которому мы стольким обязаны, я с радостью отдам половину всех ценностей, которые он сможет отобрать у аббата Мэлдона. — Она замолкла, ибо ложь застряла у нее в горле. Вдобавок она чувствовала, что побагровела, как пион.
По счастью, комиссар этого не заметил, а если заметил, то приписал волнению или гневу.
— Аббат Мэлдон, — проворчал он, — вечно аббат Мэлдон! И гнусный же ворюга этот высокомерный испанец, которому нипочем оставить человека сиротой, а потом еще обобрать его. К тому же он еще злодей и изменник. Знаете ли вы, что он сейчас поднимает на севере мятеж? Ну, я еще увижу, как его вздернут на дыбу! А есть у вас список этих ценных вещей?
Сайсели дала отрицательный ответ, а Эмлин добавила, что его придется составить по памяти.
— Хорошо. Завтра или в ближайшие же дни я опять зайду, а пока не бойтесь, я с вашего дела глаз не спущу, как кошка с воробья. Ах ты, крыса поганая, испанский аббат, подожди у меня, запущу я когти в твою жирную спину! До свидания, миледи Харфлит, до свидания, госпожа Стоуэр; мне надо идти возиться с другими попами немногим получше этого. — И он удалился, бормоча проклятия по адресу аббата.
— Ну вот, теперь, кажется, настало время довериться Джекобу Смиту, -сказала Эмлин, когда дверь за ним закрылась. — Тот еще может оказаться честным человеком, а уж этот доктор наверняка мошенник. К тому же он что-то прослышал о драгоценностях и подозревает нас. А вот и вы, кузен Смит, заходите, пожалуйста, нам с вами надо побеседовать. Заходите и, будьте добры, закройте за собой дверь.
Через каких-нибудь пять минут все до единой драгоценные вещи лежали на столе перед старым Джекобом, который смотрел на них круглыми от изумления глазами.
— Драгоценности Карфаксов, драгоценности, о которых я так часто слышал! Те самые, которые старый крестоносец отнял у одного султана на востоке, где о них доныне идет молва. Сокровище султанов, если только оно не прямо из Нового Иерусалима
[135], где эти украшения носили ангелы. И вы говорите, что вы, две женщины, везли такие бесценные вещи зашитыми в ваши плащи, которые, как я сам убедился, у вас валяются где попало? Правда, у женщин вообще разума нет, но таких дур я еще никогда не видел! А ведь спутником у вас был доктор Ли, который у ребенка способен стащить игрушку!
— Дуры мы или нет, — едко возразила Эмлин, — но вот они в целости и сохранности, хотя и подвергались некоторому риску. И потому я прошу вас взять их на хранение, кузен Смит.
Старый Джекоб прикрыл драгоценности скатертью и понемногу переложил их к себе в карман.
— Мы на верхнем этаже, — объяснил он, — и дверь заперта, но кто-нибудь мог поставить лестницу и заглянуть в окно. Находись я на улице, я бы по игре отраженного в них света сообразил, что на столе лежат драгоценности. Даже у себя в кармане я и в течение часа не могу считать их сохранными. — С этими словами он подошел к стене, нащупал пальцами какое-то место в деревянной обшивке; панель отошла, открыв тайник, в котором лежали различных размеров пакеты и свертки, и среди них он разместил драгоценности, но не все. Потом он подошел к другим панелям и открыл их точно таким же способом: там тоже лежали пакеты, и за ними он разместил остальные вещи.
— Ну вот, безрассудные вы женщины, — сказал он, — раз вы мне доверились, то и я вам верю. Вы видели у меня в конторе окованные железом сундуки и, наверно, подумали, что там я и храню весь свой товар. Так думают и все лондонские воры; они там уже дважды рылись, а унесли только немного олова. Помнится мне, что часть этого олова была потом обнаружена у придворных короля. Но за этими панелями все в безопасности, хотя ни одна женщина не придумала бы столь простого и надежного тайника.
Эмлин не сразу нашлась что ответить, может быть, оттого, что вся пылала негодованием, но Сайсели мягким голосом спросила:
— А у вас в Лондоне бывают пожары, мастер Смит? Кажется, я об этом что-то слышала, а ведь в таком случае, второпях, знаете…
Смит поднял на лоб свои роговые очки и воззрился на нее с кротким изумлением.
— Подумать только, — произнес он, — что меня будут учить уму-разуму младенцы и мамки.
— Вы хотите сказать — сосунки, — вставила Эмлин.
— Мамки, сосунки — это все одно, — с раздражением ответил он, но затем усмехнулся и добавил: — Ладно, ладно, миледи, вы правы. Поймали старого Джекоба. О пожаре-то я и не подумал, а ведь в прошлом году в соседнем доме случился пожар, и я тогда выскочил на улицу в простыне и одеяле, вовсе позабыв о золоте и каменьях. Теперь я устрою тайники в каменной кладке погреба, там-то огонь ничего не сделает. Ага! Вам, женщинам, до такого не додуматься; вы же зашиваете сокровища в ночные сорочки.
Тут уж Эмлин не могла дольше сдерживаться.
— А как же, по-вашему, нам было везти их, кузен Смит? — с негодованием спросила она. — Навесить на шею или привязать к ногам?
Недаром, помнится, мне мать моя говорила, что вы всегда были простоватым парнем, и, верно, вам покровительствует весьма могущественный святой, раз он помог вам целым и невредимым добраться до Лондона и научил, как зарабатывать на жизнь. А может, на свое счастье, женились вы на очень умной женщине, хотя сейчас-то сразу видно, что ее давно нет в живых. Ну хорошо, — добавила она, смеясь, — тешьте свое мужское тщеславие вы, рожденный женщиной; и раз у вас столько ума, поделитесь с нами своей мудростью, — мы в этом крайне нуждаемся.
— Женщины всегда так: когда неправы, — начинают браниться, — сказал Джекоб, подмигнув глазом. — Ну, рожденная от мужчины, расскажи-ка, что вас обеих смущает. Может быть, мудрость, которую я унаследовал от всех моих матерей вплоть до праматери Евы, пригодится вместо той, которой не хватало всем твоим матерям. Однако довольно шуток; если тебе угодно говорить, я слушаю.
И вот, призвав предварительно проклятие божие на его голову, в случае, если он выдаст их хоть одним словом, Эмлин с помощью Сайсели поведала ему все с самого начала; еще задолго до того, как она кончила, пришлось зажечь свечи. Все это время Джекоб Смит сидел против них и не произнес почти ни слова, — лишь иногда задавал какой-нибудь уместный вопрос. Когда наконец они кончили, он воскликнул:
— А все-таки правда, что у женщин нет разума!
— Мы это от вас уже слышали, мастер Смит, — сказала Сайсели.
— Но на этот раз — почему?
— Потому что вы не открылись мне раньше: это сберегло бы вам добрую неделю времени. Правда, дело сложилось так, что вашу историю я знаю подробнее, чем вы мне ее рассказали, и благодаря этому дни прошли не совсем даром. Ну, коротко говоря, этот доктор Ли — хищник и негодяй.
— О премудрый Соломон, это мы и без вас знали! — воскликнула Эмлин.
— Единственная его цель — устлать свое гнездо вашими перышками. Кое-что вы ему сами обещали, в данном случае, впрочем, поступив правильно. Теперь он прослышал об этих драгоценностях, что и не удивительно: подобных вещей скрыть невозможно. Даже если бы вы спрятали их в ящик и зарыли на глубину шести футов, и то они засверкали бы сквозь толщу земли и выдали свое присутствие. План его такой: обчистить вас до нитки, пока вы еще не попали в руки его хозяина — Кромуэла. А если вы явитесь к этому всемогущему министру с пустыми руками, — чего будет стоить ваше ходатайство в глазах Кромуэла? Он ведь самая жадная акула из всех, кроме еще одной.
— Понимаем, — сказала Эмлин. — Каков же ваш план, кузен Смит?
— Мой? Не могу сказать, чтобы у меня имелся план. Но вот что, по-моему, было бы целесообразно. Хотя я человек маленький и незаметный, при дворе обо мне вспоминают, когда возникает нужда в деньгах. А теперь как раз нужно очень много денег, ибо вскоре за оружие возьмется весь Йоркшир, и потому сейчас обо мне вспоминают очень часто. Если вы пожелаете расстаться с доктором Ли и поручить свое дело мне, это, может быть, обойдется вам подешевле.
— Во сколько же это нам обойдется? — выпалила Эмлин.
Старик с негодованием повернулся к ней.
— Кузина, с какой стати ты меня оскорбляешь? Разве и вымогал что-нибудь у тебя или у твоей хозяйки? Хватит, вы мне не верите. Хватит; забирайте свои драгоценности и ищите себе другого помощника! — и он подошел к панелям стены, намереваясь достать оттуда украшения.
— Нет, нет, мастер Смит, — взмолилась Сайсели, схватив его за руку, -не сердитесь на Эмлин. Вы же знаете: мы прошли суровую школу, где учителями нашими были Мэлдон и доктор Ли. Я-то во всяком случае вам верю; не бросайте же меня на произвол судьбы, — мне ведь не к кому больше обращаться, а трудностей и забот так много! — и при этих словах из ее синих глаз скатились крупные слезы прямо на лицо мальчика; тот проснулся, и ей пришлось отвернуться, чтобы успокоить его.
— Не огорчайтесь, — смутился добрый старик. — Это мне надо огорчаться: мои грубые слова довели вас до слез. К тому же Эмлин ведь права; даже безрассудные женщины вовсе не должны доверяться первому попавшемуся человеку, у которого они поселились. Впрочем, раз вы уверяете, что говорили от чистого сердца, я постараюсь не оказаться недостойным вашего доверия, миледи Харфлит. Так вот что вам нужно от короля? Чтоб он рассудил вас с аббатом? Это вы и даром получите, если его милость доберется до аббата, каковой в настоящее время поднимает мятеж против короля. Нет, значит, необходимости напирать на его прежние злодеяния. Чтобы вам вернули ваши владения, на которые заявил притязания аббат? Вот это будет потруднее, ибо сам король явится притязателем вместо аббата. В лучшем случае тут придется раскошелиться. Чтобы ваше замужество и рождение вашего сына признаны были законными? Это не так уж трудно, хотя тоже будет стоить денег. Чтобы приговор за колдовство вам и Эмлин был отменен? Дело несложное, ведь процесс-то устроил аббат. Ну как, это все или еще что-нибудь есть?
— Да, мастер Смит. Я хотела бы, чтоб у добрых монахинь, которые так хорошо ко мне отнеслись, не отнимали их дома и их земли. Я обещала отдать эти самые драгоценности, если таким образом можно будет этого добиться. — Это вопрос денег, леди, всего-навсего вопрос денег. Вам придется выкупить их имущество — вот и все. А теперь посмотрим, какие нам предстоят затраты; может быть, фортуна мне улыбнется. — Он достал перо, бумагу и принялся писать цифры.
Под конец он встал, вздохнув и покачав головой.
— Две тысячи фунтов, — со стоном вырвалось у него, — сумма огромная, но уменьшить ее невозможно ни на шиллинг, — слишком многих надо подкупить. Да, тысячу фунтов на взятки и тысячу — взаймы его величеству, который долгов не отдает.
— Две тысячи фунтов! — вскричала испуганная Сайсели. — О, откуда мне взять столько? Ведь даже доходы за первый год я уже обещала!
— А вы знаете стоимость своих драгоценностей? — спросил, глядя на нее, Джекоб.
— Нет. Половина того, что вы сказали?
— Если назвать цифру вдвое больше, то это будет еще довольно мало.
— Ну, а коли так, — ответила ошеломленная Сайсели, — где нам их продать? У кого наберется столько денег?
— Я постараюсь найти их или, во всяком случае, столько, сколько понадобится. Ну вот, кузина Эмлин, — добавил он саркастически, — сама видишь, в чем моя выгода: покупаю драгоценности за полцены, а остальное -мое.
— Теперь я отвечу, как вы: хватит, — сказала Эмлин, — шуточки свои попридержите до более подходящего времени.
Старик призадумался, а затем сказал:
— Поздновато уже, но вечер погожий и мне полезно подышать воздухом. Пусть этот ваш башковитый рыжий парень постережет вас, пока меня не будет дома; и, ради всего святого, будьте осторожны со свечами. Нет, нет, печей не топите — придется вам померзнуть. После того, что вы тут наговорили, мне только пожары и мерещатся. Это всего на одну ночь. К завтрашнему вечеру я подыщу такое местечко, что там даже аббата Мэлдона не опалило бы адское пламя. Но пока обходитесь теплой одеждой. У меня в закладе имеются меха, я их вам сейчас пришлю. Вы сами виноваты, а для меня в молодости в осенний день топки не требовалось. Ну ладно, ладно.
Он ушел; и в тот вечер они его больше не видели.
На следующее утро, когда они сидели за завтраком, Джекоб Смит появился и принялся говорить о чем угодно — о плохой погоде, о том, что ветчина жестковата и ни в какое сравнение не идет с той, которую приготовляли в Блосхолме, когда он был молод, о том, что мальчуган Сайсели очень похож на мать.
— Ну уж нет, — прервала его Сайсели, почувствовавшая, что он их дразнит, — он вылитый отец. Со мной у него нет ни малейшего сходства.
— Вот как? — ответил Джекоб. — Ладно, я выскажу свое мнение, когда увижу отца… А кстати, дайте-ка мне перечитать записку, которую человек в плаще передал Эмлин.
Сайсели дала ему записку, и он стал внимательно изучать ее. Потом безразличным тоном промолвил:
— На днях я видел список христианских пленников, спасенных от турок императором Карлом в Тунисе. Среди них имеется некий Хуфлит, обозначенный как английский сеньор и его слуга. Вот мне и кажется…
Сайсели так и бросилась на него.
— Жестокий, злодей! Сколько времени знали это — и слова не проронили! — Потише, миледи, — сказал он, отступая. — Я узнал это лишь вчера в одиннадцать часов вечера, когда вы уже спали сном праведным. Вчера ведь не сегодня, потому я и сказал: на днях.
— Можно было меня разбудить. А теперь живо говорите, где он.
— Откуда мне знать? Во всяком случае, не здесь. Но в этом документе говорилось…
— Что же в нем говорилось?
— Стараюсь припомнить, да память мне изменяет. Может, и с вами такое случится, когда вы доживете до моих лет, если небу угодно будет…
— О, хоть бы ему угодно было заставить вас рассказывать толком! Что говорилось в документе?
— А, вот, припомнил! В примечании, имевшемся среди прочих новостей. Упомянул ли я о том, что это было письмо от посла его королевской милости в Испании? Пишет он такими каракулями, что ничего не разобрать. Ну, ну, не торопите меня. Так вот, говорилось там, что означенный «сэр Хуфлит» -посол снабдил это имя вопросительным знаком — и его слуга — да, да, я уверен, что речь шла и о слуге, — что оба они, будучи очень злы на турок за то, как обходились с ними эти нехристи-нет, я забыл прибавить, что их было трое, третий — священник, который поступил иначе; так вот, будучи очень злы, они остались там, чтобы вместе с испанцами сражаться против турок до окончания военных действий. Теперь я все сказал.
— Все — и как это мало! — вскричала Сайсели. — Но все же лучше, чем ничего. И зачем это женатому человеку понадобилось плыть за море, чтобы мстить несчастным, невежественным туркам?
— А почему нет, — вмешалась Эмлин, — если он, как твой супруг, считает себя вдовцом?
— Да, я забыла. Он думает, что меня нет в живых; да и его скоро не будет в живых; может быть, и сейчас уже нет, — ведь эти безбожные, злобные турки убьют его. — И она залилась слезами.
— Я забыл добавить, — поспешно сказал Джекоб, что в другом письме, помеченном более поздним числом, посол сообщает, что поход императора против турок прерван до весны и что участвовавшие в нем англичане сражались с великой доблестью и все возвратились живы и невредимы, но на этот раз имена их не упомянуты.
— Все возвратились! Если бы мой муж умер — а он не мог умереть бесславно, как трус, — то разве говорилось бы в письме, что все возвратились? Нет, нет, он жив, но вернется ли — кто знает? Может быть, он еще куда-нибудь отправится или останется в Испании и женится там.
— Это невозможно, — с поклоном сказал старый Джекоб. — Раз вы были его женой, это невозможно.
— Невозможно, — повторила Эмлин. — Ведь ему надо еще свести счеты с этим Мэлдоном! Мужчина может забыть свою возлюбленную, особенно если он думает, что ее нет в живых… Но раз он остался за границей, чтобы сражаться с турками, которые с ним плохо обращались, так уж наверно возвратится домой, чтобы расправиться с аббатом, который разорил его и убил его жену.
Наступило молчание. Золотых дел мастер, чувствуя, что всем невесело, поторопился прервать его.
— Да, он несомненно возвратится на родину. По тому, что нам известно, может быть, уже и возвратился. Мы тоже должны предъявить счет этому аббату. Он, конечно, негодяй, но не следует думать, что все без исключения аббаты злодеи. Теперь же, миледи, я расскажу вам, что мне удалось сделать; и, может быть, вам это понравится больше, чем мне самому. Вчера вечером я повидался с лордом Кромуэлом, с которым у меня немало своих дел, у него в доме, в Остин Фрайерс, и изложил ему ваше дело. Как я и предполагал, этот подлый обманщик Ли о нем с ним и не заговаривал, рассчитывая вытащить из пудинга все сливы, а хозяину своему передать уже объедки. Он просмотрел ваши документы, достал ходатайства аббата к сравнил то и другое. Затем он взял мою просьбу на заметку и сразу же спросил: «Сколько?”
Я сказал: «Тысячу фунтов в качестве займа королю». Заем этот возвращать не придется, а в качестве возмещения я прошу — от вашего имени — все земли аббата в добавление к вашим собственным, когда земли означенного аббата будут конфискованы, что не замедлит последовать. На это он согласился от имени его королевской милости, ибо король весьма нуждается в деньгах, но спросил — что же ему самому? Я ответил: пятьсот фунтов ему и его шакалам, в том числе доктору Ли, причем никакой расписки мы не потребуем. Он же сказал, что этого недостаточно: после того как насытятся шакалы, для него останутся только обглоданные кости; я должен предложить больше, ибо и мои требования не малые; затем он сделал вид, что прекращает разговор. Я пошел к дверям, но обернулся и сказал, что у меня есть чудеснейшая жемчужина, и ему, любителю драгоценных камней, может быть, любопытно будет взглянуть на нее: жемчужина стоит не одного аббатства. Он сказал: «Покажите!» — и вы бы только видели! — млел над нею, как девушка над первым полученным ею любовным письмом. «О, если бы таких было две!» — прошептал он.
«Две, милорд! — ответил я. — Да на всем белом свете нет другой такой жемчужины!» Правда, когда я произносил эти слова, оправа второй, приколотой к внутренней стороне моего камзола, крепко уколола меня, словно рассердившись. Затем я взял у него жемчужину и вторичноначал откланиваться.
«Джекоб, — сказал тогда Кромуэл, — вы мой старый друг, и ради вас я немного поступлюсь своим долгом. Оставьте жемчужину. Его королевская милость так нуждается в этой тысяче фунтов, что я, пожалуй, возьму ее у вас, хоть и скрепя сердце». И он протянул руку за жемчужиной, но я вовремя прикрыл ее своей рукой.
— Сперва документ, потом плата, милорд. Я тут уже сам составил бумагу, чтобы вам не беспокоиться, если только вы соизволите подписать.
Он перечитал, потом, взяв перо, вычеркнул пункт насчет отмены приговора за колдовство — по его словам, это может сделать лишь сам король или специально уполномоченные им лица, — но остальное подписал, приняв на себя обязательство после уплаты тысячи фунтов выдать документ по форме, подписанный королем и скрепленный государственной печатью. Так как ничего большего добиться было невозможно, я сказал, что это нам подходит, и оставил ему вашу жемчужину. Он же обещал со своей стороны побудить его величество принять вас; и я не сомневаюсь, что он не замедлит это сделать ради пресловутой тысячи фунтов. Правильно я поступил?
— Разумеется, конечно! — вскричала Сайсели. — Кто бы устроил все хоть вполовину так же хорошо?
Едва она успела произнести эти слова, как со двора раздался громкий стук в дверь, и Джекоб побежал открывать. Почти тотчас же он вернулся, ведя за собой посланца в роскошной одежде, который поклонился Сайсели и спросил, не она ли леди Харфлит. Услышав в ответ, что таково действительно ее имя, он сказал, что ему поручено передать ей повеление его милости короля явиться к нему сегодня в три часа пополудни в его дворец Уайтхолл и привести с собою Эмлин Стоуэр и Томаса Болла, чтобы держать перед его величеством ответ по обвинению в колдовстве, возбужденному против нее и против них; и горе ей, ежели она попытается от этого уклониться.
— Сэр, — ответила Сайсели, — я не замедлю явиться, но скажите мне: должна ли я
считать себя заключенной?
— Нет, — сказал вестник, — поскольку мастер Джекоб Смит, которому его милость изволит доверять, готов поручиться за вас.
— И за тысячу фунтов, — проворчал Джекоб себе под нос, когда он с низким поклоном провожал королевского посланца к выходу. При этом он не преминул сунуть золотую монету в руку, которой тот помахал ему на прощание.
15. ЧЕРТ ПРИ ДВОРЕ
Было половина третьего, когда Сайсели с ребенком на руках и в сопровождении Эмлин, Томаса Болла и Джекоба Смита очутилась на парадном дворе Уайтхоллского дворца. Кругом было много людей, пришедших по своим делам, и сквозь эту толпу беспрестанно прокладывали себе дорогу герольды и солдаты, крича: «Расступись! Именем короля, расступись!» Толкотня была такая, что некоторое время даже Джекоб не мог привлечь к себе внимания, пока наконец он не заметил герольда, который приходил к ним утром, и не кивнул ему.
— Я уже высматривал вас, мастер Смит, а также леди Харфлит, -произнес этот человек, отвешивая поклон Сайсели. — Вам назначена аудиенция у его королевской милости, не так ли? Один бог знает, удастся ли вам ее получить. В приемной полно людей, принесших известия о мятеже на севере, а также вельмож и советников, ожидающих распоряжений и денег, главным образом денег. Одним словом, король отменил на сегодня все аудиенции: он никого принять не может. Так сказал мне сам лорд Кромуэл.
Джекоб вынул из кошелька золотую монету и стал вертеть ее в пальцах. — Понимаю, благородный герольд. Все же вы, может быть, попытались бы послать кого-нибудь к лорду Кромуэлу? Если да, то вот эта мелочь…
— Попытаюсь, мастер Смит, — ответил тот, протягивая руку за червонцем. — Но что ему передать?
— О, скажите, что Розовая жемчужина хотела бы узнать у его милости, где можно получить в долг тысячу фунтов без процентов.
— Странный вопрос, на который я сам, пожалуй, ответил бы: нигде, -сказал герольд. — Но, во всяком случае, найду кого-нибудь, кто передаст это лорду Кромуэлу. Постойте тут, в крытом проходе, чтобы не мокнуть под дождем. Не бойтесь, я мигом вернусь.
Они сделали, как он сказал, и были очень рады, ибо начало моросить, и Сайсели боялась, как бы не простудился мальчуган, на которого пребывание в Лондоне влияло не очень хорошо. Так стояли они, развлекаясь зрелищем пестрой толпы людей, шнырявших туда и сюда. Болл, для которого все это было совершенно ново, изумленно открыв рот, созерцал людскую толчею; Эмлин быстрым взглядом пронизывала каждого, а старый Джекоб шепотом сообщал всевозможные, большей частью нелестные, сведения о всех проходящих мимо. Что касается Сайсели, то вскоре мысли ее унеслись далеко. Она знала, что сейчас решается ее судьба, что, если нынче все обойдется хорошо, врагов ее, наверное, постигнет возмездие, а она в богатстве и чести проведет остаток своей жизни. Но не об этом она мечтала — сердце ее было с Кристофером; без него все прочее не имело смысла. Где-то он сейчас? Если то, что рассказал Джекоб, было верно, он пережил много опасностей, но еще недавно был жив и здоров. Однако в те времена смерть настигала человека внезапно, поражая его молнией из неожиданно собравшихся туч или даже с ясного неба, — так что кто мог сказать наверное? Кроме того, он думал, что ее нет в живых, и потому, быть может, не старался беречь себя или же -самая ужасная мысль — взял в жены другую, что было бы вполне естественно. О, в таком случае…
В это самое мгновение шум какой-то перебранки вернул ее к действительности; и, подняв глаза, она убедилась, что Томас Болл вовлекает их в неприятность. Какой-то толстый неотесанный парень с огненно-красным бугристым носом, несколько подвыпивший, забавлялся тем, что поднимал на смех деревенский облик и рыжие волосы Томаса, громко спрашивая, не пользуются ли им в качестве пугала на его родных полях.
Сперва Томас довольно спокойно переносил эти насмешки, задав со своей стороны другой вопрос: не помогает ли нос толстого парня лондонским хозяйкам зажигать огонь в печи? Тот, заметив, что над ним потешаются больше, чем над Томасом, указал своим приятелям на ребенка, которого Сайсели держала на руках, и спросил: не кажется ли им, что он вылитый папаша? Тут вся ярость Томаса прорвалась наружу, хотя шутка была глупая и безобидная.
— Ах ты, паршивый лондонский подонок! — вскричал он. — Вот я покажу тебе, как оскорблять леди Харфлит мерзкими шуточками! — И, протянув свой огромный кулак, он, словно железными клещами, вцепился в багровый нос своего недруга и принялся крутить его, пока пьянчуга не завопил от боли. Тут сбежалась стража и Томаса едва не схватили за нарушение мира в королевском дворце. И он, наверное, был бы задержан, несмотря на все, что Джекоб Смит делал для его вызволения, если бы в то же мгновение не появился человек, при виде которого вся собравшаяся во дворе толпа расступилась с низкими поклонами, человек средних лет с умным, проницательным лицом. На нем было богатое платье, отороченный мехом бархатный плащ и такой же берет.
Сайсели сразу же распознала в нем Кромуэла, самого могущественного в Англии, после короля, вельможу, и старалась хорошенько запомнить его, прекрасно понимая, что в руках Кромуэла и ее судьба, и судьба ее сына. Она отметила и узкий, маленький, как у женщины, рот, и маленькие карие глазки, посаженные близко друг к другу и окруженные тонкими морщинками, что придавало им хитрое выражение, и, отметив все это, испугалась: перед ней был человек, который сейчас, по всей видимости, мог считаться ее другом, но если бы ему случилось оказаться врагом — а ведь однажды его уже подкупили, чтобы он стал врагом ее отца, — он проявил бы к ней не больше жалости, чем паук к мухе.
И в этом она была права, ибо Кромуэл высосал уже немало мух, запутавшихся в расставленной им паутине; находясь в самом расцвете могущества и славы, он забывал об участи своего учителя, кардинала Уолси
[136], в свое время еще более жадного паука.
— Что тут происходит? — резким голосом спросил Кромуэл. — Нашли место, где поднимать суматоху, — прямо под окнами его королевской милости!
А, это вы, мастер Смит? В чем дело?
— Милорд, — с поклоном ответил Джекоб, — это слуга леди Харфлит, но он не виноват. Вот этот толстый негодяй оскорбил ее, а слуга Болл, человек вспыльчивый, вцепился ему в нос.
— Вижу, что вцепился. Смотрите, он сейчас оторвет ему этот самый нос. Дружище Болл, отпусти своего противника, не то в руке у тебя останется предмет, совершенно тебе не нужный. Стража, заберите-ка этот пивной бочонок и минут пять подержите его голову под насосом, чтобы он протрезвел, а если он после этого очнется, набейте ему колодки. Ты молчи, ни слова, это тебе поделом. Мастер Смит, следуйте за мною со своими спутниками.
Толпа снова расступилась; они пошли за Кромуэлом к боковой двери, которая находилась тут же, и очутились в маленьком помещении, где никого не было, кроме них и Кромуэла. Там он остановился и, обернувшись, стал внимательно разглядывать их, особенно же Сайсели.
— Полагаю, мастер Смит, — сказал он, указывая на Болла, вытиравшего себе руки поднятыми с полу тростниковыми метелками, — это и есть тот самый человек, который, как вы мне говорили, разыгрывал в Блосхолме черта. Я вишу, что он и дурака свалять способен: еще минута, поднялась бы всеобщая суматоха, и вы, может быть, на много месяцев упустили бы случай увидеть его королевскую милость, ибо король решил завтра утром выехать из Лондона на север, хотя, правда, к утру он еще может изменить свое решение. Мятеж его сильно беспокоит, и, не обещай вы ему заем — а займы сейчас очень нужны, — весьма мало надежды было бы добиться дли вас аудиенции. Ну, а теперь медлить нельзя, и будьте осторожны, не рассердите короля — нынче он крайне раздражителен. По правде сказать, если бы не королева, которая сейчас с ним и которой захотелось увидеть леди Харфлит, едва не сожженную за колдовство, вам пришлось бы ждать более подходящего времени, а оно, чего доброго, и вовсе не наступило бы. Стойте! Что это у тебя в большом мешке, Болл?
— Чертово облаченье, если угодно вашей милости.
— В Лондоне многие носят чертово облаченье. Что ж, тащи его с собой; может быть, его величество посмеется; я бы тебе дал за это червонец, мне и то надоели проклятья и разносы и, — добавил он с кислой усмешкой, — даже тумаки. А теперь идемте, вы предстанете перед лицом короля; говорите только тогда, когда он к вам обратится, и не осмеливайтесь возражать, если он на вас и напустится.
Выйдя из этой комнаты, они пошли по коридору и очутились у другой двери, где двое часовых подозрительно посмотрели на Болла и его мешок, но Кромуэл что-то сказал им, и они пропустили их в просторную комнату с камином, в котором пылал огонь. В противоположном конце ее стоял высокий, надменного вида человек с плоским, жестоким лицом (которое Томас Болл сравнивал впоследствии с бычьей мордой), в богатом одеянии из темной материи и в бархатном берете. В руках он держал свиток пергамента, а против него, по другую сторону дубового стола сидел чиновник, весь в черном, и что-то писал тоже на пергаменте; кругом, на столе и на полу валялось еще много таких же пергаментных свитков.
— Негодяй! — кричал король. — Они догадались, что то был он, — ты неверно подсчитал эти цифры. И горькая же моя доля, что служат мне одни дураки!
— Прошу прощения у вашей милости, — дрожащим голосом произнес секретарь, — я их трижды проверял.
— И ты еще смеешь возражать, лживый стряпчий! — снова загремел король. — Говорю тебе, они не могут быть верными — здесь на тысячу сто фунтов меньше, чем мне было обещано. Куда девались эти тысяча сто фунтов?
Не ты ли их присвоил, ворюга?
— Я присвоил, я? О ваша милость!
— А почему нет? И почище тебя люди крадут. Только ты ведь болван -ума у тебя не хватит. Попроси лорда Кромуэла дать тебе несколько уроков.
Его-то обучали лучшие учителя, да к тому же и сам он из купцов. Убирайся ты вон и забирай свою писанину.
Несчастный чиновник поспешил подчиниться этому приказу. Наскоро собрав пергаменты, он откланялся разгневанному монарху. Но у двери, когда между ним и королем образовалось расстояние футов в двенадцать, он обернулся.
— Всемилостивейший государь, — снова начал он, — итог подсчитан верно. Честью клянусь: я, как верующий христианин, могу прямо смотреть в лицо вашему величеству, и в глазах у меня будет одна лишь правда…
На столе стояла массивная чернильница из бараньего рога, оправленная в серебро. Генрих схватил ее и изо всех сил швырнул в чиновника. Нацелился он отлично, ибо тяжелый рог угодил злополучному писцу прямо в нос, залил ему лицо чернилами, а его самого сбил с ног.
— Теперь у тебя в глазах будет еще кое-что, кроме правды! — крикнул король. — Поднимайся, покуда за чернильницей не последовал стул.
Две дамы, которые стояли у камина и разговаривали, не обращая внимания на эту грубую сцену, так как, по-видимому, привыкли к подобным вещам, взглянули на чиновника, засмеялись и продолжали свою беседу. Кромуэл улыбнулся и пожал плечами. И вдруг среди наступившего затем молчания раздался громкий голос Томаса Болла, с разинутым ртом наблюдавшего за происходящим:
— Вот это удар, так удар! Я сам бы не метнул лучше!
— Молчи, дурень, — прошипела Эмлин.
— Кто говорил? — спросил король, бросив быстрый взгляд в их сторону. — Прошу прощения, государь, это я, Томас Болл.
— Томас Болл! А умеешь ты метать камень из пращи, Томас Болл, кто бы ты там ни был?
— Так точно, государь, но, наверное, не лучше вас; замечательный был удар!
— Томас Болл, ты прав. Принимая во внимание спешку и неудобство снаряда, удар был превосходный. Пусть этот негодяй поднимется с пола, и я ставлю золотой нобль
[137] против медного гвоздя, что на таком же расстоянии ты метче не ударишь. Как, этот парень скрылся? Может быть, испробовать на милорде Кромуэле? Нет, сейчас не до забав. Какое у тебя ко мне дело, Томас Болл и кто эти женщины?
Тут Кромуэл вышел вперед и с раболепными жестами стал что-то тихим голосом объяснять королю. Тем временем обеих дам внезапно заинтересовала Сайсели, и одна из них, бледная, но красивая женщина в роскошном одеянии, подошла к пей.
— Вы и есть леди Харфлит, о которой мы уже слышали, та самая, что едва не была сожжена, как ведьма? Да? А это ваш ребенок? О, какой прелестный! Держу пари, что мальчик. Ну, поди ко мне, ангелочек, и впоследствии ты сможешь рассказывать, что тебя нянчила королева.
С этими словами она протянула руки.
По счастью, ребенок не спал, и его привлек ласковый голос королевы или же, может быть, блеск драгоценных каменьев ее ожерелья. Во всяком случае, он тоже протянул к ней ручонки и охотно прильнул к ее груди. Джейн Сеймур — ибо это была она — принялась ласкать его, а затем в сопровождении своей фрейлины подошла к королю.
— Взгляните, Гарри, взгляните, какой прелестный мальчуган и как он меня полюбил. Послал бы нам бог такого сынка!
Король посмотрел на мальчика и сказал:
— Да, неплохо было бы. Это уж твоя забота, Джейн. Понянчи, понянчи его; может быть, пол ребенка передается. И я и вся Англия ждем не дождемся, когда у тебя наступят роды, дорогая моя. Что вы такое говорили, Кромуэл?
Могущественный министр продолжал объяснять, пока королю не надоело слушать его и он не позвал:
— Подойдите сюда, мастер Смит.
Джекоб приблизился, отвесил поклон и молча вытянулся перед королем.
— Итак, мастер Смит, лорд Кромуэл говорит, что, ежели я подпишу эти бумаги, вы, по поручению леди Харфлит, дадите мне взаймы без процентов тысячу фунтов, в которых я в настоящее время нуждаюсь. Так где же эта тысяча фунтов? Обещаний мне не надо, даже от вас, мастер Смит, хотя известно, что вы свое слово держите.
Джекоб сунул руку под свой камзол, извлек из многочисленных внутренних карманов мешочки с золотыми монетами и разложил их в ряд на столе.
— Вот она, ваша милость, — спокойно сказал он. — Если вам угодно, золото можно взвесить и сосчитать.
— Клянусь богом! Пожалуй, пусть уж оно лучше останется здесь у меня: не ровен час, с вами на обратном пути что-нибудь приключится, мастер Смит. Чего доброго, упадете в Темзу и утонете.
— Ваша милость изволите говорить правду; пергаменты нести куда легче, даже если, — добавил он многозначительно, — на них стоит подпись вашего величества.
— Я не могу ничего подписать, — нерешительно заметил король. — Все чернила пролились.
Джекоб достал маленькую роговую чернильницу, которая, как у большинства купцов того времени, подвешена была у него к поясу, вынул втулочку и с поклоном поставил на стол.
— Вы и правда деловой человек, мастер Смит, слишком уж деловой для меня, простого короля. Вы так ко всему подготовились, что мне, наоборот, хочется помедлить. Может быть, нам лучше встретиться после, когда я буду посвободнее.
Джекоб снова поклонился и, протянув руку, медленным движением приподнял первый мешочек с золотом, словно собирался вновь спрятать его в карман.
— Кромуэл, подите-ка сюда, — произнес король, после чего Джекоб, словно по рассеянности, опять положил мешочек на стол. — Перечислите еще раз все пункты этого дела, Кромуэл.
— Государь, леди Харфлит жалуется на испанца Мэлдона, настоятеля Блосхолмского монастыря, который, по всем данным, умертвил ее отца, сэра Джона Фотрела, и ее супруга, сэра Кристофера Харфлита, хотя прошел слух, будто последнему удалось вырваться из его когтей и он в настоящее время находится в Испании. Еще: означенный аббат захватил земли, которые присутствующая здесь госпожа Сайсели должна была унаследовать от отца, и она ходатайствует о том, чтобы они были ей возвращены.
— Клянусь страстями господними, правосудие над Мэлдоном мы совершим и даром, если только сможем, — ответил король, хватив своим мощным кулаком по столу. — Незачем терять время на перечисление обид, которые он нанес леди Харфлит. Это ведь тот же самый негодяй испанец Мэлдон, который заварил нам чертову кашу на севере. Ладно, он сварится в своем же собственном котле, мы тоже можем предъявить ему порядочный счет. Что еще? — Леди Харфлит, урожденной Сайсели Фотрел, необходимо официальное признание законности ее брака с Кристофером Харфлитом. Бракосочетание было, без сомнения, совершено по закону, хотя аббат оспаривает его в своих личных интересах. Есть также ходатайство о денежном возмещении за гибель тех людей, которые пали в то время, когда означенный аббат напал на дом упомянутого Кристофера Харфлита и сжег его.
— Это было бы легче всего сделать, если бы сам Мэлдон тоже пал, но я согласен. Что еще?
— Обещание вашей милости, что к леди Харфлит отойдут земли Блосхолмского аббатства и Блосхолмской женской обители в качестве компенсации за данную агентом Сайсели Харфлит, Джекобом Смитом, взаймы вашему величеству тысячу фунтов.
— Требование немалое, милорд. Эти земли оценены?
— Так точно, государь, вашим комиссаром, каковой доложил, что стоимость их, то есть обрабатываемой земли вместе с лесными угодьями, не достигает тысячи фунтов золотом.
— Наш комиссар? Гроша медного не стоит его оценка; нет сомнения, что он подкуплен. Однако, вернув долг, мы сможем получить обратно земли. Кроме того, эта госпожа Харфлит и ее супруг тяжко потерпели от руки Мэлдона и от его вооруженных бандитов, так что я и тут готов согласиться. Ну, а теперь все? Я устал от всех этих разговоров.
— Еще одно только, ваша милость, — поспешно добавил Кромуэл, ибо Генрих уже поднялся, чтобы идти. — Госпожа Сайсели Харфлит, ее служанка Эмлин Стоуэр и одна старая полусумасшедшая монахиня были осуждены за колдовство церковным трибуналом, членом которого являлся аббат Мэлдон, по жалобе этого же самого аббата на то, что они околдовали его самого и его владения.
— Значит, он был и истцом и судьей в одном лице?
— Точно так, ваша милость. Хотя приговор не был утвержден королем, их возвели на костер, так что означенный Мэлдон тем самым присвоил себе прерогативы короны. Однако ваш комиссар Ли подоспел вовремя и освободил их, хоти и не без борьбы — оказались раненые и убитые. И теперь все три обвиняемые смиренно умоляют о даровании им вашим величеством монаршего прощения за их участие в человекоубийстве, если такое участие было; о том же молит и присутствующий здесь Томас Болл, по всей видимости и совершивший эти убийства…
— Вполне этому верю, — проворчал король.
— Ходатайствуют они также о признании суда над ними и приговора незаконными, а их самих не виновными в том, за что они были осуждены.
— Невиновными! — вскричал Генрих, который, потеряв терпение, придрался к последнему пункту. — Откуда же мы знаем, что они не были виновны, хотя правду сказать, если госпожа Харфлит ведьма, то уж, наверно, самая хорошенькая из всех, которых мы видели и о которых слыхали. Вы, Кромуэл, как всегда, требуете непомерно много.
— Умоляю вашу милость еще о минуточке терпения. Здесь имеется человек, который может доказать их невиновность: вот этот рыжеволосый Болл.
— Как? Тот, что похвалил наш удар? Хорошо, Болл: раз уж ты такой удалец, мы тебя выслушаем. Доказывай, но покороче.
— Теперь все пропало, — шепнула Эмлин Сайсели. — Болван Томас наверняка посадит нас в лужу.
— Ваша милость, — произнес Томас своим мощным голосом. — Повинуюсь вам и скажу лишь три слова: чертом был я.
— Черта с два ты им был! Как тебя понимать?
— Ваша милость, в Блосхолме пошаливала нечистая сила, а шалости-то были мои.
— А как же иначе, раз ты там жил?
— Сейчас я покажу вашей милости. — И, без лишних слов, к величайшему ужасу Сайсели, Томас высыпал из мешка все предметы своего адского облачения и принялся одеваться. Так как в этом деле он хорошо напрактиковался, не прошло и минуты, как на нем уже была устрашающая маска вместе с рогами и шкурой козла вдовы Джонсон, в руке он вертел трехзубую острогу с укороченной рукояткой. В этом одеянии он принялся выделывать разные штуки перед изумленными королем и королевой, помахивая хвостом, в котором продета была проволока, и стуча копытами по полу.
— О, отличный черт! Замечательный черт! — вскричал его величество, хлопая в ладоши. — Повстречайся ты мне, я бы пустился наутек, что твой заяц. Слушай, Джен, загляни-ка в ту дверь и скажи мне, что за народ там собрался.
Королева повиновалась и, вернувшись, сказала:
— Там дожидаются аудиенции епископ со священником, но какой, не разобрала — становится темно, — и с капелланом, а также всякие лорды королевского Совета.
— Прекрасно. Испытаем на них черта — они же мастера укрощать дьявола. Друг сатана, подойди к этой двери, незаметно проскользни в нее, а там бросайся в самую толпу, кричи и гони их сюда, так чтобы мы увидели, у кого из них хватит храбрости усмирить тебя. Понял, Вельзевул?
Томас кивнул своими рогами и исчез бесшумно, как кошка.
— Теперь откройте двери и становитесь все на одну сторону.
Кромуэл повиновался, и долго ждать не пришлось. Из соседней залы донесся ужасающий многоголосый вопль, затем в комнату через открытую дверь ворвался задыхающийся епископ, за ним лорды, капелланы, секретари и, наконец, священник; толстый, запутавшийся в своем облачении, он не мог так быстро бежать, хотя за его спиной скакал и завывал сам сатана. Все они никакого внимания не обратили на его королевское величество или на кого-либо другого: мчась через комнату к противоположной двери, они думали только о том, как бы поскорее улепетнуть.
— Замечательно, великолепно! — гремел король, трясясь от хохота. -Коли их вилами, черт, коли!
И Болл, получив королевский приказ, усердствовал вовсю.
В полминуты все было кончено. Толпа налетела и пронеслась, только Том в своем устрашающем одеянии стоял, склонившись перед королем.
— Спасибо, Томас Болл, — вскричал тот, — ты насмешил меня так, как я уже много лет не смеялся! Понятно, что твою хозяйку осудили как ведьму. А теперь, — добавил он другим тоном, — довольно шутовства. Вы, Кромуэл, разыщите кого-нибудь из этих болванов и растолкуйте, в чем дело, пока по всему дворцу не пошли россказни. Джен, перестань хохотать, всему свое время. Подойдите, леди Харфлит: мне надо с вами поговорить.
Сайсели приблизилась и низко присела перед королем, оставив уснувшего ребенка на руках у королевы, ибо та, видимо, и не думала с ним расставаться.
— Вы требуете от нас многого, — внезапно произнес он, испытующе глядя на нее, — и полагаетесь, несомненно, или на то, что обиды, вам причиненные, велики, или на свою привлекательную внешность, или и на то и на другое вместе. Что ж, все это, быть может, трогает королей больше, чем кого-либо другого. К тому же я знал старого сэра Джона, вашего батюшку: он был честный и храбрый человек, отлично дрался при Флоддене
[138]. Да и молодой Харфлит, ваш супруг, если он еще жив, с честью носит имя своих предков. Вдобавок недруг ваш, Мэлдон, является также и нашим врагом — чужеземная змея, предатель, из тех, кого вся Англия ненавидит, потому что они хотят видеть ее под пятой Испании. Так вот, госпожа Харфлит, наверное, выйдя от нас, вы разнесете повсюду странные рассказы о короле Гарри
[139] и его повадках. Вы станете говорить, что он валяет дурака, швыряет в своих слуг чернильницами, приходя в гнев (видит бог, у него для этого часто бывают основания), и натравливает на своих епископов ряженых чертей (а почему бы и нет, когда мир полон остолопов?). Вы также скажете, что он действует по указке своих министров и подписывает все, что ему подсовывают, не особенно заботясь о том, чтобы выяснить, где там правда, а где ложь. Что ж, такова участь властителей, ибо даже у них лишь одна голова и ровно столько времени, сколько отпущено одному человеку, ибо они вынуждены доверяться слугам, пока те не превращаются в господ, и тогда остается только одно, -тут лицо его приняло свирепое выражение, — уничтожать их и заводить других, еще хуже. Новые слуги, новые жены, — при этих словах он взглянул на Джен, которая не слушала, — новые друзья, причем и те, и другие, и третьи изменяют, новые враги, а под конец итог всему подводит старуха смерть. Такова была участь всех владык мира, начиная с царя Давида, и так, я думаю, всегда будет.
Он замолк и ненадолго погрузился в мрачное раздумье, затем поднял глаза и продолжал:
— Не знаю, зачем я говорю все это такому ребенку, как вы. Впрочем, вы ведь, несмотря на свою молодость, хлебнули горя, и на душе у вас не легко. Да, да, о вас и о вашем деле я слышал больше, чем вы предполагаете, и память у меня хорошая — это уж моя особенность. Госпожа Харфлит, вы на самом деле богаче, чем признались, по данному вам совету, и, повторяю, просите меня о многом. Правосудие государи творить обязаны, и вы его получите. Но обширные земли аббатства и земли Блосхолмской обители, которые вы хотели бы вернуть вашим приятельницам монашкам, общее прощение тем, кто, вступившись за вас, пролил кровь, отмена без соблюдения законной формы приговора, вынесенного правомочным трибуналом, хотя бы даже этот приговор и был неправильным, — все это за один лишь заем ничтожной суммы -тысячи фунтов? Вы хорошо соблюдаете свою выгоду, леди Харфлит; мощно подумать, что отцом вашим был какой-нибудь барышник, а не суровый Джон Фотрел, так ловко вы торгуетесь со своим королем, когда он в нужде.
— Государь, государь, — прервала его вконец смущенная Сайсели, — у меня больше ничего нет; земли мои разорил аббат Мэлдон, дом моего мужа сожжен его солдатами, а целый годовой доход с моего имущества, если я его все-таки получу, обещан…
— Кому?
Она колебалась.
— Кому? — загремел он. — Отвечайте, сударыня.
— Комиссару вашего королевского величества, доктору Ли.
— А, так я и думал, хотя, рассказывая о вас, гнусный мошенник об этом умолчал.
— Драгоценности, доставшиеся мне от матери, заложены за ту самую тысячу фунтов, а больше у меня нет.
— Очевидная ложь, госпожа Харфлит, ибо чем же вы платили Кромуэлу? Даром он вас сюда не привел бы.
— О государь, государь, — вскричала Сайсели, падая на колени, — не требуйте от беспомощной женщины, чтобы она предала тех, кто помог ей в ее правом деле и в самой горькой нужде! Я сказала, что у меня ничего нет, разве что эти драгоценности стоят дороже, чем мне самой известно.
— Верю, госпожа Харфлит. Хорошо мы все вас обчистили — не так ли? Но, может быть, в конце-то концов вы в проигрыше не останетесь. Ну, а мастер Смит работает ведь не за одно только спасибо?
— Государь, — сказал Джекоб, — это правда; я подражаю своим господам.
Драгоценности этой леди у меня в закладе, и я надеюсь кое-что заработать. Однако, ваше величество, среди них имеется розовая жемчужина редкой красоты, и, может быть, королеве было бы приятно носить ее. Вот она. — И он положил жемчужину на стол.
— О, какая прелесть! — сказала Джен. — Никогда еще я ничего подобного не видела.
— В таком случае рассматривай получше, женушка, ибо ты видишь ее в последний раз. Когда нам нечем платить своим солдатам, чтобы удерживать на голове корону и охранять свободу Англии от испанцев и римского папы, не время дарить тебе каменья, которых я не купил. Возьмите эту драгоценность, мастер Смит, и продайте ее за ту сумму, которую можно будет выручить у евреев; сумму же эту добавьте к полученной мной тысяче фунтов, удержав в свою пользу одну десятую за труды. Итак, госпожа Харфлит, вы купили благоволение короля, и это святая правда, ибо, в отличие от многих других, я никогда не лгу. А, вот и Кромуэл. Милорд, вы не торопились.
— Ваша светлость, тот священник едва не помешался от страха и воображает, что попал в ад; мне пришлось обождать, пока не явился врач.
— Теперь, когда вы ушли, он наверняка почувствует себя лучше. Бедняга, если ряженый черт так напугал его, что он будет делать, когда ему придется иметь дело с настоящими? Так вот, Кромуэл, я обдумал это дело и подпишу ваши бумаги, все до единой. Госпожа Харфлит рассказала мне, как вы постарались для нее, и притом задаром. Я очень доволен, Кромуэл, потому что порою удивлялся — как это вы богатеете, подобно вашему учителю Уолси? А он-то брал взятки, Кромуэл!
— Государь, — ответил тот тихим голосом, — с миледи поступили жестоко, и это вызвало во мне жалость!..
— Так же как и в нас, причем мы разбогатели на тысячу фунтов и на стоимость одной жемчужины. Ну как, все пять документов подписаны? Возьмите их, мастер Смит, поскольку леди Харфлит ваша клиентка, и тщательно проверьте сегодня вечером. Если окажется какая-нибудь ошибка или упущение, даю вам свое королевское слово — все будет исправлено. Вот наш приказ -заметьте себе, Кромуэл, когда наступит момент осуществить на деле все, о чем здесь идет речь касательно прощений, пожалований и восстановлений в правах, — осуществлено это должно быть незамедлительно.
Под бумагами вы и свою подпись поставьте здесь же, при мне. Никаких поборов ни в открытую, ни тайно никому больше не дозволяется изымать ни с леди Харфлит, каковую отныне, в знак особой нашей милости, мы жалуем и именуем владетельницей Блосхолма, ни с ее супруга или сына. Комиссар Ли обязан под соответственную расписку внести в нашу казну всю сумму или суммы, которые могла ему посулить указанная госпожа Харфлит. Запишите все это, милорд Кромуэл, и проследите за тем, чтобы слово мое было выполнено, я с вас спрошу.
Вельможа поспешно повиновался, ибо во взгляде короля он прочел нечто, нагнавшее на него страх. Королева же, увидев, как вожделенная жемчужина исчезла в кармане Джекоба, вернула ребенка Сайсели и, не сказав королю на прощанье ни слова и даже не поклонившись, вышла в сопровождении своей фрейлины из комнаты и хлопнула за собой дверью.
— Ее милость гневается из-за того, что эта жемчужина, ваша жемчужина, леди Харфлит, ей не досталась, — сказал Генрих, добавив с сердитым ворчанием: — Клянусь богом! Как смеет она куражиться надо мною, когда я весь поглощен куда более важными делами! Ого, Джен Сеймур нынче королева и желает, чтобы об этом знал весь свет. Ну, а что превращает женщину в королеву? Прихоть короля и золотая корона на голове, а корону может снять та же рука, которая надела ее, да еще с головой и всем прочим в придачу, если так просто не снимется. И где тогда королева? Чума на всех баб и на все, что заставляет нас к ним тянуться! Госпожа Харфлит, вы, надеюсь, со своим супругом так обращаться не станете? Вы ведь никогда не были при дворе иначе я бы вас помнил. Что ж, может быть, так для вас лучше, и именно потому-то вы и остались милой и кроткой.
— Если я кротка, государь, то этому научило меня горе; я ведь много страдала и даже теперь еще не знаю, жена я или вдова, а с мужем прожила всего одну неделю.
— Вдова? Если вы овдовели, то приходите ко мне, и я найду вам супруга еще познатнее вашего. С такой внешностью и состоянием, как у вас, это будет нетрудно. Ну, не плачьте, я верю, что этот счастливец жив и возвратится порадовать вас и послужить своему королю. И, во всяком случае, надеюсь, что он не станет орудием Испании и папистским интриганом.
— Если бог даст, он будет так же верно служить вашей милости, как служил мой убитый отец.
— Мы знаем это, леди. Вы когда-нибудь кончите марать бумагу, Кромуэл? Предстоит еще заседание совета, а потом надо поужинать и сказать на сон грядущий два слова ее милости. Ты, Томас Болл, не дурак и умеешь держать в руке меч. Посоветуй-ка: идти мне самому на север усмирить мятежников или оставаться здесь и поручить это дело другим?
— Оставайтесь здесь, ваша милость, — поспешил ответить Томас. — Между Уошем и Хомбером местность зимою дикая, стрелы там летают, как утки в ночи, и никому не ведомо, откуда они пущены. К тому же милость ваша тяжеловаты для верховой езды по лесам и болотам, а случись беда, в Испании и Риме, а то и поближе многие обрадуются; и кто будет править Англией, когда на престол сядет девочка? [в то время у Генриха VIII были две дочери: от брака с Екатериной Арагонской — Мария (род.
В 1516 г.) и от брака с Анной Болейн — Елизавета (род.
В 1533 г.)] — С этими словами он многозначительно уставился на спину Кромуэла.
— Наконец-то я из уст рыжего мужика услышал правду, — пробормотал король, тоже взглянув на невозмутимого Кромуэла, который продолжал писать, прикинувшись глухим либо действительно ничего не слыша. — Томас Болл, я сказал, что ты не дурак, хотя многие и считали тебя таковым. Может быть, ты хотел бы чего-нибудь попросить в награду за свой совет — только не денег, у нас их нет.
— Так точно, государь; освободите меня от обетов, которые я дал как батрак Блосхолмского аббатства, и разрешите мне вступить в брак.
— В брак? А с кем?
— С ней, государь. — И он указал на Эмлин.
— Что? С другой красивой ведьмой? Ты разве не видишь, что она с норовом? Молчи, молчи, баба, это по лицу твоему видно. Хорошо, получай свою свободу и ее в придачу, но почему, Томас Болл, ты не попросил чего-нибудь другого, раз представился случай? Я был о тебе лучшего мнения. Но ты оказался не умнее всех прочих. Прощай, дурачина Томас, прощайте и вы, прекрасная леди Блосхолма.
16. ГОЛОС В ЛЕСУ
После того как к документам была приложена печать, все четверо благополучно возвратились домой, в Чипсайд, в сопровождении трех солдат, которых им дали для охраны.
— Ну как, хорошо было сделано, хорошо? — спросил Джекоб, потирая руки.
— Кажется, да, мастер Смит, — ответила Сайсели. — Благодаря вам, разумеется, если все, что сказал король, действительно стоит в документах. — Там все в полном порядке, — сказал Джекоб. — Знайте, что я сам с помощью стряпчего и трех писцов составил их сегодня в канцелярии лорда Кромуэла; и уверяю вас, я не стеснялся. Мы основательно поработали, даже обедать не пошли, вот почему я и опоздал на десять минут, за что мне так досталось от Эмлин. Однако я опять перечту документы, и, если хоть что-нибудь опущено, мы выправим, хотя вообще это те самые пергаменты, — я на них поставил никому не заметные знаки.
— Нет, нет, — возразила Сайсели, — пусть остается как есть. Может, изменится настроение его милости или же королевы из-за этой жемчужины.
— Ах, жемчужина! Жалко мне было расставаться с такой красивой жемчужиной. Но ничего не поделаешь, придется ее продать, а деньги пойдут королю — этого требует честь. А если бы я отказал, кто знает, как обернулось бы дело? Да, надо бога благодарить: хоть мы и пожертвовали большей частью ваших драгоценностей, зато нам достались земли аббатства и кое-что другое. Ничто не забыто. С Болла сняли рясу, и он может жениться; кузина Стоуэр получила мужа.
До этого момента Эмлин, ко всеобщему удивлению, молчала. Но тут ее словно прорвало.
— Что я, скотина, чтобы меня отдавать по приказу короля этому человеку? — вскричала она, указывая пальцем на Болла, стоявшего в углу комнаты. — Кто дал тебе право, Томас, свататься ко мне?
— Раз уж ты спрашиваешь Эмлин, так я отвечу: ты сама. Один раз, много лет назад, — у речки на лугу, а второй — недавно в часовне Блосхолмской обители, перед тем как я стал разыгрывать черта.
— Разыгрывать черта! Да, ты и меня здорово разыграл. Битый час, а то и больше я стояла перед лицом короля и словечка не смогла вымолвить, в то время как все кругом разговаривали, а под конец дождалась, что его милость назвал меня бабой с норовом, а тебя дураком за то, что ты хочешь на мне жениться. О, если мы и поженимся, я уж постараюсь доказать тебе, что он был прав.
— Коли так, Эмлин, то, пожалуй, нам с тобой, так долго жившим в разлуке, лучше и не сходиться, — спокойно ответил Томас. — Но не понимаю, почему ты разъярилась: из-за того, что тебе пришлось в течение какого-то часа придержать свой язык на привязи, или из-за того, что я по-благородному попросил тебя в жены? Я как мог поработал для тебя и твоей госпожи, не щадя себя, и дело не так уж плохо обернулось: мы от всего очистились и твердо стоим на пути к миру и благоденствию. Если ты недовольна, значит, король прав: я последний дурак, и потому — до свидания, не стану больше докучать тебе ни в радости, ни в беде. Мне дано разрешение жениться, и я найду других женщин на белом свете, если захочу. — И червяк взъерепенится, если на него наступишь, — как бы про себя произнес Джекоб.
Эмлин же разразилась слезами.
Сайсели подбежала утешать ее, а Болл сделал вид, будто собирается уходить. В это мгновение с улицы постучали в дверь и раздался чей-то голос:
— Именем короля! Именем короля, отворите!
— Это комиссар Ли, — сказал Томас. — У него я и научился этому возгласу, очень полезному в тяжелую минуту, как, наверно, кое-кто из вас помнит.
Эмлин отерла рукавом слезы, Сайсели села, а Джекоб рассовал пергаменты по карманам, после чего в комнату ворвался комиссар, которому кто-то открыл.
— Что я слышу? — закричал он, обращаясь к Сайсели. Лицо его побагровело, как мясистые наросты на голове и шее рассерженного индюка. -Вы, оказывается, действовали за моей спиной; оклеветали меня перед его королевской милостью, и он назвал меня негодяем и вором и велел мне внести в казну все, что я должен от вас получить! Какая неблагодарность! Напрасно спасал я вас от костра, раз вы меня так опозорили.
— Вы столько пылу и жару принесли в мой убогий дом, ученейший доктор, что теперь-то мы, пожалуй, действительно сгорим, — успокоительным тоном произнес Джекоб. — Леди Харфлит сказала лишь то, что вынудил ее сказать его величество; я присутствовал при этом и могу подтвердить. К тому же вы повсюду так много набрали, что вам ничего не стоит уделить какую-то малость казне. Ну, ну, выпейте кубок вина и успокойтесь.
Однако доктор Ли, который и без того уже осушил немало кубков вина, не в состоянии был успокоиться. Он принялся поносить всех присутствующих одного за другим, но особенно досталось Эмлин, которую он объявил главной виновницей всех своих бед; под конец он даже обозвал ее очень уж плохим словом. Тогда вперед выступил Томас Болл, до этого момента безмолвно стоявший в стороне, и схватил его за шиворот.
— Именем короля! — сказал он. — Нет, нет, теперь не взыщите, это ведь ваш возглас, и вы сами дали мне право действовать с его помощью. — С этими словами Томас хватил доктора Ли головой о дверную притолоку. — Именем короля, вон отсюда! — и он дал ему такого пинка, какого королевский комиссар дотоле еще не получал и от которого кубарем покатился к входной двери. — В третий раз именем короля! — и тут он вышвырнул доктора Ли во двор. — Убирайтесь и запомните, что если я еще раз увижу вашу дурацкую рощу, то именем короля сверну вам шею.
Таким образом ревизор Ли навсегда скрылся с глаз Сайсели, хотя в положенное время она уплатила ему сумму, равную годовому доходу с ее имущества, не поинтересовавшись, впрочем, узнать, кто этими деньгами воспользовался.
— Томас, — сказала Эмлин, когда Болл вернулся к ним, еще улыбаясь при мысли о славном прощальном ударе, — король был прав: я временами бываю норовиста, и это не плохо, так как не раз помогало мне. Забудь все, и я тоже забуду. — С этими словами она подала ему руку, которую он поцеловал, а затем пошла позаботиться об ужине.
Когда они ели, притом с большой охотой, ибо сильно проголодались, снова раздался стук в дверь.
— Пойди, Томас, — сказал Джекоб, — и скажи, что мы сегодня никого не принимаем.
Томас пошел открывать, и они услышали, как он с кем-то разговаривает. Вскоре, однако, он вернулся, а за ним шел человек, закутанный в плащ.
— Пришел посетитель, которому и не смею отказать, — сказал Томас, и все встали, вообразив ни с того ни с сего, что это сам король, а не человек в то время почти столь же могущественный, — лорд Кромуэл.
— Простите меня, — сказал Кромуэл, кланяясь с обычной своей учтивостью, — и, если на то будет ваша милость, разрешите мне сесть вместе с вами за стол и перекусить чего-нибудь; я в этом очень нуждаюсь, так как сегодня крепко поработал.
Он сел к столу, ел и пил, благодушно беседуя о том о сем, причем рассказал, что на заседании совета король изменил свое решение и не отправится на север усмирять мятежников, а пошлет герцога Норфолкского с другими лордами. По мнению Кромуэла, на короля повлияли очень запомнившиеся ему слова Томаса Болла. Кончив есть, он отодвинул кубок, тарелку, взглянул на хозяев и сказал:
— А теперь к делу. Миледи Харфлит, счастье вам нынче улыбнулось, ибо вы получили все, о чем просили, а это весьма удивительно, принимая во внимание, в каком настроении находился его королевская милость. Вдобавок должен вас поблагодарить за то, что вы не ответили на некий вопрос обо мне лично, хотя, говорят, король очень настаивал на ответе.
— Милорд, — сказала Сайсели, — вы же оказали мне большую услугу. Хотя, бог знает, как бы все обернулось, если бы он продолжал требовать ответа. Комиссар Ли не очень-то меня поблагодарил. — И она рассказала Кромуэлу об их недавнем госте и о том, как кончилось это посещение.
— Грубый и жадный человек, который теперь, без сомнения, будет для вас врагом, — ответил Кромуэл. — Впрочем, вы никак не могли поступить иначе — против рожна не попрешь. Во всяком случае, пока я нахожусь у власти, вашей верности не забуду, хотя, по правде говоря, миледи Блосхолм, держусь я на волоске
[140], а подо мной — бездна, поглотившая уже немало людей и покрупнее меня. Поэтому — не стану отрицать — я и стараюсь отложить кое-что на черный день, пока могу, хоть и не знаю, удастся ли мне самому этим воспользоваться.
Он призадумался, а затем, вздохнув, продолжал:
— Времена сейчас смутные. Так что вы, хоть вам и обещано богатство, можете умереть нищей. Земли Блосхолмского аббатства, на которые вы получили нерушимую грамоту, еще не в руках короля, и он не может передать их вам. На севере поднялась великая буря, и, говорю это не для разглашения, ярость ее может смести Генриха с престола. Если это случится, вам надо будет скрыться в такие места, где вас никто не знает, ибо после того, что сегодня произошло, единственным вашим наследством будет тогда веревка. Кроме того, нынешняя королева, в противоположность покойной Анне, сочувствует церковникам
[141] и, хоть она и делает вид, что не придает значения таким вещам, из-за жемчужины сердита на короля, а также и на вас как владелицу жемчужины. Не осталось ли у вас какой-нибудь драгоценной вещи, которую вы могли бы дать мне для передачи ей? Что же касается самой жемчужины — кстати, когда мастер Смит показывал мне другую такую же, он, помнится, клялся, что подобной нет в целом свете, — ее надо продать, согласно королевскому повелению. — И тут он не очень-то ласково взглянул на Джекоба.
Сайсели сказала Джекобу несколько слов; тот вышел и вскоре возвратился,
держа в руках брошь с крупным алмазом, окруженным пятью небольшими рубинами.
— Примите это вместе с моей глубокой благодарностью, милорд, -произнесла Сайсели.
— Отлично, отлично. О, не бойтесь, королева получит брошь, — я сам в этом заинтересован не меньше вас. Вы мудро поступаете, леди Харфлит, когда даете заблаговременно. Но и у меня есть для вас подарок, который, может быть, придется вам больше по сердцу, чем драгоценные камни. Ваш супруг, Кристофер Харфлит, в сопровождении слуги, прибыл в Англию и сошел на берег где-то на севере, живой и невредимый.
— О милорд! — вскричала она. — Где же он сейчас?
— Увы! Конец моего сообщения не столь приятный, ибо, отправившись дальше, кажется из Гулля он был взят в плен мятежниками и заключен в Линкольне: он ведь знатного рода и они хотели бы завербовать его в свои ряды. Но, будучи человеком рассудительным и верным, он ухитрился переслать письмо командующему королевскими войсками, и сегодня вечером его доставили мне. Вот оно — узнаете почерк?
— Да, да, — с трудом выговорила Сайсели, не опуская глаз с клочка бумаги, покрытого каракулями, притом не очень грамотными, ибо Кристофер не отличался ученостью.
— Так я вам прочту его, а потом мы сделаем копию, и я заверю ее, чтобы вещественных доказательств у нас было больше.
«Командующему королевскими войсками под Линкольном.
Пишу, дабы вы, его королевская милость, министры короля и все прочие знали, что мы — Кристофер Харфлит, дворянин, и Джефри Стоукс, его слуга, -выехав из порта, в который прибыли из Испании, были захвачены вооруженными мятежниками, восставшими против короля, и доставлены в Линкольн. Эти люди хотели бы завербовать меня в свои ряды, так как род Харфлитов — сильный и знаменитый. Они грозились нас убить, и мы вынуждены были дать им какую-то присягу. Но мое письмо пусть явится доказательством, что я сделал это лишь с целью сохранить жизнь, а сердце у меня к ним не лежит, я верен королю и плохо понимаю, чего они хотят. Да и сама по себе жизнь мне не дорога, так как я потерял свою жену и свое достояние и все вообще. Но умирать не хочу, пока не отомстил злодею и убийце, блосхолмскому аббату, а потому стараюсь сохранить жизнь и убежать от них.
Слыхал я, что означенный аббат собрал большое войско и находится в пятидесяти милях отсюда. Молю бога, чтобы он не допустил меня снова попасть к аббату в когти, но ежели это случится, передайте королю, что Харфлит умер как человек верный.
Кристофер Харфлит.” Джефри Стоукс приложил палец.
— Милорд, — спросила Сайсели, — что же мне теперь делать, милорд?
— Ничего нельзя пока сделать, только надеяться на бога и на лучший исход. Не сомневаюсь, что ему удастся бежать, но, во всяком случае, его королевская милость завтра же утром увидит это письмо и, если окажется возможным, пошлет приказ помочь ему. Перепишите письмо, мастер Смит. Джекоб взял письмо и принялся быстро писать, а Кромуэл сидел и думал. — Слушайте, — произнес он наконец. — Вокруг Блосхолма мятежников нет, — все они перебрались на север. Имена Фотрел и Харфлит в Блосхолме хорошо известны. Не могли бы вы отправиться туда и набрать отряд добровольцев?
— Да, да, я могу это сделать, — вмешался Болл. — За неделю я наберу под свою команду добрую сотню человек. Дайте миледи полномочия и денег, а меня назначьте командиром и сами увидите, что будет.
— Полномочия и назначение, скрепленные королевской печатью, будут доставлены сюда завтра в девять утра, — ответил Кромуэл. — Деньги вы должны раздобыть сами — они имеются только в сундуках Джекоба Смита. Но обдумайте все хорошенько, леди Харфлит, — дело опасное, а здесь вам ничто не грозит.
— Я знаю, что дело опасное, — ответила она, — но что для меня опасность — я их уже столько пережила, — когда мой муж там и я могу помочь ему?
— Вы сильны духом, и я надеюсь, что силы эти даны вам свыше, -заметил Кромуэл.
Но старый Джекоб, заканчивая свою копию словами «с подлинным верно», под которым Кромуэлу оставалось только поставить подпись, грустно покачал головой.
Не медля ни минуты и даже не сверив оба документа, Кромуэл подписал копию, сказал на прощанье несколько любезных слов и ушел, так как его ждали куда более важные дела.
С тех пор Сайсели его никогда не видела. Впрочем, кроме Джекоба Смита, ей так и не пришлось увидеть никого из людей, в том числе и короля, связанных с этими обстоятельствами ее жизни. Все же, несмотря на его хитрость и вымогательства, ей стало жаль Кромуэла, когда года четыре спустя герцог Суффолкский и граф Саутгэмптон грубо сорвали с него орден Подвязки и другие знаки отличия, и из Королевского совета он был отведен в Тауэр, а оттуда, после унизительных молений о пощаде, — на плаху. Во всяком случае, ей он хорошо послужил, ибо исполнил все свои обещания до последнего. Напоследок он даже отослал ей обратно розовую жемчужину, полученную от Джекоба Смита, написав при этом, что, как он уверен, владеть такой вещью ей скорее подобает, чем ему, и он надеется, что она принесет ей больше счастья.
Когда Кромуэл отбыл, Джекоб обратился к Сайсели и спросил, покинет ли она его дом завтра же.
— Разве я уже не сказала? — с раздражением спросила она. — Могу ли я оставаться в Лондоне после того, что узнала? Почему вы спрашиваете?
— Потому что мне надо свести с вами счет. Я считаю, что за помещение и харчи вы должны мне около двадцати марок золотом. К тому же нам, вероятно, понадобятся деньги на дорогу, а сегодня у меня совсем не осталось звонкой монеты.
— Нам на дорогу? — переспросила Сайсели. — Разве вы поедете с нами, мастер Смит?
— Думаю, что с вашего разрешении поеду, леди. Здесь настало неспокойное время, у меня нет ни шиллинга дли ссуд, а если я не буду ссужать, мне этого никогда не простят. К тому же я заслужил отдых и хотел бы перед смертью еще раз повидать Блосхолм, где родился, если, конечно, мы туда доберемся. Но если отправляться завтра, то у меня сегодня будет еще много дела. Так, например, надо спрятать в надежном месте ваши драгоценности, что у меня в закладе, надо сделать копии с этих документов и передать в верные руки жемчужину для продажи. В котором же часу отправимся мы в это безрассудное путешествие?
— В одиннадцать, — ответила Сайсели, — если к тому времени получим от короля пропуск и полномочия. — Что ж, пусть так. А теперь пожелаю вам доброй ночи. Пойдем-ка со мною, достойный Болл, нам ведь спать не придется. Я сейчас позову своих писцов, а тебе надо позаботиться о лошадях. Вы же, леди Харфлит, и вы, кузина Эмлин, отправляйтесь почивать. На следующее утро Сайсели поднялась с зарей и даже рада была этому, так как провела бессонную ночь. Долго не могла она заснуть, а когда наконец забылась, ее стало носить по морю сновидений: ей снились король, угрожающе говоривший что-то своим мощным голосом; Кромуэл, забиравший у нее все, вплоть до одежды; комиссар Ли, который тащил ее обратно на костер за то, что от него ускользнула данная ею взятка.
Но чаще всего видела она Кристофера, своего любимого мужа; теперь он был как будто бы близко, вместе с тем так же далеко, как прежде: он был пленником в руках мятежников и считал ее умершей.
От всех этих грез она очнулась заплаканная и истерзанная страхом. Неужели теперь, когда чаша радости почти у самых губ, судьба снова отнимет ее? Ничего нельзя было знать заранее, ибо помочь ей могла только вера, так хорошо послужившая ей недавно. Однако она была уверена, что если Кристофер жив, он проберется в Крануэл или Блосхолм, и ей, невзирая ни на какие опасности, надо поскорее мчаться туда же со всей скоростью, на какую способны будут их кони.
Как могли, торопились они, собираясь в путь, но все же лишь к часу пополудни удалось им выехать из Чипсайда. Надо было столько сделать, но все же многое осталось недоделанным. Все четверо ехали в самой скромной одежде, выдавая себя за людей купеческого звания, возвращающихся в Кембридж после поездки в Лондон по делам о наследстве, в котором заинтересованы были все, но особенно Сайсели, изображавшая вдову, по имени Джонсон. Эту историю они и рассказывали всюду, внося в нее те или иные изменения, смотря по обстоятельствам. На обратном пути им было легче, чем по дороге в столицу, ибо сейчас, по крайней мере, они не находились в гнусном обществе комиссара Ли и его людей, не тревожила их и мысль о том, что они везут с собой ценные вещи. Все эти украшения остались в надежных местах, равно как и документы, подписанные королем и скрепленные его печатью, — с собой они взяли только заверенные копии, а также полномочия на сбор отряда, присланные Кромуэлом и выданные на имя Сайсели и ее мужа, и грамоту, назначавшую Болла командиром. Документы были спрятаны у них в обуви и под одеждой вместе с деньгами, необходимыми на дорожные расходы. Имея отличных, неутомленных лошадей, они ехали быстро и к концу второго дня благополучно прибыли в Кембридж, где и заночевали. Там им сообщили, что за Кембриджем повсюду очень неспокойно и путешествовать опасно. Но в тот момент, когда они пришли в полное отчаяние и даже Болл заявил, что дальше ехать нельзя, прибыл отряд королевских конников, который двигался в том же направлении, что и они, на соединение с войсками герцога Норфолкского, действовавшими где-то в Линкольншире.
Их командиру, по имени Джефрис, Джекоб показал королевские полномочия и открыл, кто они такие. Так как в полномочиях указывалось, что все офицеры и чиновники его величества должны оказывать им содействие, капитан Джефрис согласился дать им охрану до того места, где их пути разойдутся. Поэтому на следующий же день они смогли отправиться дальше. Общество, в котором они теперь находились, было не из приятных, ибо эта сотня вооруженных людей состояла из очень грубых парней. Будучи, однако, предупреждены, что каждый, кто оскорбит или хоть пальцем тронет путешественников, будет повешен, солдаты оставили их в покое. И хорошо было, что они смогли получить охрану, ибо местность, через которую они проезжали, кишела вооруженными отрядами под предводительством священников, которые не раз угрожали им и напали бы на них, если бы осмеливались.
В течение двух дней путешественники ехали вместе с капитаном Джефрисом и к вечеру второго — добрались до Питерборо, где нашли приют в гостинице.
Но наутро, когда они встали, оказалось, что Джефрис со своими людьми уже выступил, оставив им записку, что получил спешный приказ немедленно идти в Линкольн.
Теперь им опять пришлось рассказывать старую историю, но при этом объявлять себя бостонскими горожанами, которые узнали, будто на Болотах спокойно
[142], может быть, потому, что там живет так мало народу, и решили переехать туда под предводительством Болла, который не раз путешествовал в этих местах, покупая и продавая скот в монастырях. Трудно было ехать здесь, среди болот, особенно в сырую осеннюю погоду, так как во многих местах речки и ручьи вышли из берегов и проселочные дороги превратились в непроходимые топи. Первую ночь они провели в хижине местного жителя, прислушиваясь к шуму дождя и опасаясь лихорадки, особенно боялись за мальчика. На вторую ночь они, к счастью, выбрались в более возвышенную местность и переночевали в трактире.
Здесь к ним приходили суровые люди из партии церковников, чтобы выяснить, чего им нужно. Сперва положение казалось опасным, но Болл, говоривший на местном наречии, убедил мятежников, что нет причин опасаться людей, путешествовавших с двумя женщинами и ребенком. К этому он добавил, что сам является служителем Блосхолмского аббатства, переодетым в военное платье из страха перед сторонниками короля. А Джекоб Смит велел подать эль и выпил с мятежниками за успех Благодатного паломничества, как именовалось это восстание.
Таким образом, говоря то одно, то другое, они отводили от себя подозрения. Им удалось даже разузнать, что вокруг Блосхолма все спокойно, хотя, правда, настоятель укрепил аббатство и снабдил его провиантом. Сам он находился вместе с главарями мятежа неподалеку от Линкольна, но в монастыре все подготовил, чтобы иметь крепкое убежище, которое могло бы стать опорным пунктом.
Так что под конец, наполнив животы крепким пивом, мятежники удалились, и эта опасность миновала.
На следующее утро они выехали очень рано, надеясь к заходу солнца добраться до Блосхолма, хотя дни стали теперь гораздо короче. Однако это им не удалось, так как они основательно завязли в болоте милях в двух от своего трактира, а выбравшись из него, вынуждены были сделать порядочный крюк, чтобы объехать топи. Вот почему лишь к концу дня они добрались до леса, где аббат умертвил сэра Джона Фотрела. Проезжая вдоль лесной дороги, они к заходу солнца оказались у заводи, где он был убит.
— Говорят, что тут-то и зарезали твоего отца, — сказала Эмлин, ехавшая за Сайсели с ребенком на руках. — Смотри, вон там лежат кости Мет, его кобылы; и узнаю ее черную гриву.
— Да, леди, — вмешался Болл, — сам он лежит там, где погиб. Его зарыли, даже молитвы над ним не прочитав. — С этими словами он указал на небольшой, небрежно насыпанный холмик между двумя ивами.
— Иисусе, смилуйся над его душой! — молвила Сайсели и перекрестилась. — Клянусь, если буду жива, я перенесу его останки в блосхолмскую церковь и поставлю ему хороший памятник.
И она сделала это, в чем могут убедиться все посещавшие эти места, ибо памятник сохранился до наших дней. На нем изображен старый рыцарь; он лежит с торчащей в горле стрелой на снегу, между двумя убийцами, которых он, защищаясь, прикончил, а дальше, уже почти за гробницей, виднеется удаляющаяся фигура всадника — Джефри Стоукса.
Пока Сайсели, шепча молитву за упокой души, смотрела на эту заброшенную могилу, Томас Болл услышал нечто, заставившее его насторожиться.
— Что там такое? — спросил Джекоб Смит, заметив, как изменилось выражение его лица.
— Мчатся во всю прыть кони, много коней, мастер, — ответил он. — Да, и на них всадники. Послушайте.
Все прислушались и теперь тоже услыхали конский топот и крики людей. — Живей, живей, — сказал Болл, — за мною! Я знаю, где мы сможем укрыться. — И он указал им дорогу к густой высокой поросли терна и бука, находившейся на расстоянии около двухсот ярдов под сенью нескольких высоких дубов у перекрестка, где сходились четыре проселочных дороги. Всякий садовод знает, что, когда буковые деревья еще молоды, листья их осенью и зимой словно присасываются к веткам. Вот почему эта поросль стала очень густой и могла совершенно укрыть их.
Едва успели они остановиться в своем укрытии, как необычное зрелище предстало им в багряном свете заката. По дороге — не той, по которой ехали они, а другой, с противоположной стороны, огибавшей Королевский курган, -то скрываясь за деревьями, то показываясь вновь, мчался на сером коне высокий всадник в доспехах и с ним другой — в кожаном камзоле на черной лошади, а за ним на расстоянии не более чем в сто ярдов показался разношерстный отряд преследователей.
— Бежавшие пленники и погоня, — пробормотал Болл, но Сайсели не обратила внимания на его слова. Во внешности всадника на сером коне почудилось ей нечто столь знакомое, что сердце едва не выпрыгнуло из ее груди.
Она нагнулась над головой своей лошади, глядя во все глаза. Теперь оба всадника почти поравнялись с их кустарником, и тот, что был в доспехах, обернувшись к своему спутнику, весело крикнул:
— Они отстают! Мы от них ускользнем, Джефри!
Сайсели увидела его лицо.
— Кристофер! — крикнула она. — Кристофер!
Еще мгновение — и они промчались бы мимо, но до Кристофера, ибо то был он, долетел звук этого голоса, который он так хорошо помнил. Взором, обостренным любовью и страхом, она увидела, что он задержал коня. Она услышала, как он что-то крикнул Джефри, и тот ответил недовольным, встревоженным тоном. Они колебались, медлили на открытом пространстве перед порослью.
Кристофер попытался повернуть, затем увидел, что преследователи приближаются, и, когда они уже почти настигали его, с громким криком устремился вперед, чтобы опередить их. Слишком поздно! Оба всадника проскакали еще сотню ярдов вверх по косогору, но их окружили, и на гребне холма, видимо, завязалась схватка, ибо мечи так и засверкали в лучах заходящего солнца. Преследователи набросились на всадников, как свора псов на загнанную лисицу. Все умчались вниз — скрылись из глаз.
Сайсели, обезумев, пыталась ринуться вслед за ними, но ее удержали. Наконец все смолкло, и Томас Болл, спешившись, прокрался на дорогу.
Минут через десять он возвратился.
— Все умчались, — сказал он. — О, он погиб! — простонала Сайсели. -Это проклятое место отняло у меня и отца и мужа.
— А я думаю, что он жив, — ответил Болл. — Нет ни крови, ни признаков того, чтобы кого-то уносили. Он уехал верхом на своем коне. Но какое все же несчастье, что небу не угодно вразумить женщин и научить их молчать, когда следует!
17. ЖИЗНЬ ИЛИ ЧЕСТЬ
День едва занимался, когда, наконец, измученные душевно и физически, Сайсели и ее спутники подъехали на своих спотыкающихся от усталости конях к воротам Блосхолмской обители.
— Дал бы бог, чтобы монашки находились еще здесь, — сказала Эмлин, державшая ребенка. — Если их выгнали и моя госпожа должна будет ехать дальше, я боюсь, что она не выдержит. Стучи сильней, Томас: старик садовник глух как пень.
Болл повиновался и стучал так добросовестно, что вскоре решетка в воротах открылась и дрожащий женский голос спросил, кто там.
— Это сама мать Матильда, — сказала Эмлин и, соскочив с коня, подбежала к решетке и стала через нее разговаривать с настоятельницей. Подошли другие монахини и общими силами открыли одну половину огромных ворот, так как садовник не смог или не захотел встать.
Путешественники въехали во двор и, когда монахини поняли, что Сайсели действительно возвратилась, ее приняли с распростертыми объятиями. Но от усталости Сайсели едва могла произнести хоть одно слово, поэтому ее заставили выпить чашку молока и отвели в их прежнюю комнату, где она тотчас уснула. Проснулась она около девяти и увидела, что Эмлин, выглядевшая немногим лучше ее, уже встала и разговаривает с матерью Матильдой.
— О, — вскричала Сайсели, когда вспомнила обо всем, — не слышно ли чего-нибудь о моем муже?
Они покачали головой, настоятельница сказала:
— Сперва, дорогая, ты должна поесть, а потом мы сообщим тебе то немногое, что удалось узнать.
Она поела, так как ей необходимо было подкрепить силы, и, пока Эмлин помогала ей одеваться, узнала все новости. Их было действительно немного -лишь подтверждение того, что сообщили жители Болот, а именно, что аббатство укреплено и охраняется пришельцами-мятежниками с севера или иностранцами, а сам настоятель, видимо, уехал.
Болл, который уже выходил разведать положение, сообщил со слов одного встречного, что ночью через деревню промчался конный отряд, но никаких подробностей узнать не удалось, ибо даже если он действительно промчался ночью, ливень смыл все следы конских копыт. К тому же в то неспокойное время люди часто ездили в разные места под покровом темноты, и никто не мог сказать, имел ли этот отряд какое-нибудь отношение к тому, который они видели в лесу: тот ведь мог направиться совсем другой дорогой.
Когда Сайсели была готова, они сошли вниз и в комнате матери Матильды застали поджидавших их Джекоба Смита и Томаса Болла.
— Леди Харфлит, — сказал Джекоб с видом человека, не желающего терять даром времени, — положение таково. До сих пор никто еще не знает, что вы здесь, — садовника и его жену мы никуда не выпускаем. Но, как только в аббатстве об этом прослышат, можно будет опасаться нападения, а здесь обороняться невозможно. У вас же в Шефтоне дело обстоит иначе: там, говорят, имеется глубокий ров с подъемным мостом и все прочее. Поэтому вам нужно немедленно отправиться в Шефтон, если возможно — незамеченной. Томас уже ходил туда и говорил кое с кем из ваших арендаторов, кому можно было довериться; сейчас они работают вовсю, подготовляя помещение и снабжая его припасами, а также оповещают других. К ночи Томас надеется собрать человек тридцать вооруженных для защиты замка, а дня через три, когда станет известно, что вам даны полномочия набрать войско, и он назначен командиром, — даже добрую сотню. Двинемся же в путь, медлить нельзя, лошади уже оседланы.
Сайсели расцеловалась с матерью Матильдой, которая благословила и поблагодарила ее за все, что она сделала или старалась сделать для сестер, и через пять минут все опять уже сидели на своих усталых конях и под дождем двинулись к Шефтону, который, к счастью, находился лишь на расстоянии трех миль от обители. Держась под деревьями, они выехали незамеченными, ибо в такую погоду никто на улицу не выходил, а если у ворот аббатства и стояли часовые, то они укрылись в сторожке. Так удалось им благополучно добраться до окруженного лесом и валом Шефтона, который Сайсели видела в последний раз, когда бежала оттуда в Крануэл в день своей свадьбы, а с тех пор — так казалось ее измученной душе — прошли целые годы.
Странное это и печальное возвращение в отчий дом, подумалось ей, когда они ехали через подъемный мост и мокнущий под дождем, заросший сорной травой сад к знакомой двери. Но в доме все обстояло не так уж плохо, ибо предупрежденные Боллом арендаторы поработали на славу. В течение более чем двух часов несколько женщин, пришедших по своей доброй воле, мели и чистили комнаты, в каминах горел огонь, а на кухне и в кладовой было вполне достаточно разных припасов. Более того, в большом зале собралось человек двадцать, которые приветствовали хозяйку радостными возгласами и подбрасывали вверх свои колпаки.
Джекоб тотчас же прочитал им королевскую грамоту, показав подпись и печать, а также назначение Томаса Болла командиром, предоставлявшее ему большие полномочия. Ознакомившись с этими документами, собравшиеся люди, давно уже лишенные предводителя и какой-либо защиты со стороны властей, видимо, ощутили прилив бодрости. Один за другим поклялись они твердо стоить на стороне короля, своей леди, Сайсели Харфлит, и ее супруга, сэра Кристофера; если же он погиб, то их сына. Затем около половины собравшихся сели на коней и разъехались в разные стороны — именем короля собирать вооруженный отряд. Остальные же остались охранять замок и обеспечить его защиту.
На закате со всех сторон стали съезжаться люди, причем некоторые из них везли на тележках провиант, оружие и корм для животных или гнали перед собою овец и рогатый скот для забоя на случай осады. По мере того как они подходили, Джекоб записывал их имена, а Томас Болл, по праву командира, приводил к присяге. В ту ночь в замке находилось уже человек сорок и должно было собраться еще много больше.
Однако теперь тайна оказалась нарушенной, весть о возвращении Сайсели разлетелась повсюду, да и дым из труб Шефтона сам за себя говорил. Сперва на возвышенности против замка появился один разведчик и стал наблюдать. Затем он ускакал и через час возвратился в сопровождении десятка вооруженных всадников, один из которых держал в руке знамя с вышитыми на нем эмблемами Благодатного паломничества. Всадники эти подъехали на сто шагов к Шефтон Холлу, видимо с намерением напасть, но, увидев, что мост поднят, а по обе стороны его стоят стрелки с луками наготове, остановились и выслали парламентера с белым флагом.
— Кто вы там, в Шефтоне, — прокричал этот человек, — и чье дело защищаете?
— Леди Харфлит, владелица Шефтона, и капитан Томас Болл — именем короля! — крикнул Джекоб Смит.
— По чьему указу? — спросил парламентер. — Владеет Шефтоном настоятель Блосхолма, а Томас Болл всего-навсего брат-мирянин его монастыря.
— По указу его милости короля, — ответил Джекоб; и, повысив голос, он прочитал королевскую грамоту.
Выслушав, парламентер отъехал посовещаться с товарищами. Некоторое время они колебались, словно все еще собираясь атаковать, но под конец повернули обратно, и больше их не видели.
Болл намеревался преследовать их, собрав всех людей, что были у него под рукой, но осторожный Джекоб Смит воспрепятствовал этому, спасаясь, чтобы он не попал в какую-нибудь западню и не был убит или захвачен со своими людьми, оставив замок беззащитным.
Так прошел день, а к вечеру у них уже набрались такие силы, что можно было не спасаться нападения со стороны аббатства, чей гарнизон, как они узнали, состоял из пятидесяти солдат и всего нескольких монахов, -остальные бежали.
В тот вечер Сайсели с Эмлин и старым Джекобом сидели в большой верхней комнате, где сэр Джон Фотрел однажды застал ее в обществе Кристофера, как вдруг вошел Болл, а вслед за ним какой-то человек подозрительного вида, в куртке из овчины, которая к нему не очень-то шла. — Это еще кто, дружище? — спросил Джекоб.
— Один мой старый товарищ, ваша милость, блосхолмский монах, которому надоела и благодать и паломничество и который жаждет королевского мира и прощения. Я взял на себя смелость обещать, что они будут ему дарованы. — Хорошо, — сказал Джекоб, — я запишу его имя, и, если он останется нам верен, твое обещание будет исполнено. Но сюда-то ты зачем его привела? — А он с новостями.
Что-то в голосе Болла побудило Сайсели, задумчиво сидевшую в сторонке, быстро взглянуть на пришельца и молвить:
— Говори, и живей.
— Миледи, — начал этот человек негромким голосом, — имя мое в иночестве Бэзил, и хоть я и монах, но бежал из аббатства, ибо верен королю и к тому же много натерпелся от настоятеля, который только что вернулся разъяренный: у Линкольна его постигла какая-то неудача, какая именно — не ведаю. Новость же мол состоит в том, что супруг ваш сэр Кристофер Харфлит и его слуга Джефри Стоукс содержатся как пленники в подземной темнице аббатства; они захвачены были прошлой ночью отрядом мятежников, который доставил их в монастырь, а потом ускакал дальше.
— Пленники! — вскричала Сайсели. — Значит, он не убит и не ранен? Цел и невредим?
— Да, миледи, цел и невредим, как мышь в лапах у кошки, пока она еще не съедена.
Кровь отхлынула от лица Сайсели. Ей представился аббат Мэлдон в виде громадного кота с головой монаха, а в когтях у него — Кристофер.
— Это моя вина, моя! — произнесла она мрачным голосом. — О, не позови я его, он бы им не попался. Лучше мне было бы на месте лишиться языка!
— Не думаю, — ответил брат Бэзил. — Впереди его поджидали другие, и, когда он был схвачен, они уехали, благодаря чему вам самим удалось проскочить. Как бы то ни было, но он сейчас там, и, если вы хотите спасти его, вам надо собрать все свои силы и ударить немедля.
— Известно ли ему, что я жива? — спросила Сайсели.
— Откуда мне знать, леди? В темницах аббатства не многое разведаешь. Но монах, который утром приносил пленникам еду, говорил, что сэр Кристофер сказал ему, будто попал в беду из-за некоего призрака, окликнувшего его голосом покойной жены, когда он проезжал вблизи Королевского кургана. Услышав это, Сайсели встала и вместе с Эмлин вышла из комнаты — больше она не в силах была выдержать.
Но Джекоб Смит и Болл еще долго расспрашивали монаха о самых разнообразных вещах и, разузнав все, что он мог им сообщить, отослали его, велев держать под стражей, а сами сидели почти до полуночи, совещаясь и вырабатывая свои планы совместно с фермерами и йоменами, которых время от времени вызывали к себе.
На следующий день рано утром они явились к Сайсели и сказали, что, по их мнению, правильнее всего было бы без промедления штурмовать аббатство. — Но ведь там мой муж, — ответила она в полном смятении. — Они тогда убьют его.
— Боюсь, что это и случится, если мы не нападем на них, — ответил Джекоб. — К тому же, леди, по правде говоря, надо подумать и о другом. Например, о деле и чести короля, которые мы обязались защищать, о жизни и имуществе всех тех, кто благодаря нам встал на его сторону. Если мы будем бездействовать, аббат Мэлдон пошлет на север за помощью, и через несколько дней на нас обрушится многочисленное войско, против которого мы окажемся бессильными. Весьма возможно, что он уже послал. Но если мятежники узнают, что аббатство пало, они вряд ли явятся сюда лишь ради отмщения. Наконец, если мы будем сидеть сложа руки, то нашими людьми, которые сейчас так и рвутся в бой, снова овладеют сомнения и страхи, они поостынут и начнут расходиться. — Что ж, если так надо, ничего не поделаешь. Да сохранит бог его жизнь, — с тяжким вздохом сказала Сайсели.
В тот же день королевские люди под водительством Болла выступили и со всех сторон обложили аббатство, а лагерь свой раскинули в деревне Блосхолм. Сайсели, не пожелавшая остаться в замке, вышла вместе с ними и снова обосновалась в обители, которая по ее требованию открыла перед нею ворота. Единственный страж обители — глухой садовник — сдался без сопротивления. Его отправили в лагерь чернорабочим, и никогда еще не приходилось ему так много трудиться: Эмлин, имевшая против него зуб, постаралась, чтобы работы у него хватало и чтобы она была погрязнее и потяжелее.
Томас и другие вместе с ним обследовали подступы к аббатству и вернулись, охваченные сомнением: без пушек — а их пока не было — мощное здание из тесаного камня казалось почти неприступным. Лишь в одном месте штурм представлялся возможным — с тыла, где когда-то находились сторожка и ферма, сожженные Томасом по желанию Эмлин. Развалины стояли во внутреннем кольце рва и тесно примыкали к стене аббатства, но от сильного огня каменная кладка их растрескалась и осыпалась, а балки вывалились и упали в ров.
Для обеспечения обороны образовавшаяся брешь была закрыта двойным палисадом из крепких кольев, а пространство между ними заполнено связками хвороста, балками разрушенных строений и всяким мусором. Перед палисадом находился широкий и глубокий ров, а над ним окна и угловая башня, из которых его легко было защищать, так что идти здесь на приступ аббатства означало бы потерять очень много людей, и осаждающие не могли на это решиться. Однако от монаха Бэзила и других они узнали еще одну важную вещь, а именно, что запасов продовольствия в аббатстве на весь его гарнизон было слишком мало: Бэзил полагал, что дня на три, а по мнению других, уж никак не больше, чем на четыре.
В тот же вечер состоялся второй военный совет, на котором решено было взять аббатство измором, а на приступ идти лишь в том случае, если разведка донесет, что мятежники двинулись ему на помощь.
— Но, — возразила Сайсели, — в таком случае супруг мой и Джефри Стоукс тоже умрут с голоду.
Все печально разошлись, заявив ей, что тут уж ничего не поделаешь -нельзя ради двух человек положить десятки жизней.
Началась осада, такая же, как та, которую Сайсели перенесла в Крануэл Тауэрсе. В первый день гарнизон аббатства насмехался над ними со своих стен. Но на второй — насмешки прекратились: осажденные увидели, что силы их противников с каждым часом увеличиваются. На третий — они внезапно опустили мост и бросились к нему, словно намереваясь сделать вылазку, но, увидев перед собою десятки воинов Болла с натянутыми луками, отказались от этой мысли и снова подняли мост.
— Они начали голодать и отчаиваться, — заметил рассудительный Джекоб. — Скоро мы получим от них известия.
Он оказался прав. Незадолго до захода солнца открылись боковые ворота, и какой-то человек, держа над головой белый флаг, бросился в ров и поплыл на противоположную сторону. Он выбрался из рва, отряхнулся и медленно двинулся туда, где на лужайке перед аббатством, на месте, куда не могли долететь стрелы осажденных, стояли Болл и обе женщины. Сайсели, ослабевшая от горя и страха за мужа, прислонилась к дубовому столбу, к которому она была в свое время прикована для сожжения на костре и который до сих пор не убрали.
— Кто этот человек? — спросила у нее Эмлин.
Сайсели вгляделась в изможденного бородатого человека, направлявшегося к ним прерывающейся походкой больного.
— Не знаю; а впрочем, да, он чем-то напоминает Джефри Стоукса!
— Это не кто иной, как Джефри, — сказала Эмлин, кивнув головой. -Что-то он нам сообщит?
Не ответив ни слова, Сайсели только теснее прижалась к столбу; на сердце у нее было не легче, чем тогда, когда повар аббатства раздувал растолку, чтобы поджечь хворост. Теперь Джефри стоял уже прямо перед ней. Взгляд его ввалившихся глаз упал на нее, и рот раскрылся от изумления, отчего лицо еще больше вытянулось и еще резче обозначились скулы.
— Ах, — пробормотал он, ни к кому не обращаясь. — От всех этих боев и путешествий и трехдневной голодовки, когда еды у меня было меньше, чем хватило бы крысе, да к тому же от холодной ванны в ноябре — не говоря уже о том, что похуже, — в уме и вправду может помутиться. Но все же, подумать только, что мне довелось увидеть призрак среди бела дня, да еще у нас дома, в Блосхолме, где такого никогда не бывало!
Не спуская глаз с Сайсели, он выжал из бороды воду и добавил:
— Брат-мирянин или капитан Томас Болл, кто бы ты теперь ни был, если ты тоже не привидение, дай мне четверть крепкого эля и краюху хлеба, ибо в нутре у меня пусто, как у выпотрошенной селедки, и я, можно сказать, сейчас вознесусь к небесам, а предпочел бы все же стоять обеими ногами на нашей грешной земле…
— Джефри, Джефри, — прервала его Сайсели, — что ты сообщишь нам о своем господине? Эмлин, скажи ему, что мы обе живы. Он не понимает.
— О, так вы живы? — медленно произнес он. — Значит, вы не погибли от пожара и Эмлин тоже? Ну, раз так, каждый может надеяться; и, пожалуй, ни голод, ни нож аббата Мэлдона не прикончат Кристофера Харфлита.
— Значит, он жив и здоров?
— Жив и здоров, поскольку можно быть живым и здоровым и после трехдневной голодовки в подземной темнице, к тому же довольно-таки сыроватой. Вот тут имеется письмо по поводу всех этих дел к командиру вашего отряда.
Он развернул свой белый флаг и достал из складок его прикрепленное к флагу письмо, протянул его Боллу, а тот, не умея читать, передал письмо Джекобу Смиту. В это же самое время мальчик принес эль, о котором спросил Джефри, а также поднос с кусками мяса и хлеба. Джефри набросился на них, как изголодавшийся пес, поглощая огромными глотками и эль и пищу, которую не трудился даже прожевывать.
— Клянусь всеми святыми, да ты, видно, чуть не помер с голоду, Джефри, — сказал один из стоявших тут же йоменов. — Пойдем-ка со мной и сбрось свою мокрую одежду, не то тебе станет худо. — И он увел Джефри, продолжавшего жевать, в ближайшую палатку.
Тем временем Джекоб, тревожно хмуря лоб, ознакомился с письмом, а затем прочел его вслух. Оно гласило:
«Командиру воинов короля от Клемента, настоятеля Блосхолмского аббатства.
Мне неведомо, по чьему указу осадили вы нас, грозя аббатству и его инокам огнем и мечом. Я прослышал, что предводительствует вами Сайсели Фотрел. Передайте же этой избежавшей костра ведьме, что в плену у меня находится человек, которого она именует своим мужем и который является отцом ее незаконнорожденного ребенка. Если в эту же ночь она не распустит свой отряд и не пришлет нам подписанный и засвидетельствованный документ, где мне и всем находящимся со мною от имени короля гарантируется прощение за все, что мы могли содеять против него и его законов, а также против нее лично, и возможность свободно уйти, куда мы пожелаем, так, что при этом нам не станут препятствовать, и не будут нас преследовать, и не отнимут наших земель и движимого имущества, знайте, что завтра на заре мы предадим смерти рыцаря Кристофера Харфлита в наказание за убийства и другие преступления, которые он против нас совершил, и в доказательство этого вы увидите его труп, повешенный на башне аббатства. Если же вы примете наши условия, мы оставим его здесь невредимым, и вы найдете его, когда мы удалимся. Об остальном спросите его слугу Джефри Стоукса, которого мы посылаем к вам с этим письмом.
Клемент, настоятель.” Джекоб кончил читать, и среди слушавших воцарилось молчание.
— Пойдемте отсюда и где-нибудь в четырех стенах обсудим это дело, -сказала Эмлин.
— Нет, — вмешалась Сайсели, — в отсутствие моего супруга я являюсь уполномоченной короля и требую, чтобы меня выслушали. Томас Болл, прежде всего пошли к аббату парламентера с заявлением, что если хоть один волос упадет с головы сэра Кристофера Харфлита, каждого находящегося в стенах аббатства человека я предам смерти от меча или веревки и лично буду отвечать за это перед королем. Напишите это, мастер Смит, и пошлите вместе с копией королевской грамоты, подтверждающей мои полномочия. Сейчас же, без промедления.
Они отправились в стоявший неподалеку домик, где Болл устроил караульное помещение. Там это суровое предупреждение было изложено на бумаге, переписано начисто, подписано Сайсели, а также Боллом, как командиром отряда, и Джекобом Смитом в качестве свидетеля. Бумагу вместе с копией королевской грамоты Сайсели собственноручно передала смелому и верному человеку, поручив ему потребовать ответа; и он отправился в путь с белым флагом в руке и стальной кольчугой под стеганым камзолом, чтобы обезопасить себя от предательского удара.
Когда он ушел, они послали за Джефри, который явился в сухой одежде и все еще жуя, ибо голод у него был волчий.
— Расскажи нам все, — сказала Сайсели.
— Если начинать с начала, то это будет длинная история, леди. Когда ваш блаженной памяти батюшка, сэр Джон, и я с ним выехали из Шефтона в день его гибели…
— Нет, нет, — прервала Сайсели, — с этим можно обождать, сейчас не до того. Мой супруг и ты бежали из Линкольна — не так ли? — и, как мы видели, были снова захвачены в лесу.
— Так точно, леди. Какой-то дух сыграл с нами шутку, позвал его вашим голосом; он услышал и придержал коня, тогда они нас догнали и захватили благодаря своему численному превосходству, но, по счастью, мы остались целы я невредимы. Нас привезли в аббатство и бросили в это окаянное подземелье, где в течение трех дней мы почти не получали пищи, только немного хлеба и воды, и подыхали с голоду в полной темноте. Вот и весь рассказ.
— А как ты вышел оттуда, Джефри?
— Да вот как, миледи. Около часу тому назад какой-то монах и три вооруженных стражника открыли дверь нашей тюрьмы. Пока мы моргали глазами на свет его фонаря, как совы в полдень, монах стал говорить, что аббат намеревается послать меня в лагерь королевских людей с предложением обменять жизнь Кристофера Харфлита на жизнь всех, находящихся в аббатстве. Он добавил также, что принес чернила и бумагу и что, если Харфлит хочет спастись, ему следовало бы написать письмо с просьбой принять это предложение, не то он наверняка умрет на заре.
— Что же сказал мой муж? — спросила Сайсели, подавшись вперед.
— Что он сказал? Он рассмеялся им в лицо и заявил, что скорее отрубит себе руку, после чего они потащили меня из темницы, и притом довольно грубо, так как я хотел оставаться с ним до конца. Но, когда дверь уже закрывали, он успел крикнуть мне: «Скажи офицерам короля, чтобы они спалили эту крысиную нору, не помышляя о Кристофере Харфлите, который вовсе не прочь умереть».
— А почему он желает смерти? — снова спросила Сайсели.
— Потому что считает жену свою умершей, госпожа, как и я считал, и думает, что в лесу слышал ее голос, призывающий его соединиться с нею.
— О боже, боже! — простонала Сайсели. — На моей совести будет его гибель.
— Нет, — ответил Джефри. — Неужто вы так плохо знаете Кристофера Харфлита, что думаете — он предал бы дело короля ради спасения своей жизни? Да если бы вы сами пришли к нему и умоляли его об этом, он бы оттолкнул вас и сказал: «Отойди от меня, сатана!”
— Верю, что он поступил бы так, и горжусь этим, — прошептала Сайсели. — Если нельзя будет иначе, пусть Харфлит умрет. Мы спасем его честь и свою, чтобы он не проклял нас, если бы остался жив. Продолжай.
— Ну, меня привели к аббату; он передал мне это самое письмо и велел мне взять его и все рассказать тому, кто здесь у вас начальник. Потом он поднял руку и, положив ее на крест, висевший у него на груди, поклялся, что это не пустая угроза и что если его условий не примут, с зарею Харфлит будет повешен на башне, и при этом добавил, хоть я тогда и не понимал, что он имеет в виду: «Думаю, ты там найдешь человека, который прислушается к этим доводам». Он уже собирался отпустить меня, как вдруг один солдат сказал:
«А умно ли будет освободить этого Стоукса? Бы забываете, милорд настоятель, что предполагается, будто он присутствовал при одном убийстве в лесу, и что он может выступить свидетелем». — «Да, — ответил Мэлдон, — я забыл в этой спешке; я помнил только, что никому другому, пожалуй, не поверят. Все же, может быть, и лучше будет послать кого-нибудь другого, а этого парня заставить замолчать навеки. Напишите, что Джефри Стоукс, пленник, был убит при попытке к бегству стражником, защищавшим свою жизнь. Заберите его отсюда, и чтобы я о нем больше не слышал».
Тут кровь у меня в жилах застыла, хотя я и старался держаться смело, как только может держаться человек, три дня просидевший в темноте с пустым животом, и прямо в лицо наговорил ему по-испански разных крепких слов. Когда меня уже тащили из комнаты, брат Мартин — помните его, он был нашим товарищем, когда мы попали за морем в переделку, — выступил вперед из темного угла и сказал: «Для чего, настоятель, пятнать вам свою душу столь гнусным убийством? С тех пор как умер Джон Фотрел, король может записать на ваш счет еще много других дел, и любого из них достаточно, чтобы вас повесить. Попадись вы ему в руки, он не станет добираться до обстоятельств гибели Фотрела, даже если бы вы и были к ней причастны».
«Вы наговорили резких слов, брат мой, — ответил аббат. — То, что происходит на войне, нельзя считать убийством, хотя, может быть, впоследствии, спасая свою шнуру, вы и станете говорить об этом как об убийстве, вы или кто другой. Как бы там ни было, но речь ваша разумна. Не надо трогать этого человека. Дайте ему письмо и бросьте его в ров, пусть плывет на ту сторону. Что бы он на меня ни наклеветал, участь моя хуже не станет».
Так они и сделали. Я попал сюда, как вы сами видели, и нашел вас живой. Теперь-то мне понятно, почему Мэлдон считал, что жизнь одного Харфлита так дорого стоит. — И, закончив свой рассказ, Джефри снова принялся за еду.
Сайсели смотрела на него, я все смотрели на этого измученного, ожесточившегося человека, который после многих других бедствий и мук провел три дня в мрачной темнице, полной крыс, где получал только воду да немного черного хлеба. Да, он сидел там вместе с крысами и с другим человеком, бесконечно дорогим одной из присутствующих, и тот все еще находился в этой ужасной дыре, ожидая, что на заре его повесят,
словно какого-нибудь злодея. Все молчали, слышно было только, как жует Джефри; и молчание стало так тягостно, что все обрадовались, когда дверь открылась и перед ними предстал человек, посланный к настоятелю. Он задыхался, так как быстро бежал и, видимо, находился в некоем смятении, может быть потому, что в спине у него — вернее, в камзоле — торчали две стрелы: в тело они не вонзились, задержанные кольчугой.
— Говори, — сказал старый Джекоб Смит, — каков их ответ?
— Взгляните на мою спину, мастер, и сами увидите, — ответил посланец. — Они перекинули через ров лестницу, на нее положили доску, на которую вступил какой-то монах, чтобы принять от меня письмо. Я немного подождал, потом услышал, как кто-то зовет меня с башни над воротами, и, когда поднял глаза, увидел, что там стоит аббат Мэлдон, и лицо у него от злобы черное, как у дьявола.
«Слушай, ты, мошенник, — крикнул он мне, — ступай к ведьме Сайсели Фотрел и к ренегату монаху Боллу, которого я предаю анафеме и извергаю из лона святой церкви, и скажи им, чтобы при первых лучах зари они взглянули в нашу сторону, да повыше, ибо тогда смогут увидеть, как, чернея на утреннем небе, здесь болтается тело Кристофера Харфлита!”
Услышав это, я не сдержался и крикнул в ответ: «Коли так, то завтра еще дотемна вы составите ему компанию, ибо все до единого будете висеть, чернея на вечернем небе, кроме тех, кто будет впоследствии четвертован в Тауэр-холле и Тайберне». Потом я пустился наутек, и они стреляли мне вдогонку и раза два попали, но кольчуга, хоть и стара, служит хорошо, и вот я здесь невредимый, если не считать двух-трех ссадин.
Немного позже Сайсели, Джекоб Смит, Томас Болл, Джефри Стоукс и Эмлин Стоуэр сидели все вместе, держа совет — очень важный совет, ибо положение было отчаянное. Вносилось одно предложение за другим и сразу же по той или иной причине отвергалось. Под конец они молча переглянулись.
— Эмлин, — вскричала наконец Сайсели, — в прежнее время у тебя всегда находились нужные слова. Неужто теперь, в такой беде, ни одного не найдется? — Ибо, пока они совещались, Эмлин все время сидела молча.
— Томас, — сказала Эмлин, подняв глаза, — помнишь то место во рву аббатства, где мы ребятишками ловили самых крупных карпов?
— Ну да, помню, — ответил он, — но при чем тут рыбная ловля, да еще столько лет назад? Я уже говорил, — на подземный ход рассчитывать нечего. За рощей он обвалился и полностью засыпан, — я уже смотрел. Правда, будь у меня неделя времени…
— Пусть она говорит, — прервал его Джекоб, — ей, видно, есть что сказать.
— А помнишь, — продолжала Эмлин, — ты говорил мне, что карпы здесь такие крупные и жирные потому, что в этом месте, как раз под подъемным мостом, опорожняется в ров сточная труба аббатства, та, в которую спускают все помои и отбросы? И я после того в рот не могла взять этой рыбы.
— Ну помню. Так что же?
— Томас, ты, кажется, говорил, будто порох, за которым посылали, уже доставлен?
— Да, час назад пришел фургон с шестью бочонками, весом в сто фунтов каждый. Мы надеялись, что пришлют больше, но и это неплохо, хотя делать с порохом нечего, так как пушку не прислали — у королевских солдат ее не оказалось.
— Темная ночь, лестница с доской, кирпичный сводчатый сток, два, нет, лучше четыре бочонка, по сто фунтов каждый, в сток под ворота, фитиль и смелый человек, который его подожжет, — со всем этим да еще с божьим благословением в придачу многое можно сделать, — задумчиво, словно про себя, произнесла Эмлин.
Все наконец поняли, к чему она клонит.
— Да они все услышат, как кошка слышит скребущуюся мышь, — сказал Болл.
— Кажется, ветер поднялся, — ответила она, — слышно, как зашумели деревья. Думаю, что скоро начнется буря. К тому же у задней стены аббатства, где заделанная брешь, можно собрать людей, которые будут ходить взад и вперед с фонарями и кричать, словно в этом месте подготовляется штурм. Это отвлечет осажденных. А мы с Джефри Стоуксом тем временем попытаем счастья с лестницей и пороховыми бочонками — он их подкатит, а я подожгу, когда придет время. Вы же слышали, что я ведьма, — значит, сера мне нипочем
[143].
Через десять минут план был выработан. А спустя два часа, под вой бури, скрытые непроглядной тьмой и дополнительным заслоном — торчащим над стеной поднятым настилом моста, — Эмлин и силач Джефри перекатили бочонки с порохом по переброшенным через ров доскам в жерло большой сточной трубы и в глубь ее футов на двадцать, пока они не оказались как раз под башнями главных ворот. Затем, лежа в зловонной грязи, Эмлин и Джефри вынули втулки из отверстий, заблаговременно просверленных в бочонках, и заложили туда фитили. Джефри выбил из кремня искру, раздул подложенный трут и передал его Эмлин.
— Теперь ты уходи, — сказала она, — а я за тобой. На это дело двух человек не нужно.
Через минуту она присоединилась к нему на противоположном краю рва.
— Беги! — сказала она. — Беги, не то погибнешь. За нами — смерть.
Он повиновался, но Эмлин обернулась и принялась кричать так громко, что стража на стенах услышала ее и, зажигая фонари, бросилась к башням посмотреть, что случилось.
— Штурм! Штурм! — кричала она. — Ставьте лестницы! За короля и Харфлита! Штурм! Штурм!
Затем она тоже пустилась наутек.
18. ИЗ ТЬМЫ К СВЕТУ
Внезапно среди мрака ночи, освещая все вокруг, подобно молнии, поднялась багряная пелена пламени. Покрывая вой бури, прокатился глухой тяжкий гул, словно отдаленный грохот грома. Потом все затихло, и через мгновение с неба посыпался град камней, а с ними — разорванные на части человеческие тела.
— Ворота взорваны! — прокричал мощный голос; то был Томас Болл. -Кидай лестницы!
Люди, стоявшие наготове, бросились вперед и перекинули через мост четыре лестницы. По доскам, привязанным к перекладинам, осаждающие перебежали на другую сторону рва и, перебравшись через нагромождение камней, устремились во двор, где их никто не ждал, так как все сторожившие здесь были убиты или покалечены.
— Зажигай фонари! — снова закричал Болл. — Там, внутри, будет темно! Появился Джефри с мечом в одной и фонарем в другой руке, а с ним Эмлин, у которой тоже был меч, взятый у одного из убитых; Эмлин, вся еще в грязи, так и оставшейся на ней после клоаки и рва.
— Я не могу, — пробормотал Томас Болл. — Я ищу Мэлдона. — Веди нас в подземелье! — крикнула ему Эмлин. — Или я тебя заколю! Я слышала, как они велели убить Харфлита.
Тогда он вырвал фонарь из рук Джефри и с криком «За мной!» помчался по коридору; так добежали они до открытой двери, за которой находилась лестница. Они быстро сошли вниз, миновали еще другие переходы и лестницы, спускались все нище, пока, повернув направо, не очутились в небольшом сводчатом помещении. Два факела пылали в железных гнездах, вделанных в стену, освещая картину необычайную и страшную. В глубине этого помещения была широко открыта тяжелая, утыканная гвоздями дверь, за которой виднелась камера или, вернее, маленький погреб, — любопытные еще и в наши дни могут его увидеть. К стене этой подземной темницы прикован был человек, который держал в руке трехногий табурет и рвался на цепи, как взбесившийся зверь. Впереди, заслоняя его и защищая проход, стоял высокий худой монах; полы его рясы были приподняты и подоткнуты за пояс. Он был ранен, ибо с его бритой головы стекала кровь, и, сжимая обеими руками рукоять тяжелого меча, яростно отбивался от четырех воинов, старавшихся повалить его на землю.
Когда появился Болл во главе своего маленького отряда, один из этих людей только что пал, сраженный монахом, но другой встал на его место, крича:
— Прочь с дороги, изменник! Мы хотим прикончить Харфлита, а не тебя. — Вместе мы умрем или отобьемся, убийца, — ответил монах хриплым, прерывающимся голосом.
В это мгновение один из нападающих, тот, что говорил, услышал приближающиеся шаги освободителей и обернулся. Тут же он обратился в бегство, метнувшись мимо них, словно заяц. Однако свет фонаря упал на его лицо, и Эмлин узнала аббата. Она ударила его мечом, но сталь только скользнула по кольчуге. Он тоже ударил, но попал по фонарю, свалив его на пол.
— Хватай его, — закричала Эмлин, — хватай Мэлдона, Джефри!
Стоукс бросился догонять аббата, но тотчас же вернулся, потеряв его в темных переходах. Тогда Болл, рыча, обрушился на двух оставшихся солдат, и вскоре под ударами топора и меча, которыми у них с тыла орудовал монах, они пали наземь и умерли, сражаясь до последней секунды, так как знали, что им не будет пощады.
Все было кончено, и кругом воцарилась тишина, безмолвие смерти, прерываемое лишь тяжелым дыханием тех, кто остался в живых. Раненый монах прислонился к дверной притолоке, выпустив из рук обагренный кровью меч. Харфлит, пошатываясь от изнеможения, все еще держа в руке поднятый табурет, до отказа натягивал свою цепь и изумленно глядел вперед. А на полу лежали трое убитых, один из которых еще судорожно подергивался. Сайсели проскользнула вперед, прошла между убитыми, мимо монаха и наконец оказалась лицом к лицу с пленником.
— Подойди только ближе, и я размозжу тебе голову, — хрипло проговорил он, ибо слабый свет факела падал на нее сзади, и он думал, что перед ним находится один из убийц.
Наконец Сайсели обрела голос.
— Кристофер, — крикнула она, — Кристофер!
Он услышал, и табурет выпал из его руки.
— Опять тот же голос, — пробормотал он. — Что ж, пора. Погоди немножко, жена, сейчас я приду к тебе. — И, откинувшись на стену, он закрыл глаза.
Она скользнула к нему и, обняв его обеими руками, поцеловала прямо в губы, бледные, бескровные губы. Веки его снова разомкнулись.
— Смерть могла бы быть хуже, — произнес он. — Но я ведь знал, что мы свидимся.
Тогда Эмлин, заметив, что лицо его как-то изменилось, сорвала со стены один из факелов и метнулась вперед, держа его так, чтобы свет падал на Сайсели.
— О Кристофер, — вскричала та. — Я не призрак, я жена твоя, и я жива! Он услышал, взглянул, взглянул еще раз, потом поднял исхудалую руку и погладил ее по волосам.
— О боже, — воскликнул он, — мертвые оживают! — И, потеряв сознание, упал к ее ногам.
Сайсели оттащили от него; она вся дрожала, думая, что снова потеряла мужа, и теперь уже навсегда. С трудом разбили цепь, которой он был прикован, как собака у конуры, и понесли, все еще бесчувственного, наверх по длинным переходам: Болл выступал впереди, взяв на себя охрану; за ним шел Джефри Стоукс, потом Эмлин, поддерживающая монаха Мартина, ибо это не кто иной, как он, спас жизнь Кристофера.
Подходя к лестнице, они услышали какое-то гудение.
— Огонь! — сказала Сайсели, хорошо знавшая этот звук; и в тот же миг их озарил отблеск пламени и со всех сторон окружил дым. Аббатство пылало, и главный зал его прямо перед ними походил на жерло ада.
— Разве я не предсказывала, что так и будет, еще тогда, в горящем Крануэле? — с каким-то жестоким смехом спросила Эмлин.
— За мной! — прокричал Болл. — Живей, не то крыша обрушится, и тогда нам не выбраться отсюда.
Они стали отчаянно пробиваться вперед, обойдя зал слева, и счастьем было для них, что Томас знал дорогу. Одна небольшая комната, через которую они проходили, была уже охвачена огнем, сверху на них ладами какие-то пылающие хлопья, клубился густой дым. Но они прошли, хоти еще минутой позже этим путем им не удалось бы выбраться живыми. Они прошли по горящему аббатству и вышли на чистый воздух через парадную дверь, которую оставили широко открытой те, кто бежал до них. Они достигли рва в том самом месте, где брешь была заделана хворостом, и, взобравшись на этот плетень, Болл кричал до тех пор, пока один из его людей не услышал и не опустил лука, собираясь пустить стрелу в Томаса, которого он принял за мятежника. Принесли доски, лестницы, и наконец все опасности миновали и нестерпимое пекло осталось позади.
И случилось так, что Сайсели, в огне потерявшая своего возлюбленного, в огне же обрела его снова.
Кристофер не умер, как опасались вначале. Его отнесли в обитель, и Эмлин, убедившись, что сердце у него бьется, хотя и слабо, послала мать Матильду за португальским вином, которое так одобрил комиссар Ли. Ложку за ложкой вливала она ему в горло это вино, пока наконец он не открыл глаза лишь для того, впрочем, чтобы тотчас же закрыть их снова; но теперь он просто уснул — так подействовало вино на его измученное тело и ослабевший мозг. Шли часы; Сайсели все время сидела подле него, лишь время от времени поднимаясь, чтобы взглянуть, как горит большая церковь аббатства; так же она в свое время смотрела на пожар, охвативший его сторожки и службы. Около трех часов утра растопленный свинец перестал стекать с крыши серебристым ливнем, она обрушилась, и к утру от церкви остался только закоптелый остов — почти такой, каким мы видим его в наши дна.
Перед самым рассветом Эмлин пришла к Сайсели и сказала:
— С тобой хочет говорить один человек.
— Я не могу к нему выйти, — ответила она. — Я оберегаю сон своего мужа.
— Все же тебе следовало бы пойти, — сказала Эмлин. — Не будь его, твой муж не был бы в живых. Монах Мартин, защищавший его от убийц, умирает и хочет с тобой попрощаться.
Сайсели нашла Мартина еще в сознании, но с каждой минутой он слабел, истекая кровью, которую ничем невозможно было остановить.
— Я пришла поблагодарить вас, — прошептала она, не зная, что ей сказать.
— Не надо, — ответил он слабым, прерывающимся голосом. — Я старался хоть частично возместить свой великий долг. Прошлой зимой и принял участие в совершении ужасного греха, повинуясь не голосу сердца, а данным мною обетам. Когда потом мне было поручено бодрствовать над телом вашего мужа, я обнаружил, что он жив; с моей помощью его перенесли на корабль, который был захвачен неверными, и потом нас с ним и Джефри заставили работать гребцами на галерах. Там я заболел, и ваш муж выходил меня. Это я привез вам документы и написал письмо и затем отдал все Эмлин Стоуэр. Однако, верный своим обетам, большего я не сделал. Нынче же ночью я разорвал эти узы: услышав, как отдан был приказ о его умерщвлении, я бросился вниз, оказался там раньше, чем убийцы, и, забыв о своем монашеском сане, бился с ними, как мог, пока вы не подоспели. Да послужит хоть частичным искуплением моей тяжкой вины перед родиной, королем и вами то, что в конце концов я отдал жизнь за своего друга. И я рад, что умираю, — слишком тяжело мне в этом мире.
— Я передам ему все, если он останется жив, — со вздохом молвила Сайсели.
— О, он будет, будет жить. Много страданий перенесли вы оба, но теперь вам уже ничто не грозит, кроме, конечно, старости и смерти. Я вижу, я знаю это.
Он опять смежил веки, и стоявшие вокруг подумали, что он испустил дух, как вдруг глаза его открылись еще раз, и, с трудом произнося слова, он добавил:
— Настоятель…
Будьте к нему милосердны…
Если сможете. Он человек злой, жестокий, но я был его духовником и читал в его сердце. Шел он к благой цели, хоть и дурным путем. Королева Екатерина была законной супругой короля. Захват монастырей — бессовестный грабеж. К тому же по рождению он не англичанин. У него другие взгляды; он служит папе, как, впрочем, и я, но также Испании, которой я не слуга. Я помог вам, помогите же и вы ему. Не судите, да не судимы будете. Обещайте! — Тут он слегка приподнялся и настойчиво поглядел на Сайсели.
— Обещаю, — сказала она, и в ответ на ее слова Мартин улыбнулся.
Потом его лицо покрылось сероватой бледностью, глаза потухли, и через мгновение Эмлин покрыла его голову куском полотна. Все было кончено. Сайсели возвратилась к Кристоферу и увидела, что он сидит на кровати и пьет из чашки бульон.
— О муж мой! — сказала она, заключая его в объятия. Затем она взяла на руки сына и положила его отцу на грудь.
Прошло еще три дня. Кристофер и Сайсели прогуливались по саду Шефтон Холла. Он уже почти совсем поправился, хотя был еще слаб; но единственной болезнью его были горе и голод, а лучшее лекарство от них — радость и изобилие. Спустился вечер; мягкие и ясные сумерки, незаметно переходящие в ночь. Они сидели на скамье; он рассказывал ей о своих приключениях, и это была волнующая повесть; потом Сайсели написала старому Джекобу Смиту (эти листки, исписанные ее тонким своеобразным почерком, сохранились доныне; из них стоило бы составить книгу, хотя сделано это, по-видимому, никогда не было).
Он рассказывал ей о жестокой битве на корабле «Большой Ярмут», когда на них напали два турецких судна, и о том, как храбро вел себя брат Мартин. После того как их посадили гребцами на галеры, Мартину, Джефри и ему посчастливилось очутиться на одной скамье. Потом Мартин схватил какую-то южную лихорадку, но так как в то время они стояли в Тунисском порту, где можно было достать фрукты, чтобы кормить больного, Кристофер и Джефри выходили его. Через четыре месяца император Карл появился под Тунисом, и, когда город пал, по милости божией они были освобождены вместе с прочими рабами-христианами, после чего Мартин возвратился в Англию с бумагами сэра Джона, которые намеревался вернуть его ближайшему наследнику, так как все они считали Сайсели погибшей.
Кристоферу же и Джефри на родине нечего было делать, и они остались, чтобы на стороне испанцев сражаться против турок, от которых так много натерпелись. Когда эта война кончилась, они тоже отправились в Англию, -больше им некуда было деваться, да и хотелось свести счеты с испанским настоятелем Блосхолма. А остальное она сама знает.
Да, ответила Сайсели, она знает и никогда не забудет; но становится холодно, и ему вредно сидеть тут на скамейке, надо уходить. В ответ Кристофер только засмеялся:
— Голубка моя, если бы ты только видела галерную скамью, на которой я сидел там, у берегов Туниса, я, едва оправившийся после раны, нанесенной мне солдатами Мэлдона в Крануэл Тауэрсе, ты бы не стала сейчас беспокоиться. В течение шести месяцев мы трое — я, Мартин и Джефри — были скованы одной цепью, ибо эти черти-язычники почему-то держали нас вместе, — может быть, чтобы легче было следить за нами. И днем, изнемогая от шары, и ночью, дрожа от сырости, мы гребли и гребли, а нехристи-надсмотрщики ходили взад и вперед между рядами скамей и подбадривали нас ременными плетьми. Да, — медленно добавил он, — они хлестали нас, словно мы были волами в ярме. Ты видела шрамы у меня на спине. — О боже! Подумать только, — прошептала она, — тебя, англичанина из знатного рода, били, словно скотину, эти злодеи и дикари! Как мог ты перенести все это, Кристофер?
— Не знаю, жена. Думаю, что, не находись подле меня этот ангел в образе человека, монах Мартин — мир его благородной душе, — по меньшей мере трижды спасший мне жизнь, я бы или раздробил себе череп об уключины для весел, или перестал бы есть, чтобы подохнуть с голоду, или учинил бы что-нибудь такое, что вынудило бы мавров покончить со мной. Я ведь считал тебя умершей и вовсе не хотел жить. Но Мартин внушал мне другое, убеждая меня, что не напрасно я столько страдал. О своих собственных муках он никогда не говорил и уверял, что, как ни ужасна моя участь, все для меня сложится к лучшему.
— И поэтому ты решил выжить, муж мой? О, этот Мартин поистине святой, и я выстрою раку для его останков.
— Не только поэтому, дорогая. Я жил для мщения Клементу Мэлдону -человек он или сам дьявол, — который причинил мне столько горя и мук, что из-за них я преждевременно постарел, — при этом он указал на свой изборожденный морщинами лоб и волосы, где уже проступала седина, — для мщения также и этим пиратам-магометанам, державшим меня в рабстве. Да. Хотя Мартин и порицал меня, когда я ему признавался, думаю, что ради этого я и жил. И богу известно, — мрачно добавил он, — что потом, когда мы их разгромили, я хорошо мстил туркам повсюду, где только можно было. О, видела бы ты мою и Джефри последнюю встречу с капитаном этой пиратской галеры и его помощниками, которые нас в свое время избивали! Нет, я рад, что ты этого не видела: жестокое и кровавое было зрелище, даже не очень-то мягкосердечных испанцев, и тех оно проняло.
Он замолк. Чтобы изменить ход его мыслей, ибо в течение всей своей дальнейшей жизни Кристофер, вспоминая об этих вещах, мрачнел на долгие часы и даже дни, — Сайсели быстро заговорила:
— Хотела бы я знать, что произошло с нашим врагом, аббатом. Его так тщательно разыскивали; дороги находятся под наблюдением, и мы знаем, что никого с ним нет, — все его чужеземные солдаты перебиты или захвачены. Думаю, Кристофер, что он погиб в огне.
Он покачал головой.
— Дьявол в огне не погибает. Где-нибудь он скрывается, замышляя, кого бы еще убить — может быть, нас или нашего сына. О, — добавил он с яростью, — пока руки мои не сжимают ему горло, а кинжал мой не торчит у него в груди, нет для меня покоя: я с ним не рассчитался, да и вы оба не в безопасности.
Сайсели не нашла что ответить. Когда на Кристофера находило такое настроение, с ним трудно было говорить. Тяжкие страдания выпали ему на долю, и, подобно ей, он спасся только чудом.
Внезапно воцарилась необычайная тишина. Черные дрозды перестали по-зимнему стрекотать в кустах остролистника. Стало так тихо, что слышно было, как сухой лист упал с дерева на землю. Наступала ночь. Последний багровый луч заходящего солнца сверкнул в морозном небе, и блеск его озарил все кругом. В этом свете зоркие глаза Кристофера заметили, как что-то белое мелькнуло под сенью бука, где они сидели. Как тигр прыгнул он туда и в тот же миг возвратился, таща какого-то человека.
— Гляди, — сказал он, поворачивая голову своего пленника так, чтобы на нее падал свет. — Гляди, я поймал-таки змею. А, жена, ты ничего не видела, но я его высмотрел, и наконец-то, наконец он у меня в руках!
— Аббат! — изумленно прошептала Сайсели.
Это и вправду был аббат, но как он изменился! Его некогда полное, оливково-смуглое лицо казалось теперь лицом скелета, еще обтянутым желтой кожей, а в глазницах вращались темные, налитые кровью, неестественно большие глаза. Тонзура и щеки поросли серой щетиной, все тело как-то ослабело и съежилось, мягкие холеные руки казались теперь руками женщины, умершей от какой-то изнурительной болезни и так же, как одежда его, была покрыты грязью. Надетая на нем кольчуга болталась, одного сапога не хватало, и из продырявленного чулка торчали пальцы. Он дошел до крайнего падения.
— Бросай оружие, — проворчал Кристофер, тряся его, как терьер трясет пойманную крысу, — не то умрешь! Сдаешься? Отвечай.
— Как он может ответить, — вмешалась Сайсели, — когда ты сжал ему глотку?
Кристофер снял руки с его горла, но схватил за запястья. Аббат же сделал глубокий вдох, ибо почти лишился сознания, и упал на колени — не моля о пощаде, а просто от слабости.
— Я пришел сдаться на вашу милость, — сказал он, — но, услышав ваш разговор, понял, что мне надеяться не на что. Да и как могу я рассчитывать на милосердие, когда сам не проявлял его. К тому же дело мое, великое дело, ради которого я жил и боролся, видимо, погибло. Дайте же мне умереть вместе с ним. О большем я не прошу. Но вы благородный человек, и потому я прошу вас об одном одолжении. Не выдавайте меня вашему злодею королю, который станет меня пытать, повесит, четвертует. Убейте меня сейчас. Вы скажете, что я напал на вас и вы защищались. Оружия у меня нет, но вы можете сунуть мне в руку кинжал.
Кристофер поглядел на жалкое существо, лежащее у его ног, и засмеялся.
— А кто мне поверит? — спросил он. — Правда, никто, пожалуй, не спросит, ведь и я, и любой другой может безнаказанно лишить вас жизни. Впрочем, пусть это дело разбирает королевский трибунал.
Мэлдон вздрогнул.
— Пытки, виселица, четвертование, — повторил он, тяжело дыша. — Разве я предал того, кому никогда не служил? Почему же мне суждена участь предателя?
— А почему бы и нет? — спросил Кристофер. — Вы играли в жестокую игру — и судьба обернулась против вас.
Он не ответил. Заговорила Сайсели.
— Зачем же вы возвратились? Мы думали, что вам удалось бежать.
— Леди, — ответил он, — три дня и три ночи провел я без пищи в земляной норе, словно затравленная лисица, прячась в дренажной трубе вашего сада. Под конец я вылез наружу, чтобы умереть на вольном воздухе, услышал ваши голоса и решил сдаться на вашу милость, ибо когда человек при последнем издыхании, ему уже не до чести.
— Милость! — сказала Сайсели. — О вашей измене я говорить не стану -вы не англичанин и служите своему королю, который много лет назад прислал вас сюда устраивать козни против нашей страны. Но посмотрите на этого человека, на моего мужа. Он разве не умирал с голоду трое суток в вашей подземной темнице, пока вы не спустились туда, чтобы его прикончить? Разве вы не сделали все для того, чтобы он сгорел в своем доме, а потом не отправили его, раненого, за море на произвол судьбы? Разве вы не подослали свою наймитку убить моего ребенка, стоявшего между вами и богатством, в котором вы нуждались для своих козней, а меня, его мать, не возвели на костер, чтобы я погибла в огне? Разве вы не подстрелили в лесу моего отца, боясь, что он обличит вас как предателя, а потом не присвоили себе мое наследство? Разве вы не заставили своих монахов совершать злодеяния и не погубили многих из них Хватит! Змея, принявшая личину служителя божия, как посмела ты приползти сюда и просить пощады?
— Я сказал, что пришел просить о милосердии, ибо муки бессонницы и голода выгнали меня из моей норы, но теперь прошу только смерти. Не глумись над павшим, Сайсели Фотрел, но соверши мщение, на которое ты имеешь право, и убей меня, — ответил аббат, глядя на нее своими ввалившимися глазами и добавил со смехом, походившим на стон: — Кончайте, сэр Кристофер. При вас меч, и вам пора идти ужинать. К тому же становится холодно — это сказала только что ваша жена, раз уж она вам жена.
— Сайсели, — сказал Кристофер, — иди в дом и вызови Джефри Стоукса. Эмлин знает, где его найти.
— Эмлин! — простонал аббат. — Не выдавайте меня Эмлин. Она замучает меня.
— Нет, — ответил Кристофер, — тут не Блосхолмское аббатство. Но насчет того, что с вами может случиться в Лондоне, я не поручусь. Иди, жена.
Но Сайсели не шевельнулась. Она стояла и смотрела на жалкую тварь, лежащую у ее ног.
— Я сказал тебе — иди, — повторил Кристофер.
— А я не стану слушаться, — ответила она. — Помнишь, что я обещала Мартину, когда он умирал?
— Мартин умер? Так Мартин, спасший твоего мужа, умер? — вскричал аббат, подняв голову и потом снова уронив ее на грудь. — О счастливец!
— Я не был у его смертного ложа и не связан твоими обещаниями, Сайсели.
— Но я связана, а мы с тобой — одно. Я обещала быть милосердной к этому человеку, если он попадет в наши руки, и буду.
— Так ты пощадишь его нам на беду! В Англии колесо событий вертится быстро, жена.
— Пусть так. Я поклялась и сдержу клятву. Остальное — на волю божью. До сих пор он нас хранил и, думаю, — добавила она с торжествующей уверенностью, — будет хранить до конца. Аббат Мэлдон, преступник и грешник, аббат Мэлдон, вы таковы, каким созданы, а Мартин, этот святой человек, сказал, что не все в вашем сердце — зло, хотя я и мои близкие добра от вас не видели. Так вот, слушайте. Там, в саду, стоит беседка, крытая соломой; в ней тепло. Ступайте туда. Я пришлю вам вина и еды и новую одежду с человеком, который не проболтается, пришлю и пропуск в Линкольн. К завтрашнему утру вы отдохнете, подкрепитесь. Вон у того дерева будет привязана лошадь. Поезжайте в Линкольн, попытайтесь воспользоваться правом убежища в церкви, и уж если потом с вами случится беда, знайте, что не от нас она, а от какого-либо другого врага или же ее послал сам бог. Желаю вам примириться с ним. Пусть он простит вас, как я прощаю; он ведь читает в сердцах людей, а мне это не дано. Теперь прощайте. Нет, ни слова больше: нам с вами говорить не о чем. Пойдем, Кристофер. На этот раз не я должна подчиниться, а ты.
Они ушли, а злодей, приподнявшись на руках, поглядел им вслед, но что творилось в это мгновение у него в сердце, никто никогда не узнает.
Прошло несколько месяцев, и Блосхолм со всей своей округой снова шил в мире. Смута перекинулась на север, где, по слухам, опять вспыхнул мятеж. Аббата Мэлдона никто больше не видел, и все считали, что, хотя он и не воспользовался правом церковного убежища в Линкольне, ему пришел в голову более разумный выход и он бежал в Испанию. Но Эмлин, которая всюду все узнавала, принесла известие, что это не так и что он стоит во главе тех, кто возбуждал мятеж и междоусобную войну у границ Шотландии.
— Вполне этому верю, — сказала Сайсели. — Свинья не может не лезть в лужу. Он заговорщик по природе своей и до конца пойдет по той дороге, на которую влечет его сердце.
— Но на этой дороге ему, пожалуй, не сносить головы, — мрачно ответила Эмлин. — О, подумать только, что волк уже был у тебя в клетке, а ты сама выпустила его, всей Англии и нам на беду. — Я только проявила милосердие к поверженному, Эмлин.
— Милосердие? А я скажу — безумие. Когда Джефри и Томас услышали об этом, я думала, — они задохнутся от ярости. Особенно Джефри, который очень любил твоего отца и не очень-то пиратскую галеру, — ответила непримиримая Эмлин.
— «Мне отмщение, и аз воздам», — сказал господь, — тихо прошептала Сайсели.
— Господь и другое сказал: кровь пролитая вопиет о крови. Я слышала эти слова, когда сам Мэлдон говорил их твоему мужу в Крануэл Тауэрс.
— Если так должно быть, то так и будет, Эмлин, но пусть другие прольют его жестокую кровь. Не хочу я видеть ее на своих руках и на руках тех, кто живет в моем доме. Я ведь дала обещание. И не говори ты больше об этом, чтобы не подвести нас под беду, — мы ведь не имели права отпускать его. Да и негоже тебе питать такие злобные чувства в день твоей свадьбы. Лучше пойди и надень то красивое платье, которое Джекоб Смит прислал тебе из Лондона. Священник явится в блосхолмскую церковь около четырех, и я полагаю, что Томас тебя достаточно долго ожидал.
Эмлин усмехнулась, пожав своими широкими плечами и пробормотала что-то себе под нос.
Томас, наверное, рассердился бы, услышав эти ее слова. Сайсели же вышла в другую комнату, куда ее позвал Кристофер.
Она увидела, что он записывает на бумаге какие-то цифры. Это был совсем не тот Кристофер, не тот умирающий, которого они вынесли из темницы, хотя все же он очень постарел от перенесенных ужасов и, видно было, лишь недавно обрел душевное спокойствие.
— Видишь ли, дорогая, — сказал он, — нам бы следовало выделить Эмлин приличную сумму денег в приданое, она этого заслужила более, чем кто-либо. Но откуда взять их — не знаю. Земли аббатства, выкупленные Джекобом Смитом у короля, нам еще не принадлежат да и Генриху тоже, хотя он их, без сомнения, скоро отвоюет. Дохода со своего имения ты не получила, а когда получишь, его придется, как обещано, переслать в Лондон. Что касается моей несчастной вотчины, то аббат так основательно прошелся по ней своей бритвой, что она теперь голая, как череп на кладбище. Кроме того, мы должны содержать мать Матильду и ее монашек, покуда не сможем возвратить им их земли. Может быть, настанет день, когда мы или наш сын опять разбогатеем, но, пока он не наступил, нам всем придется пережить трудные времена.
— Однако полегче, чем те, которые мы уже пережили, муженек, — со вздохом ответила она. — На худой конец, мы все-таки свободны, не голодаем, а на все остальное займем денег у Джекоба Смита под те драгоценности, что у меня еще остались. Я уже писала ему, он не откажет.
— Да, но как быть с Томасом и Эмлин?
— Устроятся они, как другие устраиваются. Томасу мы сдали за самую низкую арендную плату замковую ферму; хоть там и надо еще налаживать хозяйство, но ведь и платить он будет лишь тогда, когда сможет. Да и Джекоб Смит положил в карман подвенечного платья Эмлин хороший подарок. Более того, я думаю, он сделает ее своей наследницей, а если так, она будет очень богата, так богата, что мне придется ей низко кланяться. А теперь пойди оденься к свадьбе. Нарядного камзола у тебя нет, так пусть Джефри поможет тебе надеть кольчугу. Она тебе больше всего идет, так, по крайней мере, мне кажется, хотя для меня ты во всем одинаково хорош.
Он начал возражать, что сейчас нет необходимости разгуливать по Блосхолму в военных доспехах, что Джефри нет дома — он устраивается хозяином на постоялом дворе у брода, том самом постоялом дворе, который аббат в свое время обещал Камбале-Меггс, — но Сайсели поцеловала его, схватила ребенка, который радостно лепетал что-то и, кружась, исчезла вместе с ним из комнаты. Ибо на сердце у Сайсели было теперь легко и весело.
На свадьбу Эмлин Стоуэр и Томаса Болла собралось много народу: последнее время в Блосхолме было невесело, и это празднество явилось как бы дыханием весны, оживляющим леса и луга, залогом радости после зимнего мрака. Повсюду рассказывали историю жениха и невесты: как они были в юности помолвлены, а затем разлучены кознями людей, преследующих свои личные дела, как Эмлин выдали против ее воли замуж за ненавистного ей пожилого человека, а Томас вынужден был пойти братом-мирянином в монастырь — в качестве сильного и искусного в обращении со скотом батрака, но полупомешанного, ибо он предпочитал выдавать себя за безумца.
Люди знали и конец этой истории: Эмлин прокляла настоятеля, и проклятие ее исполнилось; а Томас Болл преодолел свой суеверный страх, восстал против монахов, получил от короля назначение и, как офицер войск его милости, показал себя отнюдь не безумцем, но человеком, полным мужества, который сумел штурмом взять аббатство и освободить из темницы сэра Кристофера Харфлита. Эмлин, вместе со своей госпожой, должна была взойти на костер, как ведьма, но от сожжения ее спас тот же Томас, участвовавший, подобно ей, во многих необычайных событиях, о которых по всей округе разносились и были и небылицы.
Теперь, после всех этих приключений, они шли под венец. Как же было не сбежаться на такое событие людям, жившим хотя бы на расстоянии десяти миль от Блосхолма!
Монахов уже не было, и отец Роджер Нектон, старый крануэлский викарий, который при столь необычных обстоятельствах совершил бракосочетание Кристофера и Сайсели (после этого, спасая свою жизнь, он вынужден был бежать, когда последний настоятель Блосхолмского аббатства сжег Крануэл Тауэрс), возвратился теперь освятить новый брачный союз перед всем собравшимся народом. Хотя и жених и невеста были уже не первой молодости, Эмлин в своем богатом свадебном платье и мускулистый рыжеволосый Томас в зеленой одежде йомена, какую он носил много лет назад, в дни своей помолвки с Эмлин, до того как напялил на себя коричневую монашескую рясу, — оба являли собою в церкви перед алтарем красивую и видную пару. Во всяком случае таково было мнение всего народа, хотя какой-то сторонник монахов, вспомнив, как Болл разгуливал ряженым чертом, а Эмлин слыла колдуньей, крякнул из темного угла, что это сам сатана женится на ведьме, но Джефри так хватил его кулаком, что едва не раздробил ему череп.
И вот седовласый добродушный отец Нектон, прочитав сперва Королевский указ, разрешающий Томаса от его обетов, по-старинному совершил свадебный обряд и благословил молодоженов.
Наконец все кончилось, и молодые двинулись из старой церкви в замковую ферму, где им предстояло поселиться, в сопровождении, согласно обычаю, всех друзей и доброжелателей. Когда они проходили через небольшую рощицу у речки, где в этот весенний вечер разносился сладкий аромат диких лилий и нарциссов, Эмлин на миг задержалась и сказала своему мужу, капитану Боллу:
— Помнишь ты это место?
— Да, жена, — ответил он, — это здесь мы с тобой в молодости пообещались друг другу и вдруг увидели, как вон под тем дубом проходит Мэлдон, и тень его холодом легла на наши сердца. Ты заговорила об этом и в часовне женской обители, когда я пришел к тебе потайным ходом, и я чуть не обезумел, припомнив все.
— Да, Томас, я об этом говорила, — ответила Эмлин глубоким, ласковым, новым для него голосом. — Ну ладно, пусть теперь это воспоминание сделает тебя счастливым. Я тоже об этом постараюсь, несмотря на все мои недостатки, если только сумею. — Тут она быстрым движением прижалась к нему, поцеловала его и прибавила: — Пойдем, муженек, за нами столько народу. Я надеюсь, что теперь все беды и козни миновали.
— Аминь, — ответил Болл. Сказав это, он заметил каких-то незнакомых людей под королевским флагом, которые шли поодаль в том же направлении, как и они, и тащили за собой длинную приставную лестницу. Недоумевая, что нужно этим людям в Блосхолме, молодожены вышли из рощи и взобрались на холм, с которого на расстоянии пятидесяти шагов виден был мрачный остов сгоревшего аббатства. Они остановились и глядели в ту сторону, и тут их нагнали Кристофер и Сайсели, мать Матильда с монашками, Джефри Стоукс и другие. В лучах заката место это казалось угрюмым, опустошенным, и все они стояли и смотрели на него, думая каждый о своем.
— Что это там такое? — вздрогнув, спросила Сайсели и указала на какой-то круглый черный предмет, только сейчас появившийся на развалинах главной башни.
В то же самое мгновение на него упал красный луч заходящего солнца.
Это была отрубленная голова Клемента Мэлдона, испанца.
Генри Райдер Хаггард
Эйрик Светлоокий
I. Как жрец Асмунд нашел колдунью Гроа
Жил на юге человек, еще задолго до того времени, когда Тангбранд сын Вильбальдуса стал проповедовать Христа в Исландии
[144]. Звали этого человека Эйрик Светлоокий, сын Торгримура, и в те дни не было человека, равного ему по силе, красоте и смелости, во всем он был первый.
Там же, на юге, жили две женщины, неподалеку от того места, где западные острова всплыли над морем. Одну звали Гудруда Прекрасная, другую — Сванхильда, прозванная Незнающей Отца. Они были сводные сестры, и не было равных им женщин в те дни: они были прекраснее всех. Однако между ними не было ничего общего, кроме крови и ненависти.
Обе эти прекрасные женщины увидали свет Божий в один и тот же день и в один и тот же час. Эйрик же Светлоокий был старше их на целых пять лет. Отец Эйрика был Торгримур Железная Пята, могучий богатырь; во время борьбы с одним берсерком
[145] он потерял ногу и с того времени ходил на деревянной ноге, окованной железом, отчего его и прозвали Железной Пятой. Но, оставшись без ноги и стоя на одной ноге, Торгримур, держась за выступ скалы, поразил берсерка, и за этот подвиг люди чтили и уважали его. Торгримур был зажиточный поселянин, не скорый на гнев, справедливый и богатый друзьями. Уже в поздние годы он взял себе в жены Савуну, дочь Торода. Она была лучше всех женщин, но не по красоте, а по твердости ума. Она была ясновидящей и имела волосы такие, что могла завернуться в них вся, с головы до пят. Эта супружеская чета имела всего только одного сына Эйрика, которого Савуна родила, будучи уже в преклонных летах.
Отец Гудруды был Асмунд сын Асмунда, жрец Миддальгофа, мудрейший и богатейший из всех людей, живших тогда на юге Исландии. Он имел много земель и угодий, а также два больших торговых судна и одно длинное военное судно. Имея много денег, он давал их в рост другим. Нажил он свои деньги, когда был викингом и грабил английское побережье, и много черных дел приписывала ему молва, вспоминая о его жизни в молодые годы. Он был викинг с «обагренными кровью руками». Асмунд был красивый мужчина с голубыми глазами и большой русой бородой, его считали очень искусным и сведущим в законах. Асмунд очень любил деньги, и все кругом боялись его, но это не мешало ему иметь много друзей, так как с годами он стал добрее и ласковее к людям. Он взял себе в жены Гудруду, дочь Бьерна, кроткую и добрую, прозванную Гудрудой Милой.
От этого брака родились Бьерн и Гудруда Прекрасная. Бьерн вырастал, походя на своего отца в его молодые годы, был силен, жесток и жаден до наживы. Гудруда, за исключением редкой, бесподобной красоты, была вся в свою мать.
Мать Сванхильды Незнающей Отца была Гроа колдунья, родом из Края Финнов, и молва говорила о ней, что судно, на котором она плыла, стараясь стать под ветром Западных островов
[146] в сильную бурю, разбилось в щепки о прибрежные скалы, и все, кто был на нём, погибли. Только Гроа спаслась своим колдовством. Когда Асмунд жрец наутро после бури проезжал по берегу, отыскивая сбежавших ночью коней, то увидел красавицу, одетую в ярко-красный плащ и широкий золотой пояс, сидевшую на скале над морем. Она расчесывала свои длинные черные кудри и пела тихую песню, а у ее ног в воде перекатывалась с приливом и отливом голова мертвого человека. Асмунд жрец спросил ее, откуда она.
— С Лебединого озера! — ответила красавица.
Затем он спросил ее, где ее родня.
Тогда женщина указала ему на голову мертвого человека и сказала, что это все, что осталось от ее родни.
Опять Асмунд спросил ее, кто был этот мертвый человек. Она засмеялась и снова запела свою песню, а в песне ее говорилось, что боги смерти протянули свои жадные руки к супругу Гроа, что свет не видел другого такого отважного викинга, а теперь волны играют его головой. Дальше в песне говорилось, что в прошлую ночь норны
[147] бушевали, и голоса их говорили ей об Асмунде жреце и о детях, которые должны будут родиться.
— Кто сказал тебе мое имя? — спросил удивленный Асмунд.
— Волны сказали мне еще, что ты выручишь меня!
— Ну, это твое счастье! — сказал жрец. — Но я боюсь, что ты чародейка!
— И чародейка, и чаровница! — отозвалась она и опять звонко засмеялась.
— Правда, ты прекрасна и можешь быть чаровницей, — согласился Асмунд жрец, — но скажи мне, что мы будем делать с этим мертвым человеком?
— Пусть он лежит на дне моря, и пусть все супруги лежат там! — проговорила Гроа.
После этого Асмунд взял ее с собою в Миддальгоф и дал ей участок земли и жилье, и там она стала жить одна. Он часто пользовался ее премудростью и таинственными силами.
Год спустя после того, как Асмунд жрец нашел колдунью Гроа, случилось так, что Гудруда Милая забеременела, и когда настало ей время родить, родила дочь редкой красоты. В тот же день и Гроа колдунья тоже принесла дочь, и люди удивлялись, кто бы мог быть ее отцом, так как Гроа не имела мужа. Женщины болтали между собой, что отцом этого ребенка был тот же жрец Асмунд. Когда ему говорили об этом, он очень гневался и утверждал, что никогда колдунья не может иметь от него ребенка, как бы прекрасна она ни была. Когда люди спрашивали об этом Гроа, то та, смеясь, говорила, что ничего не
знает об этом, так как никогда не видала в лицо отца своего ребенка, который выходил ночью из воды и на заре уходил. Многие думали, что это был колдун или же дух ее умершего мужа. Другие же говорили, что Гроа лгала, как часто лгут в таких делах женщины. Но ложь ли то была или правда, только ребенок был налицо, и его назвали Сванхильдой.
Случилось так, что за час до того времени, как Гудруда Милая родила ребенка, Асмунд пошел в храм поддержать священный огонь, что горел день и ночь на жертвеннике перед изображением богини Фрейи
[148]. Присев на скамью перед святилищем, Асмунд вдруг заснул и увидел странный сон про белого лебедя и черного коршуна и про белую голубку и черного ворона.
И когда пробудился и пошел из храма, ему попалась навстречу женщина и с плачем крикнула: — Спеши, спеши домой! У тебя родилась дочь, но Гудруда, жена твоя, умирает!
Действительно, на широкой постели под пологом в большой горнице Миддальгофа лежала Гудруда Милая и умирала. Заслышав шаги, она спросила:
— Ты ли это, супруг мой любезный? Пришел ты не рано, это мой последний час, так выслушай, что я хочу сказать тебе: возьми ты новорожденную, прижми к своей груди, поцелуй, окропи водой и назови моим именем!
Асмунд сделал все по словам жены.
— Теперь слушай меня, супруг, — продолжала Гудруда Милая, — я всегда была тебе хорошей женой, а ты не всегда был мне хорошим мужем и ты загладишь эту вину, если дашь мне клятву, что будешь любить и беречь это дитя, хотя она и девочка!
— Клянусь тебе! — отвечал Асмунд.
— Затем поклянись мне, что не возьмешь себе в жены колдунью Гроа и не будешь иметь с ней никакого дела; это я говорю для твоей же пользы, так как через нее ты найдешь себе смерть. Клянись!
— Клянусь! — сказал Асмунд жрец.
— Это ты хорошо делаешь, — продолжала Гудруда Милая. — Если же нарушишь свою клятву, так постигнет тебя и весь дом твой великое горе. Ну, теперь простись со мной, я умираю!
Асмунд склонился над нею и поцеловал ее. Говорят, он много плакал в этот день.
Покойницу зарыли в землю, и жрец Асмунд много и долго горевал о ней.
Но сон, который он видел тогда, мучил его и не давал ему покоя, а из всех толкователей снов во всей той стране не было никого искуснее Гроа. Когда Гудруда уже семь суток лежала в земле, Асмунд отправился к Гроа, но с не совсем чистой совестью, так как еще помнил свою клятву, данную жене.
Гроа лежала на постели, и дитя ее лежало у ее груди.
— Приветствую тебя, господин мой! — сказала она. — Что желаешь ты от меня?
— Видел я страшный сон, — промолвил Асмунд. — И ты одна можешь разгадать его. — И он пересказал ей свой сон от слова до слова, весь по порядку.
— А что ты дашь мне, если я тебе разгадаю его? — спросила Гроа колдунья.
— Чего же ты хочешь? Думается мне, что я дал тебе и так очень много.
— Да, господин мой! — колдунья посмотрела на своего ребенка.
— Ты дал мне очень много, и теперь я прошу у тебя очень малого: возьми на руки это дитя окропи его водой и дай ему имя!
— Люди станут говорить мне, — сказал жрец, — если я сделаю то, чего ты желаешь, что это дело отца!
— То, что люди говорят, неважно! Молва, что морская волна, набежит и отхлынет, ветер развеивает и разносит молву. И ты дашь людям ложь в самом имени ребенка, ты назовешь ее Сванхильдой Незнающей Отца. Впрочем, как хочешь, но только без этого я не разгадаю тебе твоего сна!
— Так истолкуй ты мне сон, а я дам имя ребенку! — согласился Асмунд.
— Нет, прежде сделай ты, что обещаешь; тогда я буду знать, что никакой беды не приключится ей от тебя!
И Асмунд взял ребенка на руки, окропил его водой и дал ему имя. Тогда Гроа истолковала Асмунду его знаменательный сон, сообщив, что дочь ее Сванхильда восторжествует над его дочерью Гудрудой и каким-то могучим человеком, и что оба они умрут от ее руки, и еще многое другое.
Асмунд, придя в ярость от этого известия, воскликнул:
— Ты была разумна, что заставила меня хитростью своей дать имя твоему ублюдку! Иначе я убил бы ее тут же на месте!
— Теперь ты не можешь этого сделать, господин мой, ты держал ее на своих руках! — засмеялась Гроа. — Лучше пойди да схорони свою Гудруду Прекрасную на холме Кольдбек, этим ты положишь конец всем бедам и несчастьям, ожидающим тебя впереди.
— Этому не бывать! — воскликнул жрец. — Я поклялся любить и беречь ее и клялся такою клятвой, которая никогда не может быть нарушена!
— Ну и хорошо! — снова засмеялась Гроа. — Пусть все случится, как судьбой суждено. На Кольдбеке много места для могил, да и море охотно прикрывает своим саваном мертвецов!
Асмунд ушел от колдуньи в гневе и смущении в душе.
II. Как Эйрик сказал про свою любовь Гудруде Прекрасной в метель на Кольдбеке
За пять лет до смерти Гудруды Милой Савуна, жена I Торгримура Железной Пяты, родила сына на Кольдбеке на болоте, что над рекой Ран. Когда отец пришел посмотреть на ребенка, то сказал:
— Это необычайный ребенок, волосы его светлы, как спелый колос, как чистое золото, а глаза светятся, как звезды! — И он принял его на руки, назвав его Эйриком Светлооким.
От Миддальгофа до Кольдбека всего только один час езды на добром коне, и вот однажды случилось Торгримуру поехать в Миддальгоф на праздник Юуль на поклонение в храм, так как он состоял в приходе Асмунда сына Асмунда. Сына своего Эйрика Светлоокого взял Торгримур с собой в Миддальгоф, там была и Гроа со Сванхильдой, так как теперь Асмунд уже забыл свою клятву и колдунья жила в Миддальгофе.
Как-то случилось, что эти трое прекрасных детей сошлись вместе и стали играть. У Гудруды Прекрасной была деревянная лошадка, и Эйрик стал возить девочку на ней, но Сванхильда сбросила Гудруду с ее лошадки и, сев сама на нее, крикнула Эйрику, чтобы он возил ее. Тот стал утешать Гудруду и не захотел исполнить желание Сванхильды. Тогда Сванхильда, разгневавшись, сердито крикнула:
— Раз я хочу этого, ты должен меня возить!
Эйрик тогда толкнул лошадку так сильно, что та опрокинулась, и Сванхильда упала чуть не в самый огонь очага. Вскочив на ноги, она схватила горящую головню и пустила ею в Гудруду, запалив ее одежду. Эйрик подоспел и потушил огонь, потом отошел с Гудрудой в сторону от Сванхильды, не желая больше даже говорить с ней.
Мужчины смеялись, а Гроа смотрела мрачно и шептала какие-то таинственные заклинания.
— Что ты смотришь так мрачно, управительница? — спросил Асмунд. — Этот мальчик красавец, вид его веселит сердце!
— Красавец он есть и век свой будет красавцем, — проговорила Гроа, — но против злосчастья своего ему не устоять! Через женщину он найдет себе смерть и умрет, как герой, но не от руки врагов!
Годы шли. Гроа жила со своей дочерью Сванхильдой в доме Асмунда и была его любовью. Но Асмунд, хотя и забыл почти свою клятву, все же не хотел взять ее себе в жены. Это сильно озлобляло колдунью.
Прошло двадцать лет с тех пор, как Гудруда Милая лежала в земле. Гудруда Прекрасная, а также Сванхильда были обе взрослые женщины, Эйрику было уже двадцать пять лет, и никогда другого подобного ему человека Не жило в Исландии: он был силен и ловок, ростом высок, складом могуч; кудри его были, словно золото, глаза светились, как звезды или как лезвие доброго меча. Он был нежен и ласков, как женщина, и уже юношей сила его равнялась силе двух здоровых мужчин. И не было во всей округе ни одного юноши и ни одного мужчины, который мог бы плавать, прыгать или бегать, как он, или же мог побороть его.
Люди уважали его, хотя до того времени он еще не совершил никакого подвига, а жил скромно на Кольдбеке, ведя свое хозяйство, возделывая землю и разводя стада: к этому времени отца его, Торгримура, уже не было в живых. Женщины все любили его, но он любил только одну из всех женщин, Гудруду Прекрасную, дочь Асмунда. Та также любила только его одного. Это была красивейшая из всех женщин: волосы ее были, как у Эйрика, светлые, золотистые; сама она» была бела, как снег на вершине Геклы
[149], а глаза были большие и темные и смотрели так ласково и любовно из-под темных бровей и ресниц. Роста она была высокого, станом стройная, сильная и гибкая, лицом радостная и приветливая, сердцем нежная, по уму с ней не могла сравняться ни одна женщина.
Сванхильда тоже была прекрасна; маленькая, но стройная и сильная, лицом смуглая, с глазами синими и глубокими, как море; кудри ее были черны, как смоль, и покрывали ее, как плащ, до колен. Души же ее никто не мог разгадать: все в ней было тайна и мрак. Больше всего любила она привлекать к себе сердца мужчин и затем осмеивать их, и многих она обольстила и обманула, хорошо изучив женское искусство. Сердце у нее было холодное, и желала она только власти и богатства. Но она любила одного человека, и это была та отравленная стрела, которой судьба пронзила ее жестокое сердце: человек этот был Эйрик, но он не любил ее. Кроме него, все для нее было беспросветной тьмой; она обучалась у матери своей чарам и колдовству и старалась всеми силами приворожить его к себе. А Эйрик не видел никого, кроме Гудруды, не слышал никого, кроме нее, не думал ни о ком, как только о ней, хотя до того времени они еще не признались друг другу в своей любви.
Сванхильда, хотя и не имела любви к своей матери, в горе своем пошла просить ее помощи и сообщила ей:
— Я люблю одного только Эйрика и ненавижу Гудруду; хочу пересилить ее и приколдовать к себе Эйрика. Помоги мне!
Гроа отвечала:
— Вот что я думаю сделать: Асмунд хочет отдать свою дочь за человека знатного и богатого, а такому простому поселянину, как Эйрик, не отдаст. Мы скажем ему, что Гудруда нарушает девичью скромность с Эйриком Светлооким, и Асмунд прогонит его из дома своего, а тем временем я пошлю Колля Полоумного, моего траля
[150], которого мне подарил Асмунд, на север, где живет богатый, прославленный и могущественный человек по имени Оспакар Чернозуб. Он недавно овдовел и пустил молву, что хочет взять себе в жены самую красивую девушку в Исландии. Колль понарасскажет ему чудес о Гудруде, и тот станет сватать ее. Если все пойдет хорошо, ты избавишься от твоей разлучницы. Если же это не удастся, то есть еще два средства: или обольстить Эйрика своей красотой и отбить его у Гудруды, или же — и это средство вернее — нож в твоей руке, а сердце в груди Гудруды. Мертвая красавица не соперница для живой!
Так говорила Гроа колдунья своей дочери, затем добавила:
— Я тоже ненавижу эту надменную девушку, которая мне стоит поперек дороги! Если бы не она, я давно была бы женою Асмунда. Она не терпит меня, так как я свет любви ее отца, и я хочу видеть эти золотые кудри потускневшими от дыхания смерти или, по крайней мере, глаза ее плачущими от позора и муки, когда человек, которого она ненавидит, назовет ее своею женой и увезет отсюда на свою мрачную и угрюмую родину!
И вот Колль Полоумный отправился исполнять поручение своей госпожи. До праздника Юуля оставался всего один месяц. Люди сидели по домам: время было темное, и выпало много снега, но, наконец, пришли и морозы, небо прояснилось. Гудруда, сидя за веретеном в большой горнице Миддальгофа, увидела ясное небо и вышла к женским воротам замка. Снег был крепкий и белый, и ее стало манить в открытое поле. Накинув плащ, она пошла по дороге к Кольдбеку, что над болотом, у реки Ран. Сванхильда, всегда следовавшая за нею, тоже взяла плащ и пошла по ее следам. Долго шли они, пока Гудруда не заметила, что на небе собираются тучи, и не повернула домой. Между тем снег уже начал падать густыми хлопьями, и вскоре занесло всю долину и замело следы. Сумрак окутал окрестность; время клонилось к вечеру. Гудруда шла и шла, сама не зная куда. Сванхильда также неотступно следовала за нею. Скоро силы стали изменять Гудруде, и она присела на скалу, торчавшую из-под снега. Ее стал клонить сон; веки тяжелели и смыкались против воли. Неподалеку торчала другая скала или камень, и на нем приютилась Сванхильда. Гудруда временами открывала глаза и вдруг заметила сквозь метель точно в тумане движущийся предмет. Вскочив на ноги, она громко позвала на помощь. Ей отозвался мужской голос, и минуту спустя с Гудрудой поравнялся всадник. Это был Эйрик Светлоокий.
— Ты ли это, Гудруда?
— Эйрик! Это ты! — отозвалась она. — Сама судьба привела тебя сюда в добрый час: еще немного, и глаза мои никогда больше не увидели бы тебя; они уже начинали смыкаться сном смерти!
— Так ты заблудилась?! Заблудился и я. Снегом все занесло… ты не зябнешь, Гудруда?
— Немного! Сядь здесь рядом со мной, тут есть место и для тебя! С минуту они молчали. Сванхильда подползла ближе к ним и притаилась в снегу, у них за спиной, а снег, падая густыми хлопьями, засыпал ее.
— Знаешь, что я думаю, Эйрик? — сказала Гудруда. — Что мы оба умрем здесь, в снегу!
— Что же, лучшей участи я не желаю!
— Не говори так, для тебя это плохой конец. Тебе предстоит совершить целый ряд славных дел!
— Но подле тебя я умру счастливым! — сказал он и прижал ее к своей груди. — Смерть подходит к нам ближе и ближе, и прежде, чем она возьмет нас, я хочу сказать тебе одно слово, если ты только позволишь!
Девушка отвечала:
— Говори, Эйрик!
— Я хотел сказать тебе, Гудруда, что люблю тебя больше жизни и не хочу лучшей доли, как умереть в твоих объятиях! Ты для меня все, и жизнь без тебя для меня хуже смерти! Скажи мне теперь свое слово!
— Я не скрою от тебя, Эйрик, что твои слова сладки для моего слуха, и что в моем сердце тоже живет любовь к тебе, Светлоокий!
— Так поцелуй меня, прежде чем смерть возьмет нас с тобой!
И они поцеловались впервые в снегу на Кольдбеке; хотя губы их были холодны, но сердца горели, и поцелуй был жаркий и долгий. Сванхильда услышала этот поцелуй, и кровь застыла у нее в жилах. Гнев распалил ее сердце, и она схватилась за нож, что висел у нее на поясе.
— Нет, — сказала она, — мороз убьет ее не хуже ножа, пусть все мы умрем, и снег заметет наши страсти!
— Поклянись мне, дорогая, что, если мы каким либо чудом останемся живы, ты всегда будешь любить меня, как сейчас! — говорил между тем Эйрик.
— Клянусь и еще клянусь, что не буду ничьею женой, как только твоей! — И они снова скрепили клятву свою поцелуем. А снег падал все чаще и чаще и засыпал их, а вместе с ними и Сванхильду.
— Слушай, Эйрик, — проговорила тихонько Гудруда, прижавшись к его груди, — чудится мне что-то на снегу. Что-то говорит мне, что мы с тобой не умрем, но что я умру так, подле тебя! Видишь, тут, на снегу, я лежу с тобой и сплю, и чьи-то руки протягиваются ко мне… Ах! Это Сванхильда!.. Вот и исчезло видение!
— Это туман на снегу, сон или греза, родная, сон смыкает и мои очи, я стыну… поцелуй меня еще раз!
И снова сомкнулись уста их, холодные как лед.
— О, Эйрик! Эйрик! Проснись! Гляди, там огни играют!
И Эйрик вскочил на ноги и посмотрел в ту сторону, где ярким заревом занялось на небе северное сияние, и при свете его он вдруг увидал Золотой водопад, а вдали на море Западные острова и храм Миддальгофа.
— Мы спасены! Вон замок твоего отца, — сказал Эйрик и разом ожил. Стряхнув снег со спины своего коня, он посадил Гудруду на него, а сам пошел рядом, ведя его под уздцы, торопясь прийти в замок, пока не погас волшебный огонь.
Сванхильда ползком поплелась следом. Она часто изнемогала от усталости, но затем снова собиралась с силами и кралась за ними. Злоба и ненависть, кипевшие в ее сердце, не давали ей замерзнуть.
Так дошли они до замка Асмунда. Сванхильда перелезла через торфяную ограду и вошла, никем не замеченная, через ворота. Эйрик же подвез Гудруду к другим воротам, и сам Асмунд приветствовал их: он встревожился о своей дочери и был рад, что принял ее живой.
Гудруда рассказала ему все, как было, но не все, что было, и Асмунд позвал Эйрика Светлоокого в свой дом. Тогда же он осведомился о Сванхильде, но никто не видал ее, и Асмунд был очень опечален. Но вот пришла старая женщина и сказала, что Сванхильда на кухне, а вслед за тем пришла и сама она, в белом одеянии, очень бледная. Глаза ее сверкали страшным огнем.
— Где же ты была, Сванхильда? Я думал, что ты погибаешь в снегу вместе с Гудрудой! — сказал Асмунд жрец.
— Нет, приемный отец, я ходила в храм, а вот Гудруда чуть не погибла — и погибла бы, если бы ее не спас этот Светлоокий. Я рада, что он спас ее: без прекрасной сестрицы плохо было бы наше житье!
— проговорила Сванхильда и поцеловала Гудруду, но уста ее были холодны, а глаза горели недобрым огнем.
III. Как Асмунд жрец пригласил Эйрика к себе на праздник
Было время ужина, и мужчины сели есть мясо, а женщины прислуживали им. После трапезы люди собрались вокруг очага. Гудруда также пришла и села подле Эйрика, так что длинный рукав ее одежды касался его руки. Они не сказала друг другу ни слова, но сидели рядом и были счастливы, и это горечью наполнило сердце Сванхильды. Она пошла и села между Асмундом и Бьерном, его сыном.
— Посмотри, приемный отец, — сказала она, — какая красивая парочка там сидит бок о бок!
— Против этого никто не может слова сказать, — ответил Асмунд,
— надо много земель изъездить, прежде чем встретишь другого такого мужчину, как Эйрик Светлоокий, а такой девушки, как Гудруда, не сыскать нигде между Миддальгофом и Лондоном, если не считать тебя, Сванхильда!
— Не говори обо мне, приемный отец! Что я такое? А вот если их поженить, то это будет выгодный брак для Светлоокого!
— А кто сказал тебе, что Эйрик получит Гудруду в жены? — строго сказал Асмунд.
— Никто, но у меня есть глаза и уши!
— А ты не доверяй ни тому, что видишь, ни тому, что слышишь. Тогда речи твои будут разумнее! — сказал Асмунд жрец. — Подойди . сюда, Эйрик, и расскажи нам, как ты встретился с Гудрудой.
Тот рассказал, но не все, так как хотел сватать Гудруду только на другой день. Сердце его не предвещало ему счастья в этом деле, и потому он не спешил.
— В этом ты оказал мне и дому моему услугу, — промолвил Асмунд жрец, — так как я высоко ценю ее, как невесту, и отдам в жены только знатному и богатому человеку. Если бы она погибла в снегу, такой человек был бы лишен счастья порадоваться на ее красоту. А за услугу твою прими от меня в дар вот это, — и он, сняв с руки своей толстый золотой обруч, протянул его Эйрику, добавив, — в тот день, когда супруг Гудруды назовет ее своею женой, он подарит тебе другой такой обруч!
При этих словах колени Эйрика подкосились, и сердце замерло в груди, но он отвечал ясно и твердо:
— Дар твой был бы лучше без слов, но прошу тебя, возьми его обратно; я не сделал ничего, чтобы заслужить его. Быть может, настанет время, когда я попрошу у тебя более ценной награды за то, что ты считаешь заслугой!
— Никто еще никогда не отвергал моих даров! — гневно проговорил Асмунд. — Или ты — зажиточный землевладелец, что не придаешь цены золоту и не нуждаешься в нем?
— В золоте я не нуждаюсь, того, что я имею, хватает мне, но я свободный человек и не хочу принять дара, за который я не могу отплатить тем же! Вот почему я не хочу принять твоего обруча.
— Как хочешь! — проговорил Асмунд. — Гордость — добрый конь, если на нем ездить умеючи! — и он снова надел обруч себе на руку.
Затем все отошли ко сну, а Сванхильда пошла и пересказала все своей матери. Гроа засмеялась:
— Вот и хорошо! Асмунд в добром для нас с тобой настроении, и я сделаю так, что Эйрик не посмеет больше прийти сюда до того дня, когда Оспакар Чернозуб увезет отсюда Гудруду!
— Но если Эйрик не будет приходить сюда, мать, то как же я буду видеть его лицо? А мне надо видеть его ясные очи!
— Ну, уж это твое дело, безумная, но если он будет приходить сюда, то простись со своими надеждами! Как ты ни хороша, но Гудруда много лучше тебя, и как ты ни сильна, она сильнее тебя в этом деле. А про Эйрика скажу тебе, что он или добьется своего желания, или умрет под мечом Асмунда или Бьерна!
— Делай как хочешь, мать, но пусть он будет мой! — сказала Сванхильда.
— Ну, так я пойду к Асмунду, и прежде чем займется завтрашний день, Асмунд будет гневен и неумолим!
И Гроа пошла к закрытой пологом кровати Асмунда; он сидел на постели и спросил, зачем она пришла.
— Пришла я по любви моей к тебе и к дому твоему! Скажи, хочешь ли ты точно, чтобы дочь твоя, Гудруда Прекрасная, была Светлым Маем того долговязого поселянина Эйрика?
[151]
— Этого у меня не было в уме! — ответил Асмунд, поглаживая свою бороду.
— Ну, так знаешь ли, сегодня твою любимую голубку этот поселянин ласкал и целовал, сколько душе его было угодно, там, среди снежного поля!
— Что же, могло быть и хуже! Они — красивая пара и будто созданы друг для друга!
— А если так, то все хорошо. Но все-таки жаль такую красавицу бросить, как завалящую вещь, простому поселянину. У тебя немало недругов, Асмунд: ты слишком богат и во всем имеешь удачу. Не разумнее ли было бы тебе воспользоваться этой девушкой, чтобы воздвигнуть себе ограду от врагов, отдав ее замуж за человека могущественного, сильного и богатого?
— Не привык я рассчитывать на купленных друзей, а только на свою силу да на свой меч. Но скажи, как мне это сделать, если бы я вздумал последовать твоему совету?
— Вот как: ты, верно, слышал об Оспакаре Чернозубе, жреце, что живет на севере и властвует там надо всеми, и все боятся его!
— Слышал и знаю его! Нет человека, равного ему по безобразию, как и по силе, богатству и могуществу. Когда мы вместе с ним ходили викингами в походы, он делал такие дела, что кровь во мне возмущалась, а в те годы и у меня было не мягкое сердце!
— С годами люди меняются, — продолжала Гроа колдунья, — только я знаю, что Оспакар пуще всего желает взять Гудруду себе в жены. Теперь, когда он имеет все, что только может иметь человек, ему не остается ничего более желать, как назвать своею женой женщину, красивее которой нет в Исландии. А с таким зятем, как Оспакар, кто посмеет пойти против тебя?
— Не так уж я уверен в этом, да и тебе, Гроа, не вполне доверяю! Этот Оспакар безобразен и гадок; стыд тому, кто отдал бы Гудруду Прекрасную такому человеку, когда сама она глядит в другую сторону. Я клялся любить и беречь ее, и если Эйрик Светлоокий не столь богат и могуществен, зато красотою никто не сравнится с ним, да и рода он хорошего, честного, благородного, и всем мужчинам завидно глядеть на него!
— На все воля твоя, господин, но если ты хочешь отдать сокровище свое, за которое князья рады были бы отдать свои земли, этому Эйрику, то смотри — не всегда длится снежная пора; юная кровь кипит и не любит ждать! Ты или обручи ее с ним, или прогони его! Вот тебе мое слово!
— Язык твой, женщина, больно проворен и забегает вперед! Человек этот еще ничем не показал себя, и я хочу испытать его. Завтра я закажу ему дорогу к моему дому, и все пойдет так, как суждено судьбой. А ты теперь молчи, твои речи наскучили мне, лукавые они. Не знаю, что посулил тебе Оспакар за твое сватовство, только знаю, что ты бы от золотого обруча не отказалась!
На этом разговор кончился.
А рано поутру Асмунд разбудил Эйрика, спавшего у большого очага большой горницы, сказав ему, что хочет говорить с ним. Эйрик пошел за ним к воротам, и здесь Асмунд спросил его:
— Скажи, Эйрик, кто научил тебя, что поцелуи устраняют холод в снежные дни?
— Кто сказал тебе, господин, что я испробовал это средство? — спросил Эйрик.
— Снег многое может сокрыть, но есть такие глаза, которых и метель не слепит. Знай, Эйрик, что хотя ты мне люб, но Гудруда не для такого ничем не прославленного поселянина, как ты!
— Значит, моя любовь безрадостна, господин: я ведь люблю Гудруду Прекрасную больше жизни своей и хотел этим утром просить ее тебя себе в жены!
— Ну, так ты слышал мой ответ и знай, что если тебя еще раз видят наедине с Гудрудой Прекрасной, то не ее уста, а мой боевой топор поцелует тебя!
Эйрик повернулся и хотел идти к своему коню, как вдруг Гудруда подошла незаметно и стала между ним и отцом; сердце Эйрика дрогнуло от радости при виде ее.
— Слушай, Гудруда, — сказал Эйрик, — таково слово твоего отца, чтобы нам с тобой не говорить больше никогда!
— Это горькое и жестокое слово для нас, Эйрик, но на все есть воля отца!
— Жестокое ли мое слово, или нет, а только оно будет твердо, и ты не пойдешь больше целовать его ни среди снежной равнины, ни на цветущем лугу! — проговорил Асмунд.
— Мнится мне, что я слышу не твои слова, отец, а слова Сванхильды! — проговорила Гудруда. — Такие дела случались и с лучшими людьми, но отцовское слово для девушки — все равно, что ветер для травушки: и та, и другая должны склоняться!
— Солнце хоть за облаком будет ныне, а настанет день, когда оно выглянет из-за туч. До тех же пор будь счастлив, Эйрик!
— Так нет твоей воли, господин, и на то, чтобы я приехал сюда на твой праздник Юуль, как ты звал меня все эти десять лет? — спросил Эйрик.
Асмунд, разгневавшись на речь Гудруды, указал рукою на Великий Золотой водопад, что с громом и грохотом падал с гор, и сказал:
— Человек может прийти сюда тем или другим путем. От Кольдбека к Миддальгофу ведут два пути: один по проезжей дороге, а другой — через Золотой водопад. Но до сего времени ни один человек не избирал этого последнего пути. Я зову тебя к себе на праздник этим кратчайшим путем и клянусь, если ты явишься сюда через Золотой водопад, я встречу тебя с почетом, как желанного гостя. А если найду тебя мертвым в водовороте, то схороню по-соседски. Если же ты придешь сюда иным путем, то мои тралли заколют тебя у моего порога! — И Асмунд засмеялся, поглаживая свою длинную бороду: он знал, что никакой человек не может прийти этим путем.
Эйрик с усмешкой отвечал:
— Ну, так держи свое слово крепко! Быть может, я буду твоим гостем на празднике Юуле! — И, вскочив на своего коня, Эйрик поехал снежной равниной к себе на Кольдбек.
Тем временем Колль Полоумный пришел в Свинефьелль, что на севере, где стоит грозный замок Оспакара Чернозуба, в котором день за днем сотни мужчин садились за мясо. Колль вошел в большую горницу, когда Оспакар сидел за длинным столом, и широко раскрыл глаза, увидев Оспакара. Такого человека он никогда еще не видал: роста он был громадного, волосы его были черны как смоль, а на нижней отвисшей губе находилось большое черное пятно. Глаза маленькие и узкие; скулы торчали в стороны, как у лошади. Колль подумал, что плохо иметь дело с Оспакаром, и устрашился своего поручения: Колль, хотя и полоумный был, но ничем не глупее умного, даже много хитрее всякого другого.
Оспакар, сидя на высоком седалище, в пурпурном одеянии и опоясанный своим славным мечом Молнии Светом, подобного которому не было другого, при виде вошедшего Колля крикнул своим зычным голосом:
— Кто та рыжая лиса, что залезла в мою берлогу?
— Зовут меня Колль Полоумный, слуга волшебницы Гроа! Надеюсь, что я здесь желанный гость!
— Это видно будет! — отозвался Оспакар. — Скажи, почему тебя зовут Полоумным?
— За то, что не больно охоч до работы!
— Ну, так все мои тралли совсем безумные и тебе сродни. А теперь скажи, что привело тебя сюда?
— Вот что! Прошла о тебе молва, что ты сулишь богатый дар тому, кто отыщет для тебя в жены самую красивую девушку в Исландии, и я попросил госпожу отпустить меня на время, чтобы дойти к тебе и рассказать про такую девушку!
— Ничего я никому не сулил, но всегда рад слышать про красивую женщину! — сказал Оспакар. — И готов взять себе в жены ту, которую найду достаточно прекрасной. Так говори, но, смотри, не лги, а то не помилую!
И стал ему Колль расхваливать Гудруду Прекрасную. Когда он кончил, Чернозуб сказал:
— Если девушка эта хоть наполовину столь прекрасна, как ты говоришь, то она может считать себя счастливой. Оспакар назовет ее своею женой. Если же ты налгал, то берегись, скоро одним мужем будет меньше в Исландии. Завтра я пошлю гонца сказать Асмунду, что думаю побывать у него на празднике Юуле, и тогда погляжу на эту девушку. А пока ты, Полоумный, садись с моими траллями и за труды свои получи вот это! — И Оспакар, сняв пурпурный плащ с своего плеча, бросил его Коллю.
— Ты хорошо сделаешь, если не промедлишь, — сказал Колль, — на такой цветок летит много пчел. Уже есть у нас на юге человек по имени Эйрик Светлоокий; и он любит Гудруду Прекрасную, и она любит его, хотя он простой поселянин и ему всего двадцать пять лет!
— Хо-хо! — захохотал Оспакар. — Мне уже сорок пять, но пусть этот молокосос не становится мне поперек дороги, а не то люди прозовут его Эйриком Одноглазым!
Немедленно к Асмунду был отправлен гонец, и показались ему слова Чернозуба любы. Он приготовил пир.
IV. Как Эйрик пришел через Золотой водопад
Накануне праздника Юуля прибыл в Миддальгоф Оспакар в роскошном вооружении, с большой свитой слуг и с двумя сыновьями — Гицуром Законником и Мордом Младшим. Гудруда, стоя у женских ворот отцовского замка, увидела при свете месяца лицо Оспакара, и оно возбудило в ней отвращение.
— Приглянулся ли тебе, сестрица, тот, что приехал взять тебя в жены? — спросила Сванхильда.
— Задаром приехал! — отвечала Гудруда. — Ему меня не взять! Скорее я буду лежать на дне водоворота под Золотым водопадом, чем на его брачном ложе!
— Это будет видно! Оспакар и богат, и знатен, а ростом и сложением крупнее всех мужчин. Плохо придется Эйрику, если он попадет ему в руки. А придет Эйрик на праздник через Золотой водопад, как ты думаешь, сестрица?
— Ни один человек не может этого сделать и остаться жив! — сказала Гудруда.
— Ну, так он умрет, — сказала Сванхильда, — так как знаю, что он отважится на это!
— Тогда кровь его ляжет на тебя и на твою мать, ведь это вы вдвоем навлекли на нас эту беду. И что я сделала тебе, Сванхильда, что ты так противишься моему счастью?
— Что ты сделала мне?! — воскликнула Сванхильда, бледная и безобразная от гнева. — Ты отняла у меня любовь Эйрика. Я не оставлю этого так и не успокоюсь, пока не отниму у тебя его любви или не увижу и тебя, и его в когтях смерти!
— Непристойны слова твои для девушки! Не страшна ты мне, и не страшны твои козни; ты ли, я ли одержим верх, знай, что ты наживешь больше позора, чем радости, и люди, вспоминая тебя, будут говорить о тебе с хулой, называя скверным именем; Эйрик же никогда не полюбит тебя, зато ненависть к тебе будет расти в нем с каждым часом, хотя ты, может быть, и погубишь и его, и меня! — С этими словами Гудруда отвернулась от нее и отошла в сторону.
Между тем Асмунд жрец вышел во двор своего замка и приветствовал Оспакара Чернозуба, хотя он и не приглянулся ему. Взяв гостя за руку, он повел его в большую горницу, где было приготовлено все, и усадил на высокое седалище рядом с собой. Сюда слуги Оспакара внесли богатые дары для Асмунда, и тот много благодарил за них. Так как настало время для ужина, то мужчины сели за мясо, а женщины прислуживали им. Когда вошла Гудруда, а за ней и Сванхильда в горницу, то Оспакар посмотрел на Гудруду, и им овладело желание взять ее себе в жены; она же даже глаз на него не подняла.
— Так это та девушка, о которой я прослышал и что зовется Гудруда Прекрасная? Поистине, она прекрасна, и красивее ее никогда не рождалось женщины! — воскликнул Оспакар.
Мужчины ели, а Оспакар, кроме того, еще пил много пива и заморского вина, не сводя глаз с Гудруды Прекрасной. Но до того часа не сказал ни слова о том, зачем приехал.
Оба сына его также смотрели на Гудруду, и им она тоже казалась удивительно прекрасной, но Гицуру и Сванхильда приглянулась.
Так прошел вечер; настала ночь, пришло время всем отойти ко сну.
В тот же вечер Эйрик на своем коне доехал до Золотого водопада, до того места, где Золотая река ниспадает с высокой горы, каменной гряды, которая в этом месте вздымается до высоты сотни футов. Струя воды, падая вниз, раздваивалась на своем пути, от самого края обрыва сплошным рядом выступающих обточенных водою скал; это — так называемые Бараньи Курдюки. Здесь водопад образует собой подкову, концы которой обращены к Миддальгофу, и одной общей струей ниспадает в бездонную пропасть, образуя страшный водоворот. Дальше река разветвляется надвое, опоясывая кольцом с двух сторон цветущую долину Миддальгофа. Восточный рукав называется рекой Ран, а западный — Лакса.
Подъехав к самому водопаду, Эйрик долго изучал его, рассчитывая в уме каждый шаг, каждое движение.
— Вряд ли человек может совершить это и остаться жив! — думал он. — Но я все же попытаюсь: великая слава ждет меня, если мне посчастливится; если же нет, то пусть Ньерд
[152] примет меня в свое царство, и я навек забуду про девичью красоту и про мучения любви!
Так он решил и, поворотив коня, вернулся домой.
Хотя Савуна, мать Эйрика, со смерти Торгримура Железной Пяты потеряла свет очей своих и не могла видеть лица своего сына, но сердце сказало ей в этот вечер, что Эйрик затеял что-то недоброе.
— Что тебе, сын мой, или мясо тебе нынче не по вкусу было? — спросила она, узнав сына.
— Мясо было не худо, хотя и продымилось немного!
— Вот теперь я вижу, что с тобою что-то неладно, — сказала Савуна, — у тебя совсем не было мяса сегодня на ужин, а если человек не разбирает, что он ест, то или он потонул в любви, или на уме у него что-нибудь тяжелое. Скажи мне, сын, что тяготит твою душу?
Эйрик откровенно признался матери, что задумал; и она горько упрекала его, но он долго молчал, затем отошел ко сну, но прежде нежно поцеловал свою мать.
Наконец настал день праздника Юуля. Солнце не показывалось до часа пополудни. Эйрик поцеловал мать и простился с ней, затем, призвав тралля своего Иона, дал ему узел, обернутый в телячью шкуру; в этом узле была завернута его лучшая одежда. Эйрик приказал слуге взять коня и ехать в Миддальгоф, где сказать Асмунду жрецу, что Эйрик Светлоокий в час пополудни придет через Золотой водопад к нему на праздник.
Тралль послушался, невольно подумав в душе, что его господин лишился рассудка.
Между тем тот поехал на коне к Золотому водопаду. Здесь он простоял некоторое время, пока, наконец, не увидел, что из ворот замка Миддальгофа идет множество людей по снегу к подножию водопада, к тому месту, где крутится и пенится водоворот, посылая высоко вверх свои брызги и пену. В толпе Эйрик различил двух женщин и какого-то громадного мужчину, незнакомого ему.
Выглянувшее в это время солнце залило ярким светом весь водопад, реку и водоворот, но мороз был сердитый и резал лицо и руки, как мечом. А Эйрику пришлось сбросить с себя одежду и остаться в одной вязаной сорочке и нижних штанах и кинуться в студеную воду, чтобы доплыть до Бараньих Курдюков посредине реки. Река в этом месте была широка и текла так быстро, что несла целые стволы, как щепки, прямо в бездну. Эйрика тоже стало относить, и как он ни был силен и могуч, как ни боролся против течения, вода несла его все ближе и ближе к краю обрыва. Не успей он в последнюю минуту ухватиться за выступ одной из скал Бараньих Курдюков, тут бы ему и конец.
Ухватившись за скалу, он с минуту повис на ней, затем, подтянувшись на руках, сел верхом на нее и некоторое время отдыхал. Но вот он снова поднялся и встал на ноги; мороз прохватывал его и начинал леденить его члены. Сильным движением он расправил их, вытянувшись во весь свой богатырский рост, и люди внизу теперь только увидели, что он жив и благополучно переплыл реку. Посыпались приветствия. Теперь Эйрик ста л спускаться по скалам Бараньих Курдюков, что было очень трудно, так как скалы были круты и отвесно спускались в бездну; кроме того, они были скользки от заледеневших на них брызг. Наконец, вода, сплошной стеной падая вниз по обе стороны, слепила ему глаза и оглушала своим шумом. Все-таки он спустился на целых пятнадцать сажен, и люди внизу дивились его ловкости и смелости.
Теперь Эйрику следовало спрыгнуть на торчавший одиноко выступ подводной скалы, прозванной Волчьим Клыком, по обе стороны которого бешено мчался соединившийся в один поток могучий водопад, разделенный вверху Бараньими Курдюками. От последнего камня Курдюков пространство ярдов в пять отделяло Эйрика от черневшего внизу Волчьего Клыка. Взглянув вниз, где, пенясь, сшибался поток, смельчак на минуту был охвачен ужасом, однако скоро оправился. И, не долго думая, отвязал обмотанный у него вокруг пояса канат, укрепил его одним концом за выступ скалы, а другой конец крепко привязал к своему ременному поясу. В это время яркая радуга перекинулась , высоким сводом через пенящиеся воды водопада — и это показалось ему добрым предзнаменованием.
Точно камень, сорвавшись с пращи, прыгнул Эйрик и упал прямо на Волчий Клык, здесь с минуту пролежал неподвижно, собираясь с новыми силами, затем вполз на руках на самую вершину Клыка. Скала дрожала и стонала под напором воды, так что Эйрик едва мог держаться на ногах, когда встал, готовясь сделать последний, решительный прыжок. Члены Эйрика начинали коченеть; надо было спешить. С громким, торжествующим криком, как бы стараясь придать себе мужества, кинулся юноша в самый водоворот, описав на лету громадную дугу в воздухе. Зрители затаили дыхание, когда он, точно большой белый камень, мелькнул в воздухе, затем, среди пенящихся волн, оглушенный могучей струей падения вод, пошел было ко дну, но потом волнами его выбросило на поверхность. Тогда, призвав на помощь все свои силы, он, сильными толчками преодолевая последнее препятствие, окончательно всплыл и двинулся к берегу. Скоро и ноги его коснулись дна песчаной отмели, образовавшейся вокруг бездонной выбоины, куда устремлялся водопад, но течение подхватило его и неудержимо понесло в бездну. Эйрик рванулся вперед и несколькими ударами доплыл до берега, но тут упал обессиленный и лишился чувств.
V. Как Эйрик добыл себе меч Молнии Свет
Все жители невольно удивлялись мужеству Эйрика. В числе их был и Асмунд. При виде его Эйрик, придя в чувство, сказал:
— Ты звал меня к себе на праздник Юуль тем скользким путем! Вот я пришел! Принимаешь ли ты меня теперь, как обещал?
— Принимаю, лучше всякого другого гостя, — отвечал жрец, — ты отважный и сильный человек и совершил такой подвиг, о котором будут говорить люди, пока скальды
[153] будут петь и люди будут жить в Исландии!
— Пусти меня, отец, — вмешалась прибежавшая к юноше Гудруда, — видишь, Эйрик разбился о скалу, и кровь сочится из раны! — И девушка отвязала платок со своей шеи, перевязала рану его, затем накинула на него свой плащ, чтобы согреть. Никто не сказал ей ни слова.
После этого героя отвели в замок, где он отдохнул и переоделся в свое лучшее платье, а тралля своего Иона послал на Кольдбек сказать матери, что он остался жив. Но весь этот день Эйрик был слаб, и шум водопада наполнял его слух.
Оспакар и Гроа не рады были тому, что случилось, и жалели, что Эйрик остался жив. Все же остальные радовались этому.
Наступило время праздника, и как то было в обычае, праздновали его в храме, поэтому все мужчины пошли в храм. Когда все заняли свои места, привели откормленного вола, что нарочно был приготовлен для принесения в жертву богам. Его поставили перед жертвенником, на котором горел священный огонь, и Асмунд жрец заклал его, затем собрал кровь в золотой сосуд и окропил ею жертвенник и всех людей, собравшихся в храме.
После этого мясо вола разрубили на части и обмазали изображения богов растопленным жиром его, вытерев их тончайшим холстом. Наконец, мясо вола варили в котлах, висевших над кострами, зажженными в храме, — и тогда начался праздник.
Мужчины ели много и пили много пива и медов, и все были веселы, только Оспакар Чернозуб не развеселился, хотя пил больше всех; он видел, что Гудруда смотрела только на Эйрика и что они улыбались друг другу. Злоба забирала его, рука его крутила ремень, на котором висел его меч. Вдруг ремень развязался, и меч чуть не упал, но Оспакар вовремя удержал его рукой, причем тот наполовину выдвинулся из ножен, и все люди увидели, как ослепительное лезвие блеснуло при огне.
— Чудесный у тебя клинок, Оспакар, — проговорил Асмунд, — хотя здесь не место вынимать меч. Скажи, откуда он у тебя? Мне думается, теперь не куют уж таких мечей!
— Верно, — отвечал Оспакар, — другого такого меча нет в целом мире. Сковали его в стародавние времена карлики
[154], и тот, кто поднимет этот меч, никогда не будет побежден. Это был меч короля Одина
[155], и зовется он Молнии Светом. Ральф Рыжий похитил его из гробницы короля Эйрика и долго бился из-за него с могильными духами. Мой отец убил Ральфа, когда суда их сошлись в море и Рыжий, забыв про свой меч, стал биться секирой. Таким образом Молнии Свет достался отцу, а от отца мне. Посмотри на него, Асмунд, и скажи, видал ли ты когда другой такой меч!
И он вынул его из ножен, и все мужчины столпились поглядеть на него. Лезвие было так широко и так блестяще, что никто не мог долго смотреть на него: блеск его слепил глаза. На мече находилась надпись во всю его длину, но прочитать ее не мог никто.
— Ты, управительница, и в старинном письме сведуща и толковать искусна, посмотри, быть может, ты разберешь эти письмена! — проговорил Асмунд, обращаясь к колдунье Гроа.
Та прочла надпись так:
Зовут меня Молнии Свет, сковали меня карлики. Был я мечом Одина, и Эйрика мечом я был И Эйрика мечом я буду снова И там, где я паду, там должен пасть и он!
Слушая это, Гудруда взглянула на Эйрика Светлоокого. Оспакар, заметив это, очень разгневался, проговорив:
— Не смотри так, девушка, не об этом утенке желтоносом идет речь, не ему владеть Молнии Светом!
— Нехорошо, господин, метать насмешки, как сердитая женщина, и хотя ты велик и силен, но я не побоялся бы помериться с тобой! — заметил Эйрик.
— Молчи, мальчишка! — закричал на него Оспакар. — В какой игре можешь ты сравниться с Оспакаром?
— Я готов сразиться с тобой в броне и со щитом или в рукопашном бою с мечом или секирой, и пусть Молнии Свет будет наградой победителю!
— Нет, — сказал Асмунд, — я не хочу крови здесь, в Миддальгофе! Сразитесь лучше на кулаках и в рукопашной борьбе — это веселит взор людей, а с оружием в руках я не позволю здесь биться!
Тогда Оспакар охмелел от злобы и вина, и глаза его налились кровью, бешенство овладело им.
— И ты хочешь бороться со мной, со мной, которого никогда не мог даже приподнять от земли ни один человек? Так хорошо же! Я положу тебя лицом на землю и выпорю, как блудливого и наглого мальчишку. Пусть Молнии Свет будет закладом, а ты что можешь поставить против этого меча? Твоя жалкая нора и все твои
земли не стоят его, в придачу со всеми твоими людьми и стадами!
— Я ставлю свою жизнь! — смело отвечал Эйрик. — Если я не добуду Молнии Света, пусть Молнии Свет поразит меня.
— Нет, этого я здесь не допущу! — воспротивился Асмунд. Тогда Оспакар засмеялся так, что все люди увидели его черные зубы, и сказал:
— Меч мой Молнии Свет светел, и светлы твои глаза, Светлоокий! Прозакладывай против моего меча твой правый глаз, если не робеешь, если же это страшит тебя, то бросим заклад, только другого я не приму!
— Глаза — богатство бедного, и потому пусть будет, как ты сказал, — согласился Эйрик. — Завтра мы выйдем друг против друга!
— Завтра тебя назовут Эйрик Одноглазый! — с усмешкой проговорил Оспакар.
Праздник продолжался. Асмунд жрец, поднявшись со своего высокого седалища, стал провозглашать священные тосты. Сперва люди пили за победу над врагами, затем пили в честь Фрейра
[156], прося изобилия, затем в честь Тора, прося силы в битве, и в честь Фрейи, богини любви, после этого последовал тост в поминовение умерших, наконец, в честь Браги, бога наслаждений.
Когда и этот круговой кубок был выпит, Асмунд, снова поднявшись со своего места, согласно обычаю, спросил, не желает ли кто принести клятву в том, что он намерен совершить тот или другой подвиг.
Тогда поднялся Эйрик Светлоокий и молвил:
— Господин, я желал бы принести клятву!
— Расскажи сперва, что ты задумал!
— Живет там, на Мшистой скале, близ Геклы, один берсерк, о котором по всей земле идет дурная слава, так как не много есть людей, которым бы он не учинил обиды. Зовут его Скаллагрим. Человек он сильный, мощный и отважный, и многие нашли смерть от его руки, многих он ограбил, но я клянусь, что, когда дни станут длиннее, пойду к нему один и вызову на бой!
И все похвалили Эйрика, так как Скаллагрим многим досадил.
Тогда Эйрик подошел к жертвеннику и, взявшись за священное кольцо у него и поставив ногу на священную плиту, как того требует обряд, громко произнес свою клятву.
Затем праздник пошел своим чередом, пока все не захмелели, кроме Асмунда жреца и Эйрика Светлоокого. Наконец все разошлись на покой.
Эйрик, крепко выспавшись, поутру встал еще до света и пошел выкупаться на реке; там он смазал все свои члены жиром тюленя, чтобы они были гибки и мягки. Возвращаясь с реки, он увидел у женских ворот Гудруду. Гудруда пожелала юноше счастья в борьбе, добавив:
— Хотя ты и потеряешь свой глаз, но я буду по-прежнему любить тебя и с одним глазом!
После этого Эйрик направился в замок. Скоро стали подниматься и прочие гости. Встал и Оспакар. Протрезвившись, он стал раскаиваться, что согласился прозакладывать свой меч, так как Молнии Свет был ему всего дороже, а глаз Эйрика ни на что не пригоден. А случится еще, что Эйрик одержит верх, — хотя этого он совсем не опасался, так как считался сильнее всех людей в Исландии, — тогда будет ему, Чернозубу, великое посрамление. Поэтому, завидев Эйрика Светлоокого, Оспакар крикнул ему грозно:
— Эй, слушай ты, Эйрик!
— Что тебе, Оспакар?
— Вчера мы порешили с тобой биться об заклад, но в нас говорили пиво и мед: ни тебе терять глаз, ни мне меч — не утеха. Так не лучше ли нам оставить это дело?
— Если тебя забирает страх, то пусть так! При этих словах Оспакар со злобой вскричал:
— Ах ты, щенок, так ты в самом деле хочешь выйти против меня? Да я переломлю тебе хребет с первого удара и вырву руками твой глаз прежде, чем ты успеешь подохнуть!
— Это может случиться, — сказал Эйрик, — но громкие слова не всегда влекут за собою громкие дела!
Скоро тралли пошли с лопатами и метлами и стали разметать снег в ограде. Разметя круг в тридцать пять футов, они посыпали сухим песком и золой, чтобы борцы не скользили, а снег накидали высокой стеной вокруг.
Тем временем Гроа, отозвав Оспакара в сторону, тихонько зашепталась с ним:
— Знаешь ли, господин, мое сердце не предвещает тебе ничего доброго в этой борьбе. Что ты дашь мне, если я доставлю тебе победу?
— Я дам тебе две тысячи серебра!
— Хорошо, — сказала Гроа, — теперь не спрашивай меня ни о чем, и ты победишь.
Тогда Гроа призвала своего тралля Колля Полоумного и приказала ему густо смазать жиром подошвы башмаков Эйрика Светлоокого и подержать их над огнем, чтобы жир впитался в кожу, а затем поставить на прежнее место.
Скоро пришел и Эйрик и стал готовиться к борьбе. Взяв свои башмаки, он обул их, ничего не подозревая. Все вышли в ограду и встали вкруг кольцом, Эйрик и Оспакар друг против друга. Оба они были без верхней одежды, в одних вязаных тесных куртках и таких же штанах, на ногах были у них башмаки из бараньей шкуры, привязанные к ноге ремешками.
Судьей избрали Асмунда. Тот громко прочел, как надо бороться и как надо противника на землю положить: чтобы он бедрами, головой и плечами лег на землю, и так два раза.
Затем Асмунд потребовал, чтобы Оспакар отдал ему свой меч в залог, на что Чернозуб сказал, что тогда и Эйрик должен дать ему свой глаз в залог, но Асмунд жрец возразил:
— Меч твой мне легко будет возвратить тебе, если ты одержишь верх, а как я возвращу Эйрику Светлоокому его глаз, если он одолеет тебя?
И зрители согласились, что Асмунд рассудил правильно. Тогда Оспакар вынул из-за пояса небольшой стальной нож и приказал сыну своему Гицуру держать его наготове.
— Скоро ты узнаешь, молокосос, каково почувствовать нож в глазу! — крикнул он Эйрику.
— Скоро мы многое узнаем! — спокойно ответил Эйрик.
Оба противника, сбросив свои плащи, стали расправлять свои члены.
— Смотрите, Бальдр и тролль! — воскликнула Сванхильда, и все засмеялись. — Если Оспакар был страшен и безобразен, как тролль, то Эйрик был прекрасен, как Бальдр, прекраснейший из богов
[157].
Асмунд ударил в ладоши и тем подал знак для начала борьбы. Долго длилась она; ни тот, ни другой противник не могли одолеть друг друга. Оспакар трижды пытался поднять Эйрика с земли, но напрасно. Наконец, едва только Эйрик сделал шаг вперед, ноги его скользнули по песку, он ступил еще и еще раз поскользнулся — и на этот раз очутился на спине, запрокинутый по всем правилам.
Гудруда при виде этого сильно опечалилась. Но, удивленная странным скольжецием ног Эйрика, незаметно пробралась к тому месту, где он сидел на снегу и отдыхал. Душа его была скорбна: он чувствовал, что его не сила одолела, а какое-то колдовство.
— Слушай, Эйрик, — прошептала Гудруда, — не падай духом! Посмотри хорошенько подошвы твоих башмаков.
Тот распустил ремешок, снял башмак с ноги и посмотрел на подошву. На морозе сало замерзло, и вся подошва была бела от сплошной коры льда.
Тогда гнев загорелся в ясных очах Светлоокого, и он воскликнул:
— Думалось мне, что я борюсь в честном бою с путным и сильным борцом, а не с обманщиками и хитрыми плутами! Смотрите! Удивительно ли, что я поскользнулся, а он положил меня? Видите, мои подошвы смазаны салом. Кто это сделал, на того ляжет позор из рода в род!
Тогда Асмунд жрец, взяв из рук Эйрика его башмаки и осмотрев подошвы, сказал:
— Эйрик Светлоокий правду сказал, есть среди нас подлый плут! Скажи, Оспакар, можешь ли ты отвести от себя такое обвинение?
— Я готов поклясться на священном кольце, что ничего не знал об этом, и если это сделал кто-то из моих людей, то он умрет! — ответил Оспакар.
— Это больше похоже на дело женских рук! — сказала Гудруда и многозначительно посмотрела на Сванхильду.
— Не причастна я к этому! — промолвила Сванхильда.
— Так поди и спроси твою мать! — гневно сказала Гудруда.
И все зрители громко закричали, что это великий срам, что борьба не в счет и надо начинать ее сначала. Теперь только Оспакар вспомнил, что посулил Гроа две тысячи серебра, но тем не менее стал спорить против возобновления борьбы, и Эйрик во гневе воскликнул: «Пусть будет так!»
Асмунд жрец сказал то же «пусть!» Но в душе поклялся, что даже если Эйрик будет побит, он не допустит, чтобы Светлоокий лишился глаза.
Эйрик и Оспакар снова схватились, и на этот раз борьба продолжалась долго. Оспакар не мог поднять Эйрика с земли, но, наконец, Эйрик ухватил Оспакара, и оба повалились на землю, затем снова вскочили, тогда Оспакар подставил ногу, чтобы опрокинуть соперника, но тот уловив его движение, зацепил его ногу своей левой ногой, а затем всей тяжестью своего корпуса разом налег ему на грудь — и Чернозуб запрокинулся на спину, точно срубленный ствол, на снег. Эйрик упал вместе с ним и лег на него всей своей тяжестью. Зрители закричали: «Повалил, повалил!» И все радовались победе Эйрика Светлоокого. Но это было еще не все. Передохнув немного, борцы снова схватились. Долго ни тот, ни другой не могли одолеть друг друга. Бешенство овладело тогда Оспакаром. Ощупав подле своей ноги босую ногу Эйрика, он со злобы наступил на нее со всей силы; кровь густой струей брызнула в стороны.
— Недоброе дело! Срамное дело! — закричали кругом зрители. Борьба продолжалась. Оба борца повалились было на землю, но скоро поднялись. Вдруг Эйрик отскочил в сторону. Оспакар устремился на него, как разъяренный бык, и, собрав все свои силы, сбил противника с ног, но тот в ту же минуту вскочил снова на ноги. Тогда доведенный до бешенства Оспакар вцепился своими черными зубами ему в плечо. Эйрик осторожно опустил руку от пояса соперника и, продев ему между ног, приподнял и со всего маха плашмя положил его на спину; тот так и остался в снегу.
VI. Как Асмунд жрец помолвился с Унной
С минуту длилось молчание. Затем зрители стали громко приветствовать Эйрика и прославлять его подвиг, а сам Эйрик как будто вдалеке слышал этот шум и крики и как будто во сне видел всех этих людей. Вдруг на него наскочил человек с поднятой секирой, и, не успей он отскочить в сторону, тут был бы ему и конец. Человек этот был Морд, младший сын Оспакара; взбешенный поражением отца, он хотел отомстить за него. Отскакивая от него, Эйрик замахнулся кулаком, и удар пришелся немного над ухом Морда; тот без чувств упал на отца, который все еще не мог прийти в себя.
Кругом сверкнули мечи, и зрители кольцом обступили Эйрика, чтобы охранить его от врагов, так как тралли и люди Оспакара были вне себя от посрамления такого прославленного на севере богатыря и силача. Люди же юга, с Миддальгофа и реки Ран, гордились Эйриком и громко прославляли его. Дело чуть не дошло до кровопролития, но Асмунд жрец крикнул северянам:
— Долой мечи! Здесь я не допущу кровопролития! Уберите эти тела там на снегу! — И люди Оспакара повиновались.
Оспакар теперь очнулся и сидел на снегу, безобразный от ярости и злобы. Кровь шла у него изо рта, из ушей и из носа от сильного напряжения; он был так гадок, что никто смотреть на него не хотел. Теперь Асмунд жрец подошел к Эйрику Светлоокому и, поцеловав его в лоб, проговорил:
— Эйрик — и сильный, и смелый, и честный человек, хвала и гордость всех людей юга! Я предсказываю тебе, что ты совершишь подвиги, каких еще никто до тебя не совершал в Исландии. Ты честно добыл этот чудесный меч, возьми его и носи с честью!
— Господин, — проговорил Эйрик Светлоокий, — если ты считаешь меня не последним человеком и чтишь меня добрым словом, то прошу, обещай отдать мне свою дочь Гудруду Прекрасную; ведь ради нее я и совершил эти дела, за которые ты и все люди прославляют меня; ради нее я готов совершить еще больше.
Асмунд отвечал:
— Вот что я скажу тебе, Эйрик! Если ты будешь продолжать, как начал, то я обещаю, что не отдам Гудруду никому другому, кроме тебя. И еще скажу тебе, что вы двое можете помолвиться теперь же, так что, если нарушите ваши клятвы, срам падет на вас, а не на меня. Вот тебе моя рука порукой!
Эйрик взял руку Асмунда и, положив ее себе на голову, обратился к девушке:
— Слышала, Гудруда, ласковые слова отца? Подойди же сюда, и поклянемся при всех этих людях, на этом чудесном мече, что будем любить друг друга до самой смерти и будем верны друг другу, пока живы.
Гудруда подошла, и оба произнесли свою клятву над мечом, приложившись губами к сверкающему лезвию Молнии Света.
Сванхильда смотрела на них, и в сердце ее клокотала злоба. Оспакар же, придя теперь в себя, сидел на снегу, упершись лбом в землю; он чувствовал, что потерял теперь и свою славу, и меч, и жену.
— Я пришел сюда, Асмунд, — проговорил он, — чтобы взять твою дочь себе в жены. Это было бы хорошо и для тебя, и для нее. Но этот юнец колдовством осилил меня, и теперь я принужден слышать и видеть, как ты на моих глазах помолвил этих двоих. Подожди! Беда обрушится на тебя и на весь твой дом, а я навек будут твоим врагом! Ты же, Эйрик, знай, что мы еще раз встретимся с тобой. Нынче была только детская забава, мы сойдемся в броне и со щитом и с мечом наголо, и тогда ты увидишь, с кем имеешь дело! Я убью тебя, а девушку силой возьму себе в жены, вырвав из твоих объятий, и тем же славным мечом Молнии Светом отрублю тебе голову! Слышишь?
— Ты, Оспакар, — чан, в котором много пены и мало воды! Хочешь, мы завтра же встретимся с тобой на поединке и решим то, что начали сегодня?
— Нет, у меня здесь нет меча. Но не бойся, я не запоздаю!
— Спеши! — сказал Эйрик и пошел в замок переодеться. На пороге попалась ему Гроа колдунья.
— Ты насалила мои подошвы, мерзкая колдунья, — сказал он, — смотри, ты еще не жена Асмунда и никогда не будешь ею! Об этом я позабочусь.
— Если так, то берегись своей пищи и питья. Я недаром родилась среди финнов!
— Кошка начинает фыркать! — засмеялся Эйрик. — Это ей и пристало!
Но вот подошел к Эйрику Асмунд жрец и стал просить его, чтобы он вернулся к себе на Кольдбек, так как у Оспакара Чернозуба пропали кони, и пока их разыщут, Чернозуб должен будет остаться в Миддальгофе, а он, Асмунд, опасается, что, если они останутся под одной крышей, между ними выйдет кровопролитие.
Эйрик согласился и, поцеловав Гудруду, сел на коня, опоясавшись мечом Молнии Светом, и уехал к себе на Кольдбек.
Савуна, мать его, приветствовала его с великой радостью; он пересказал ей все, как было, и она жалела, что Торгримур Железная Пята, супруг ее, не был свидетелем подвигов сына.
После ужина Эйрик заговорил со своей матерью об Асмунде жреце и о родственнице Савуны, дочери брата ее Торода, Унне, женщине красивой и искусной во всякой домашней работе, и сказал, что неплохо было бы взять ее жить к ним на Кольдбек, прибавив, что Асмунду наскучила Гроа колдунья и он, быть может, будет рад взять себе в жены другую женщину.
— Пусть же будет так, как ты того желаешь, сын мой, — сказала Савуна, и на другой же день Унна поселилась в их доме. Действительно, после того, что Гроа сделала с башмаками Эйрика, она стала так противна Асмунду, что он не хотел видеть ее и стал подумывать, как бы не иметь с ней никакого дела.
И вот, когда Оспакар уехал из Миддальгофа, Асмунд поехал на Кольдбек к Эйрику и его матери и увидел Унну. Та сильно приглянулась ему, и он просил у Эйрика, чтобы он отдал ее в жены ему. Унна тоже не сказала «нет», и они помолвились, решив отпраздновать свадьбу по осени.
— Где ты был, господин? — спросила Гроа колдунья, когда Асмунд вернулся с Кольдбека.
И Асмунд сказал ей о всем. Тогда лицо ее исказилось от бешенства, и она стала призывать проклятие на него, на весь его дом и на весь народ.
Асмунд, вскипев гневом, вскричал:
— Перестань сейчас же твои заклинания, а не то ты будешь брошена, как колдунья, в водоворот под водопадом.
— А-а! В самом деле! В водоворот? Да, я вижу себя там; только ни твои глаза, ни глаза Унны не увидят этого; вы уже умерли раньше меня, да! — и она громко вскрикнула и, запрокинувшись навзничь, стала с пеной на губах кататься по земле.
Асмунд позвал к ней людей, а сам отошел прочь, подумав, что лучше было бы никогда не видать ее смуглого лица.
После того Гроа десять дней была не в памяти. Дочь ее Сванхильда ходила за ней, а когда она пришла в себя, то пожелала увидеть Асмунда и, оставшись с ним одна, униженно просила прощения за свои недобрые слова, заявив, что она стала стара, худа и безобразна и покоряется своей судьбе. Пусть молодая хозяйка войдет в этот дом, но пусть и ей будет позволено в память о прошлом остаться смиренно в своем углу; пусть ее не гонят из замка. При этом она много плакала и говорила много ласковых слов Асмунду; сердце его разжалобилось, и он позволил ей остаться в доме.
Ита к, Гроа осталась жить в М иддальгофе и была кротка и ласкова, как никогда раньше не бывала.
VII. Как Эйрик ходил против Скаллагрима берсерка
Случилось так, что добрый ярл
[158] Оркнейской страны Атли Добросердечный приплыл в Исландию, где унаследовал после матери своей Хельги земли и, управившись со своими делами, весной собирался вернуться домой, но ветры и непогода заставили его встать на время под ветер Западных островов.
Атли спросил, какой народ живет здесь, и, когда услышал об Асмунде сыне Асмунда, жреце Миддальгофа, душа возрадовалась: в старые годы он и Асмунд не раз совершали вместе морские походы викингов. Атли, взяв двоих из своих людей, сел на коня и поехал в Миддальгоф.
Атли был лучший из всех ярлов в те дни, за что народ и прозвал его Добросердечным. Было ему шестьдесят лет, но годы не тронули его; только длинная седая борода напоминала людям, что он прожил на свете немало лет. Кроме седой бороды, Атли был красивый, рослый, сильный мужчина, глаза его были ясны, речи разумны. Это был великий, славный воин и справедливый судья. Жена у него умерла много лет тому назад, не оставив ему детей, и это сильно огорчало его, но до сих пор он не взял себе другой жены. Он говорил: «Любовь ослепляет старого человека», — или: «Спутаешь седые кудри с золотыми — и обезобразишь две головы», — и многое другое. Прибыл Атли в Миддальгоф, когда мужчины садились за мясо. Асмунд сразу признал Атли, хотя почти тридцать лет не видал его, и, взяв гостя за руку, ввел в большую горницу, усадил на высокое седалище, а его людям приказал очистить место на длинных скамьях. По обычаю женщины служили. Старый Атли увидел Сванхильду, и она показалась ему удивительно прекрасна в белом одеянии с шелковистыми темными кудрями, румяными и пышными устами и глазами, синими и глубокими, как море.
— Скажи, Асмунд, — спросил Атли, — эта прекрасная девушка, твоя дочь?
— Ее зовут Сванхильда Незнающая Отца! — отвечал Асмунд жрец, отвернув свое лицо.
— Если бы эта девушка была от меня, — сказал Атли, — ее не долго бы называли Незнающей Отца: таких красивых девушек на свете мало.
Сванхильда, услышав эти слова, задумала, чтобы Атли полюбил ее, а она могла насмеяться над ним. Целый день она ухаживала за ним, служила ему и пела ему песни, и так все три дня, пока погода не стала снова хорошая и тихая. Тогда Атли сказал ей, что на следующий день он отплывет на своем судне на Оркнейские острова. Сванхильда положила свою белую руку на руку Атли Добросердечного и проговорила:
— Ах, не уезжай еще, государь мой! Не спеши с отъездом, прошу тебя! — И, закрыв руками лицо свое, убежала из горницы.
Атли подумалось, что случилось удивительное дело: прекрасная молодая женщина полюбила старого, седобородого воина. Но так как он был человек мудрый и рассудительный, то решил зорко следить за девушкой прежде, чем скажет о своем намерении слово Асмунду, боясь оши0иться.
Дни стали длиннее, и Эйрик стал помышлять о своем зароке — пойти против Скаллагрима берсерка, в его берлогу, что на Мшистой скале близ Геклы. Это было дело нелегкое: Скаллагрим был такой силач, что никто не смел ни пойти против него, ни противится ему. А Скаллагрим уже прослышал, что один поселянин по имени Эйрик Светлоокий дал зарок пойти один на один против него и уничтожить его. Но прежде он проделал над Эйриком такую насмешку: подъехал ночью к Кольдбеку на реке Ран и выкрал у Эйрика одну овцу; держа овцу под рукой вдоль седла, подъехал к самому дому и трижды стукнул в двери своей секирой, так что весь дом задрожал, затем, отъехав немного в сторону, стал выжидать. Эйрик вышел неодетый, но со щитом и с мечом Молнии Светом в руке и при свете месяца увидел громадного чернобородого мужчину на коне с большим топором в руке и овцой под мышкой.
— Кто ты такой? — спросил Эйрик.
— Зовут меня Скаллагрим, — отвечал конный, — и многие люди, увидев меня однажды в своей жизни, уже в другой раз не увидят. Дошел до меня слух, что ты дал зарок пойти против меня один на один в моей берлоге на Мшистой скале. Так вот я пришел сказать тебе, что встречу тебя с почетом. Вот смотри, — добавил он и, отрубив хвост у овцы, кинул его Эйрику. — Когда ты прирастишь этот хвост к шкуре этой овцы, из которой я сошью себе куртку, тогда Скаллагрим признает над собой господина! — И повернув коня, он ускакал.
На другой день Эйрик собрался в поход, надел панцирь и золотой шлем с крыльями по бокам, опоясался славным мечом Молнии Светом, взял надежный щит и, простившись с матерью и Унной, выехал со двора. Путь его лежал мимо Миддальгофа, и он заехал туда. Когда он подъезжал, увидел его старый Атли и воскликнул:
— Вот едет человек сильный и прекрасный, как сам бог Бальдр! Эйрик пробыл ночь в Миддальгофе, Асмунд был ласков к нему,
Гудруда гордилась им, а Атли много разговаривал с ним и сердцем полюбил его, горько жалея, что боги не дали ему такого сына, и наконец сказал:
— Вот тебе мой совет: береги свою голову, защищай ее щитом, а сам руби низко — ниже его щита! Берсерки всегда нападают, держа щит высоко.
Эйрик поблагодарил за совет и наутро с рассветом пустился в путь. Гудруда провожала его.
— Думается мне, что Сванхильда пришлась по сердцу старому Атли, — сказал Эйрик, —хорошо для нас было бы, если бы она вышла за него.
— Да, хорошо для нас, но плохо для него, — ответила Гудруда, — она не любит его и только насмеется!
Эйрик поцеловал Гудруду крепко и ускакал на своем коне в сопровождении своего тралля Иона.
К закату Эйрик и его тралль подъехали к подножию Мшистой скалы. Гекла осталась у них справа. Скала эта громадна, вся поросла седым мхом, только с южной стороны можно было подняться на нее по узкой тропе. Путники стали взбираться в гору, и когда добрались до площадки, где был ручей, что бежал с горы, Эйрик сошел с коня и приказал своему траллю оставаться здесь и стеречь коней, а сам один пошел дальше. Долго, долго взбирался он в гору и уже почти совсем стемнело, когда он подошел к глубокой пещере, где было жилище берсерка. Пещера находилась над крутым обрывом, а под обрывом зияла черная бездонная пропасть. Перед пещерой еще тлел костерок, а кругом валялись кости, из чего Эйрик заключил, что берсерк в своей норе, и заглянул внутрь. Там было темно, но костер кидал красный свет. Эйрик смело вошел в пещеру. Входить в нее приходилось ползком. Сначала ничего не было видно, слышался только сильный храп, затем юноша увидал лежавшего врастяжку громадного бородатого человека с густыми черными волосами, с овечьей шкурой под головой. Большая секира лежала подле него. Эйрик мог бы одним ударом своего меча покончить с ним, но такого дела он не хотел сделать. Он хотел уже разбудить его, как из-за спины Скаллагрима поднялся другой человек.
— Клянусь Тором, на двоих я не рассчитывал! — вскрикнул юноша и поспешил выйти из пещеры. Вслед за ним вышел, грозно рыча, как разъяренный зверь, и тот берсерк, что сидел за спиной Скаллагрима, и накинулся на Эйрика с поднятым мечом. Эйрик увернулся от удара, отскочив к самому краю обрыва. Тогда берсерк снова налетел на него, но на этот раз Эйрик, отразив удар щитом, размахнулся сам с такой силой, что голова берсерка отлетела наземь с плеч и покатилась по земле, тело же с раскинутыми в стороны руками, как будто ловя воздух, полетело с края обрыва в пропасть. Это был первый человек, которого Эйрик убил на своем веку. Дрожь пробежала у него по спине. Он посмотрел на голову убитого берсерка, и она проговорила: «Ты убил меня, Эйрик Светлоокий, но знай, куда упало мое тело, туда упадешь и ты, и где оно легло, там будешь лежать и ты!»
Эйрику это показалось странным, но он не сробел, ответив:
— Уж если ты так речист, то поди, скажи своему товарищу, что Эйрик Светлоокий стучится у его дверей!
Он взял голову и тихонько вкатил ее в пещеру. Оттуда сейчас же выбежал с поднятой секирой в одной руке и головой убитого берсерка в другой Скаллагрим. На нем не было никакой другой одежды, кроме рубахи, а на груди была навязана овечья шкура.
— Где мой товарищ? — заревел он.
— Часть его ты держишь в своей руке, Скаллагрим, а за остальным тебе придется сходить вон туда! — ответил Эйрик, указывая на пропасть.
— А ты кто такой? — спросил берсерк.
— По этой примете ты узнаешь меня, — сказал Эйрик и кинул ему хвост той овцы, которую у него похитил тогда Скаллагрим.
Теперь Скаллагрим узнал его, и бешенство овладело им; глаза его налились кровью, и пена показалась на губах. Он был страшен на вид. С поднятой секирой устремился он на Эйрика, но тот проворно отскочил, и удар пропал даром. Эйрик же занес свой чудесный меч над самой головой берсерка, но тот вовремя успел защитить голову секирой, так что удар пришелся по ней и разрубил лезвие ее пополам.
Теперь Скаллагрим был обезоружен, и убить его было нетрудно, но Эйрик думал, что это недостойный поступок — убить безоружного человека, и потому, отбросив в сторону Молнии Свет, крикнул:
— Давай попробуем побороть друг друга, Скаллагрим!
Они стали бороться. Как ни силен был Оспакар, а его силу нельзя было сравнить с силой Скаллагрима во время его припадков бешенства. Эйрик вскоре очутился на спине, а Скаллагрим на нем. Но Эйрик обхватил его и держал, точно железными тисками, и Скаллагрим, желая; высвободиться из его объятий, бешено катался по земле. Вскоре оба противника очутились на самом краю пропасти; еще одно движение, и они полетят вниз. Эйрик ухватился за берсерка и, посылая мысленно последнее «прости» Гудруде, приготовился умереть: силы изменяли ему, ноги его уже свесились с края обрыва. Вдруг он увидел, что судорожно искривленное лицо Скаллагрима изменилось и что весь он разом ослаб. Эйрик понял, что припадок бешенства у него прошел.
— Стой! Я прошу мира! — сказал Скаллагрим и выпустил Эйрика. Тот осторожно подобрал ноги и, очутившись на площадке, проворно отскочил в сторону.
— Теперь моя песня спета, — продолжал берсерк, — ты или втащи меня, так как я падаю, или отруби мне голову, я в твоих руках!
— Нет, — сказал Эйрик, — ты благородный враг, и я не поступлю; с тобой так низко! — с этими словами он протянул ему руку и оттащил от края пропасти в безопасное место.
Отлежавшись и придя в себя, берсерк тихонько приполз к тому месту, где сидел, прислонясь к скале, Эйрик, и сказал:
— Государь мой, дай мне твою руку! Из всех людей, которых Я знал, ты сильнейший: пятеро человек не могли бы устоять против меня, когда на меня находит бешенство, а ты одолел меня, притом в честном бою, одной своей силой! Ты благородно отбросил свое оружие, когда увидел, что я безоружен. Ты подарил мне жизнь, когда мог отнять ее, — и с этого часа она принадлежит тебе! Я здесь клянусь тебе в вечной верности и отдаю себя на твою волю. Можешь убить меня или пользоваться мной, как пожелаешь, только говорю, что я сумею тебе пригодиться: до сего времени ни один человек не мог одолеть меня; ты один одолел, и я готов служить тебе моей силой. Чует мое сердце, что скоро моя сила пригодится тебе.
— Это может быть правда, но я мало доверяю тем, кто вне закона! — отвечал Эйрик. — Кто поручится мне, что, если я возьму тебя к себе, ты не убьешь меня, когда я буду спать, как мог бы это сделать и я сегодня, когда пришел к тебе.
— Слушай, государь мой, — продолжал Скаллагрим, — пусть Вальгалла отвергнет меня и Хель
[159] возьмет меня, пусть мне суждено будет скитаться всю жизнь, как травленому зверю, пусть не буду иметь покоя ни день, ни ночь, пусть враги мои одолеют меня, если я нарушу свою клятву. Клянусь, что отныне твои враги будут моими врагами, твое торжество — моим торжеством, твоя честь — моей честью, буду я твоим траллем до конца моей жизни, и, если хочешь, мы будем жить с тобой одной жизнью и умрем одной смертью!
— Я шел против врага, — проговорил Эйрик, — а нашел, как видно, друга, а в друге я скоро, вероятно, буду нуждаться, и хоть ты берсерк — человек вне закона, я верю тебе. С этого часа ты мой, мы вместе с тобой совершим немало подвигов и в память этого дня я прозову тебя Скаллагрим Овечий Хвост. А теперь, если у тебя есть какая пища и питье, накорми и напои меня: я обессилел от твоих железных объятий, старый медведь!
VIII. Как Чернозуб встретил Эйрика Светлоокого и Скаллагрима Овечий Хвост
на холме Конская Голова
Cкаллагрим позвал Эйрика в свою пещеру, накормил его мясом и напоил пивом.
— Скажи мне, Скаллагрим, — спросил Эйрик, — что сделало тебя берсерком?
— Один позорный поступок, государь мой, но не я совершил его, а другие. Десять лет назад я был небогатым поселянином, неподалеку от богатых земель и угодий Свинефьелля, где властвует богатый и могущественный вождь Оспакар Чернозуб, человек лихой и низкий. Одно у меня было сокровище, красивая и добрая жена. Случилось так, что Оспакар увидел ее и стал сманивать стать его Маем; она как будто не хотела, но он прельстил ее богатыми дарами и хорошими обещаниями, и однажды, когда я крепко спал с женой, в мой дом ворвались вооруженные люди, связали меня, стащили с кровати, и я увидел, что с этими людьми был Оспакар. Он приказал моей жене Торунне одеться живее и ехать с ним; она заплакала и стала упираться. Я увидел, что она надела пояс, а на нем был нож, как носят все наши женщины, и крикнул ей:
— Заколи себя, моя милая! Смерть лучше позора! Но она отвечала мне:
— Возлюбленный супруг мой, я люблю тебя одного, но женщина может найти другую любовь, а другой жизни она не может найти!
Между тем Оспакар стал торопить ее, затем, схватив за руки, вытащил из хижины, сел на коня, положил ее поперек седла и ускакал. Люди же его остались у меня в доме, стали пить мое пиво и смеялись надо мной, когда я лежал перед ними связанный. Они рассказали мне, что моя жена Торунна сама придумала и присоветовала Оспакару этот набег.
У меня в глазах потемнело, я думал, что умру от срама и обиды. Вдруг что-то могучее поднялось у меня в груди, и я почувствовал в себе необычайную силу. Точно нитки, порвал я веревки, которыми был связан, и схватил свою секиру со стены. Мной овладело такое бешенство, что я набросился на этих людей, издевавшихся надо мной. Что тут было, я не знаю, только знаю, что, когда я очнулся, восемь трупов лежало на полу. Я навалил на них столы и скамьи, облил все это гарным маслом и зажег. Так я сжег хату, а сам ушел в леса и несколько лет разбойничал с другими разбойниками, не щадя ни мужчин, ни женщин, затем ушел оттуда и стал жить здесь на Мшистой скале. Многие люди выходили против меня, но никто не мог совладать со мной; все стали бояться меня, только ты один осилил меня, и этим ты можешь гордиться.
После того и Эйрик рассказал ему, что знал про Оспакара, как он хотел отбить у него Гудруду, как он поборол его и как приобрел этим меч, славный Молнии Свет.
— Видишь, государь мой, судьба недаром столкнула нас, теперь мы двое пойдем против Оспакара. Верь мне, не далек тот час, когда он встретится нам. Я знаю его. Если он облюбовал твою невесту, то не успокоится до тех пор, пока не добудет ее или не будет убит. Уж он верно бродит где-нибудь вокруг, только нам двоим нечего опасаться его, да еще с твоим Молнии Светом, под ударом которого, быть может, отлетит голова Оспакара!
При этих словах новый припадок бешенства охватил Скаллагрима.
— Успокойся, Овечий Хвост, Оспакара нет здесь, прибереги свое бешенство до лучшего случая!
— Не люба мне твоя повесть, — сказал Скаллагрим, успокоившись и помолчав немного, — больно уж много женщин обступило тебя, а женщины вонзают нож в спину, а не в грудь, и от женщин идет все зло на земле!
— Что ты говоришь?! Женщины, что мужчины, есть между ними им хорошие, есть и дурные.
— Да, но и те, и другие губят мужчин! Только злые губят по злобе, хорошие же по безумию и по любви. Отрекись от женщин — и ты проживешь жизнь в почете и умрешь мирно; полюби женщину — и будешь ты несчастный и погибнешь жалкой смертью.
— Неразумное ты говоришь, Скаллагрим; как птица должна летать, как волна должна бежать, так должен и мужчина льнуть к женщине и любить ее!
После того они ничего больше не говорили и оба заснули.
Солнце было высоко, когда они проснулись, умылись у ключа, и Скаллагрим показал Эйрику в глубине пещеры много хорошего оружия, отобранного им у тех, кого он убил или ограбил.
— Скажи, как ты набрел на эту пещеру, Скаллагрим? — спросил Эйрик.
— Я шел по следам того, кто здесь жил раньше меня, и предоставил ему или уйти и уступить мне пещеру, или помериться со мной силой оружия. Он захотел последнего и был убит мною.
— Кто же был тот, чья голова лежит вон там?
— Пещерный житель, господин мой, я взял его сюда, так как в зимнее время здесь очень тоскливо и одиноко. Это был лихой человек; он тоже был берсерк, но это не находило на него временами, как на меня и на других; он был постоянно берсерком, и ты хорошо сделал, что убил его; пусть же голова его идет вслед за туловищем! — И он скатил ее вниз с обрыва.
— А теперь возьми свое вооружение и забери что хочешь из своего добра, нам пора собираться в путь-дорогу, мой тралль и так, верно, думает, что ты одолел меня.
— Смотри, вот твой тралль уже идет под горой, нам его теперь не нагнать. Но ты не тужи: у меня в потайном месте припрятаны добрые кони, и мы следом за ним приедем в Миддальгоф.
— Ну, поди собирайся да помни, что, если ты со мной поедешь, так должен бросить свои привычки берсерка и не давать воли своему бешенству. Иначе я не берусь выговорить тебе мир в Миддальгофе!
Скаллагрим надел на голову темный стальной шлем и черную стальную кольчугу, взял хороший щит и добрую секиру, затем взял с собой большой кошель с деньгами и целую связку золотых обручей и, положив все это в мешок из выдровой шкуры, навязал себе на пояс. Остальное же имущество свое он припрятал за камни, полагая прийти за ним когда-нибудь в другой раз.
После того прошли они крутой и потайной тропой к скрытой в скалах луговине и там нашли добрых коней. В скалах же запрятаны были седла и уздечки: они изловили коней, оседлали их и поехали прочь от Мшистой скалы.
Долго ехали они, не встречая никого, как вдруг, подъехав к вершине холма, который люди прозвали Конской Головой, очутились среди целой ватаги вооруженных людей. Это были Оспакар Чернозуб, его двое сыновей и его ратные люди.
— Их много, а нас только двое! — сказал Эйрик. — Живо долой с коней. Встанем спина к спине, и помни, что если даже на тебя найдет во время битвы твой обычный припадок бешенства, ты и тогда не трогайся с места, а то и твоя, и моя спина будут не защищены.
— Будь спокоен, государь мой!
Тем временем Оспакар со своими людьми подъехал к ним.
— Что вы за люди?
— Надо бы тебе знать нас! Я еще так недавно поборол тебя и взял у тебя с боя вот что! — И Эйрик, выхватив свой славный меч Молнии Свет, сверкнул им перед глазами Оспакара.
— И я тебе должен быть знаком, — сказал Скаллагрим, — я тот, которого люди называют Скаллагримом и которого ты некогда называл Унунд. Скажи, какие вести о Торунне?
— Ха-ха-ха! — засмеялся Оспакар. — Эй ты, Эйрик, тебя-то мне и надо. Скажи, когда твоя голова слетит с плеч, свезти ее на память о тебе Гудруде? А тебя, Унунд, я считал мертвым, но так как ты жив, то узнай, что Торунна, моя нежная возлюбленная, посылает тебе вот это!
И он пустил в него дротик, но Скаллагрим поймал его на лету и пустил обратно с такой силой, что он, пробив щит и кольчугу Чернозуба, вонзился ему глубоко в плечо, нанеся сильную рану, которая сделала его неспособным к бою и заставила жестоко взвыть.
— Поди, прикажи Торунне вытащить эту занозу и залечить рану поцелуями!
Но Оспакар совершенно вышел из себя и крикнул своим людям, чтобы они накинулись и убили этих двоих. Завязалась битва.
Эйрик и Скаллагрим рубили направо и налево. Берсерк до того рассвирепел, что люди Оспакара стали отшатываться от него и, наконец, после того, как человек десять из них полегло, остальные не смели даже подступиться.
— Что же вы, бездельники, трусы! Рубите их, крошите их! — кричал Оспакар.
Но никто не трогался с места.
— Нас только двое! Попытайтесь еще осилить нас, пусть не говорят, что двое осилили двадцать человек! — крикнул Эйрик.
Тогда Морд сын Оспакара, заслышав этот вызов, пришел в бешенство и с поднятым щитом устремился вперед. Гицур же не вышел на бой — он был трус.
Морд, человек сильный и искусный в бою, налетев на Эйрика, нанес ему такой удар, что щит у того раскололся пополам, но Эйрик, отбросив от себя щит, выждал удобный момент, — и вот блестящее лезвие Молнии Света пронзило Морда насквозь, так что конец его вышел через спину. Перед тем Морд нанес Эйрику рану в плечо, и теперь Эйрик отплатил ему.
Видя, что Морд убит, оставшиеся в живых люди Оспакара кинулись к своим лошадям и поспешно ускакали, крича, что эти двое заколдованные люди и что тягаться с ними нельзя простым смертным. Раненый Чернозуб, чтобы не остаться один, поскакал вслед за ними.
— Что ты не весел, государь? — спросил Скаллагрим Эйрика, когда на холме, кроме них да мертвых и умирающих, не осталось никого. — Нас двое, и мы убили десятерых да еще Морда сына Оспакара! Мы вышли с честью из боя, а они с уроном и с бесчестьем, а ты недоволен!
— Правду ты говоришь, Скаллагрим, мы вышли с честью, а они — с бесчестьем: двадцать человек не могли одолеть двоих. Но у Оспакара много друзей, и он не простит мне этого, затеяв против меня судебное дело в альтинге
[160].
— Жаль, что дротик не вонзился в его сердце, — сказал Скаллагрим, — тогда все было бы кончено.
— Видно, час его еще не пришел! — заметил Эйрик. — Во всяком случае он унес с собой нечто, что ему будет напоминать о нас.
IX. Как Сванхильда обошлась с Гудрудой
Между тем Ион, тралль Эйрика, прибыл в Миддальгоф и пропел перед воротами замка песню смерти о своем господине.
Гудруда и Сванхильда, стоя у женских ворот, слышали ее. Помертвело лицо Гудруды; ничего не сказав, она пошла в большую горницу, где подле очага сидели Атли и Асмунд. Асмунд спросил девушку, отчего у нее такое лицо, и Гудруда запела печальную песню, в которой говорилось о том, что Эйрик погиб от руки берсерка и что она, Гудруда, овдовела, еще не быв супругой Светлоокого Эйрика.
Допев свою песню до конца, она тихонько вышла, не подымая глаз.
Тогда Атли стал горевать о смерти Светлоокого, а Асмунд поклялся отомстить берсерку прежде, чем наступит лето.
Гудруда вышла из замка и шла далеко-далеко, пока не пришла к Золотому водопаду, к тому месту, где он низвергается с высоты каменной гряды. Она искала одиночества и хотела горевать на свободе, чтобы никто ее не видел. Но Сванхильда пошла за ней, и Гудруда, заслышав за своей спиной легкий шорох, обернулась и увидела Сванхильду.
— Что ты хочешь от меня? — спросила Гудруда. — Или ты пришла насмеяться над моим горем?
— Нет, сводная сестра! Обе мы любили Эйрика, и теперь его не стало. Пусть же наша взаимная ненависть будет схоронена вместе с ним! — сказала Сванхильда.
— Уходи отсюда, — сказала Гудруда, — плачь своими слезами и не мешай мне выплакать мои. Не с тобой хочу я горевать по нему!
Сванхильда закусила губу, и лицо у нее сделалось злое и жестокое.
— Помни, что я не приду к тебе в другой раз со словами примирения, — сказала она, — и ненависть моя к тебе живет, растет и зреет с каждым часом! — С этими словами Сванхильда отошла, но не далеко, и, кинувшись лицом на траву, стала клясть судьбу; Гудруда же плакала тихо, прося себе у богов смерти.
Скоро стало ее клонить ко сну. Она задремала и увидала сон, что она сидит многие годы у врат Валгаллы, ожидая, не пройдет ли мимо нее Эйрик Светлоокий, когда в эти врата проходят воины, павшие на поле чести. Сам праотец Один увидел ее и спросил, кого она ждет. Она сказала и стала молить Одина, чтобы он отдал ей Эйрика на короткое время.
— А чем ты заплатишь за это счастье, девушка? — спросил ее Один.
— Своею жизнью! — отвечала она, и он обещал ей отдать его на одну ночь, после чего она должна будет умереть, и ее смерть должна будет стать причиной его смерти.
Она проснулась на этом и раскрыла глаза; перед ней стоял Эйрик в своем золотом шлеме с расколотым щитом, в крови и пыли;глаза его смотрели весело и ласково, точно звезды на небе.
— Ты ли это, Эйрик, или это сон?
— Это я, дорогая! — сказал он и, склонившись к ней, прижал ее к своей груди.
— А мы думали, что ты пал от руки берсерка! — И она рассказала ему свой сон.
В свою очередь и он рассказал ей все, что было с берсерками, и про встречу с Оспакаром Чернозубом.
Они целовались и были счастливы, а Сванхильда видела это, и бешеная злоба закипала в ее груди.
— Пора мне и вниз, где меня ждет Скаллагрим и мой конь. Ты дойди домой, и мы с ним сейчас туда приедем!
Эйрик вернулся к Скаллагриму, и тот похвалил его невесту, спросив, кто же та девушка, что подкрадывалась к ним ползком и затем шепталась с серым волком, который прибежал к ней из леса. Эйрик сказал, что это, верно, была Сванхильда, но что он не видал ее.
И вот, когда Эйрик ушел от нее, Гудруда села на самый край обрыва подле того места, где спадает Золотой водопад, и еще раз переживала в душе все подвиги Эйрика и гордилась им. Вдруг она услышала за собой легкий шорох и прежде, чем могла понять, что с нею, чьи-то сильные руки толкнули ее; она полетела вниз, но успела уцепиться за маленький выступ скалы и повисла на нем.
Под нею, срываясь с высоты, шумел и ревел водопад, устремляясь в бездонную пропасть, а над нею склонялось сверху залитое красным цветом заката искаженное злобой лицо Сванхильды. Она дико хохотала, крича: «Ищи свое счастье в Золотом водопаде. Не тебе, а мне достанется Эйрик!.. Ну, не цепляйся же, чего ты висишь! Все равно, никто не спасет тебя и никто не расскажет про это! Пусть твоим брачным ложем будет Золотой водопад, а супругом — его холодная струя!..» Но Гудруда цеплялась изо всех сил и продолжала висеть над бездонной пропастью.
— И что ты так дорожишь этой жалкой жизнью? Чего ты так цепляешься, сестрица, дай я спасу тебя от самой себя! Ведь тебе должно быть мучительно висеть так и бороться со смертью! — И Сванхильда побежала отыскивать обломок скалы или большой
камень. Найдя его и падая под его тяжестью, она добралась до края обрыва и заглянула вниз. Гудруда все еще висела. Сванхильда склонилась над ней. Гудруда видела ее злое лицо, видела глыбу камня, готовую обрушиться на нее, и в смертельном ужасе громко вскрикнула, сознавая, что пришел ее последний час.
Но Эйрик был уже тут, хотя Сванхильда не видела, не слышала звука его шагов: их заглушал шум водопада. Крик Гудруды достиг ушей Эйрика; он видел, что глыба камня сейчас сорвется с высоты, и с быстротой молнии кинулся на край обрыва; его сильные руки схватили Сванхильду и отшвырнули в сторону. Эйрик склонился и увидел Гудруду. Лицо его было бледно, как лицо мертвеца. Недолго думая, он соскочил на тот выступ скалы, за который уцепилась и на котором повисла Гудруда.
— Держись, держись, моя милая, я здесь! — крикнул Эйрик.
Но силы изменили девушке, и одна рука ее уже соскользнула; еще минута — и она сорвется.
Эйрик ухватился одной рукой за выступ скалы, другой схватил Гудруду как раз в тот момент, когда она готова была отпустить руку. Своей сильной рукой он схватил ее, затем, напрягши все свои силы и чуть не сорвавшись сам, поднял Гудруду на высоту своей груди и положил ее на край берега, где она была в безопасности, а потом и сам он взобрался туда. Гудруда была в обмороке. Эйрик призвал на помощь Скаллагрима, и они общими силами снесли ее с горы. По пути Эйрик рассказал Скаллагриму обо всем, и тот сказал ему на это:
— Женщины коварны и лукавы, но никогда еще я не видал такого дела, как это. По мне следовало бы эту колдунью вместе с ее серым волком швырнуть с обрыва в пропасть.
— Это еще впереди! — отозвался Эйрик, и затем они молча пошли дальше, неся бесчувственную Гудруду, которая все еще не приходила в себя. Когда они донесли ее до Миддальгофа, уже совсем стемнело; они совершенно выбились из сил.
X. Как Асмунд жрец говорил со Сванхильдой
Время шло, а старый ярл Атли все еще гостил в Миддальгофе. Часто он приводил себе на ум многие умные слова, но они не шли ему впрок, и он с каждым днем все сильнее любил коварную Сванхильду. Наконец, в тот день, когда Эйрик возвратился с Мшистой скалы, старый Атли пошел к Асмунду и стал просить у него Сванхильду в жены. Асмунд был очень рад, так как знал, что не все ладно между Гудрудой и Сванхильдой, и потому думал, что хорошо будет, если моря лягут между ними. Но ему думалось, что нечестно не предупредить Атли о том, что Сванхильда не то, что другие женщины, и что она принесет несчастье тому, кто женится на ней.
— Подумай хорошенько, прежде чем ты возьмешь ее себе в жены! — говорил он.
— Я уже думал и передумал об этом, и хоть седа моя голова, но дух бодр: ведь корабли и старые, и новые выходят в море навстречу бурям!
— Да, но там, где новые выдерживают, старые часто гибнут! — сказал Асмунд.
— Речь твоя разумна, Асмунд, но я думаю попытать счастье. Думается, что девушка эта ласково смотрит на меня и что мы увидим с ней хорошие дни!
На том и порешили. Асмунд пошел к Сванхильде. Стало уже совершенно темно, и он не мог видеть ее лица.
— Где ты была?
— Ходила горевать об Эйрике!
— Какое тебе дело до Эйрика! Эта утрата близка только Гудруде!
— Как знать! — загадочно ответила девушка. — Не все те умерли, кого оплакивали, и не всех, кто умер, оплакивают, — добавила она.
— Где же Гудруда? — спросил Асмунд.
— Она или очень высоко на горе, или низко под горою, или спит глубоким сном, или бодрствует! — и Сванхильда громко расхохоталась.
— Ты говоришь загадками, точно чародейка, и много в тебе есть недоброго, — сказал Асмунд, — но я принес тебе добрую весть: на твою долю выпало счастье, которого ты даже недостойна.
— Ну, говори, добрые вести приятно слушать! — И она усмехнулась.
Асмунд передал ей, что Атли сватается за нее. Но она и слышать не хотела. Асмунд разгневался: не в обычае было, чтобы девушка так говорила против воли тех, кто старше ее, и кроме того, говорила дерзко. Он сказал, что приказывает ей идти замуж за Атли, или же он прогонит ее совсем из дома.
— Ну и что ж! И гони меня с матерью моей Гроа, я уйду и, быть может, даже дальше, чем ты думаешь! — И она рассмеялась и убежала, скрывшись в темноте.
Асмунд, посмотрев ей вслед, подумал: «Правда, наши дурные поступки — стрелы, которые возвращаются обратно и попадают в того, кто их пустил! Я посеял зло и зло теперь пожинаю». Так рассуждал он, стоя в раздумье на том месте, где его оставила Сванхильда, и вдруг увидел приближающихся к нему людей и лошадей. Один из них, на голове которого золотой шлем блестел при луне, нес что-то на руках.
— Кто идет? — окликнул Асмунд.
— Эйрик Светлоокий, Скаллагрим Овечий Хвост и Гудруда, дочь Асмунда! — отозвался Эйрик.
Асмунд кинулся к нему навстречу.
— Почему ты несешь Гудруду на своих руках, уж не умерла ли она?
— Нет, но недалеко было до этого! — ответил Эйрик и рассказал обо всем случившемся по порядку: сначала о том, как поразил одного берсерка и приобрел в друзья другого, который стал его траллем и сослужил ему верную службу в стычке с Оспакаром Чернозубом и его людьми; затем рассказал, как они ранили Оспакара и убили Морда, его сына, и человек десять из его людей.
— Это и хорошо, и плохо! — сказал Асмунд. — Оспакар потребует большой виры
[161], и, вероятно, тебя поставят вне закона!
— Это, конечно, может случиться, государь мой, но теперь дай мне досказать тебе все по порядку! — сказал Эйрик и передал о том, что сделала Сванхильда с Гудрудой. Гудруда подтвердила его слова. Бешенство овладело Асмундом; он рвал свою русую бороду и топал ногами о землю.
— Хоть она девушка, а я предам ее смерти убийц и колдуний! Пусть тело ее будет брошено в водоворот и пусть земля избавится от нее навсегда.
— Нет, отец, нехорошо так мстить ей, — сказала Гудруда, — этот поступок навлек бы на тебя стыд. Я спасена и прошу тебя, не говори никому об этом, а только отошли ты Сванхильду отсюда туда, где она не может нам вредить.
— Так ее надо послать в могилу, другого такого места нет! — мрачно сказал Асмунд и задумался. — Вот что, — сказал он немного погодя, — с час тому назад Атли Добросердечный просил Сванхильду у меня себе в жены; я сказал ей об этом, но она воспротивилась, а теперь я скажу, пусть идет замуж за Атли или на смерть, как колдунья и убийца.
— Но для бедного Атли это будет нехорошо! — сказал Эйрик. — Он хороший человек, и жаль сделать его несчастным.
— Это верно, но он сам того хочет. Кроме того, свое дитя ближе всякого другого. Я скажу тебе теперь то, что никому еще не говорил. Эта Сванхильда — моя дочь, и потому я любил ее и терпел ее скверности, что она твоя сводная сестра, Гудруда; мне так больно мстить одной дочери за другую.
— Я давно это чувствовала! — сказала Гудруда. — И потому терпела от нее многое.
— Теперь, Эйрик, подзови берсерка, и пусть он поклянется тебе, что не скажет никому о том, что сделала Сванхильда!
Тот подозвал Скаллагрима, и последний поклялся. За это Асмунд обещал ему дать мир и охранять от обиды.
— Об этом не тревожься, жрец, мои руки сумеют охранить тебя от всякой обиды и отстоять от десятерых таких, как ты! — отвечал он. — Не было до сих пор человека, который бы одолел меня; один Эйрик Светлоокий сделал это, и теперь слово его для меня — закон.
Между тем Эйрик омыл свои раны, смыл с себя кровь и затем вместе с Скаллагримом пришел в большую горницу, когда мужчины собирались сесть за мясо. Все приветствовали Эйрика громкими криками, называя его славой юга, только Бьерн сын Асмунда, не приветствовал, не кричал с остальными, ненавидя Эйрика и завидуя ему.
Эйрик благодарил их за честь и просил их ради него принять ласково Скаллагрима берсерка.
— Был он берсерк, а теперь стал моим братом по крови: он испил моей крови и поклялся стоять за меня в жизни и до самой смерти, и стоял с честью! — сказал Эйрик, и все слушали его. Также просил Эйрик всех помощи и содействия себе в деле, которое возбуждено будет против него на альтинге. Все с громким криком обещали ему стоять за него, а старый Атли, встав со своего высокого седалища, на которое его всегда сажал Асмунд, подошел к Эйрику, поцеловал его и, сняв с шеи свою драгоценную золотую цепь, надел ее на шею Эйрику, воскликнув:
— Ты — славный и великий человек, Эйрик, и я думаю, что другого такого больше нет. Приходи ты в мою землю Оркней и будь мне сыном. Я дам тебе все дары, а когда умру, ты сядешь на мое место, и будет тебе почет великий и слава перед всеми людьми!
— Великую честь ты делаешь мне, ярл, но не могу я сделать того, что ты хочешь: где трава выросла, там она и должна расти, там должна и погибнуть. Исландия мне мила, и я должен остаться среди своего народа, пока меня не изгонят отсюда.
— И это может с тобою приключиться; Оспакар и его родня не дадут тебе покоя. Тогда приходи ко мне и будь моим сыном!
— Спасибо тебе, ярл. Как норны решат, так и будет! — сказал Эйрик.
Все сели за стол.
Теперь вышла и Гудруда, бледная и слабая. Эйрик, кончив есть, посадил ее к себе на колени. Сванхильда не приходила, и хотя Атли искал ее глазами везде, но Асмунда он не спросил.
Так прошел ужин; люди стали расходиться по тем местам, где им назначено было провести ночь, и в большой горнице стало тихо и пусто.
XI. Как Сванхильда прощалась с Эйриком Светлооким
Все время, пока люди сидели за мясом, Асмунд был пасмурен и молчалив, а когда все в замке заснули, он зажег свечу, пошел к постели, под полог, где спала одна Сванхильда. Она не спала еще и спросила, что он желает. Асмунд задернул полог и сказал:
— Кто бы подумал, что эти нежные, белые руки способны на убийство, эти голубые глаза смотрели на страшное дело?
— Проклинаю я эти руки, проклинаю их женское бессилие, — вскричала свирепая девица. — А то дело было бы сделано! Теперь же я приняла и весь грех, и весь позор, а Гудруда может теперь смеяться и торжествовать! Я должна умереть на позорном камне, а она будет наслаждаться любовью и лаской Эйрика! Нет! — воскликнула Сванхильда и выхватила из-под своей подушки острый кинжал. — Смотри, вдоль этого светлого лезвия лежит путь к спокойствию и свободе, и если надо, то я не задумаюсь избрать этот путь.
— Молчи! — крикнул на нее Асмунд. — Эта Гудруда, дочь моя, которую ты хотела убить, — твоя родная сестра, и она, жалея тебя, просила меня пощадить твою жизнь!
— Не хочу я от нее ни жизни, ни пощады!
— Молчи и слушай, вот тебе мое последнее слово: или ты будешь женой Атли, или умрешь, хоть от своей руки, если ты того хочешь, но решение свое я не изменю!
— Я уже сказала тебе, что, пока есть возможность избрать иную смерть, я не хочу позорной, а также не хочу быть продана в жены старику, как кобыла на ярмарке. Вот тебе мой ответ!
— В таком случае ты умрешь на позорном камне! — сказал Асмунд и встал, чтобы уйти. Сванхильда между тем одумалась. Ей пришло на ум, что замужество не могила, что старые мужья умирают, что ярл сделает ее богатой, знатной и могущественной, что, пока человек жив, ничто не потеряно, иначе же она должна будет умереть и оставить Гудруду счастливой и торжествующей в объятиях ее возлюбленного.
Сванхильда скользнула с постели на пол и, обхватив колени Ас-мунда, стала молить:
— Я согрешила, тяжко согрешила и против тебя, и против сестры! Я была как безумная от любви к этому Эйрику, которого научилась любить с самого раннего детства. Гудруда отняла его у меня, и это довело меня до безумия. Если есть боги, то я благодарю их за то, что они не допустили, чтобы Гудруда умерла от моей руки!.. Теперь, отец, видишь, я вырываю с корнем из своего сердца эту злосчастную любовь к Эйрику! Я пойду замуж за Атли и буду ему хорошей и доброй женой, лишь бы Гудруда простила мне мою вину.
Возликовало сердце Асмунда при этих словах. Он ответил, что Гудруда простит ее, так как добра превыше всякой женщины и незлобива, и что завтра он передаст Атли ее ответ, так как судно его готово к отплытию и ей надо скоро стать его женой и ехать с ним на его родину.
Затем он ушел, унося с собою свечу, а Сванхильда встала с земли и, сев на край постели, уставилась глазами в мрак, шепча:
— Скоро я должна стать его женой, но скоро — я стану и вдовой! О, проклятье на вас, слабые женские силы! Никогда больше я не поверю вам. Когда я в другой раз захочу поразить, я поражу чужими руками. И на вас проклятье, злые силы, что изменили мне, когда я в вас нуждалась! И на тебе, счастливая соперница моя, пусть тяготеет проклятье, — шептала Сванхильда, вся бледная, с горящими глазами, в ту пору, когда все давно спали; она всю ночь не смыкала очей.
Наутро Асмунд сообщил Атли, что Сванхильда по доброй воле согласна идти за него, но еще раз предупредил о ее коварном нраве и о том, что она ведается с нечистой силой, сообщил и о том, что она его внебрачная дочь.
Старый Атли, увлеченный любовью, не слышал ничего, сообщив, что даже рад, зная теперь, что девушка эта хорошей, доброй крови, а что в нечистые силы и колдовство он совсем мало верит и не боится такого порока в жене.
После того они сговорились о приданом Сванхильды. Асмунд не обидел ее в этом, а затем пошел к Гудруде и Эйрику и рассказал им обо всем. Оба были рады за Сванхильду, но очень сожалели о добром Атли, не веря в такую быструю перемену в чувствах Сванхильды и зная ее лживость и коварство.
На третьи сутки от этого дня был назначен свадебный пир, и Атли решил в тот же день увезти свою молодую супругу к себе на родину, где его народ с нетерпением ожидал его возвращения.
Сванхильда стала вдруг такая кроткая и ласковая, такая тихая и скромная, какой ее никогда не видали, а Скаллагрим, который следил за ней, говорил Эйрику по пути, когда они возвращались в этот день на Кольдбек:
— Не к добру эта перемена в девушке! Жаль мне старого Атли. Как сейчас помню, моя Торунна была точь-в-точь такая же в тот день, как предала меня на позор и горе и пошла за Чернозубом.
— Не говори про ворона, пока он не закаркал! — сказал Эйрик.
— Да уж он на лету! — сказал Скаллагрим.
Когда приехали они в Кольдбек, что над болотом, мать Эйрика Савуна и родственница его Унна с радостью приветствовали его: до них дошла весть обо всем, что он сделал. На Скаллагрима же берсерка они смотрели поначалу недоверчиво; когда же Эйрик рассказал им все, что он сделал, они ласково приветствовали его ради его деяний и ради его верности.
Эйрик просидел двое суток вместе со Скаллагримом на Кольдбеке; на третьи сутки мать его Савуна и Унна стали собираться в Миддальгоф, куда были званы на брачный пир Сванхильды и Атли. Эйрик же остался еще одну ночь на Кольдбеке, обещав приехать поутру в Миддальгоф.
Наутро Эйрик встал до света и, снарядившись, поехал в Миддальгоф один; Скаллагрима он не взял с собою, боясь, что, напившись, тот станет берсерком и учинит кровопролитие. В эту ночь Сванхильда опять не знала сна, и глаза ее были полны слез. Утро брачного дня своего она встретила нерадостно. Едва рассвело, она крадучись ушла из замка и стала поджидать на дороге, когда проедет Эйрик.
Вскоре после нее встала и Гудруда и тоже вышла на дорогу навстречу своему сговоренному. Скоро послышался вдали конский топот и засияли из-за вершины холма золотые крылья Эйрикова шлема. Он ехал не торопясь и весело пел песню; и горько стало на душе у Сванхильды, что он мог быть так весел и беспечален в этот день, когда ее, которая так любит его, отдавали в жены другому, нелюбимому.
Когда он поравнялся с ней, Сванхильда вышла из-за копны, за которой стояла, и, ухватив коня Эйрика за узду, остановила его.
Она стала говорить ему о своей любви и жаловаться на судьбу, стала плакать и желать ему счастья и зарыдала. Эйрику стало жаль ее, и он сказал:
— Не говори об этом, а пусть добрые поступки твои загладят и заставят забыть дурные, которых немало, и тогда ты будешь счастлива!
Она посмотрела на него странными глазами; лицо ее выражало муку и было бледно как полотно.
— Ты говоришь мне о счастье, когда сердце мое умерло для счастья и свет погас для меня; когда я рада бы была заснуть сном смерти вместо того, чтобы так проститься с тобой навек! Проститься и знать, что Гудруда, соперница моя, будет снаряжать тебя, когда ты станешь сбираться на славный бой, что она встретит тебя, когда, увенчанный славой великих подвигов, ты возвратишься к ней, ища награды в ее ласках, в ее объятиях! О, это сводит меня с ума, Эйрик! Но прощай! Твоя Гудруда, уж верно, ждет тебя. Прощай, не смотри на мои слезы: это последняя утеха женщины. Пока я жива, день за днем мысль о тебе будет пробуждать меня на заре поутру, и с ней я буду засыпать, когда на небе зажгутся звезды, ясные, как твои очи, Эйрик. Прощай! На этот раз ты должен стереть поцелуем мои слезы, а затем пусть они текут без конца. Так, Эйрик! Я прощаюсь с тобой.
И она повисла у него не шее, глядя ему в глаза своими большими, полными слез и любви глазами, — и вдруг все как будто затуманилось в глазах Эйрика, он нагнулся к ее лицу и поцеловал ее, жалость закралась в его сердце. Когда она висела у него не шее, прижавшись головой к его груди, а, он, склонясь, целовал ее лицо, Гудруда, идя навстречу своему нареченному, неожиданно поравнялась с ними и увидела все. Сердце ее замерло в ней. Она прижала обе руки к груди, затем, схватившись за голову, побежала без оглядки. Сильная обида и негодование жгли ей сердце: она была горда и ревнива.
Ни Эйрик, ни Сванхильда не видели ее; вскоре после того они расстались, Сванхильда поспешила домой. У ограды она увидела Гудруду.
— Где ты была? — спросила она Сванхильду.
— Ходила прощаться со Светлооким! — ответила та.
— Верно, он отогнал тебя от себя.
— Нет, ошибаешься, он привлек меня к себе и целовал меня! Помни, сестра, сегодня торжествуешь ты, и Эйрик твой, но может настать час, когда он будет мой. Все в руках норн! — С этими словами Сванхильда удалилась.
Вскоре подъехал и Эйрик; у него было нехорошо на душе и совестно, что он поддался страстным словам Сванхильды. Увидев же Гудруду, он сразу забыл о Сванхильде и обо всем остальном и, соскочив с коня, бросился к ней. Но она отстранила его, гордо выпрямившись во весь свой рост, и смотрела строго и гневно.
Эйрик оробел, не зная, что ему делать.
На два—три вопроса Гудруды он отвечал правдиво, рассказав все как было и как он был тронут словами и слезами Сванхильды.
— Знаешь ли, что я думаю тебе сказать теперь? Иди с нею и не являйся мне больше на глаза. У меня нет охоты прилепляться к такому человеку, которого может сдуть, точно ветер перо, каждая жалкая ласка и искушение!
— Нет, Гудруда, но будь ты на моем месте, ты бы поступила как и я, ты была бы тронута ее слезами. Я люблю тебя одну и нет для меня другой женщины, кроме тебя, и ты знаешь, что я люблю тебя.
— Знаю, но что толку в такой любви, Эйрик?
— Неужели же ты не можешь простить мне того, что сделали одни мои губы, а не сердце! — воскликнул он. — Простить один раз в жизни!
— Один ли раз? Я что-то не доверяю тебе, Эйрик. Но пусть так, на этот раз прощу!
Эйрик хотел теперь обнять и поцеловать Гудруду, но она опять отстранила его от себя и еще много дней не допускала его к себе с лаской.
XII. Эйрик был объявлен вне закона и отплыл на судне викинга
Свадебный пир был в полном разгаре. Сванхильда вся в белом одеянии сидела на высоком седалище подле старого Атли; жених старался привлечь ее ближе к себе, но невеста смотрела на него холодным, безучастным взглядом, в глубине которого таилась ненависть.
Когда пир кончился, все отправились на берег, где новобрачных ожидало судно Атли, стоявшее там на якоре. Сванхильда на прощание целовала Асмунда и пошепталась о чем-то с матерью Гроа; затем простилась со всеми, не прощалась только с Эйриком и Гудрудой.
— Почему же ты не скажешь ни слова этим двоим? — спросил Атли.
— Потому, ярл, что с ними я вскоре увижусь опять, а ни отца моего Асмунда, ни матери Гроа не увижу уже более!
— Ты как будто предсказываешь их смертный приговор! — сказал Атли.
— Не только их, но и твой, хотя и не сейчас еще! — добавила она. Судно снялось с якоря, подняло большой парус и плавно, словно
лебедь, ушло в море. До тех пор пока виднелся берег, Сванхильда, стоя на корме, не спускала с него глаз, когда же он скрылся в туманной дали, новобрачная ушла в рубку и заперлась в ней одна, в течение двадцати дней пути не пуская к себе мужа под предлогом болезни.
Между тем в Исландии близилось время, когда люди съезжаются на альтинг. Эйрик Светлоокий был предупрежден, что против него будет возбуждено несколько судебных дел. Но сам Асмунд, который был первейший законник в Исландии, принял на себя защиту Эйрика, за дела же Оспакара и его людей взялся Гицур сын Оспакара. После долгих прений и обсуждений решено было, что никаких денежных пеней ни с Эйрика Светлоокого, ни со Скаллагрима Овечий Хвост в пользу Оспакара и его людей не причиталось, но сам Эйрик был происками и коварствами Оспакара, заручившегося большим числом голосов вольных людей, приговорен вне закона на три года. Однако и такого рода решение вопроса не удовлетворяло Оспакара, и он стал подговаривать своих приверженцев взяться за оружие и отомстить собственной властью за смерть близких и товарищей. Видя это, Асмунд собрал своих людей и решил встать с ними на сторону Эйрика Светлоокого. Но Эйрик сказал:
— Послушайте, не прискорбно ли, чтобы такое громадное число воинов полегло здесь костьми за тех, кто уже умер? Не лучше ли нам решить эту распрю поединком? Если найдутся среди вас, людей Оспакара, двое, желающих выйти на поединок против меня одного, с двумя мечами против одного моего меча, то я, Эйрик Светлоокий, стою здесь и жду!
Все собрание решило, что слова эти разумные, хотя и могли кончиться пагубно для Эйрика.
Оспакар назначил двоих из своих людей, самых ловких и искусных в бою, самых сильных и надежных. Состоялся поединок. И бежали оба противника Эйрика с позором с поля сражения; а все зрители много смеялись тому, громко прославляя Эйрика. Оспакар же чуть не упал с коня от бешенства, но сознавая, что он на этот раз совершенно бессилен, так как рана его еще не зажила, поворотил коня и прямо с альтинга уехал к себе на Свинефьелль.
На следующий день Эйрик вместе с Асмундом вернулся в Миддальгоф. Гудруда, узнав о приговоре над Эйриком Светлооким, горько заплакала, разлука на три года казалась ей невыносимой.
— Скажи, дорогая, если ты не хочешь, чтобы я шел в изгнание, я останусь здесь и буду объявлен вне закона. Жизнь моя будет в руках каждого, кто только захочет, но я думаю, что моим врагам нелегко будет одолеть меня, пока боги не отнимут у меня моей силы. А от судьбы все равно не уйдешь! Так скажи свое слово, дорогая!
— Нет, Светлоокий, как ни тяжела мне разлука с тобой, я не хочу, чтобы ты был объявлен вне закона и оставался здесь. Лучше иди в изгнание. Отец даст тебе свое хорошее военное судно, ты соберешь людей, будешь управлять ими и можешь прославить себя новыми подвигами. Сготовится это судно в одну ночь, а наутро ты уйдешь в море: чем раньше ты уедешь в изгнание, тем скорее пройдут эти печальные три года.
Действительно, Асмунд дал Эйрику свое славное боевое судно из крепкого дуба, с железными скрепами, с высокими кормой и носом. Оно звалось «Драконом», Эйрик же назвал его «Гудрудой». Изгнанник кликнул клич, и собрались к нему многие соседние отважные поселяне, считая за честь отправиться в поход с Эйриком Светлооким. В помощники же себе Эйрик взял человека по имени Холль из Литдаля, которого он принял по настоянию Бьерна сына Асмунда. Холль этот был другом Бьерна и славился своим искусством и умением управлять судном и уже много раз плавал на судах больших и малых по северным морям, и вокруг Англии, и к берегам Страны Франков. Но Скаллагрим, увидав его, не полюбил его, также и Гудруда сказала, что это человек недобрый и что Эйрику не следует брать его с собою, от него будут только горе и беда.
— Поздно теперь говорить, это уже дело решенное, — сказал Эйрик, — но я буду остерегаться его!
На прощанье Асмунд дал великий пир и вызвал всех людей, что шли за Эйриком в море. Сам же Эйрик Светлоокий сидел на высоком седалище подле Асмунда, рядом с ним Гудруда и Унна, нареченная невеста Асмунда, и Савуна, мать Эйрика. Было условлено, что в отсутствие Эйрика престарелая уже теперь Савуна и Унна будут жить в Миддальгофе, а на Кольдбеке над болотом поселится доверенный человек и родственник, которому поручено было и управление землями, и уход за стадами, и присмотр за всем имуществом Эйрика в течение предстоящих трех лет.
Когда все стали прославлять Эйрика, пророча ему счастье и успех, сердце Бьерна вскипело ненавистью к нему, и он воскликнул:
— Будь моя воля, Гудруда была бы женою Оспакара: он могущественный вождь, славный, влиятельный и богатый человек, а не такой долговязый
керль (парень) из поселян, без власти и друзей, как вот этот. А славой он обязан пустому случаю или человеку, поставленному вне закона за человекоубийство.
Эйрик, услышав это, схватился за меч, но Асмунд, успокоив Эйрика, обратился к сыну и упрекал его в злобной зависти, строго заявив, что не он жрец Миддальгофа и отец Гудруды и что не ему располагать ее судьбой, а если он в отсутствие Эйрика станет замышлять недоброе против того, то Эйрик, вернувшись, покарает его примерно, и он, Асмунд, первый скажет, что лихие дела — лихая мзда! Тогда Бьерн выскочил из-за стола, сел на коня и помчался на север. Эйрик уже не видал его больше до тех пор, пока по прошествии трех лет не возвратился на родину.
Пир подходил к концу, и Гудруда сказала Эйрику:
— Посмотри на свои волосы, Эйрик, — их кольца стелются по плечам, как у девушки! Хочешь ли, я срежу тебе их сама.
— Да, Гудруда! — отозвался Эйрик Светлоокий.
— Поклянись мне, — шепнула она ему в ухо, срезая его золотые кудри, — что ни одна женщина и ни один мужчина не коснутся рукой твоих волос до тех пор, пока ты не вернешься ко мне.
Эйрик поклялся ей в том.
Хотя они говорили тихо, но Колль Полоумный подслушал их.
Поутру все встали очень рано и, сев на коней, отправились к тому месту, где стояло на якоре боевое судно «Гудруда». Здесь Эйрик простился со всеми.
Савуна, мать его, на прощание сказала ему:
— Прощай, сын мой! Мало у меня надежды еще раз обнять тебя и целовать твое гордое, прекрасное чело, а потому прошу тебя — вспоминай обо мне временами: без меня и тебя бы не было; не давайся женщинам в обман и сам не обманывай их, не то постигнет тебя беда. Не будь сварлив и гневен: ты силен. Падшего врага щади, а на нападающего иди с поднятым щитом и мечом. Никогда не отнимай ни добра у неимущего человека, ни меча у доблестного воина, но когда наносишь удар, пусть он не пропадает даром. Живя так, ты добудешь себе славу смолоду и мир в старости, а это последнее лучше славы; в славе есть яд, а в мире только мед.
Эйрик целовал свою мать, обещая не забывать ее наставлений и всегда хранить память о ней.
Затем простился с Гудрудой, и они повторили друг другу клятву взаимной верности. Гудруда сказала ему:
— Во мне ты можешь быть уверен, но я не могу быть уверена в тебе. Быть может, ты повстречаешь там, за морями, Сванхильду и подаришь ей еще новые поцелуи и ласки!
— Не гневи меня, Гудруда, перед разлукой, доверься мне, как я доверяю тебе!
Тут подошел Скаллагрим и напомнил, что время прилива может сменить отлив, и тогда судну нельзя будет выйти в море.
Эйрик поспешил к своему боевому судну. Здесь Асмунд, схватив его за обе руки, запечатлел поцелуй у него на челе, проговорив:
— Не знаю, увижу ли я тебя опять, но помни, что тебе я вручаю Гудруду, прекраснейшую и кротчайшую из женщин, и горе тебе, если ты чем-нибудь причинишь ей скорбь. Прощай же, сын мой, и будь счастлив в делах своих! Теперь ты мне стал дорог и близок, как сын!
Эйрик, поцеловав Асмунда, отвечал:
— Нет у меня отца, и слово твое для меня, что слово отца, а поцелуй твой, как поцелуй отца. Насчет Гудруды пусть будет спокойна душа твоя. Прошу только, если к сроку я не вернусь, не неволь ее в замужестве и не доверяй своему сыну Бьерну: не сыновние чувства живут у него в груди. Остерегайся ты и Гроа, управительницы дома, потому как она замышляет злое на нареченную невесту. Затем прими благодарность мою за свой дар и за все твои милости ко мне и будь счастлив.
— Будь счастлив, сын мой! — сказал Асмунд, и Эйрик повернулся, чтобы дойти до судна, но Скаллагрим как-то очутился подле него, поднял его на руки, как ребенка, и, идя по пояс в воде, донес его до судна при громких криках провожающих. Тогда Эйрик, ухватившись руками за корму, взобрался на судно, и берсерк последовал за ним. Пользуясь последними минутами прилива, боевое судно «Гудруда» вышло из залива и направилось к Западным островам, подняв большой парус. Гудруда же, опустившись на берегу, словно цветок, поникла головой.
XIII. Как Холль, помощник Эйрика, перерубил якорный канат
Оспакару Чернозубу стало известно, что Эйрик Светлоокий, не желая оставаться в Исландии вне закона, ушел в море на вольный простор на славном судне Асмунда жреца. По совету сына своего Гицура Чернозуб снарядил два больших боевых корабля, двинулся с ними наперерез пути судну Эйрика и, притаившись за Западными островами, как только его судно оказалось в виду, запер ему выход из пролива в открытое море.
— Здесь, как видно, стоят викинги! — сказал Эйрик, заметив два длинных боевых судна, увешанных щитами.
— Здесь стоит Оспакар Чернозуб! — сказал Скаллагрим. — Поверь моему слову, государь.
Время клонилось к вечеру. Эйрик обратился к дружинникам:
— Видите, товарищи, нам запер дорогу Оспакар Чернозуб с двумя длинными боевыми кораблями. Нам остается только или поворотить судно и бежать от него, или идти вперед и дать ему сражение!
— Поспешим уйти, господин, пока мы целы! — сказал Холль из Литдаля.
Но кто-то другой крикнул из толпы:
— Как те двое борцов Оспакара бежали, точно спугнутые утки перед твоим нападением, Эйрик, так точно побегут и теперь его суда перед твоей «Гудрудой».
— Да, да! — кричали остальные. — Не слушай трусливых бабьих речей Холля. Пусть никто не скажет, что мы бежали перед Оспакаром!
И, по слову Эйрика, гребцы приналегли на свои длинные весла, и «Гудруда» устремилась вперед к судам Оспакара. Стоя на носу своего корабля, Эйрик и Скаллагрим заметили, что суда неприятеля связаны между собой крепким канатом, так что «Гудруда», пытаясь проскользнуть между ними, неминуемо была бы захвачена этим канатом, если бы они вовремя не заметили его. На носу одного из судов стоял сам Оспакар в черном шлеме с вороньими крыльями. Эйрик крикнул ему:
— Кто ты такой, что смеешь преграждать мне путь? Обменявшись несколькими оскорбительными словами, враги вступили в бой. В момент, когда «Гудруда», разогнанная сильными ударами весел, готова была врезаться между вражескими судами, Эйрик, вскочив на золотого дракона, украшавшего нос его корабля, сильным ударом своего Молнии Света перерубил канат — и «Гудруда» проскользнула, как чайка между двумя камнями.
— Убирай весла и готовь багры! — приказал Эйрик Светлоокий.
Минуту спустя завязался страшный бой. Эйрик и Скаллагрим поспевали повсюду. Люди Оспакара взбирались на «Гудруду» и падали мертвыми. Эйрик со Скаллагримом пробивались на судно Оспакара, но густая толпа его людей заслоняла его, и в тот момент, когда они, усердно работая мечом и топором, почти проложили себе путь, Эйрик вдруг заметил, что течение несет судно, на котором он находился, прямо на скалы и что оно неминуемо должно разбиться. Он крикнул своим людям:
— Живо! Все, кто с «Гудруды», назад! Судно это сейчас затонет!
Сам он, Скаллагрим и все его люди один за другим успели перескочить обратно на свое судно. Оспакар же, сын его и несколько человек из его людей кинулись в море и вплавь добрались до берега. В этот момент судно наскочило на скалу и на глазах у всех разлетелось в щепки, неся смерть и погибель десяткам людей.
Эйрик хотел было сам сойти на берег схватиться с Оспакаром и его сыном, но боялся разбить о скалы свое судно, кроме того, ему приходилось еще отбиваться от второго боевого корабля Оспакара. Видя гибель первого, это судно, названное «Ворон», стало уходить, но Эйрик решил преследовать его, предоставив Оспакара и его сына их судьбе. Палуба «Гудруды» была завалена трупами убитых и телами раненых, стеснявших движение людей, так что прежде, чем корабль успел описать поворот и достигнуть устья пролива, служившего выходом в море, «Ворон», опередивший его, успел поднять паруса и, пользуясь попутным ветром, ушел далеко вперед. Но Эйрик не унывал и, едва только «Гудруда» вышла в открытое море, тоже поставил паруса и погнался за «Вороном», не теряя надежды нагнать его.
Убрав убитых, люди сели за стол. Скаллагрим, глядя на убитых, сказал:
— Я бы с большей радостью видел бы здесь голову Оспакара, чем тела всех этих бедных
керлей (людей) его, так как других людей он всегда найдет, а другой головы не нашел бы!
Тем временем ветер стал свежеть; около полуночи разразилась сильная буря, и Холль спрашивал, не убавить ли паруса. Но Эйрик не приказал убавлять, заметив, что если «Ворон» может идти на всех парусах, то и «Гудруда» тоже может. Погоня продолжалась всю ночь и до утра. Поутру «Ворон» был уже только в двух-трех стадиях
[162] впереди «Гудруды»; теперь, из опасения бури и сильного ветра, на «Вороне» убавили паруса, и он нырял уже не так быстро, делая вид, будто собирается вернуться в Исландию.
— Этого мы им не дозволим, — сказал Эйрик, — работай дружнее, товарищи! «Ворон» идет теперь быстро, но мы идем быстрее его! Готовьтесь, сейчас загорится бой: мы нагоняем их.
— Не к добру затевать бой в такую непогоду! — заметил Холль.
— А ты не рассуждай, а делай, что тебе приказывает старший! — угрюмо сказал Скаллагрим, грозно сверкнув на Холля глазами и выразительно сжимая в кулаке свой топор.
И люди стали готовиться к бою, а Скаллагрим, стоя на носу, держал наготове маленький якорь, которым собирался задеть вражеское судно, чтобы не дать ему отойти во время абордажа.
Как только суда поравнялись и берсерк закинул свой якорь, глубоко впившийся в вражеское судно, Эйрик первый, а следом за ним Скаллагрим вскочили на палубу «Ворона», приказав экипажу следовать за собой. Но прежде, чем они успели это сделать, Холль взмахнул своим топором и одним ударом отрубил канат у якоря. Сильный вал подхватил «Гудруду» и унес ее далеко вперед.
Эйрик и Скаллагрим очутились одни на палубе вражеского судна. Но, успев проложить себе путь к главной мачте, они встали к ней спина к спине, широко размахивая вокруг себя один — мечом Молнии Светом, другой — своим топором, разя всякого, кто решался подступиться к ним. Экипаж «Ворона», растерявшийся сначала при появлении Эйрика, теперь остервенился от злобы, что тридцать человек не могут совладать с двумя. Они стали метать в них стрелы и каменья, но из-за того, что судно сильно качало, камни и стрелы пропадали даром. А из их людей уже человек десять лежали ранеными и убитыми у ног Эйрика и Скаллагрима. Но вот один большой камень упал на плечо берсерка, и правая рука его разом отнялась.
— Плохо дело, — сказал Скаллагрим, — только ты не унывай: я умею держать секиру и в левой руке. Кто подойдет ко мне, тому несдобровать!
Тем временем люди Оспакара держали между собой совет, и их старший говорил так:
— Нас осталось теперь в живых только семнадцать человек, не считая раненых. Этого едва хватает, чтобы управляться с судном, да и срам нам будет великий, если скажут, что двое одолели целую команду в тридцать человек. Если же мы предложим им мир и доброе обращение под условием, что они согласятся быть связанными до тех пор, пока мы не пристанем к земле и высадим их на берег, не возбуждая против них никаких преследований, они, верно, согласятся. А когда заснут, то мы их убьем и скажем, что одолели их в бою.
— Постыдное это дело! — сказал один человек и отошел в сторону. Но остальные молчали, и старший пошел к Эйрику и Скаллагриму и предложил им мир и те условия, о которых говорил; хотя оба героя не доверяли ему, но согласились. Только Эйрик спросил:
— Почему же нам быть связанными?
— Потому, что ты так силен и могуч, что мы не можем быть спокойны, если ты, наш враг, останешься у нас на судне и будешь свободен!
Эйрик пожал плечами и согласился; их отвели под палубу, где и ветром не хватало, и водой не заливало, связали по рукам и по ногам, накрыли теплыми плащами от стужи и принесли им хорошей пищи и питья.
Когда вели Эйрика под палубу, он взглянул вперед и увидел далеко, стадиях в двадцати или больше, свою «Гудруду». Скаллагрим тоже видел и сказал:
— Хорошо наше-то судно и хороши наши товарищи, так и оставили нас в западне!
— Нет, Скаллагрим, они не могли повернуть назад в такую бурю, да и, вероятно, считают нас мертвыми теперь. Но если я увижу когда-нибудь опять этого Холля, то не буду к нему особенно милостив.
— И не стоит он никакой милости! — проговорил себе в бороду Скаллагрим и задремал.
Эйрик стал думать о Гудруде Прекрасной; вскоре и им овладел сон.
XIV. Как Эйрику приснился сон
Крепко спал Эйрик, и снился ему сон, будто спит он здесь, на «Вороне», под палубой; и к нему подкралась серая крыса и стала шептать ему что-то в ухо. И вот видит он, что Сванхильда идет к нему по морю; бурные волны расступаются на ее пути. Она шла плавно и спокойно, словно лебедь плыла, ветер не развевал даже волос у нее на лбу. Наконец она тут, стоит перед ним и склоняется к нему, шепчет ему:
— Проснись! Проснись, Эйрик Светлоокий! Я пришла к тебе по бурному морю со Страумея
[163], чтобы предупредить тебя об опасности. Скажи, сделала ли бы это твоя Гудруда?
— Гудруда не колдунья и не чародейка!
— А я чародейка и колдунья! И в это время, когда старый Атли думает, что я лежу подле него на нашем общем ложе, я здесь, у тебя, и говорю с тобой. Слушай же меня, вот что я проведала своим колдовством: эти люди, что связали тебя, придут сейчас и возьмут тебя спящего и твоего товарища тоже и бросят вас обоих в море.
— Чему суждено быть, то будет! — говорит он во сне.
— Нет, я этого не хочу, и этого не будет! — проговорила Сванхильда. — Напряги все свои силы и порви свои путы, развяжи Скаллагрима и дай ему его щит и секиру, а сам возьми свой меч и щит. Прилягте, как сейчас, и накройтесь плащами, притворившись спящими, пока не придут ваши убийцы. А потом вскочите и бросьтесь на них оба с оружием в руках; они смешаются и обратятся в бегство. Вы уничтожите их. Только за тем, чтобы сказать тебе все это и спасти тебя, я прошла многие сотни стадий по бурным волнам моря. Сделала ли бы это ради тебя Гудруда?.. — и видение Сванхильды снова склонилось над ним, уста ее коснулись его лба, легкий вздох вырвался из ее груди — и она исчезла.
Эйрик пробудился, разбудил Скаллагрима и рассказал ему свой сон.
— Это предостережение, государь мой, и мы должны все исполнить так, как призрак научил тебя!
Так они и сделали и поразили врагов своих всех до последнего; остались Эйрик и Скаллагрим одни на судне, а кругом лежали мертвецы и умирающие.
— К рулю! — крикнул Эйрик, видя, что судно кренится слишком сильно и может перевернуться каждую минуту, будучи предоставлено само себе.
С этого момента они оба беспрерывно чередовались у руля. Три дня и три ночи дул свежий ветер, море волновалось, опасность ежеминутно грозила им, а силы их заметно истощались. Волны заливали палубу, наполняли трюм, им приходилось выкачивать воду и тратить на это последние силы. А буря все крепчала, они не имели ни минуты отдыха, некогда было им есть и некогда спать. На четвертую ночь громадный вал подхватил «Ворона» и, высоко подняв его на свой гребень, разом уронил в глубокую бездну; все судно как бы содрогнулось и застонало.
— Кажется, я слышу, будто вода журчит под палубой, — сказал Скаллагрим, стоявший у руля.
Эйрик спустился вниз и, действительно, обнаружил сильную течь. Вода быстро прибывала в трюм. «Ворон» не мог теперь долго продержаться на поверхности. Не теряя времени, Эйрик заткнул трещину одеждами убитых, заткнул так плотно, как это мог сделать только он со своей громадной силой, и навалил на эти тряпки балласт, после чего вернулся на палубу и сказал обо всем Скаллагриму.
— Видно, пора нашим костям на покой! — отвечал тот. — Мы достаточно поработали. А впрочем, ветер стихает, да и берег теперь недалеко. Видишь там, под ветром темную линию холмов и между ними как будто устье фьорда? Правда, в трюме полно воды, и часы «Ворона» теперь сочтены, но если уцелела на нем хоть одна лодка, то мы спасены!
Эйрик пошел на корму судна. Там и вправду была привязана лодка, а в ней — весла и руль. Скаллагрим подоспел к нему на помощь, и они благополучно спустили лодку на воду. Эйрик первый спустился в нее, берсерк же задумал захватить с собой кое-что с гибнущего судна, которое теперь уже начинало тонуть, и до того замешкался, что чуть и сам не пошел ко дну вместе с судном.
Эйрик едва успел вовремя обрубить канат, чтобы лодку не увлекло за судном в глубину. На их глазах «Ворон», сначала медленно погружавшийся в воду, вдруг разом исчез под водой, образовав на поверхности моря бешеный водоворот, в котором беспомощно и безнадежно закружилась и заныряла маленькая лодочка. Теперь Эйрик и Скаллагрим принялись изо всех сил работать веслами и работали несколько часов кряду, почти до полного истощения. Наконец, вот он — желанный берег, по крайней мере можно будет умереть на суше! Вот луга, поля, вот сушится на ветру и на солнце белая треска, и в маленькой бухточке стоит на якоре длинное боевое судно.
— Да это «Гудруда»! — радостно воскликнул Эйрик.
— Она и есть! — согласился Скаллагрим. — Надо добраться до нее. Тогда я поговорю с этим предателем Холлем.
— Ты не тронешь его и не причинишь ему никакого вреда, — строго сказал Эйрик, — я здесь глава, и мне принадлежит право судить его!
— Твоя воля — моя воля, государь! Но будь моя воля — твоей волей, я повесил бы его на верхушке мачты и оставил бы там висеть до тех пор, пока морские птицы не вили бы гнезд в его остове!
На «Гудруде» или все спали, или же на ней не было ни души, когда Эйрик и Скаллагрим причалили к ней и осторожно взобрались на палубу.
Посредине, вокруг костра, спали все люди — и так крепко, что никто не слышал, как пришли сюда Эйрик и берсерк, как они присели к огню греться и стали поедать остатки ужина.
Но вот один из людей экипажа пробудился и увидел их; приняв их за
привидения, он поднял остальных, и все схватились за мечи, готовые обрушиться на пришельцев, но в этот момент Эйрик и Скаллагрим сбросили с себя плащи и заговорили. Тогда только воины убедились, что это не привидения, а сами Эйрик и берсерк. Эйрик спел им песню, в которой описал и предательский поступок Холля, и свои похождения на вражеском судне, и свою победу над врагом, и чудесное спасение.
XV. Как Эйрик пребывал в городе Лондоне
— Теперь слушайте, товарищи, — сказал Эйрик Светлоокий, — не клялись ли мы верно стоять друг за друга до самой смерти? Как назовете вы после этого человека, который отрезал якорный канат «Гудруды» и обрек нас двоих на верную смерть, предав в руки многочисленных врагов? Что должно сделать этому человеку? Скажите, товарищи, ваше слово!
— Смерть ему! Смерть! — послышалось со всех сторон.
— Ты слышишь общий приговор, Холль? Ты заслужил его, но я хочу быть более милостив к тебе и потому говорю тебе: уходи отсюда, чтобы никто из нас не видал больше твоего лица. Уходи, пока я не раскаялся еще в своем мягкосердечии!
И при громких, неприязненных криках своих бывших товарищей Холль взял свое оружие и, не сказав ни слова, сел в шлюпку, на которой только что прибыли Эйрик и Скаллагрим, и стал изо всех сил грести к берегу.
— Неразумно ты поступил, государь, что отпустил живым этого негодяя! — сказал Скаллагрим. — Он еще насолит тебе когда-нибудь.
— Ну, что делать! Быть может, ты и прав, но теперь дело сделано, и я пойду отдохну: я совсем выбился из сил.
Три дня и три ночи Эйрик и Скаллагрим отдыхали, а затем рассказали товарищам обо всем, что они сделали и что с ними было. И все дивились их мужеству и их славным деяниям, подобных которым не было со времен Богов-Королей.
После того отправился Эйрик к ярлу этих Фарерских островов, так как берег, к которому пристала «Гудруда», был берег главного из этих островов. Ярл принял его ласково и задал великий пир.
Здесь, на Фарерских островах, Эйрик пробыл, пока не поправились его раненые, и, забрав двенадцать новых людей взамен убитых во время битвы с судами Оспакара Чернозуба и простившись с ярлом, который подарил ему богатый плащ и тяжелый золотой обруч, отплыл от островов.
Никогда с тех пор, как поют скальды, не воспевалось таких славных подвигов, как подвиги Эйрика Светлоокого, никогда не бывало викинга более сильного, более великого, одно имя которого наводило страх и слава которого затмила славу всех остальных. Всюду, где Эйрик участвовал в битве, победа оставалась на его стороне; ярлы и короли искали у него помощи и содействия. О нем говорили, что он никогда не совершил ни одного низкого или позорного поступка, никогда не обижал слабого, никому, просившему у него пощады, не отказывал, никогда не поднимал меча на пленного или раненного врага, не нападал на беззащитного. У купцов он брал часть их товара, но вреда не причинял и все, что доставалось ему, делил поровну со своими людьми. Все люди любили его, смотря на него, как на бога; каждый из них был готов пожертвовать за него жизнью. Женщины тоже очень любили его, но он не глядел на них.
В первое лето своего изгнания Эйрик воевал у берегов Ирландии, а на зиму пришел в Дублин и некоторое время служил в телохранителях короля этого города, который держал его в большой чести и хотел, чтобы он совсем остался у него, но Эйрик не захотел — и весной «Гудруда» была готова к отплытию, направившись к берегам Англии. Здесь, в одном из сражений, Скаллагрим был ранен почти насмерть, кинувшись на Эйрика, которого он заслонил своим телом от удара, направленного на него, и спас его, но сам чуть не погиб. Несколько месяцев Скаллагрим лежал больной, и Эйрик ухаживал за ним, как за братом; с этого времени они полюбили друг друга, как двойники, и не разлучались ни на минуту, но другие-то Скаллагрима не любили.
Эйрик вошел в Темзу и явился в Лондон, приведя туда два судна викингов, которые он забрал в плен вместе с их владельцами. Он привел пленных к королю Эдмунду, Эдуардову сыну, прозванному Эдмундом Великолепным. Стал он в большой чести у короля.
Вместе с англичанами он участвовал и в походе на датчан, а на зиму со своими людьми вернулся в Лондон, оставаясь при короле. При дворе же королевском была одна красивая леди по имени Эльфрида. Как только увидела она Эйрика, полюбился он ей, как ни один мужчина ; ничего она на свете так не хотела, как стать его женой. Но Эйрик удалялся от нее, любя только одну Гудруду. Так прошла зима. Наступила весна, и тогда он снова ушел в море воевать и вернулся в Лондон только под осень.
Когда он возвращался, леди Эльфрида сидела у окна и кинула ему венок, сплетенный из цветов. Король при виде этого усмехнулся, заявив, что был бы рад такому родственнику, как Эйрик, и что лучшего мужа для леди Эльфриды он не желает.
Эйрик поклонился королю, но не сказал ни слова, а в ту же ночь спросил у Скаллагрима, скоро ли можно изготовить «Гудруду» к отплытию. Тот сказал ему, что дней через десять, но что теперь уже опасно выходить в море: время года уже позднее и зима близко.
Но Эйрик сказал ему:
— Я хочу зимовать на Фарерских островах: они ближе к нашей родине, а следующим летом минут три года моего изгнания, и я хочу поскорее вернуться в Исландию.
— В этом решении я вижу тень женщины, — сказал Скаллагрим, — поздно теперь идти в море. Лучше ранней весной плыть прямо в Исландию!
— Моя воля в том, чтобы идти в море теперь! — упрямо твердил Эйрик.
— Путь к Фарерским островам лежит мимо Оркней, а там сидит Коршун и ждет своей добычи. В сравнении с тем Коршуном леди Эльфрида просто голубка. Уходя от огня, мы можем попасть в полымя.
На другое утро Эйрик пошел к королю и просил его отпустить домой.
— Скажи мне, Светлоокий, разве я не был милостив к тебе? — спросил тот. — Почему же ты хочешь покинуть меня? Неужели ты не можешь считать себя дома в моем большом государстве?
— Нет, государь, я могу быть дома только у себя в Исландии! — сказал Эйрик.
Король разгневался и приказал ему уйти, куда хочет и когда хочет. Эйрик поклонился королю и ушел.
Спустя два дня после того Эйрик повстречал в королевском саду леди Эльфриду. У нее в руках были белые цветы, а сама она была прекрасна и бледна, как эти цветы.
— Говорят, — промолвила она, — ты покидаешь Англию, Светлоокий!
— То говорят правду! — ответил Эйрик.
— Зачем хочешь ты возвратиться в эту холодную страну льдов и снегов, в эту угрюмую, неприветную Исландию? Разве здесь, в Англии, нет уютного уголка для тебя?! — воскликнула она, заливаясь слезами.
— Там я дома, там моя родина, прекрасная леди! Там меня ждет старуха мать!
— И девушка по имени Гудруда Прекрасная, — добавила леди. — О, я знаю! Я знаю все, но говорю тебе, Светлоокий, не видать тебе счастья с нею. Много горя примешь ты из-за нее; здесь же, в Англии, счастье ожидает тебя!
— Все это может быть, леди, — сказал Эйрик, — дни мои текли бурно доселе; бури грозят и впереди, я это знаю. — Но жалкий тот человек, который боится бури и прячется от нее за печку, когда он молод и силен. Нет! Лучше погибнуть, чем быть таким жалким трусом! Ведь в конце концов все же должны погибнуть — и трусы, и герои!
— Да, Эйрик, может быть, в твоем безумии есть мудрость, но скажи мне, если бы то, к чему ты теперь стремишься, было уже холодно и мертво, когда ты возвратишься в Исландию, что тогда?
— Тогда я продолжал бы свой жизненный путь один, одинокий навек!
— Ну, а если то, к чему ты стремишься, отдалось другому и другой владеет твоим сокровищем?
— Если так, то я, быть может, возвращусь сюда, в Англию, и в этом самом саду буду просить нового свидания с вами!
И они посмотрели друг другу в глаза, и леди Эльфрида продолжала:
— Прощай, Эйрик, и будь счастлив! Дни приходят и проходят, и много места на свете всем. Но и тесно, и пусто тому, кто одинок. Когда ты уедешь, я буду одинока! — Она тихо отошла от него и скрылась в чаще сада.
Потом рассказывали об этой леди Эльфриде, что много знатных витязей и королей просили ее руки, желая взять ее себе в жены, но она не хотела, а когда состарилась, то построила великолепный храм, назвала его Эйрикмирк, по смерти же была похоронена в нем, но ничьей женой никогда не была.
XVI. Как Сванхильда побраталась с жабой
Через двое суток Эйрик сел на свое судно и собрался выйти в море, но только что хотел приказать ударить в весла, как на берег прибыл сам король с богатыми |^% дарами. Хоть гневен был король, но простился с Эйриком ласково, взяв обещание, что если тому не посчастливится в Исландии, то он снова вернется к нему. Эйрик обещал, затем снялся с якоря и вышел в море.
Поначалу погода стояла тихая, но на пятые сутки поднялась сильная буря, продолжавшаяся четыре дня и четыре ночи. Экипаж совсем выбился из сил, выкачивая воду, а та все прибывала. Да и пищи у них не хватало. Земли же нигде не было видно. Сам Эйрик и Скаллагрим не ели и не спали; все готовились к смерти; спасения неоткуда было ждать. Вдруг Скаллагрим услышал, будто волны пенятся, ударяясь о рифы, и сообщил о том Эйрику.
— Так и есть, — согласился тот, прислушиваясь к шуму волн, — теперь наша песенка спета: нам недолго ждать смерти!
— Смотри, государь, какое чудо, — воскликнул берсерк, — видал ли ты когда, чтобы туман шел против ветра, как сейчас?! Это, поверь, не без колдовства! Смотри, эта чародейка Сванхильда готовит нам западню!
В это самое время Сванхильда, жена Атли, сидела в своем высоком замке у окна, смотря в темную даль бурной ночи. Глаза ее горели во тьме, словно глаза кошки, губы шептали какие-то заклинания.
— Здесь ли ты, мерзкая жаба? Здесь ли ты?
— Здесь, Сванхильда Незнающая Отца, дочь колдуньи Гроа — здесь! Скажи, что тебе надо от меня?
— Явись мне, чтобы я могла увидеть отвратительный образ твой, увидеть тебя, мерзкое существо, к которому испытываю гадливость и отвращение, но в помощи которого нуждаюсь, явись ко мне!
И вот во мраке появилось светлое пятно, а в нем отвратительная, громадная жаба с мертвой головой, вокруг которой болтались седые космы волос, а в глазных впадинах ее тускло светились налитые кровью глаза с обвислыми веками. Эта мертвая голова была обтянута мертвенно-желтой кожей, как лицо покойника; черные лапы с громадными когтями поражали уродливостью. Чудовище захохотало зловещим, отвратительным смехом, проговорив:
— Ты называла меня серым волком, и я являлась к тебе в образе серого волка; называла меня крысой, я служила себе в образе крысы. Теперь назвала меня жабой, и под видом жабы я теперь ползаю около твоих ног. Скажи мне, чего ты хочешь от меня, а я скажу, какой ценой ты можешь купить мою услугу! Ты говоришь, что я гадка, страшна. Но вглядись поближе в мое лицо. Неужели ты не узнаешь его? Ведь это лицо матери твоей, умершей Гроа! Я взяла его у нее на том месте, где она теперь лежит, а это тело мое, — тело пятнистой жабы, — ведь это образ твоего собственного сердца, и ты не узнаешь его? И ты сама будешь даже отвратительнее меня, как и я была некогда прекраснее тебя!
Ужас охватил Сванхильду, и она хотела вскрикнуть, но голос замер у нее в горле.
— Так говори же скорее, чего ты хочешь от меня? — продолжала уродливая жаба.
И Сванхильда, собравшись с духом, сказала ей, что хочет, чтобы Эйрик, который находится теперь вблизи Оркнейских островов, не прошел мимо, но был выброшен на берег. Прежде чем забрезжит утро, пусть будет он здесь, в замке Атли, и станет ее возлюбленным, а Гудруда пусть раньше, чем настанет осень, станет невестой Оспакара.
— Прекрасно! — захохотала отвратительная жаба. — Пусть так, но только ты должна побрататься со мной и своей кровью запечатлеть наш союз. Ты должна стать тем, что я есть, должна мыкаться вместе со мной по свету, на гибель и горе всему, что не прибегает к нашей помощи, служа всем злым желаниям и дурным побуждениям людей, сея зло везде и повсюду. Ты станешь моей сестрой и неразлучной спутницей!
Дрожащая, бледная, с горящими безумными глазами Сванхильда согласилась на ее требования, согласилась на все и закрепила свою страшную клятву своей кровью.
Вдруг отвратительная жаба приняла образ и красоту Сванхильды, а Сванхильда с несказанным ужасом почувствовала, что превратилась в отвратительную жабу, ползающую по каменным плитам пола; в груди у нее клокотала ненависть и злоба ко всем людям.
Она увидела свой собственный образ на вершине утесов, с распростертыми руками, как бы в заклинании к небу и к морю.
Вдруг туман двинулся против ветра на море и стал застилать глаза Эйрику, ветер дул с бешеной силой, гибель судна казалась несомненной.
Эйрик сознавал, что спасения нет.
— Это колдовство и нечистая сила, — стоял на своем Скаллагрим. — Видишь там, в волнах, эту женскую фигуру, государь? Смотри, как ты думаешь, что это такое?
— Клянусь Одином! Эта женщина идет к нам по волнам! Это — Сванхильда, я ее узнаю! Вот она идет перед нашим судном, указывая вправо! Она уже раз спасла нас, последуем ее совету и на этот раз. Что ты на это скажешь? — спросил Эйрик.
— Я ничего не смею сказать тебе, господин, но не люблю колдовства и чародейства. Пусть будет по-твоему!
Между тем призрак продолжал скользить впереди судна, указывая то в ту, то в другую сторону, и Эйрик направлял руль согласно этим указаниям. Вдруг это видение вскинуло руки к небу и исчезло в волнах. В тот же момент «Гудруда» со всей силы наскочила на подводную скалу, пробив себе киль. Страшный оглушительный трест заглушил на минуту рев и вой ветра. Страшный вопль вырвался из-под палубы, где находились люди Эйрика. Смерть раскрыла над ними свою жадную пасть. Вода хлынула в щель и затопила весь трюм. Еще минута — и судно пойдет ко дну. Эйрик обхватил Скаллагрима вокруг пояса. Громадный вал подхватил их в тот момент, когда «Гудруда» разом пошла ко дну.
Что было дальше — не помнили ни тот ни другой.
Между тем отвратительная жаба в образе Сванхильды снова явилась перед ней и обменялась своим видом, снова став жабой, а Сванхильда — прекрасной Сванхильдой. На этом достойные сообщницы распрощались.
XVII. Как Асмунд женился на Унне, дочери Торода
Когда Эйрик покинул Исландию, то Гудруда сильно тосковала, но вскоре до нее дошли вести о нем. Говорили, что Оспакар Чернозуб преградил ему путь, напав на него с двумя большими боевыми судами, но Эйрик разбил одно судно и победил Оспакара. Но что сталось с другим судном Чернозуба и с «Гудрудой» Эйрика — осталось неизвестным. Полагали, что оба судна погибли в бурю, но Гудруда не верила тому: сердце ее говорило, что Эйрик не умер.
Между тем пришло время, когда Асмунд жрец хотел жениться на Унне, родственнице Эйрика Светлоокого, и задумал он дать по этому случаю великий пир. Гостей собралось так много, что пришлось справлять пир в Миддальгофе, так как на Кольдбеке не было места.
Накануне того дня, когда Асмунд должен был назвать Унну своей женой, все уже было готово к торжеству; гости начинали съезжаться со всех концов. Гроа хлопотала: она и готовила все для пира. С того самого времени, как она оправилась после болезни, Гроа была кротка и тиха и ни в чем не прекословила никому, не только Асмунду жрецу, а даже и Саву не, и Унне. Когда Асмунд жрец обходил горницы, где были накрыты столы, Гроа подошла к нему, тихонько спросив:
— Все ли тебе по душе, господин? Сумела ли я угодить тебе?
— Да, Гроа, но я боюсь, что тебе все это не по душе!
— Полно, господин, не думай об этом! Что тебе хорошо, хорошо и мне!
— Теперь скажи мне, Гроа, желаешь ли ты остаться в Миддальгофе и тогда, когда Унна станет здесь госпожой и хозяйкой, или желаешь, чтобы я отпустил тебя с честью и почетом?
— Нет, Асмунд, позволь мне служить тебе и после, как я служила до сего дня, если только на то воля Унны!
— Воля Унны, чтобы ты оставалась здесь и жила в почете! — сказал Асмунд и пошел вон из горницы.
Когда настала ночь и зажгли огни, Гроа поднялась со своего ложа и, окутавшись черным плащом, с корзиночкой на руке тихо вышла из замка, направившись на болото. Долго бродила она там, собирая травы и ядовитые коренья, затем вернулась в замок и за углом каменной ограды, куда никто не заглядывал и где было пусто и темно, подошла к человеку, который тут развел огонь из торфа, держа в руке чугунный котелок. Человек этот был Колль Полоумный. Гроа спросила его:
— Все у тебя готово?
— Да, госпожа, только не по душе мне то, что ты нынче затеяла! Скажи-ка, что ты задумала варить в этом горшке?
— Завтра, ты знаешь, свадьба Асмунда; он берет себе в жены Унну, и я хочу изготовить им любовный напиток по его просьбе.
— Много я делал для тебя дурных дел, но сдается мне, это хуже всех!
— Много я делала тебе доброго, Колль, и окажу тебе еще одно последнее благодеяние: я подарю тебе свободу и дам еще две сотни серебра, если ты и в этот раз сделаешь по-моему!
— Что же мне сделать, госпожа? — спросил Колль.
— Вот что: во время свадебного пира ты должен будешь разливать вина, меды и всякие напитки в чаши в то время, когда Асмунд будет провозглашать тосты. Когда все развеселятся, ты примешаешь этот напиток в ту чашу, над которой Асмунд будет произносить свои брачные клятвы Унне, и Унна — Асмунду. Наполнив чашу, вручишь ее мне; я буду стоять у подножия высоких седалищ в ожидании, когда настанет время приветствовать новобрачную от имени всех женщин-прислужниц. Тогда ты передашь мне эту чашу; ведь это сущий пустяк, о чем я прошу тебя.
— Действительно, пустяк! А все же мне это очень не нравится! Что если я скажу, что не согласен исполнить твою просьбу?
— Что тогда будет?! — воскликнула Гроа, позеленев от злобы. — Что тогда будет? А будет то, что не пройдет несколько дней, как вороны выклюют тебе глаза! Понял?
— А если я исполню, то когда получу обещанные две сотни серебра?
— Половину я дам тебе перед началом пира, а другую половину — когда он кончится! Сверх того, дам тебе полную свободу идти на все четыре стороны.
— Ну, так рассчитывай на меня! — сказал Колль и ушел.
А Гроа продолжала варить свои травы и, наконец, сняв горшок с огня, перелила отвар в склянку, которую спрятала у себя на груди, а огонь разбросала ногой и тихонько прокралась к своему ложу, где и легла прежде, чем люди успели проснуться.
Настал день свадьбы Асмунда сына Асмунда из Миддальгофа. За свадебным столом сидели на высоких седалищах Асмунд жрец и Унна, дочь Торода. Все думали, что она пригожая невеста и что Асмунд, хоть и насчитывал три раза по двадцать зим, был мужчина видный, красивый и сильный. Однако невесело сидел он на пиру, хоть и много пил он и вина, и медов, — ничто не веселило его: ему вспоминались слова Гудруды Милой, жены его, что быть несчастью и беде и ему, и всему его дому, если он будет иметь какое-нибудь дело с колдуньей Гроа; теперь ему казалось, что это предсказание должно сбыться. Казалось, Гроа смотрит на него и на Унну недобрыми глазами. Ему вспомнились ее страшные слова и проклятия перед ее болезнью. Все гости заметили, что Асмунд невесел. Но вот стал он возглашать тосты один за другим и мало-помалу развеселился. Пришла очередь и кубку невесты. Колль наполнил его, как наполнял до сих пор все кубки, но вместо того, чтобы подать его прямо Асмунду, передал Гроа, как было условлено, и, когда Асмунд потребовал кубок, Гроа как будто запнулась за свое длинное платье и на мгновенье прикрыла им золотую чашу невесты, но затем торопливо отдала ее Асмунду. Возгласив тост в честь новобрачной и повторив клятвы верности и любви, Асмунд отпил из кубка большой глоток и передал его Унне, жене своей, но прежде, чем та отпила из нее, он поцеловал ее в уста среди громких приветствий гостей. Унна с улыбкой поднесла чашу к губам и отпила из нее. В этот момент взгляд Асмунда упал на Гроа, и он увидел, что глаза ее горели, как раскаленные уголья, а лицо сделалось отвратительным от злорадного торжества.
Асмунд побелел, как снег, и, схватившись рукою за сердце, крикнул:
— Не пей, Унна! Не пей! Кубок отравлен! — И он выбил золотой кубок из рук новобрачной, так что тот откатился далеко на середину горницы. Но было уже поздно. Унна уже отпила и стала бела, как снег. Она молча опустилась на свое высокое седалище, а Асмунд воскликнул еще раз:
— Люди, питье это отравлено, и отравила его вот эта женщина, колдунья Гроа!
А та громко хохотала, видя муки Асмунда и Унны.
— Да, я отравила это питье, я, Гроа колдунья. Вырви теперь свое сердце из груди, Асмунд жрец, делайся белее снега, добродетельная Унна! Вашим брачным ложем будет ложе смерти!
И прежде, чем кто-либо успел вскочить и схватить ее, колдунья, как тень, проскользнула между пирующими и скрылась.
С минуту царила мертвая тишина. Затем Асмунд поднялся и с трудом произнес:
— Да, теперь я вижу, что всякий грех несет в себе свое проклятье, что это камень, который падает на голову того, кто его поднял. Гуд-руда Милая, чистая и непорочная супруга моя, завещала мне сторониться этой колдуньи — и вот плоды того, что я позабыл данную ей клятву. Унна, прощай! Прощай, дорогая супруга моя!
И Асмунд жрец упал и умер тут же, за брачным пиром, среди своих гостей, на высоком седалище, подле своей новобрачной супруги. А та смотрела на него, мертвенно бледная и скорбная, затем склонилась над ним и, поцеловав его в мертвые уста, громко вскрикнула и также упала мертвой.
С минуту в большой горнице царила мертвая тишина. Но вдруг Бьерн вскрикнул:
— Колдунья! Где колдунья?
С криком бешенства все устремились по следам Гроа, преследуя ее, как натравленные собаки преследуют зверя. Скоро погоня была уже на вершине холма, но колдунья всех опередила, спеша к реке и водопаду. Тут Бьерн натянул свой лук и спустил стрелу, которая пронзила ей сердце. С громким криком вскинула Гроа свои руки кверху и упала вниз, на Волчий клык, а оттуда — в водоворот.
Так кончила свое существование колдунья Гроа. Но так как она была колдунья, то злые силы ее могли действовать еще и после того.
Бьерн сын Асмунда стал хозяином и жрецом в Миддальгофе вместо своего отца. Это был человек жестокий, алчный до денег и до всякой наживы. Он стал принуждать Гудруду, сестру свою, идти замуж за Оспакара. Но Гудруда не соглашалась. Тут пришли вести, что Эйрик жив и зимовал в Ирландии. Гудруда словно расцвела от этих вестей и стала еще прекраснее, чем раньше. В это лето Оспакар Чернозуб встретился с Бьерном и долго беседовал с ним тайно.
XVIII. Как ярл Атли нашел Эйрика Светлоокого и Скаллагрима на скалистом побережье острова Страумея
Сванхильда в ночном одеянии подошла к ложу своего мужа Атли и, разбудив, сказала, что ей снился сон: здесь, на берегу в эту ночь разбилось большое судно и погибло много людей, но некоторых выкинуло на берег. Она посоветовала мужу, взяв людей, пойти спасать тех, кто остался жив.
Ярл послушался и, взяв много людей с фонарями, пошел сам на берег. Там он нашел обломки судна и много мертвых тел, а между скал Эйрика и Скаллагрима, которых волны выбросили на берег обнявшимися, как они обнялись, когда «Гудруда» пошла ко дну. С трудом разняв их (оба они были как мертвые) и положив на доски, их понесли в замок. Атли обещал тем, кто нес Эйрика, что он щедро наградит их. Эйрик был так тяжел, что восемь сильнейших людей Атли едва могли нести его. Добрый ярл боялся, что он уже умер. Однако, когда потерпевших крушение принесли в замок, Сванхильда, наклонившись над Эйриком, произнесла:
— Не горюй, ярл, Эйрик Светлоокий жив и будет жить, и тень его, Скаллагрим, тоже! — и она, отвязав его шлем и броню и отцепив его меч Молнии Свет от пояса, уложила его и Скаллагрима на шитые постели, накрыв теплыми покрывалами, а когда те пришли в себя, напоила их горячим медом.
Когда Эйрик узнал от Атли, что и судно его разбилось, и товарищи все до одного погибли, вздохнул тяжело, проговорив:
— Все это колдовство и нечистые силы! Лучше было бы и мне погибнуть, чем остаться в живых и слышать такие вести! А все это проклятое колдовство! — И он заснул крепким сном, проснувшись только тогда, когда солнце было уже высоко. Встав с постели, он пошел вместе со Скаллагримом на берег отыскивать своих погибших товарищей. Много нашли они мертвых тел, но живого ни одного. Сел Эйрик на одну из прибрежных скал и, закрыв лицо руками, горько заплакал над своими погибшими товарищами.
Между тем, пока Эйрик еще спал крепким сном, Атли пошел на свое ложе: была еще ночь. Сванхильда же отыскала Холля из Литдаля, который уже несколько месяцев жил в замке Атли, обманув ярла, что Эйрик оставил его на Фарерских островах оправляться от раны и что теперь он не знает, где отыскать Эйрика и не имеет судна, чтобы вернуться в Исландию. Поверил ему Атли и приютил его. Теперь Сванхильда сказала:
— Знаешь, Холль, кого спас в эту ночь старый Атли?
— Нет, госпожа.
— Эйрика Светлоокого и его неразлучную тень Скаллагрима Овечий Хвост.
— И оба они живы? — спросил со страхом Холль.
— Да, и, верно, рады будут увидеть старого товарища после того, как столько их погибло здесь!
— Ну, я так вовсе тому не рад! — угрюмо сказал Холль.
— Уж не боишься ли ты Скаллагрима? Или ты поступил нехорошо против Светлоокого?
Тогда Холль рассказал Сванхильде все, что было, только не совсем так, как было, стараясь скрасить свой поступок и уменьшить свою вину. Но Сванхильду трудно было обмануть, она угадала все, что утаил от нее Холль, и сказала:
— Правда, не добро тебе встречаться со Скаллагримом. Не такой он человек, чтобы помиловать того, против кого он имеет на сердце. Уезжай ты отсюда, Холль, пока никто еще не проснулся. Есть у Атли земля в Исландии, поезжай туда; я и человека тебе дам, и судно, и денег на дорогу. А когда мне понадобится от тебя услуга, так ты сделаешь то, что я прикажу тебе. А теперь ступай себе, да готовься в путь. Видишь, буря стихла, и теперь немного дней будет тихо и ясно. Мой приказ ты передашь тому человеку, что теперь управляет землею Атли, он приютит тебя там.
Когда Эйрик, сидя на скале, плакал о своих погибших товарищах, к нему подошла Сванхильда, тихонько прокравшаяся за ним из замка, и ласково проговорила:
— Не плачь об умерших, а пожалей лучше живых. Возрадуйся, что ты здесь жив и невредим. Скажи мне хоть слово привета, мне, которая столько лун не слыхала звука твоего голоса!
— Как мне приветствовать тебя, Сванхильда, — отвечал герой, — когда я желал бы никогда не видеть твоего лица! Ты — колдунья, и много зла произошло через тебя.
— Много зла! Ты помнишь только зло! Почему же не помнишь, что вчера я послала Атли искать тебя в скалах на берегу и еще раз спасла тебя в море?! Забудь то зло, Эйрик, меня толкала на него безумная любовь моя к тебе. Теперь все иначе: я — жена Атли, и верная ему жена. Моя любовь к тебе стала любовью сестры к брату.
Эйрик почти поверил ей, хотя и заметил:
— Если ты не изменишься, то пока я буду здесь, мы будем жить в мире, хотя я не люблю тех, кто занимается колдовством — ко злу или благу людей, все равно: в колдовстве нет добра!
Она ничего не сказала, а только тихо коснулась его руки и хотела уйти, но Эйрик остановил ее, спросив, нет ли у нее каких вестей из Исландии.
— Есть, только боюсь, что эти вести недобрые для тебя, Эйрик!
— Говори скорее! — просил он.
— Отец мой Асмунд умер; Гроа, мать моя, тоже, но как или почему, не знаю. А недавно Гудруда Прекрасная, твоя помолвленная невеста, помолвлена с Оспакаром Чернозубом и весной станет его женой. Только ты не огорчайся этим, это ведь только слух. Мне самой не верится, чтобы Гудруда забыла тебя и согласилась стать женой Оспакара без особой причины.
— Плохо будет Оспакару, если только это правда! Ведь Молнии Свет еще в моих руках! — сказал Эйрик, побледнев.
— И еще одну новость скажу тебе, — продолжала Сванхильда, — Холль из Литдаля был здесь до сего утра. Сегодня он ушел отсюда неизвестно куда и оставил весть, что больше сюда не вернется.
— И хорошо сделал, что ушел, — молвил Эйрик, рассказав о поступке Холля.
— Да, знай об этом Атли, он велел бы палками прогнать его отсюда, — проговорила Сванхильда. — Но скажи мне, Эйрик, почему ты носишь такие длинные волосы, как у женщины?
— Потому, — отвечал Эйрик, — что я поклялся Гудруде, что ни одна рука не коснется моих волос до тех пор, пока я не вернусь к ней. Хотя волосы эти мне обуза и мешают в бою, — раз даже меня схватил один воин за волосы, и я чуть было не лишился жизни через это, — но все же, если бы даже они выросли у меня до пят, я не нарушил бы своей клятвы!
Сванхильда усмехнулась и решила в сердце своем, что раньше, чем вернется весна, она заставит его своими хитростями и уловками изменить данному Гудруде обещанию и своею рукой срежет хоть один локон этих золотых волос его, а затем отошлет его Гудруде.
Сванхильда давно уже ушла, а Эйрик все еще сидел, раздумывая о том, что узнал от нее. Она заронила в душу его зерно подозрения, уже начавшее пускать корни. «Что если правда, что Гудруда помолвлена с Чернозубом? О, если так, то она скоро станет вдовою!» — решил он и с таким решением угрюмо побрел в замок.
XIX. Как Колль Полоумный принес весть из Исландии
Когда Эйрик шел в замок, ему встретился Атли. Старый герой стал его просить, чтобы он остался у него хоть на зиму в его замке на острове Страумей. Эйрик долго не соглашался. Наконец убедительная просьба Атли заставила его изменить свое первоначальное решение. Сванхильда все это время была ласкова с ним, но не докучала своей любовью.
Когда пришла весна, Атли стал просить Эйрика помочь ему вместе с Скаллагримом одолеть одного врага, могучего и сильного вождя, который захватил часть его земель. Эйрик согласился. Они сели на суда.
Много славных подвигов совершил Эйрик и от всех был прославляем, а Скаллагрим в одной схватке убил недруга Атли и тем положил конец распре. Атли вернулся с торжеством и победой из этого похода, но Эйрик был тяжело ранен в ногу и не мог сесть на коня, не мог подняться на ноги. Его несли на носилках десять дюжих людей. Много недель пролежал герой больной в замке Атли; Скаллагрим, Сванхильда и сам Атли без устали ходили за ним. Наконец, когда стал он поправляться, пришло время Атли ехать собирать
екать (то есть подати). Ярл взял с собой всех своих людей, а также и Скаллагрима, Эйрик же был еще слаб и потому остался в замке. С ним оставались только женщины во главе со Сванхильдой.
В этот день ей доложили, что пришел c ней человек из Исландии с вестями. Она приказал позвать его. Человек этот был Колль, бывший тралль ее матери, колдуньи Гроа. Он рассказал ей, как умерли Асмунд жрец и новобрачная жена его Унна, дочь Торода, как умерла Гроа колдунья, его госпожа.
— А Гудруда? — спросила его Сванхильда.
— О ней, госпожа, ходил слух, будто ее сватал Оспакар Чернозуб, но о свадьбе и помина не было!
— Слушай, Колль, я вижу, что ты голоден, да и кошель твой не туго набит деньгами, добрая похлебка и горсть-другая серебра тебе не лишни. Слушай же! Не трудно тебе, я думаю, покривить душой и сказать Эйрику Светлоокому, поклясться даже, если будет нужно, что Гудруда Прекрасная уже стала женою Оспакара Чернозуба и что свадьба их была назначена на минувший праздник Юуль. Если ты этого не сделаешь, то убирайся отсюда, куда хочешь, ни крова, ни похлебки, ни ломаного гроша я тебе не дам!
Колль славился тем, что второго такого лжеца не было во всей Исландии, и сказать ложь ему ровно ничего не стоило.
— Сделать это я, конечно, могу, если ты поможешь мне каким-нибудь советом, — сказал Колль.
После этого Сванхильда долго тайно беседовала с Коллем Полоумным, затем велела призвать Эйрика.
Тот, придя к ней, застал ее в слезах. Притворщица сообщила, что пришли дурные вести из Исландии, что мать ее, Гроа, отравила отца ее, Асмунда жреца, и Унну, жену его, во время брачного их пира, а Бьерн убил ее, когда она стояла над обрывом Золотого водопада, где чуть было не погиб Эйрик.
— Ну, а какие вести о Гудруде? — спросил Эйрик.
— Она стала женою Оспакара, — сказала Сванхильда. — Так сообщил Колль, сейчас прибывший сюда!
— Врет он, этот Колль! — воскликнул Эйрик, вскочив на ноги и хватаясь за стену, чтобы не упасть. — Где он? Позвать его сюда!
Когда тот пришел, Эйрик стал расспрашивать его и долго не верил ему, пока слуга не сказал ему, что сама Гудруда поручила ему передать Эйрику, что брат принудил ее идти за Чернозуба и что она теперь возвращает ему его слово и просит простить ее, что хотя она жена Оспакара, но никогда не забудет Эйрика и всегда будет любить его. В подтверждение слов своих она дала ему, Коллю, вот эту вещицу и просила передать ее Эйрику.
С этими словами Колль достал из своего кожаного кошелька половину старинной золотой монеты и вручил ее Эйрику со словами:
— Вот это она дала мне, чтобы я отдал тебе!
Эту золотую монету Эйрик еще ребенком нашел, играя вместе с ней на берегу, и тогда же разломил ее пополам; с того времени они оба носили этот талисман у себя на груди. Но в последние годы, незадолго до изгнания Эйрика, Гудруда потеряла свою половину и из боязни огорчить своего возлюбленного ничего не сказала ему об этом. Впрочем, она даже и не потеряла талисмана, а Сванхильда однажды ночью, во время ее сна, украла его у нее и с тех пор постоянно хранила у себя.
Теперь настал момент, когда этот обломок монеты мог сослужить ей службу. И она дала его Коллю во время тайной беседы своей с ним.
Эйрик схватил этот предмет из руки Колля и, выдернув у себя с груди вторую половину, приложил; обе половины как раз пришлись одна к другой. Эта мнимая очевидность, этот любовный талисман в руках постороннего человека помутили рассудок Эйрика; он громко захохотал.
— Быть кровопролитию! — воскликнул он. — Еще не так скоро эта песня будет допета до конца. Вот, на тебе! Это твоя награда, ворон, за то, что, будучи лжецом, ты раз сказал правду! — И Эйрик швырнул оба обломка золотой монеты.
Колль подобрал золото и вышел, а Эйрик опустился на скамью и, свесив голову на руки, глухо стонал. Тихонько подкралась к нему Сванхильда, тихонько прижалась к его плечу и тихим, ласковым голосом молвила:
— Тяжелые вести, Эйрик. Тяжелые и печальные и для тебя, и для меня… Та, что родила меня, — убийца и отравительница, убийца моего отца, а Гудруда — изменница, прекрасная, но лживая. Плохо, что я родилась от такой женщины, и плохо, что ты отдал свое сердце и доверился такой девушке. Оба мы несчастные теперь, давай же плакать вместе! — и голос ее, тихий и вкрадчивый, звучал, как музыка.
— Нет! — воскликнул Эйрик, вскочив на ноги. — Нет, зачем нам плакать? Давай веселиться вместе: теперь нам нечего уже бояться дурных вестей. Мы испили самую горечь чаши, и потому давай веселиться!
— Да! Смехом мы заглушим свое горе! Безумный ты, Эйрик, под какой несчастливой звездой ты родился, что не умел отличить правды от лжи, искренности от обмана, и теперь ты наказан за это. Но не горюй, давай смеяться и веселиться, как ты сказал! — И она, позвав женщин, приказала принести яств и вина, и меду. Они стали пировать и веселиться. Эйрик старался делать вид, что ест, но кусок не шел ему в горло, зато пил он очень много в эту ночь, а южные вина были крепки. Сванхильда сидела близко, близко к нему, с горящими глазами, распевая разные песни. Что-то словно огнем распалило мозг Эйрика. Он громко смеялся и хвастал своими подвигами, чего прежде никогда не делал. Между тем Сванхильда все ближе и ближе придвигалась к нему. Вдруг Эйрик вспомнил о друге своем Атли, и голова его сразу отрезвилась.
— Нет, Сванхильда, этого не должно быть, — проговорил он, отстраняя ее от себя, — теперь ты чужая жена! Но я жалею, что не полюбил тебя с самого начала: ты все же лучше Гудруды и не изменила бы мне!
— Да, Эйрик, ты прав! Надо было сразу уметь отличить истину от обмана; теперь же все равно, все уже сказано, и все клятвы нарушены! Уходи отсюда, Эйрик, не то быть беде! Но прежде выпей вот эту чару на прощание; ведь для нас лучше не видеться больше с тобой! — Иона подала ему чару, куда незаметно влила любовный напиток, уже заранее приготовленный ею.
— Прежде чем ты возьмешь эту прощальную чару, Эйрик, — продолжала коварная женщина, — я хочу, чтобы ты исполнил одно мое желание. Это просто женский каприз, но мне это будет отрадой на весь остаток дней моих, дай мне срезать одну только прядь твоих золотых кудрей!
— Я поклялся Гудруде, что никто, кроме нее, не дотронется до моих волос! — отговаривался было Эйрик.
— В таком случае они отрастут у тебя длиннее пят; она ведь теперь не будет больше стричь их, ее руки расчесывают теперь черные кудри Оспакара, и ей нет дела до твоих золотых кудрей. Забыты все обещания! Нарушены все клятвы!
Эйрик глухо застонал.
— Да, — сказал он, — все клятвы нарушены! Исполни свое желание, Сванхильда! — и он подал ей свой драгоценный меч Молнии Свет.
Сванхильда с недоброй улыбкой взяла в руки прядь золотых кудрей Эйрика и отрезала ее мечом.
Герой молча взял у нее меч и вложил в ножны, она же спрятала золотую прядь у себя на груди.
— Ну, а теперь пей чару и уходи! — сказала она; он послушно выпил до дна, и вдруг все переменилось у него в глазах: кровь закипела в нем ключом, и перед глазами заходили точно огненные волны. Сванхильда стояла перед ним точно в сиянии; ему казалось, что она поет сладкие песни, что от нее веет ароматом родных лугов, шепча:
— Все клятвы нарушены, Эйрик, все! А теперь надо давать новые клятвы! Срезаны твои золотые кудри — и срезаны не рукой Гудруды!..
XX. Как Эйрик получил новое прозвище
Эйрику снился сон, что перед ним стоит Гудруда, печально говоря: «Дурно ты сделал, Эйрик, что усомнился во мне, что нарушил данную мне клятву. Теперь ты навлек позор на свою голову, и не смыть тебе этого стыда и позора вовек. Когда ты дал Сванхильде срезать свои кудри, мой дух, всегда охранявший тебя от зла, отлетел от тебя, предоставил тебя Сванхильде».
Эйрик проснулся. Ему показался этот сон справедливым. Но он думал, что все, происходившее с ним накануне, было только сном, пока, раскрыв глаза, не увидел рядом с собой Сванхильду, жену Атли. Тогда его охватили ужас и чувство такой ненависти к этой женщине, что, будь у него Молнии Свет, он, кажется, убил бы ее. Но меч его остался наверху, в тереме Сванхильды. Эйрик громко застонал. Его стон разбудил Сванхильду, она повернулась к нему лицом. Он же вскочил, как ужаленный, и стал проклинать ее и ее колдовство.
— Слушай, Эйрик, — отвечала хитрая женщина, — все, что тут было, останется между нами, никто не узнает о том. Атли стар, и чует мое сердце, что он долго не проживет. А так как мы бездетны, то и все герцогство и все наследие его перейдет ко мне. Тогда ты займешь с честью и почетом его место и открыто назовешься женихом его вдовы.
— Верно, — проговорил ядовито Эйрик, — ты достаточно зла, чтобы убить своего мужа и господина. Но знай, что лучше я буду последним нищим и буду ходить, побираясь, из двора во двор, чем сяду здесь рядом с тобою на место бедного Атли! Пусть лучше сгниют мои губы, чем коснутся еще раз твоего лица, пусть с корнем вырвут мой язык и я буду нем навек, чем он произнесет хоть одно слово любви к тебе, пусть лучше вытекут мои глаза и я буду слеп до конца дней моих, чем взгляну хоть раз по своей воле на твое мерзкое лицо. Проклинаю тебя за все прошлое и за настоящее и проклинаю тебя и впредь, навсегда! Слышишь? А теперь прощай! Не дай нам судьба больше встречаться с тобой ни живыми, ни мертвыми!
— Не так-то легко мы с тобою расстанемся, Эйрик! — крикнула Сванхильда, вскочив теперь, в свою очередь, на ноги и заграждая ему дорогу. — Безумный, ты, видно, не знаешь, что нет врага ужаснее оскорбленной женщины! Разве затем я предалась колдовству, затем приняла позор, чтобы слышать от тебя одни проклятия?! Помни, что это лишь начало сказки. Я допишу ее до конца кровавыми словами и буквами! Ты не забудешь меня!
— Не угрожай! Хуже того, что ты уже сделала, ты не можешь сделать ничего! — сказал Эйрик и с этими словами вышел вон.
С минуту Сванхильда стояла как окаменелая, затем, заломив руки, громко зарыдала от отчаяния и злобы.
— И ради этого я предала себя нечистой силе, ради этого стала колдуньей и лиходейкой! Нет, погоди, Эйрик, если нет для меня отрады в любви, то есть наслаждение в мести! Погоди, я расскажу Атли такую сказку, что увижу тебя мертвым у моих ног, да и Гудруду твою Прекрасную тоже. А там пусть все сгниет и пропадет в вечном мраке… Но мне надо спешить, чтобы опередить Эйрика, чтобы Атли услышал мою сказку раньше, чем Эйрик успеет покаяться ему во всем!
Между тем Эйрик прошел в терем Сванхильды, взял там свой меч, опоясался им, надел шлем и броню и в полном вооружении вышел во двор замка, сказав женщинам, работавшим во дворе, что он пойдет к морю на то место берега, где разбилось его судно, что если Атли, вернувшись, спросит о нем, то пусть скажут ему, где его найти. Так сказал Эйрик, так как на это утро ожидали возвращения Атли.
Придя к тому месту, куда его выкинуло бурей на берег, Эйрик сел на скалу и стал смотреть вдаль на море. Его грызла тоска и мучил стыд.
Между тем Сванхильда, призвав Колля Полоумного, долго тайно беседовала с ним, наконец, приказала, как только вернется Атли, призвать его к ней. Когда Атли вернулся, то сейчас спросил об Эйрике, но ему сказали, что он ушел из замка к морю. Тогда Атли пошел к жене и застал ее в слезах и отчаянии. Она рассказала ему все, что хотела рассказать о поступке Эйрика, и рассказала так, как того хотела. Не поверил сначала старый Атли, но она призвала Колля в свидетели. Тогда ярл поверил, побелев от гнева; вся кровь застыла в нем от сознания своего позора. Вскипел он гневом и, призвав своих людей, отправился на берег. Но Скаллагрим пошел раньше его. Эйрик передал ему, что было. Не мог удержаться Скаллагрим от упрека:
— Вот видишь, лучше было нам оставаться в Лондоне, как я тебе говорил! Ты бежал от огня и попал в полымя.
— Правда твоя! Теперь я хочу повидать Атли, поговорить с ним и затем уйду отсюда навсегда.
— Уйдем вместе! — угрюмо сказал берсерк. — Но остер ли твой меч?
Вдруг увидел Эйрик, что Атли идет к нему и с ним человек десять из его людей. Герой поднялся к нему навстречу.
— Как видно, ярлу уже известно об этом деле! — сказал берсерк. — Я это вижу по его лицу.
— Тем лучше, — отозвался Эйрик, — мне не надо будет рассказывать ему!
— Низкий обольститель беззащитных женщин! — крикнул ему Атли. — Защищайся! — И он взмахнул мечом перед глазами Эйрика.
— Нет, Атли, — проговорил Эйрик, — ты стар, и я виноват перед тобой, хотя и не знаю ничего о том, что ты сейчас сказал. Я не стану защищаться! С тобою десять твоих людей; пусть они нападут и убьют меня,
против них я готов защищаться, ты же отойди в сторону!
— Нет, — крикнул ярл, — позор — мой, и я поклялся Сванхильде смыть его твоей кровью. Слышишь, защищайся, если ты не трус и не низкий человек!
Эйрик поневоле поднял свой меч и взял свой щит. Атли нанес ему удар со всего размаха обеими руками. Эйрик принял удар на щит и остался невредим, но сам не возвратил удара.
Тогда Атли опустил свой меч.
— Я еще не дожил до того, чтобы убивать человека, который настолько слабодушен, что не может отвечать ударом на удар! Возьмите вы, люди, свои колья и гоните этого труса к берегу, к тому месту, где есть лодки, загоните его в лодку и отпихните от берега! — И Атли повернулся спиной к Эйрику.
Такого посрамления не могла вынести гордость Светлоокого. Вся кровь бросилась ему в голову, и он сказал:
— Возьми свой щит и защищайся, ярл, если уж ты непременно этого хочешь. Но пусть кровь твоя падет на тебя же самого: не может оставаться в живых человек, назвавший Эйрика низким трусом!
Атли надменно засмеялся и еще раз занес меч на Эйрика. Тот парировал удар Молнии Светом и затем сам в свою очередь нанес удар, один только удар, но Молнии Свет рассек щит и, отрубив руку, державшую щит, глубоко вонзился в грудь старого Атли. Пошатнулся ярл и без стона упал, обливаясь кровью, на скалы. А Эйрик стоял, опершись на свой меч и смотря на него, и сердце его ныло от боли.
— Ну, Атли, ты сам того хотел! — проговорил Эйрик. — Мне теперь стало еще хуже, чем было. Я исполнил твою волю, и вот что скажу тебе теперь: лучше бы я убил своего отца, чем тебя, Атли! Все это дело рук Сванхильды! Клянусь в этом тебе: не было моей воли причинить тебе обиду или огорчение!
Атли взглянул в печальное лицо Эйрика и в его ясные, правдивые глаза, и гнев его разом спал; все стало ясно старому ярлу.
— Эйрик, — сказал он, — подойди ближе и расскажи мне все, как было! Я начинаю думать теперь, что меня обманули, что ты не сделал того, что сказала про тебя Сванхильда, а Колль засвидетельствовал.
— Что же они сказали тебе, Атли? — спросил Эйрик. И Атли рассказал ему все.
— Никогда этого, Атли, и в мыслях моих не было, в том я готов тебе поклясться! — И Эйрик сообщил ярлу всю правду, без всякой утайки.
Атли громко застонал.
— Теперь я знаю, Эйрик, что ты говоришь правду и что она оболгала тебя. Я прощаю тебя, зная, что ни один человек не может бороться против женской хитрости, коварства и колдовства. Но, хотя ты согрешил и против своей воли, да падет на тебя проклятие за то, что ты нарушил свою клятву. Это проклятие толкнет тебя в могилу, и не уйдешь ты до самой смерти своей от Сванхильды: ты теперь связан с нею навек! — Атли смолк на время, затем продолжал уже слабеющим голосом.
— Слушайте, товарищи, — обратился он к своим людям, — поклянитесь мне все сейчас же, что вы дадите Эйрику и Скаллагриму беспрепятственно уехать отсюда на одном из моих судов, которое я дарю Светлоокому. Затем скажите Сванхильде, дочери Гроа колдуньи, что я проклинаю ее в свой последний час, зная, что она — моя убийца, что она опутала и оклеветала Эйрика, которого я прощаю. Клянитесь, что вы убьете Колля Полоумного, тралля Гроа, и что не будете искать кровавой мести за мою смерть против Эйрика: я сам вынудил его поднять на меня меч. Клянитесь!
— Клянемся! — отвечали все.
— Теперь прощайте, товарищи, прощай и ты, Эйрик Светлоокий, но помни, что с этого дня тебя будут звать не Светлоокий, как до сих пор, а Эйрик Несчастливый: несчастнее тебя не будет человека! И много люди будут рассказывать о тебе, многие годы будут петь скальды. На, возьми мою руку и держи ее в своей, пока не закатится свет очей моих… Прощай!
Голова Атли упала на холодную скалу, и он умер. Последние лучи солнца погасли на небе; кругом все разом померкло.
XXI. Как Холль из Литдаля принес вести в Исландию
В ту самую ночь, когда Атли был убит Эйриком, Сванхильда вызвала Холля из его убежища и приказала I ему поутру отправиться в Исландию, чтобы там разнести молву о проступке Эйрика, о том, как он убил опозоренного им старого Атли Добросердечного, наконец, как он вскоре станет мужем Сванхильды.
— Когда эти вести дойдут до Гудруды Прекрасной и она призовет тебя, — добавила Сванхильда, — то ты повторишь это, затем передашь вот этот полотняный мешочек, прибавив, чтобы она вспомнила клятву, данную ей Эйриком во время его отъезда!
Вслед за тем Сванхильда одарила Холля, дала денег на путевые издержки и прибавила, что вскоре и сама приедет в Исландию — узнает, хорошо ли он исполнил ее поручение.
Послушный Холль уехал и все сделал по желанию своей госпожи.
Между тем Эйрик, увидев, что слуги Атли унесли тело его в замок, в раздумье стал спрашивать у своего верного товарища, что теперь делать. Наконец он решил переправиться на Фарерские острова и пробыть там, пока не настанет время и не встретится случай вернуться в Исландию. Теперь время его изгнания близилось уже к концу.
Так и сделали, но на этот раз Скаллагрим и Эйрик поселились не в княжеском замке, а в хижине одного поселянина: князь этой страны, услыхав о проступке Эйрика и будучи другом покойного, гневался на того, тем более, что он был теперь человек бедный, не имел ни судна, ни имущества, ни своих людей.
Друзья пробыли с месяц на Фарерских островах, затем сели на проходившее судно, направлявшееся в Исландию, заплатив за свой проезд одним из золотых обручей, которыми наградил Эйрика король английский.
А в замке Атли происходила печальная церемония: Сванхильда вышла навстречу покойнику и горько плакала над ним. Когда же старший из свиты Атли передал ей последние слова ярла, притворщица сказала:
— Господин мой и супруг был не в памяти от потери крови, когда говорил это; напротив, все, что я сказала ему, была правда, а этот Эйрик налгал ему, чтобы опозорить меня еще больше!
Затем, помня клятву, которую они дали своему господину, люди Атли погнались за Коллем Полоумным, чтобы убить его, но тот бежал от них; и до того был велик страх его перед мечами, что он бросился вниз с обрыва и разбился о скалы, в жестоких муках испустив последний вздох на глазах своих преследователей.
Так покончил свою жизнь Колль Полоумный, тралль колдуньи Гроа.
Шесть недель Сванхильда просидела на острове Страумей, принимая в свои руки наследие Атли. Затем снарядила военный корабль, нагрузила его всяким добром и, посадив наместников на время своего отсутствия в Оркнейских островах, отправилась в Исландию, как бы для того, чтобы возбудить там дело о преследовании и кровавой мести Эйрику за убийство Атли. Она прибыли в Исландию как раз в то время, когда все съезжались на альтинг.
Между тем Холль давно уже приехал в Исландию и повсюду распускал слухи об Эйрике так, как ему наказала Сванхильда. Дошли эти слухи и до Бьерна сына Асмунда. Он призвал к себе Холля и, порасспросив его, пошел вместе с ним к сестре своей Гудруде, которая в это время сидела у окна за прялкой.
— Вот, сестрица, человек, который привез вести об Эйрике Светлооком. Расспроси его сама, — проговорил Бьерн.
— Недобрые у меня вести, госпожа, — сказал Холль, — нет охоты и сказывать их тебе!
Гудруда стала настаивать.
Тогда Холль передал, как «Гудруда» разбилась у Страумея и как Эйрик целую зиму сидел там в замке старого Атли и, наконец, стал возлюбленным Сванхильды, как об этом узнал Атли и вызвал оскорбителя на поединок, но Эйрик убил его.
— Что же, — проговорила Гудруда, — все это может быть: Сванхильда красива и притом колдунья; очень возможно, что она вовлекла Эйрика в свои сети и навлекла на него беду. Но дурно, что Эйрик поднял меч на Атли, хотя, может быть, он был вынужден к тому необходимостью — защищать свою жизнь!
Затем Холль сообщил, что видел Сванхильду перед самым своим отъездом в Исландию, и она сказала ему, что вскоре станет женою Эйрика и что Эйрик будет вместе с нею управлять Оркнейскими островами.
— И это весь твой сказ? — спросила Гудруда.
— Да, весь! Да вот еще это поручила мне Сванхильда передать тебе, напомнив при этом одну клятву Эйрика, когда он прощался с тобою! — И Холль, достав из-за пазухи холщовый мешочек, передал его Гудруде.
Та не сразу решилась развязать его, но когда развязала, и на колени ей выпала прядь золотистых кудрей Эйрика, она сразу узнала их, но все же спросила:
— Чьи это волосы?
— Это волосы Эйрика Светлоокого, которые обрезала ему Сванхильда его славным мечом Молнии Светом!
Тогда Гудруда достала у себя на груди маленькую ладанку, вынула из нее другую прядь золотых кудрей и сравнила обе пряди между собой.
В горнице горел огонь на очаге: день был холодный. Не сказав ни слова более, Гудруда подошла к огню и, подержав над ним с минуту обе пряди, бросила их в огонь, затем вдруг громко вскрикнула и, заломив руки, выбежала из горницы.
— Знаешь, Холль, — заметил тогда Бьерн послу, — лучше тебе убраться отсюда: ведь если ты сказал хоть одно слово лжи, то тебе не быть живому, когда Эйрик вернется в Исландию.
Холль вспомнил Скаллагрима, и мороз пробежал у него по коже: он знал, что тот шутить не любит.
В тот же день Гудруда заявила своему брату, что если он желает, чтобы она стала женою Оспакара, то пусть он призовет его в Миддальгоф, когда станут разъезжаться с собрания; что тогда он уедет не один отсюда.
Обрадованный Бьерн обещал все исполнить по желанию сестры.
XXII. Как Эйрик Светлоокий вернулся на родину
Сванхильда благополучно прибыла в Исландию, но пристала не у Западных островов, а у мыса Рейкьянесс и отправилась прямо туда, где все люди съехались на собрание, причем нарядилась в лучший убор, делавший ее еще прекраснее. На собрании она обратилась к Оспакару с просьбой оказать содействие в судебном деле, которое она намеревалась возбудить против Эйрика за убийство супруга ее, ярла Атли Добросердечного.
Дело ее взял на себя сын Оспакара Гицур Законник, искуснее которого не было в Исландии. Тот, как увидел ее, не мог отвести глаз от ее лица и согласился сделать для нее все, что она хотела. А она хотела, чтобы Эйрика объявили вне закона, а земли и имущество его разделили между нею и его поселянами. После этого возвратилась она на свою стоянку, и на сердце у нее было весело.
На собрании всех свободных людей Исландии Гицур выставил обвинение против Эйрика и, благодаря своему красноречию и многочисленным сторонникам Оспакара, Эйрика осудили заочно, вопреки законам, без защитника, не выслушав оправданий. Его объявили снова вне закона, но уже на вечные времена, а земли поделили и отдали половину Сванхильде, а половину поселянам, жившим на его земле.
Когда стали разъезжаться с альтинга, поехали Бьерн, Оспакар и Гицур со всеми своими людьми в Миддальгоф. Сванхильда же села на свой корабль и морем отправилась к Западным островам, а оттуда хотела проехать на Кольдбек и водвориться там, пока не вернется Эйрик в Исландию: она хотела посмотреть, что тогда будет.
Оспакар между тем приехал в Миддальгоф, где его встретила Гудруда, гордая и бледная; холоден, хотя и вежлив, был привет ее.
В тот день в Миддальгофе был большой пир. Во время его Гудруде рассказали, как осудили Эйрика.
Девушка заметила:
— Дурное это дело — судить человека за глаза и не по закону!
— Да ведь, и ты, сестра, осудила его за глаза, — шепнул ей на это Бьерн, и слова эти глубоко запали ей в сердце. В душе девушки в первый раз проснулось подозрение, что не так, может быть, виноват перед нею Эйрик, как ей это казалось раньше. Она сообразила, что осудили его по требованию Сванхильды, вдовы Атли. Но если Эйрик должен вскоре стать ее мужем, то зачем было ей возбуждать против него дело, зачем позорить его и объявлять всем, что он станет вскоре ее мужем? Но теперь уже было поздно: Гудруда дала слово Оспакару, и через три дня назначено было свадебное торжество.
На другой день сидела Гудруда в своей светлице, раздумывая об Эйрике, когда ей сказали, что пришла Савуна, мать Эйрика. Последняя после смерти Унны и Асмунда снова поселилась у себя на Кольдбеке, но, ослепнув от горя, не вставала уже с постели. По всему было видно, что конец ее был близок. Поэтому Гудруда немало удивилась, когда услышала об ее приходе.
Старуху принесли четверо людей на кресле и внесли в горницу Гудруды. Савуна заговорила:
— Слышу я, Гудруда, что ты отвергла сына моего Эйрика Светлоокого и отвергла потому, что слышала о нем от Холля. Но этот Холль — лжец и с раннего детства был лжецом. Я встала с одра смерти и пришла к тебе, чтобы сказать тебе: безумна всякая женщина, которая идет замуж за нелюбимого человека. Из этого может только произойти горе и зло для нее и для других. Я знаю Эйрика от рождения, я вскормила, воспитала и вырастила его и клянусь, ничего бесчестного и подлого он не мог сделать и любит он тебя сейчас, как любил раньше. Сванхильду же ты сама знаешь, быть может, она сгубила его, околдовала, опоила своей злой силой. Вспомни ее дела, вспомни дела ее матери, что сделала она с твоим отцом и с моей родственницей У иной! Поверь, дочь сделает хуже матери: она такая же колдунья, как была ее мать. Неужели ты хочешь оттолкнуть Эйрика, даже не дав ему оправдаться?
— У меня есть доказательство того, что Эйрик сам отказался от меня! — отвечала побледневшая девушка.
— Тебе так думается, дитя, но, верь мне, ты ошибаешься; тебя ввели в заблуждение!
— О, если бы я только могла поверить Эйрику, я бы скорее наложила на себя руки, чем стала женою Оспакара!.. — И Гудруда громко зарыдала. — Да теперь уже все равно, поздно! Что сделано, то сделано: жених в соседней горнице, невеста ожидает его в своей светлице, — и нет у меня больше надежды быть спасенной от Оспакара!
— Да, что сделано, то сделано, но из всего этого может ничего не выйти. Безумная, под влиянием ревности ты готова отдаться человеку, который внушает тебе одно отвращение. Одумайся, что может из этого выйти! Прощай! Это мои прощальные слова. Эйрик вернется, и много крови прольется. Твой брачный пир будет ужаснее и кровавее брачного пира отца твоего Асмунда и родственницы моей Унны! Эй, люди, унесите меня отсюда!
Вошли керли Савуны и подняли ее кресло на плечи. Но когда выходили они, то столкнулись с Бьерном и Оспакаром. Те спросили старуху, зачем она явилась сюда и почему Гудруда рыдает.
— Потому, — отвечала Савуна, — что ее, невесту моего Эйрика Светлоокого, продали в жены Оспакару, как продают скотину на базаре. Но Эйрик идет, он скоро будет здесь, и прольется кровь! Я уже вижу, что меч Эйрика сверкнул в воздухе! Эйрик идет! — воскликнула она еще раз, указывая рукой на вход, и с пронзительным криком запрокинулась в своем кресле и умерла.
Все стояли вокруг носилок, пораженные и изумленные.
— Странные слова произнесла эта женщина! — сказал, оправившись, Бьерн.
— Старая ведьма, — проскрежетал Оспакар. — Унесите эту падаль отсюда! — крикнул он ее слугам. Люди привязали мертвую Саву ну веревками к креслу и понесли ее обратно на Кольдбек. Но Сванхильда была уже там со всеми своими людьми и прогнала всех домашних Эйрика и слуг его в горы. Осталась на Кольдбеке одна только древняя старушка, бывшая нянькой Эйрика. Она была слишком стара и не могла двинуться с места. Едва доплелась она до сторожки и села там в сенях. Когда слуги принесли тело умершей Савуны, то внесли его в эту сторожку, поставили в сенях, где сидела в углу на полу старушка, и рассказали ей обо всем, что случилось в Миддальгофе.
Прошел день, затем ночь. На рассвете следующего дня Эйрик Светлоокий и Скаллагрим Овечий Хвост благополучно высадились у Западных островов. Это был день свадьбы Гудруды Прекрасной. Все ушли на свадебный пир, и в окрестных хатах не было ни души.
— Куда же мы теперь, государь? — спросил Скаллагрим Эйрика.
— Прежде всего поедем на Кольдбек, чтобы я мог обнять и поцеловать мать, если только она жива еще!
И они зашли в одну хату, чтобы нанять лошадей, но в хате не было никого, а кони гуляли в загоне. Тут же, в сторожке, лежали уздечки и седла. Друзья изловили коней, оседлали их и поехали на Кольдбек, что над болотом. Подъезжая, они увидели издали, как из ворот выезжал длинный поезд, и среди всех этих конных была женщина в богатом пурпурном плаще. Но ни Эйрик, ни его друг не могли придумать, что бы это значило.
Поехали они дальше, приехали в самую усадьбу, но и здесь не было ни души, будто все вымерло. Эйрик, соскочив с коня, крупными шагами вошел в большую горницу, но и здесь не было никого, чтобы приветствовать его возвращение, хотя в очаге еще горел огонь и на столах были пища и питье. Но вот из угла выполз старый волкодав; крадучись, приблизился он к Эйрику, недоверчиво ворча, но потом, узнав, стал лизать ему руки, затем, жалобно воя и виляя хвостом, поплелся к выходу, после через двор к сторожке. Наконец, остановившись перед дверью, стал скрестись и жалобно, протяжно выть. Эйрик пошел за собакой и распахнул дверь.
Перед ним сидела мать его Савуна, мертвая в своем кресле, а у ее ног ежилась на полу старая служанка, жалобно причитая.
Эйрик ухватился за притолоку, чтобы не упасть. Его громадная тень упала на мертвое лицо матери его и на старую служанку у ее ног.
XXIII. Как Эйрик пожаловал в гости на свадебный пир Гудруды Прекрасной и Оспакара Чернозуба
Долго стоял Эйрик неподвижно, глядя на мать и не проронив ни слова.
— Кто ты такой, злой или добрый человек? — бормотала служанка, не подымая головы и не глядя на вошедшего. — Если ты один из людей Сванхильды и хочешь выгнать меня отсюда, то сжалься: я стара и слаба, мои ноги не могут держать меня, я не могу уйти в горы, как остальные, не могу оставить здесь одну мою добрую госпожу!.. Если хочешь, убей меня, но не гони… Если же ты добрый человек, то помоги мне схоронить ее: мои старые руки не могут вырыть ей могилы, моей силы не хватит донести ее до нее… помоги мне!.. Ты молчишь, не хочешь помочь мне? Так пусть же и твоя родная мать останется без погребения, пусть волки растаскают ее кости, вороны выклюют ей глаза… О, если бы только вернулся Эйрик Светлоокий!
Громкое рыдание вырвалось теперь из груди Эйрика, и он воскликнул:
— Няня! Няня! Неужели ты не узнаешь меня? Ведь я — Эйрик Светлоокий!
Старуха с громким криком кинулась к нему и, обхватив его колени, стала всматриваться в лицо затуманенными слезой глазами.
— Прославлен будь один Бог, что ты вернулся, Светлоокий, но вернулся ты слишком поздно. Все беды случились без тебя, и некому было вступиться за тебя. Тебя осудили, земли отобрали, даже дом, объявив тебя вне закона, по жалобе Сванхильды, вдовы Атли. Она поселилась здесь, на Кольдбеке, в твоем доме, выгнав всех верных твоих слуг. Савуна, мать твоя, умерла два дня назад в Миддальгофе, куда приказала снести себя, поднявшись со своего смертного ложа, чтобы поговорить с Гудрудой и заступиться перед ней за тебя!
— Ты говоришь, Гудруда! Что с Гудрудой?
— Сегодня ее свадьба с Оспакаром Чернозубом!
— Сегодня? В какое время?
— В час пополудни; Сванхильда уже отправилась туда со всеми своими людьми!
— Хм! Тогда найдется место и еще одному гостю! — сказал Эйрик.
— И даже двум гостям! — поправил его Скаллагрим, стоявший за его спиной. — Где ты, государь, там и я!
— Теперь расскажи мне, няня, все, что ты знаешь! — И старуха рассказала своему питомцу о молве, распущенной Холл ем, как он обманул Гудруду, и как Сванхильда затеяла судебное дело против него, как осудили его, и как Гудруда помолвилась с Оспакаром.
Выслушав все до конца, Эйрик подошел к телу матери и, поцеловав ее уже холодный лоб, голосом, дрогнувшим от волнения, произнес:
— Прости меня, родная, сейчас нет времени схоронить тебя, но не здесь ты будешь сидеть, а на более почетном месте! — С этими словами он перерезал своим мечом веревки, которыми была привязана к креслу Савуна, и, взяв осторожно тело на руки, с любовным благоговением отнес его в большую горницу дома, где посадил на высокое седалище.
— Если не хочешь опоздать в Миддальгоф, то нам надо спешить, — заметил ему тут Скаллагрим, — вот тут пища и питье, поедим: нам силы нужны будут там. А там и в путь!
Эйрик послушался разумного совета, а отдохнув, сказал служанке:
— Слушай, няня! Если, когда мы уедем, придет сюда кто-нибудь из наших людей, которые еще помнят меня, то скажи им, что я завтра поутру, если останусь жив, буду у подножия Мшистой скалы, и там они найдут меня; пусть идут туда и принесут с собой пищи и запасов разных. А теперь прощай! — Эйрик поцеловал ее и уехал, оставив ее в слезах.
Не прошло часа после его отъезда, как Ион, тралль Эйрика, остававшийся в Исландии и бежавший в горы от людей Сванхильды, крадучись вернулся на Кольдбек и заглянул в двери дома, но увидев, что никого нет, вошел в дом. Старая нянька передала ему слова Эйрика. Ион побежал обратно в горы сообщить другим, что слышал от старухи. Они собрали пищи и всяких запасов и пошли все к Мшистой скале, как сказал им Эйрик: все они любили его и были рады его возвращению в Исландию.
В это время Оспакар Чернозуб сидел в большой горнице замка в Миддальгофе, в полном вооружении, в кольчуге, броне и черном шлеме с вороновым крылом. Слова не шли ему на язык: предсмертная речь Савуны запала ему в душу, и страх томил его. Подле него сидела Гудруда Прекрасная в белом одеянии, с золотым поясом и золотыми застежками на груди, с золотыми обручами на руках. Лицо ее было белее самого одеяния; она смотрела с омерзением на своего жениха.
Один за другим приезжали гости; прибыла и Сванхильда и, подойдя к высокому месту, где восседала Гудруда Прекрасная, преклонив перед ней колено, как это водится, приветствовала ее:
— Привет тебе, сестрица! Когда мы здесь в последний раз виделись с тобой, я сидела на этом месте невестой старого Атли, а твою руку держал в своей нареченный жених Эйрик Светлоокий. Теперь же ты сидишь здесь невестой Оспакара, врага и ненавистника Эйрика, а Светлоокий далеко и не думает о тебе… Неужели у тебя нет ни слова привета для меня, которая своими руками создала это твое счастье? Ты молчишь? Ведь это я избавила тебя от Эйрика! Я толкнула тебя в объятия Оспакара, и ты не находишь для меня ни одного слова благодарности за такую услугу?
— Ты здесь против моего желания, дочь колдуньи Гроа, и будь на то моя воля, не хотела бы я никогда видеть твоего лица!
— Верю тебе, но лицо Эйрика ты хотела бы видеть. Да, он хорош!
— И Сванхильда со смехом отошла в сторону.
Начался пир. Чаши стали обходить мужчин; все пили много и были веселы, только Гудруда, как сквозь туман, видела пирующих гостей. Настало время и для свадебных кубков. Еще минута — и Гудруда станет женою Оспакара, произнесет над кубком свою клятву — и тогда все кончено! Сердце Гудруды на мгновение как бы замерло и перестало биться.
Между тем Оспакар уже произнес свою клятву верности жене и свои обеты, затем, отпив из кубка добрую половину, обернулся к невесте, чтобы поцеловать ее. Но та невольно отшатнулась. Вдруг ей послышался где-то знакомый голос; с чашей в руке Гудруда подалась вперед и вдруг громко вскрикнула, указав рукой на дверь, свадебная чаша выпала у нее из рук и покатилась вниз со ступеней, вино разлилось на ковры и шкуры.
Все с удивлением увидели в дверях человека, сиявшего, как солнце, бесподобной красотой; сиял золотой шлем его с золотыми крыльями, сияли золотые кудри его, ниспадая густою волной до пояса. В одной руке он держал большой медный щит с острием, в другой — длинное копье. Рядом с ним стоял другой витязь, с широким бердышем, в вороненой, черной кольчуге и шлеме, ростом немногим меньше, с орлиным носом и зоркими ястребиными глазами, с черной бородой, в которой пробивалась кое-где седина.
— Видите, — послышалось в толпе, — вот сами боги Бальдр и Тор! Они спустились из Валгаллы почтить своим присутствием этот брачный пир!
— Видите! — раздался мощный звучный голос. — Вот пришли из-за морей Эйрик Светлоокий и Скаллагрим берсерк почтить своим присутствием этот пир!
— Худших гостей я не мог ожидать! — пробормотал про себя Бьерн и встал, чтобы приказать слугам выгнать непрошеных гостей. Но не успел он раскрыть рта, как оба этих витязя, бок о бок, уже стояли у нижней ступеньки почетных седалищ. Их лица были холодны и свирепы.
— Я вижу здесь немало знакомых лиц! — начал Эйрик. — Приветствую вас, друзья и товарищи!
— Приветствуем тебя, Светлоокий! — отозвались люди Миддальгофа и люди Сванхильды; только керли Оспакара молчали, готовя оружие.
— Привет тебе, Бьерн сын Асмунда жреца, и тебе, прекрасная невеста, тебе, лжец Холль, тебе, колдуньино отродье, Сванхильда, хотя ты и не стоишь моего привета!
— Я не хочу привета посрамленного человека, объявленного вне закона, уходи отсюда вместе с верным псом твоим — уходите, пока вы не остались здесь на месте немы и недвижимы! — сказал Бьерн.
— Не шуми так, крыса, не то ты испытаешь на себе песьи зубы! — проговорил Скаллагрим, а Эйрик прибавил:
— Не спеши, Бьерн, придется тебе погодить немного! Я должен держать речь и, быть может, упадет мертвым не один человек, прежде чем я покину этот замок!
XXIV. Как продолжался пир
— Прогоните его отсюда! — кричал Бьерн.
— Нет, заколите его! Ведь он вне закона! — кричал Оспакар.
— Пусть Эйрик скажет свое слово! — вмешалась Гудруда. — Его судили в его отсутствие, не выслушав его оправданий, и я хочу, чтобы он сказал свое слово!
— Какое тебе дело до Эйрика, — прорычал Чернозуб.
— Свадебная чаша мной еще не испита, государь, — ответила Гудруда.
— К тебе первой обращу я свое слово, — начал Эйрик, обращаясь к Гудруде Прекрасной, — скажи мне, как это случилось, что, будучи моей невестой, ты здесь сидишь невестой Оспакара Чернозуба?
— Спроси о том Сванхильду и Холля, который принес мне ее дар, прядь твоих волос!
— Скажи мне, что он говорил тебе! — продолжал Эйрик, и девушка пересказала ему все.
— Так сколько же тут правды, Сванхильда?
— Ты сам знаешь! — уклончиво ответила Сванхильда. — А Холлю я никаких поручений не давала!
— Выступи вперед, Холль, и, если хочешь быть жив, скажи сейчас перед всеми людьми всю правду!
Дрожа под угрожающим взглядом Скаллагрима, Холль выступил вперед и пересказал все как было, сознавшись, что Сванхильда деньгами и подарками подкупила его.
— Ты лжешь, лиса! — крикнула Сванхильда. — Лжешь! — Но никто не обратил внимания на ее слова: глаза всех были обращены на Эйрика.
— Теперь скажите мне, люди, есть ли на то ваша воля, чтобы я сказал вам, со своей стороны, все, как было? — спросил Эйрик, обращаясь к собранию.
Все закричали: «Да! Да! Говори!» Только люди Оспакара молчали.
— Говори! — сказала Гудруда.
И Светлоокий рассказал все как было. В толпе послышался ропот; все гневно смотрели на Сванхильду, а та старалась только укрыться от глаз, злобно теребя свою пурпурную мантию.
— Ну а теперь, Гудруда, когда все тебе известно, скажи мне, хочешь ли ты быть женою Оспакара? — продолжал Эйрик.
Но не успела та ответить, как Чернозуб вскочил в бешенстве и, ухватившись рукой за меч, закричал:
— Как ты смеешь, ты, стоящий вне закона, отбивать у меня мою голубку! Знаешь ли, что за одно это я отдам тебя в пищу воронам?!
Пока я жив, Гудруда никогда не станет женою безземельного бродяги, бездомного и посрамленного человека, который объявлен вне закона, убирайся отсюда, Эйрик, вместе с твоим псом волкодавом!
— Тише, крыса, не пищи так громко, не то, смотри, испытаешь на себе песьи зубы! — сказал ему Скаллагрим.
— Эй, люди! Убейте его! — вскричал Чернозуб, побагровев от бешенства.
— Трус! — воскликнул Эйрик. — Гудруда, можешь ли ты уважать такого человека?
— Я не буду женою человека, которого назвали при всех людях трусом и который в ответ на это не поднял меча! — отвечала на это невеста.
Этого Оспакар не мог уже стерпеть; как медведь из своей берлоги, спустился он со своего седалища и устремился на Эйрика. Пол дрожал под его шагами.
— Сторонитесь! Сторонитесь! — крикнул Скаллагрим. — Теперь будет на что посмотреть!
Не успел он договорить, как в воздухе засверкали мечи. Но вот Оспакар снес половину щита Эйрика, а тот изловчился, в свою очередь, ударил со всего размаха и раздробил щит Оспакара. Удар был так силен, что Чернозуб пошатнулся, попятился несколько шагов и грузно упал на пол. Все закричали: «Эйрик! Эйрик!» — думая, что Оспакар уже не поднимется. Эйрик с громким криком кинулся вперед, но в этот момент Сванхильда, бледная и дрожащая, шепнула что-то Бьерну, стоявшему подле нее, и тот ногой толкнул лежавший у его ног осколок медного щита Эйрика, так что тот попал под ноги Эйрику, — и последний, поскользнувшись, упал лицом вниз, причем меч выскользнул у него из рук. Оспакар воспользовался этим, с громким, торжествующим криком схватив его и отшвырнув свой собственный меч.
При этом случилось страшное дело: описав несколько кругов в воздухе, меч Оспакара прорвал завесу в дальнем углу большой горницы и вонзился прямо в грудь скрывавшейся за нею женщины. А это была Торунна, неверная жена Скаллагрима, возлюбленная Оспакара. Она последовала сюда за своим господином, чтобы незаметно присутствовать на его брачном пиру, и приютилась в дальнем конце свадебных столов. Когда же здесь появился Скаллагрим, она, опасаясь его мести, притаилась за завесой и из-за нее следила за поединком, и вот случайно отброшенный меч пронзил ее сердце; со слабым стоном она упала и умерла от руки своего возлюбленного.
Оспакар, овладев мечом Молнии Светом, надменно закричал:
— Ты безоружен теперь, Эйрик, беги!
— Нет, Эйрик, не беги! Нападай! У тебя есть еще половина щита! — громовым голосом проговорил Скаллагрим. — Не беда, что Бьерн подставил тебе ловушку. Эйрик, нападай!
Оспакар устремился на Светлоокого с высоко занесенным над головой мечом, но Эйрик принял удар на свой обломок щита и с громким криком ринулся вперед.
Прежде чем Оспакар успел нанести ему новый удар мечом, герой со всей силы ударил его острием своего разбитого щита прямо в лицо.
Еще раз поднялся и блеснул в воздухе Молнии Свет, еще раз увернулся от него Эйрик и снова налетел на врага, и на этот раз удар острия щита был так силен, что расколол шлем Чернозуба, и вместе с ним и его череп; широко раскинув руки, гигант тяжело рухнул на землю.
Тогда Эйрик наступил ему на грудь и, наклонившись, взял Молнии Свет из его рук.
XXV. Как кончился пир
С минуту царило гробовое молчание; люди не верили своим глазам.
— Что вы разинули рты, товарищи! — крикнул Скаллагрим. — Оспакар мертв! Убит безоружным человеком! Смотрите, Эйрик Светлоокий уложил на месте Оспакара Чернозуба!
И, подобно раскату грома, прозвучало под сводами замка дружное приветствие победителю.
Гудруда же, услышав, что Оспакар убит, радостно сошла со своего высокого места и, приблизившись к Эйрику, все еще неподвижно стоявшему над побежденным врагом, произнесла:
— Приветствую тебя на твоей родине! Приветствую тебя, слава и гордость Исландии!
Увидела Сванхильда, что Эйрик хотел прижать Гудруду к своей груди, обнять и поцеловать ее на глазах всех людей, и вскипело злобное сердце ее бешеной ненавистью к нему, она воскликнула громким голосом:
— Неужели, Бьерн, ты допустишь, чтобы этот посрамленный и осужденный, убив Оспакара, взял себе в жены твою сестру?
— Пока я жив, этому не бывать! Слышишь, сестра? — обратился тот к Гудруде.
— А ты скажи мне прежде, зачем бросил обломок щита под ноги Эйрику, так что он споткнулся и упал? Или ты думаешь, что никто этого не видел?
— И ты, государыня, видела это? — радостно воскликнул Скаллагрим. — Значит, видели и другие!
Бьерн позеленел от злобы и, не ответив сестре ни слова, только крикнул своим людям, чтобы они убили Эйрика. Гицур сын Оспакара крикнул то же своим людям, а Сванхильда — своим.
Тогда и Эйрик, гордо выпрямясь во весь свой богатырский рост, крикнул громко и звучно:
— Товарищи, кто за меня, иди сюда! Неужели вы допустите, чтобы северяне и пришельцы на ваших глазах убили Эйрика Светлоокого?
И большая часть людей Миддальгофа, бывшие люди Асмунда жреца, не раз уже стоявшие за Эйрика, примкнули к нему, также и бывшие люди и соратники Атли, не говоря уже о людях Кольдбека.
Бьерн выхватил свой меч и замахнулся на Эйрика, воспользовавшись минутой, когда тот не ожидал нападения, но Скаллагрим подоспел и парировал удар своим бердышем, затем, прежде чем Бьерн успел занести свой меч, Молнии Свет сверкнул в воздухе, и он пал мертвым к ногам Светлоокого. Таков был конец Бьерна сына Асмунда, жреца Миддальгофа.
— А теперь живо станем спина к спине, и смотри в оба: со всех сторон приступают враги! — сказал Эйрику Скаллагрим.
— А вон там бежит один! — проговорил Эйрик, указав на прокрадывавшегося к выходу Холля.
У Скаллагрима было еще в руке копье Эйрика; он метнул им в Холля, и так верен был его удар, что копье вонзилось в хребет Холля между лопаток, пригвоздив его к боковому столбу входной двери. Так он там и остался. Вот какова была смерть лжеца и низкого труса.
Теперь уже удары сыпались градом со всех сторон; одни нападали, другие отражали. Все смешалось в один кровавый бой. Люди, разгоряченные вином и хмельными медами, не щадили никого; брат шел на брата, отец на сына. Столы и скамьи опрокинулись; кровь людей смешалась с праздничными яствами. Вся горница превратилась в лужу крови; крики и стоны слились в один гул. Гудруда, сидя на своем высоком седалище, с ужасом и отчаянием смотрела на этот кровавый свадебный пир, и ей невольно вспоминались слова Савуны, матери Эйрика. Между тем Эйрик со своим другом, отразив врагов, расчистили себе путь к выходу.
— На коней! — воскликнул Скаллагрим. — На коней, пока счастье еще не изменило нам!
— Нет в этом счастья! Много пролито крови, и мной убит брат той, которую я хотел назвать своей невестой! — мрачно проговорил Эйрик.
— Полно! Одна такая битва стоит многих невест! — возразил Скаллагрим. — Мы сегодня приобрели большую славу, Светлоокий, ведь Оспакар убит безоружным врагом!
Ни слова не ответил на это Эйрик. Они сели на коней и помчались ко Мшистой скале.
Только к утру следующего дня были они у подножия Мшистой скалы; здесь умылись, омыли свои раны и легли отдохнуть. Тут к Эйрику со всех сторон подошли бывшие его поселяне со съестными припасами. Они просили героев поселиться с ними. Те согласились и направились вслед за Скаллагримом в его пещеру, где и поселились. Долго они жили там, добывая себе пищу и одежду, выходя тайно из своего убежища, так как знали, что Сванхильда и Гицур, как только соберутся с силами, пойдут на них, и если не смогут одолеть их, то залягут здесь и будут пытаться заморить их голодом, заградив им горный проход в долину.
Между тем всю ночь Гудруда просидела на высоком почетном месте невесты, печально размышляя над грудой мертвых тел.
XXVI. Как Эйрик Светлоокий осмелился явиться в Миддальгоф и что он нашел там
Гицур сын Оспакара, отправился после пира в Свинефьелль, где со смертью отца он стал полным хозяином. Там он схоронил тело в склепе, высеченном в скале, на вершине горы, чтобы дух Оспакара мог видеть оттуда все земли, принадлежавшие ему при жизни. Над могилой сын воздвигнул высокий курган. И теперь еще в народе ходят слухи, что в день праздника Юуля, в ночное время, черный призрак Оспакара вырывается из могилы, а золотой призрак Эйрика Светлоокого на боевом коне выезжает к нему навстречу, и слышится тогда звон мечей и стоны. Наконец Эйрик уносится к югу на крыльях ветра, держа в руке свой рассеченный щит.
Так схоронил Гицур отца своего Оспакара Чернозуба и поклялся, что не вкусит ни отдыха, ни покоя, пока не увидит мертвыми Эйрика Светлоокого и Скаллагрима берсерка. А Эйрик в это время сидел на Мосфьелле, то есть на Мшистой скале, и сердце его ныло от скорби. Хотя он был объявлен вне закона, но бежать в леса ему не было надобности; среди своих людей он был в безопасности. Его так любили все, что снабжали пищей, одеждой и оружием. Каждый так гордился им, что никто, даже из тех, кто мог питать к нему кровавую месть за убийство близких и родственников во время побоища в Миддальгофе, не покушался на его жизнь, а только прославлял его подвиги. Мало того, люди юга поручили его людям передать ему, что если он хочет, то они снарядят для него хорошее боевое судно, чтобы он мог отправиться викингом в чужие страны. Но Эйрик отклонил это предложение, заявив, что хочет умереть среди своих людей в Исландии.
Прошло два месяца с тех пор, как Эйрик Светлоокий сидел на Мшистой скале, или Мосфьелле, которая отныне была прозвана и по сие время называется скалой Эйрика, или Эйрикесфьелль.
Оба они со Скаллагримом томились от безделья. Скоро до них дошли слухи, что Гицур и Сванхильда отправились на юг в Кольдбек с большими силами, чтобы захватить и убить Эйрика, но Гудруда не присоединилась к ним и не намерена возбуждать кровавой мести за убийство брата своего. Скаллагрим хотел ночью нагрянуть на людей Гицура и Сванхильды и разгромить их, но Эйрик сказал, что не хочет нового кровопролития и что если он еще раз подымет меч, то только в защиту своей жизни. Тем не менее герой решил покинуть свое убежище и ехать в Миддальгоф, чтобы повидать Гудруду.
— Вряд ли ты оттуда вернешься живым, государь! — проговорил печально верный Скаллагрим.
— Пусть так, все же это будет лучше, чем такая жизнь!
— Ну, так и я пойду с тобой, если так! — решил берсерк, и Эйрик не стал ему прекословить.
Они выехали на заре в туман, дождь и бурю, а прибыв в Миддальгоф, Эйрик уже один пешком пошел к реке, к тому месту, куда ходила купаться Гудруда, и, притаившись там в камышах, стал ждать, не представится ли случай увидеть ее; это место было всего на расстоянии двух выстрелов от ворот замка. Недолго пришлось ему ждать. Спустя некоторое время Гудруда пришла к тому месту, где он был, и не заметив его, задумчиво села на камень. Не мог Эйрик вынести печального вида ее и, поднявшись из-за камышей, встал перед ней. Стали они говорить и говорили долго. Гудруда просила Эйрика снова спрятаться в камышах, чтобы никто не мог его увидеть.
— Слушай, Эйрик! — говорила девушка. — Поезжай обратно на Мшистую скалу и сиди там до весны, а к тому времени я снаряжу хорошее боевое судно и мы, бросив здесь все, поедем в ту страну Англию, о которой ты мне рассказывал; там я буду твоею женой.
На этом влюбленные и расстались.
XXVII. Как Гудруда ездила на Мшистую скалу к Эйрику Светлоокому
Эйрик осторожно добрался до того места, где его ждал Скаллагрим, который начинал уже тревожиться. Ему герой передал свой разговор с Гудрудой, сообщив и о намерении весной покинуть Исландию навсегда.
— Я хотел бы, чтобы теперь уже была весна, — сказал Скаллагрим,
— да и почему нам не покинуть родину теперь же? Ждать до весны долго; за это время может многое случиться. Что из того, что море бурно, здесь тебе, государь, много опаснее, чем даже в бурном море!
— У Гудруды нет сейчас судна, да и она хочет выждать срок, пусть забудут о кровавой мести за смерть Бьерна!
— Как знаешь, государь, только лучше бы ты уходил отсюда!
Всю ночь и следующий день они благополучно ехали, а под вечер второго дня, когда уже стемнело, подъезжали к Мшистой скале. Тут из-за скалы выскочили пять человек из людей Гицура и преградили им путь. Но когда Эйрик и Скаллагрим устремились на них, то они отступили, рассыпавшись по кустам, и, дав проехать Эйрику и Скаллагриму, пустили в погоню свои копья. Одно из них Скаллагрим поймал на лету и отослал обратно, причем смертельно ранил кого-то из нападающих, другое же пролетело над головой Скаллагрима и вонзилось глубоко в левое плечо Эйрика у самой шеи. Не долго думая, Эйрик правой рукой вырвал его и метнул обратно с такою силой, что, несмотря на щит, пронзил грудь врага, и тот упал замертво. После того никто уже не осмелился преследовать Светлоокого и его спутника.
Скаллагрим перевязал руку Эйрика, и они продолжали свой путь. Из пещеры заметили нападение людей Гицура и уже спешили навстречу Эйрику. Рана его была серьезна, он потерял много крови, но дней через десять она как будто зажила.
Между тем выпал снег, наступили морозы, дни стали короче, а ночи длиннее. В пещере было страшно темно, и хотя Эйрик старался поддержать бодрость духа в товарищах, но сам с тех пор, как был ранен, не выносил темноты, и, видимо, томился. Свечей или светильников на Мшистой скале не было, и они целые дни просиживали на дворе перед пещерой над тем обрывом, откуда скатилась в пропасть голова берсерка, любуясь северными сияниями или бледным светом звезд и отражением белых снегов. Чтобы развлечь товарищей, Эйрик приказал им построить небольшую хижину из камней; и вот, наблюдая за работой, он увидел, что никто из его людей не мог своротить одной громадной глыбы камня. С улыбкой Эйрик подошел к глыбе и, подняв на руки камень, донес его до места, но при этом рана его раскрылась, и кровь хлынула густой струей. Эйрик обмыл рану и наложил новую перевязку, не придав этому обстоятельству никакого значения.
Когда настала ночь, он не пошел в пещеру, а опять, укутавшись в овчины, сел над обрывом. Ночью кровь снова стала сочиться из раны. Но он не обратил на то внимания. Между тем рану охватило морозом, и длинные волосы его примерзли так крепко, что он не мог уже отодрать их. Оставалось только срезать волосы, но на это Эйрик ни за что не соглашался, говоря, что он поклялся Гудруде, что ничья рука не коснется его волос, а если ой еще раз нарушит эту клятву, его постигнут величайшие несчастья. Теперь мысли Эйрика были так печально настроены, что он совершенно упал духом; ко всему этому прибавилось еще нездоровье от раны. Тяжелые предчувствия томили его душу. Все это вместе взятое повело к тому, что Эйрик с каждым днем заболевал все сильнее и сильнее, пока, наконец, не слег окончательно в постель. Однако, несмотря на то, что состояние раны угрожало его жизни, он никому не позволял дотронуться до своих волос, и Скаллагрим, видя, чтоубедить его нельзя, а состояние его столь заметно ухудшается, решил, не сказав ему ни слова, отправиться тайно в Миддальгоф и упросить Гудруду приехать на Мшистую скалу и срезать волосы Эйрику, так как это необходимо для спасения его жизни.
Путь был до того тяжелый, что он и тралль Эйрика Ион трое суток пробивали себе дорогу сквозь непроходимые снега и чуть живые добрались до Миддальгофа. Когда Гудруда услышала, что Эйрик умирает, сердце ее замерло от испуга, и она чуть не потеряла сознания. Когда же Скаллагрим сказал ей, что, может, ей удастся спасти его, если она
не побоится трудностей дальнего и тяжелого пути, она решила ехать в эту же ночь.
Распорядившись, чтобы и Скаллагрима, и Иона накормили и обогрели, она приказала своим прислужницам и всем женщинам в доме, чтобы те говорили каждому, кто спросит о ней, что она больна и лежит в постели, затем она призвала троих своих самых верных траллей и приказала им приготовить трех вьючных лошадей и нагрузить всякими припасами и всем, что могло быть необходимо для больного. Когда же все было готово, едва только стемнело, она выехала в путь. Ночь пришлось провести в пути, снега везде лежали непроходимые; вторую ночь им пришлось ночевать в снегу и, несмотря на теплые одежды и покрывала, все они чуть было не погибли в страшную метель, поднявшуюся к утру. Под вечер третьего дня они прибыли, наконец, к подножию Мшистой скалы. Дойдя до той лощины, где находились кони и скот обитателей пещеры, то есть Эйрика и его людей, путники были встречены некоторыми из них, и лица их были печальны.
— Неужели Эйрик умер? — спросил Скаллагрим.
— Нет, — отвечали люди, — жив еще, но, верно, скоро умрет: он со вчерашнего дня не в памяти и никого не узнает!
— Скорей! Скорей к нему! — торопила Гудруда и пошла вперед всех, так как здесь, в этой лощине, надо было оставить лошадей и далее идти пешком. Путь был трудный. Но Скаллагрим охранял Гудруду, как родное дитя. Когда они подошли к пещере, яркий торфяной костер горел у входа: на дворе стоял жестокий мороз. Сквозь облако дыма Гудруда увидела Эйрика, распростертого на широком ложе из овечьих шкур. Он горел, как в огне, и бредил, ясные глаза его смотрели дико по сторонам, а длинные золотистые кудри разметались по плечам и по груди.
Гудруда подошла к нему и, опустившись на колени, склонилась над ним, проговорив:
— Это я, Гудруда, пришла к тебе, Эйрик!
При звуке ее голоса он повернул голову и взглянул на нее.
— Нет! Нет! Это не она, не моя Гудруда Прекрасная: ей нет дела До таких бездомных бродяг. Если ты — Гудруда, подай мне какой-нибудь знак. Где Скаллагрим? Экий славный бой! Вперед! Дайте мне кубок…
— Эйрик, — продолжала Гудруда, — я пришла срезать твои волосы! Ведь ты дал клятву, что никто, кроме меня, не дотронется до твоих волос!
— Да, это она! Это Гудруда! Срежь! Срежь! Но не давай никому другому дотрагиваться до моей головы!
Пользуясь этой минутой затишья, Гудруда осторожно срезала золотые кудри Эйрика, затем тепловатой водой, нагретой над костром, бережно стала отмачивать их от раны, которая теперь вся была закрыта и потемнела. После долгих трудов ей удалось окончательно открыть и промыть рану. Тогда она смазала ее целительным бальзамом, наложив тонкую полотняную перевязку. Когда все это было сделано, она дала Эйрику приготовленное ею успокоительное питье и, положив голову его к себе на руку, стала тихо уговаривать его заснуть.
Он вскоре действительно заснул. Всю ночь и весь день просидела она у его изголовья, почти не принимая пищи; Эйрик все время спал. На вторые сутки под вечер он слабо улыбнулся во сне, затем раскрыл глаза и устремил их на огонь костра.
— Странно, — прошептал он, — какой сон… мне казалось, что Гудруда склонилась надо мной, что она здесь. Да где же Скаллагрим?
Гудруда взяла его руку и ласково сказала:
— Нет, Эйрик, то не сон: я — здесь, ты был болен, и я приехала ходить за тобой! Теперь, если ты будешь спокоен, ты скоро поправишься.
— Ты здесь? Как ты сюда попала? Где Скаллагрим? Скаллагрим подошел и подтвердил, что Гудруда здесь, что она не
побоялась совершить этот трудный путь через непроходимые снега.
— Ты это сделала ради меня, — прошептал Эйрик, — значит, ты сильно любишь меня! — И этот силач, не будучи в состоянии осилить своего волнения, заплакал.
Гудруда, склонившись над ним, долго нежно целовала его.
XXVIII. Как Сванхильда добывала сведения об Эйрике
Вскоре силы Эйрика стали возвращаться, и Гудруда заговорила об отъезде. Эйрик уговаривал ее остаться, (но погода была ясная, морозная и тихая; надо было ехать теперь же. Скаллагрим поехал проводить ее до Золотого водопада и на пятые сутки вернулся, доложив, что врагов нигде не видали и что Гудруда благополучно доехала до пределов своих земель. В Миддальгофе все было благополучно; никто не узнал о ее отсутствии, все считали ее больной, так что даже шпионы Сванхильды лишь много позже узнали о визите Гудруды на Мшистую скалу.
Вернувшись в Миддальгоф, Гудруда стала готовить судно, скупала меха и другие товары и понемногу собирала деньги, розданные в пост. В этой заботе время проходило приятно, но Эйрик у себя на Мшистой скале тосковал и не мог дождаться весны. Также длинно тянулись дни для Сванхильды и Гицура. Сванхильде наскучило выжидать, и она стала упрекать Гицура, что его люди плохо стерегли проходы Мшистой скалы; ей хорошо известно, что Эйрик покидал свое убежище. Злая женщина заявляла, что она не станет женою его ни за что, прежде чем Эйрик не умрет, хотя она предпочла бы, если бы можно, убить Гудруду. На это Гицур сказал ей, что пусть уж это она возьмет на себя: он не хочет участвовать в убийстве этой девушки, самой красивой, какая когда-либо существовала на свете.
Слова эти привели Сванхильду в бешенство, она стала упрекать его, что он малодушный трус и что единственный путь к ней через труп Эйрика. Они порешили, что люди их будут сторожить судно Гудруды, и когда оно снимется с якоря, кинутся на абордаж; сама же Сванхильда с Гицуром и одним керлем, родом с подножия Геклы, хорошо знающим все тропинки Мшистой скалы, отправятся туда и обойдут Мосфьелль той тропой, которая известна этому керлю; если она еще доступна, то они вернутся с людьми и прикончат Светлоокого.
Как ни долго тянулись скучные зимние дни, но время близилось незаметно к весне, и вот однажды к Эйрику, томившемуся тоской бездействия и страхом ожидания, явился посланный от Гудруды с известием, что «снег на крышах Миддальгофа начал таять» и что «Гудруда здорова». Это было условное слово, означавшее, что все уже готово.
— Передай своей госпоже, что Светлоокий здоров и что на вершинах Геклы снег еще не растаял.
Это также означало, что он немедленно явится к ней.
Отдохнув немного и подкрепив свои силы пищей и медом, посланный отправился в обратный путь и передал Гудруде Прекрасной ответ Эйрика Светлоокого, — и сердце ее наполнилось радостью.
По уходе тралля Гудруды Эйрик призвал своих людей и приказал тем, которые хотели отправиться с ним в Англию, готовиться в путь. Остальным же, которые желали остаться в Исландии, велел прожить еще недели две здесь, на Мшистой скале, и ежедневно зажигать огни, чтобы обмануть шпионов Гицура и Сванхильды, заставив их думать, что Эйрик все еще на Мшистой скале в пещере.
В ту же ночь, прежде чем успела взойти луна, Эйрик простился со своими товарищами и уехал со Скаллагримом и теми, которые собирались отплыть вместе с ним, в Миддальгоф. На вторые сутки под вечер они были уже в виду Миддальгофа, но им пришлось выждать, пока совершенно стемнеет. Окутанные почти непроницаемым мраком, всадники въехали во двор, ворота которого были широко раскрыты. Здесь Эйрик соскочил с коня и направился к женским дверям. Гудруда ожидала его у порога, но, заслышав его шаги, вбежала в большую горницу, села там на высокое место и с бьющимся сердцем ожидала своего жениха в полном наряде невесты. В Миддальгофе оставались теперь при ней только две верные женщины и несколько траллей, спавших не в самом замке, а в пристройке, остальных же людей своих Гудруда отослала на судно, совершенно готовое к отплытию.
Скаллагрим и остальные спутники Эйрика остались во дворе, прибирая лошадей, сам же Светлоокий вошел через женские двери в большую горницу и при свете огня, горевшего на среднем очаге, достиг высоких сидений. Здесь он увидел свою невесту, уже ожидавшую его, сел рядом на жениховское место, и здесь они выпили брачный кубок и долго оставались в объятиях друг друга. Счастье, неземное счастье переполнило их сердца.
Так повенчались Эйрик Светлоокий и Гудруда Прекрасная.
В ту ночь, когда Эйрик поехал в Миддальгоф жениться на Гудруде Прекрасной, Сванхильда, Гицур и один их слуга отправились на Мшистую скалу. Прибыв туда, они обошли ее; а тралль долго отыскивал ту тропу, о которой говорил. Наконец, найдя ее, повел по ней Гицура, Сванхильда же осталась внизу ожидать их возвращения, тропа показалась ей опасной. Ожидая Гицура, она увидала, как с другой стороны горы спустилось двое всадников, и в одном из них узнала Иона, тралля Эйрика.
Всадники эти спустились в долину и, проехав немного по опушке леса, вошли в убогого вида хижину, привязав своих коней к изгороди.
Тем временем Гицур и тралль вернулись и рассказали ей, как этой тропой можно было пробраться на самую вершину скалы и оттуда скатывать камни на голову Эйрика и других обитателей пещеры.
Сванхильда возликовала и в радости своей стала торопить с возвращением на Кольдбек, где она хотела забрать с собой побольше людей и, оцепив снизу всю гору, атаковать Эйрика с вершины скалы.
Все трое сели на коней и поскакали вниз в долину. Когда они приблизились к хижине на опушке леса, Сванхильда вспомнила об Ионе и сказала себе, что надо изловить этих птиц и добыть от них сведения об Эйрике.
С этою целью она и Гицур спешились и подкрались к входу хижины, двери которой стояли распахнутыми настежь.
Сванхильда шепнула Гицуру, у которого было в руке копье, чтобы он метнул его и уложил насмерть одного из двоих людей, занятых собиранием припасов, рыбы, мяса и других продуктов, которые были сложены здесь, как в кладовой.
Гицур хотел было воспротивиться приказанию своей возлюбленной, но не посмел и пустил свое копье в беззащитного человека, связывавшего рыбу. Бедняга упал замертво. В этот момент Гицур и его тралль накинулись на Иона, скрутили его и грозили и его убить, если он тотчас же не проведет их в пещеру на Мшистой скале и не доставит Сванхильде возможности увидеть Эйрика.
Робкий и трусливый Ион растерялся от этой неожиданности и нечаянно проговорился, что Эйрика нет на Мшистой скале. Тогда у него стали допытываться, где находится Светлоокий, допытываться с угрозами и мучениями, и Ион, долго крепившийся, наконец не выдержал страшной пытки, придуманной Сванхильдой, и рассказал всю правду. Услыхав о свадьбе Эйрика, Сванхильда, обезумевшая от злобы и бешенства, закричала Гицуру:
— Прикончи его, да и едем дальше! Теперь надо спешить!
— Нет, — отвечал Гицур, — я не убью этого человека: он нам сказал то, что мы от него требовали; пусть будет жив и идет на все четыре стороны!
— Ты обезумел! — крикнула Сванхильда. — Если не хочешь убить его, то свяжи и оставь здесь, чтобы он не мог предупредить Эйрика о том, что он выдал его и мы идем на них!
Иона связали толстыми веревками и оставили в хижине, где он и пролежал двое суток, пока не пришли сюда другие его товарищи и не освободили его.
Сванхильда же и Гицур со своим спутником помчались теперь во весь опор в Миддальгоф.
XXIX. Как прошла брачная ночь
Эйрик и Гудруда молча сидели на высоких местах в большой, празднично разубранной горнице Миддальгофского замка, пока не пришел туда Скаллагрим за приказаниями.
— Прежде всего все мы поедим и выпьем доброго меда, вина и пива,
— сказала за Эйрика Гудруда, — а затем твои люди, Эйрик, тайно проедут к тому месту, где стоит наше судно, и прикажут шкиперу готовиться в путь, чтобы на заре, пользуясь приливом, выйти в море. А ты, Эйрик, я и Скаллагрим останемся здесь в замке до трех часов утра: мне донесли, что люди Гицура и Сванхильды сегодня в ночь будут караулить наше судно, чтобы подстеречь наш приезд; под утро же, не найдя никого, они удалятся. А тогда мы, пользуясь перерывом до новой смены шпионов, успеем добраться до судна и уйти в море!
— Но нам небезопасно ночевать здесь втроем! — заметил Эйрик.
— Полно, ты и Скаллагрим сильны, а замок надежен, кроме того, мне сказали, что Гицур и Сванхильда отправились искать тебя на Мшистую скалу!
На этом и порешили.
После свадебного пира люди Эйрика отправились на судно с секретным предписанием, предварительно оседлав коней Эйрика, Гудруды и Скаллагрима и поставив их в надежное место. Затем Скаллагрим запер тяжелыми засовами все ворота и входы замка и пришел спросить у Гудруды, где, по ее распоряжению, ему провести ночь.
Она указала ему на кладовую, где неисправна была одна ставня, и потому Гудруда просила Скаллагрима хорошенько караулить это окно.
Но Гудруда упустила из вида, что в кладовой стояли бочонки с пивом, вином и медом.
После того женщины-прислужницы разошлись по своим каморкам, а Эйрик с Гудрудой легли в спальне Асмунда жреца.
Скаллагрим, оставшись один в кладовой, сильно затосковал. Не на радость ему стал Эйрик мужем Гудруды. У Скаллагрима была в жизни одна только привязанность, одна отрада, Эйрик Светлоокий, а теперь молодая жена лишала его прежней любви и внимания Эйрика; теперь он должен делить свои чувства между ней и им, и, конечно, Скаллагрим всегда будет обделен в пользу Гудруды. При этой мысли такая тоска запала в сердце Скаллагрима, что мрак, царивший в кладовой, стал невыносим для него. Чтобы успокоить свое волнение, он распахнул настежь ставню и впустил ясный лунный свет в кладовую, а затем прибегнул к утешению, которое люди находят на дне кубка.
Кубок за кубком осушал он, томимый жаждой после сытного брачного ужина, мучимый горем, страхом и дурными предчувствиями, ища забвения и успокоения и не находя ни того, ни другого, пока хмель не одолел его и он не повалился на пол подле бочек с вином, заснув мертвым сном.
Между тем новобрачные спали сладким сном в объятиях друг друга. Только тяжелые сны тревожили поочередно то Эйрика, то Гудруду. Гудруде снилось, что она лежит мертвая в объятиях Эйрика, который и не подозревает этого, а Сванхильда стоит над ними и смеется над Эйриком. Эйрику же снилось, что пришел Атли, сообщая, что прежде чем взойдет луна следующего дня, он будет лежать мертвым. За Атли пришел Асмунд и сказал в утешение, что хотя он и умер, но за границей смерти есть иная жизнь, в которой царит вечная любовь и покой.
Эйрик разбудил Гудруду и рассказал ей свой сон. Та посоветовала ему встать и надеть кольчугу и шлем, чтобы быть готовым встретить врага.
— Что пользы, дорогая, — отвечал печально герой, — от судьбы все равно не уйдешь! Впрочем, как ты того хочешь, я встану! — И он стал вставать с постели, но вдруг тяжелый сон снова одолел его, и он проговорил слабым, как бы умирающим голосом:
— Прощай, дорогая, сон одолевает меня; я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Видно, это и есть смерть. Прощай!
А Гудруда проговорила:
— И меня тоже давит сон. Прощай, мой возлюбленный, прощай!
Крепко обнявшись и прижимаясь друг к другу, заснули они тяжким, непробудным сном.
Между тем Гицур, сын Оспакара Чернозуба, и Сванхильда, дочь Гроа колдуньи и вдова Атли, так гнали своих коней, что чуть не загнали их совсем. На высотах Конской Головы, где дорога разветвлялась надвое, они отправили бывшего с ними тралля к тому месту, где на берегу сидели в засаде люди Сванхильды и Гицура, сторожа судно Гудруды, с приказанием с рассветом ворваться на судно и обыскать его из конца в конец, а если найдут Эйрика, то пусть убьют его: он ведь вне закона. Если же они найдут Гудруду Прекрасную, то пусть сделают то же: она теперь жена человека, объявленного вне закона, и сама стала вне закона. Если же они никого не найдут на судне, то пусть выгонят экипаж, а судно сожгут.
— Сжечь чужое судно — дело недоброе и по закону считается злодеянием! — заметил Гицур.
— Об этом тебя не спрашивают! — сказала Сванхильда. — На то ты и законник, чтобы суметь оправдать меня. Ступай! — сказала она слуге, и тот поскакал во весь опор.
Тогда и Сванхильда со своим спутником двинулись дальше к Миддальгофу. Сердце Гицура болезненно ныло; страх забирал его при мысли о том, что ему придется стоять лицом к лицу с Эйриком. В час пополуночи они были уже у ограды замка и здесь соскочили с коней.
— Пойдем пешком вдоль стены, я знаю место, где легко можно пробраться в замок: все входы и двери, конечно, на запоре. — И Сванхильда повела Гицура к окну кладовой и, взобравшись туда, заглянула в кладовую.
— Плохо дело! — сказала она. — Здесь спит Скаллагрим! Но спит он, как видно, крепко… Случай хороший, их не так-то легко застать спящими, а с сонными даже и тебе совладать не трудно!
— Убить спящего постыдное дело! — сказал Гицур.
— Молчи! — сказала Сванхильда, не отрываясь от окна и продолжая наблюдать за берсерком. — Нам счастье благоприятствует: этот берсерк пьян. Он лежит в луже пива и не опасен для нас!
Действительно, Скаллагрим спал мертвым сном; пиво из незаткнутого им бочонка лужей разлилось по полу; в левой руке своей он держал большой роговой кубок, а в правой — свой страшный топор.
— Нечего мешкать, — произнесла Сванхильда и как кошка взобралась на окно, а с окна спрыгнула в кладовую. Гицур, хотя и неохотно, последовал ее примеру. Он недоверчиво смотрел на мощную фигуру распростертого на земле Скаллагрима, и рука его судорожно сжала рукоятку его меча.
— Не тронь его, — сказала Сванхильда, — он может крикнуть и разбудить других, а так он нам не опасен. Следуй за мной!
Ощупью пробираясь по знакомым ей с детства местам, она пришла в большую горницу и с минуту стояла, прислушиваясь. Здесь все было тихо и пусто. Тогда она осторожно пробралась к Гудрудиной девичьей постели под темным пологом, но и тут, казалось, не было никого. Но вот она услышала тихий шепот и поцелуи под пологом брачного ложа покойного Асмунда и подкралась к нему близко-близко. Да, поцелуи и ласки! Бешенство овладело ей, и она отшатнулась. В этот момент голос Эйрика произнес: «Я сейчас встану, дорогая!» Гицур, услышав это, готов был бежать, но Сванхильда схватила его за руку и удержала.
— Не бойся, они сейчас заснут крепче прежнего! — сказала она и простерла руки по направлению к спящим. Глаза ее стали разгораться в темноте, как глаза волка или кошки, затем все ярче и ярче, как два красных угля в золе, так что бледное лицо ее стало выделяться из мрака белым пятном; побелевшие губы шептали:
Гудруда, спи! Приказываю тебе, спи! Узами крови приказываю тебе, спи!
Тою силой, какую я ощущаю в себе, приказываю тебе, спи!..
Спи! Спи крепко!
Эйрик Светлоокий, приказываю тебе, спи! Общностью греха нашего заклинаю тебя, спи! Кровью Атли, убитого тобой, приказываю тебе, спи!..
Спи! Спи крепко!
Затем она трижды простерла вперед руки по направлению к брачному ложу, развела ими в воздухе и произнесла медленно и раздельно:
Из объятий любви — в объятия сна!
Из объятий сна — в объятия смерти!
Из объятий смерти — в Хель!
Скажите мне, любящие сердца, где вы будете целоваться вновь?
И свет в ее глазах разом потух, она тихо засмеялась.
— Теперь они спят крепко, — произнесла колдунья, обращаясь к Гицуру, — до самого рассвета Эйрик не проснется! Теперь скорее за дело! Откинь полог постели и убей Эйрика его же мечом!
— Этого я не могу! Не хочу! — сказал Гицур.
— Не хочешь! — грозно прикрикнула вполголоса Сванхильда и сверкнула на него глазами так, что тот окончательно оробел.
Сванхильда же хотела убить не Эйрика, а Гудруду, но не хотела дать понять этого Гицуру. Она рассуждала так, что пока Эйрик жив, есть надежда овладеть им, если же он умрет, то все будет кончено. Гудруде же она желала жестоко отомстить, этой Гудруде, которая, несмотря на все ее козни, сделалась женой Эйрика и была счастлива. Вот злодеи приблизились к самой постели новобрачных. Сванхильда осторожно ощупала рукой спящих, стащила с них покрывало и ощупала высокую грудь Гудруды, которая спала на внешнем краю постели; затем колдунья ощупью нашла меч Молнии Свет и осторожно выдернула его из ножен.
— Вот здесь, на краю, лежит Эйрик, — сказала она, — а вот и Молнии Свет! Убей и меч оставь в ране! — повелительно добавила она.
Гицур взял меч и занес его обеими руками, но три раза он заносил его и все не решался сделать такого низкого, позорного дела, как убить беззащитного, спящего человека. Но вот и у него явилась мысль ощупать рукой.
— Это женские волосы! — воскликнул он.
— Нет, — сказала Сванхильда, — у Эйрика волосы длинные, как у женщины, это его волосы!
И Гицур снова занес меч и с глухим проклятьем нанес удар изо всей своей силы. Послышался глубокий, протяжный вздох и глухой звук конвульсивно вздрагивающих членов, затем все стало снова тихо, зловеще тихо кругом.
— Сделано! — произнес Гицур слабым голосом. Сванхильда снова ощупала спящих: ее пальцы смачивала теплая еще кровь Гудруды. Она склонилась над нею и увидела, что ее мертвые глаза смотрят на нее. Неизвестно, что прочла она в ее взгляде, но только она разом отпрянула назад и грузно упала на пол.
Гицур стоял, как околдованный, ничего не видя и не сознавая. Наконец Сванхильда, вскочив на ноги, воскликнула:
— Я отомстила за смерть Атли! Бежим отсюда, Гицур, бежим скорее! Дай мне руку, силы изменяют мне, я не в состоянии идти!
Вот они опять в кладовой. Скаллагрим лежит по-прежнему, раскинув руки на полу, он, видимо, не пробуждался. Гицур останавливается над ним и смотрит вопросительно на Сванхильду.
— Не надо! — говорит она. — Мне претит вид крови! — И они вылезают из окна.
Злодеи благополучно вскочили на коней и ускакали.
Так умерла в брачную ночь и на брачном ложе Гудруда Прекрасная, прекраснейшая из всех женщин, какие когда-либо жили в Исландии, от руки Гицура сына Оспакара, через ненависть и колдовство сводной сестры своей Сванхильды Незнающей Отца, дочери колдуньи Гроа.
XXX. Что было на рассвете
На дворе уже совсем рассвело, а Эйрик все еще спал крепким, тяжелым сном. Тем временем служанки встали и стали раздувать огонь в очаге, разговаривая о том, как многие из обитателей этого замка умерли с того времени, как Асмунд жрец нашел колдунью Гроа. Слова «умер» и «умерла», звучавшие в их речи, донеслись до слуха пробудившегося Эйрика. Он раскрыл глаза, и что-то ослепило его необычайным блеском, словно блеск обнаженного лезвия меча. Он сел на постели, устремив свой взгляд в полумрак, царивший под пологом. Вдруг полог широко распахнулся, и Эйрик выскочил в большую горницу; вся левая сторона его рубашки была в крови, глаза его смотрели дико; он хотел что-то крикнуть, но звук замер у него в горле, а лицо стало белее снега. Он дико озирался кругом, и женщины подумали, что он лишился рассудка. Шатаясь как пьяный, он вышел и направился в кладовую, где спал Скаллагрим. Дверь кладовой была распахнута настежь, окно, ведущее на двор, также, а берсерк лежал в луже пива, держа в одной руке рог, а в другой свой топор.
— Проснись, пьяница! — крикнул Эйрик таким громовым голосом, что стены задрожали. — Проснись и посмотри на дело рук твоих!
Голос Эйрика пробудил Скаллагрима. Тот поднялся и сел, с недоумением оглядываясь кругом.
— Иди за мной, пьяница! — глухо проговорил Эйрик, и Скаллагрим послушно последовал за ним в большую горницу.
Подойдя к свадебному ложу, Светлоокий сорвал могучей рукой полог, — и дневной свет ударил прямо на постель. Страшное зрелище представилось глазам присутствующих: на постели, утопая в крови, лежала Гудруда Прекрасная; громадный меч Молнии Свет торчал в ее груди.
— Видишь, пьяница! — воскликнул Эйрик. — Пока ты спал, враги прокрались сюда, перешагнув через твое тело. Чего же ты заслужил за такое дело? Говори!
— Смерти! — сказал Скаллагрим и передал свой топор Эйрику, готовясь принять заслуженную казнь.
Эйрик взял топор и уже размахнулся, как чей-то голос тихо шепнул ему: «Не обагряй больше кровью рук своих», — и он отшвырнул топор далеко в сторону.
— Нет, не я убью тебя, пьяница! Поди, сумей сам найти себе смерть!
— Если так, то я сам убью себя тут же, на твоих глазах, государь! — проговорил берсерк и пошел поднять свой топор, засевший в досках пола.
— Стой! Погоди! Ты можешь еще совершить какое-нибудь дело, а убить себя всегда успеешь! — остановил его Эйрик, и Скаллагрим опять повиновался. Он бросил свой топор и, в припадке отчаяния кинувшись на пол, зарыдал как дитя. Но Эйрик не плакал и не рыдал. Он молча вынул меч из раны и долго смотрел на него, затем вложил его в ножны, но не отер с него крови Гудруды.
— Вчера свадьба, а нынче похороны! — глухо проговорил несчастный и приказал женщинам одеть и обмыть Гудруду, а сам со Скаллагримом приготовил ей могилу в самой большой горнице замка, подняв несколько плит каменного пола.
— Здесь ты родилась, здесь умерла и здесь же почиешь вечным сном, — сказал Эйрик, — и я предсказываю, что никто здесь, в этом замке, не будет жить, пока не рухнут эти стены и не станут твоим могильным холмом!
Так и случилось: с самых дней смерти Гудруды Прекрасной, дочери Асмунда жреца, никто не жил здесь, и долгие годы стояли развалины, а теперь груды камней лежат на том месте, и призраки бродят вокруг.
Когда могила была готова, Эйрик собственными руками надел Гудруде сандалии и, закрыв глаза, долго сидел на краю кровати, подле ее тела, затем поцеловал ее прощальным поцелуем, произнеся:
— Спи, дорогая, ненаглядная жена моя! Я скоро приду к тебе, и тогда мы вновь сомкнем свои уста в вечном поцелуе! — И, призвав Скаллагрима, опустил ее в могилу, сам же спел над могилой прощальную песню.
После этого Эйрик вооружился; то же сделал и Скаллагрим. Они вышли во двор, где все еще стояли под навесом оседланные кони. Потрепав Черногривого, как звали коня Гудруды, по крутой шее, Эйрик сказал:
— Быть может, ты понадобишься ей там, где она теперь находится! — С этими словами он взял из рук Скаллагрима его широкий топор, размахнулся им и во мгновение ока снял голову доброму коню. Затем друзья сели на своих коней и выехали из дворца.
Ночь была темная, ни зги не видать. Эйрику пришло в голову спалить свой родной замок Кольдбек вместе со Сванхильдой и Гицуром и их людьми. Подъехав около полуночи к замку Кольдбек, когда все спали, оба друга натаскали хворосту и собирались уже поджечь, как вдруг Эйрик одумался.
— Нехорошо сжечь виновных и безвинных; я дал слово, что не пролью больше человеческой крови иначе, как только в защиту своей жизни!
Подумал Скаллагрим, что Эйрик не в уме, но ничего не сказал.
Эйрик приказал ему выехать из двора и отъехать немного в сторону, сам же взял его топор и ударил им несколько раз в дверь и в ставни замка; все всполошились и выскочили к двери.
— Это дух Эйрика стучит! — крикнул кто-то: все думали, что Гицур в честном бою убил Эйрика, как он сам рассказывал им.
Гицур приказал отворить дверь и увидел в нескольких шагах Эйрика Светлоокого на коне и в полном вооружении.
— Я не дух и не привидение, — сказал Светлоокий, — я живой человек и хочу знать, здесь ли Гицур сын Оспакара.
— Здесь, и он клялся нам, что убил тебя в прошедшую ночь!
— Так он лгал; не меня убил он, а Гудруду Прекрасную, супругу мою новобрачную, спавшую подле меня, убил ее позорно и предательски!
И поднялся ропот негодования среди людей Гицура и Сванхильды.
— И вот я пришел сюда, чтобы сжечь вас всех живьем в этом замке, но дух Гудруды удержал меня от этого поступка, и я дал слово, что не пролью больше безвинной крови иначе, как только защищая свою собственную жизнь. Теперь я еду на Мшистую скалу. Пусть Гицур явится туда со Сванхильдой, убийцей и колдуньей, и с теми, кто пожелает; я встречу их с почетом и смою их кровью кровь моей ненаглядной Гудруды с лезвия Молнии Света.
— Не бойся, Эйрик, я приду к тебе, и там ты убьешь меня! — воскликнула из-за двери проснувшаяся Сванхильда.
— Нет, на тебя я не подыму меча! Норны отомстят тебе лучше меня! Что смерть, это — отрада и успокоение, а я хочу, чтобы ты вечно казнилась и мучилась своими злодеяниями. Я — не низкий убийца женщин, как Гицур! Его же я вызываю на бой, пусть явится и померится со мной!
С этими словами герой повернул коня.
— Эй, люди, остановите его! Убейте его! — кричал Гицур, стараясь скрыть свой позор. Но никто не тронулся с места по его слову; в толпе слышались ропот и презрительные слова о Гицуре, убийце спящей женщины.
XXXI. Как Эйрик Светлоокий отослал своих товарищей со Мшистой скалы
Эйрик и Скаллагрим вернулись благополучно на Мшистую скалу; здесь Светлоокий застал своих людей, в числе которых был теперь и Ион, его тралль, который подошел к нему и со слезами покаялся в невольной измене. Герой простил его и даже не упрекнул. Потом созвал всех товарищей и сказал им, что дни его, он чувствует, сочтены, и он просит их вернуться к своим прежним занятиям, а его оставить здесь одного: он — несчастливый и не хочет вовлекать и их в свое несчастье. Все, слушая его речь, плакали, говоря, что лучше хотят умереть вместе с ним. Но Эйрик снова стал уговаривать их и, наконец, убедил их вернуться к своим полям и стадам. Последним, кроме Скаллагрима, ушел Ион; прощаясь со своим господином, он до того был растроган, что не мог произнести ни слова, а только целовал его руки и горько плакал.
(Впоследствии этот самый Ион ходил из селения в селение и из замка в замок, распевая про подвиги Эйрика Светлоокого и про его горестную судьбу; он стал скальдом, и все любили слушать его. Он дожил до глубокой старости, пока, наконец, странствуя зимой, в метель, не сбился с дороги и не погиб в снегу.)
Когда все удалились, кроме Скаллагрима, Эйрик обернулся к нему.
— Отчего же ты не идешь, пьяница? Пива и меду здесь нет, а там, в долине, наверное, найдется для тебя то и другое!
— Не думал я дожить до того, чтобы слышать от тебя, государь, такие слова, — печально ответил верный слуга и друг, — но я их заслужил. Только все же нехорошо так относиться к человеку, который любил и любит тебя больше себя самого. Я знаю, что согрешил против тебя, и этот грех мой истомил во мне душу. Но скажи, неужели ты никогда ни против кого не грешил? Подумай о своих грехах и будь снисходителен к моим. Если же ты еще раз прикажешь мне уйти от тебя, то я уйду, хотя бы сердце мое надорвалось от горечи и обиды, уйду и лягу на тот край обрыва, где ты некогда душил меня в своих объятиях, лягу и скачусь вниз. Никого в жизни своей я не любил так, как тебя, и теперь слишком стар, чтобы искать другого господина. Повторяю, если ты того хочешь, я избавлю тебя от себя.
— Нет, Скаллагрим Овечий Хвост! Сердце у тебя верное и душа глубокая. Я согрешил в своей жизни не меньше тебя и был прощен, а потому и тебе прощаю! Оставайся со мной и умрем вместе!
Закрыл Скаллагрим лицо свое руками и громко зарыдал от этих слов Эйрика; а тот обнял его и поцеловал.
Между тем Гицур вернулся к Сванхильде и стал упрекать ее, что она заставила его совершить столь постыдный поступок; теперь его собственные люди презирают его, и он едва смеет взглянуть им в лицо.
На это Сванхильда отвечала, что он может идти и что она не станет его женою, пока жив Эйрик Светлоокий.
Она говорила это, не теряя надежды овладеть Эйриком, и в этом смысле и выразилась Гицуру, но тот понял ее слова иначе и потому сказал:
— Если только возможно это сделать, Эйрик, конечно, не останется жив. — И он пошел переговорить со своими людьми.
Гицур объяснил им, что убил Гудруду по ошибке, приняв ее за Эйрика.
— Все равно, убить спящего, будь то мужчина или женщина, постыдное дело, — проговорил старый викинг по имени Кетиль, нанятый Гицуром убить Эйрика. — Это убийство, и такое дело никому не может принести счастья. Нам зазорно иметь общение с убийцами и колдуньями!
Тогда Гицур стал рассказывать, будто Гудруда сама напоролась на меч, который он держал в своей руке, ожидая, что Эйрик отзовется на его вызов. Однако никто ему не поверил.
— Трудно отыскать правду между мыслью и речью законника, — продолжал Кетиль. — Эйрик же правдивый человек, это всякий знает. Вот тебе наше последнее слово, Гицур: или ты выступишь в честном бою против Эйрика и оправдаешь себя в наших глазах, или все мы оставим тебя, мы не хотим служить убийцам или иметь с ними какое-нибудь дело.
Гицур и Сванхильда стали готовиться в поход против Эйрика и с большим множеством людей двинулись ко Мшистой скале, или Мосфьеллю. Но, желая обмануть своих людей, Гицур отправил семерых вперед, приказав им пройти секретной тропой на вершину скалы на ту площадку, что нависла над пещерой Эйрика, и, как только он покажется, закидать его камнями или забросать каменными глыбами сверху, обещая тому из них, кто убьет Эйрика, громадную денежную награду. Сванхильда же со своей стороны обещала тайно от Гицура тоже денежную награду тем, кто доставит ей Эйрика живым, связанного, но невредимого.
XXXII. Что видели в последнюю ночь Скаллагрим и Эйрик Светлоокий
Над Мшистой скалою опустилась ночь. То была страшная, необычайная ночь. Царила такая тишина, что малейший звук доносился издалека, вселяя страх и суеверный ужас в сердца людей. Эйрик и Скаллагрим сидели на краю обрыва на небольшой каменной площадке перед входом в пещеру; им было так жутко среди этой тишины, что сон бежал от очей их, и оба они чутко прислушивались к малейшему шороху, доносившемуся до них.
Вдруг они почувствовали, что гора плавно заколыхалась, как колышется грудь женщины, на землю спустился густой мрак, так что и звезд не стало видно.
Молча сидели Эйрик и Скаллагрим. Вдруг первый сказал:
— Посмотри! — И указал рукой на вершину горы Геклы.
Словно зарево окутало всю вершину, и в этом зареве, ясно выделяясь, появились три гигантских женских фигуры: то были три пряхи норны; ужасного вида, пряли они так усердно и так быстро, что трудно было даже следить за ними.
Но вот картина исчезла, и все потонуло снова во мраке.
Это явление видели не только Эйрик Светлоокий и Скаллагрим, но и Ион, тралль, сделавшийся скальдом, который притаился в расщелине скал, желая видеть конец Эйрика Светлоокого.
— Это были норны, — произнес Скаллагрим, — они пришли напомнить нам, что смерть наша близка!
— Да, я чувствую, что мы с тобой умрем завтра, и рад тому; я устал, мне претят человеческая кровь, громкие подвиги, слава и самая великая сила моя; хочу я только покоя! Разложи-ка огонь, Скаллагрим, мне жутко в этом мраке!
Они разложили яркий костер и опять молча сели у огня друг подле друга. Вдруг им послышалось, что из обрыва как будто кто-то взбирается: они оглянулись и увидели, что прямо к костру идет безголовый человек. Эйрик и Скаллагрим переглянулись и разом узнали безголового. Это был тот берсерк, которого убил Эйрик, когда впервые пришел сюда к этой пещере.
— Ведь это мой товарищ, которому ты отрубил голову, — сказал Скаллагрим. — Прикажешь ли, я наброшусь на него и изрублю его, государь?
— Нет, не тронь его, пусть сидит!
И они снова смолкли. И вот стали прибывать к ним все новые и новые гости. Все те, кто когда-то пали от руки Эйрика, приходили один за другим с их зияющими ранами и молча садились к костру.
Явился и Атли с отрубленной рукой и громадной смертельной раной в боку.
— Приветствую тебя, ярл Атли! — воскликнул Эйрик. — Садись рядом со мной!
Дух Атли послушно сел подле Эйрика, печально смотря на него, но не сказал ничего.
Все больше и больше гостей сходилось к костру; теперь оставалось только одно пустое место подле Эйрика.
Вдруг послышался звук конского топота, донесшегося из долины, и Эйрик со Скаллагримом увидели, что на вороном коне скачет женщина в белом одеянии; золотистые волосы густой волной стелются у нее по плечам и за спиной, развеваясь по ветру, словно золотой плащ. Вот она соскочила с седла и идет к костру, и видит Эйрик, что это Гудруда Прекрасная. Вскрикнул Эйрик от радости и вскочил со своего места, протянув к ней руки.
— Приди и сядь со мной, ненаглядная! — проговорил он. — Теперь мне ничто не страшно! Приди, дорогая супруга моя, и сядь рядом со мной, дай мне наглядеться на тебя!
Гудруда подошла и села подле него, но не проронила ни слова. Трижды он протягивал к ней руки, желая обнять ее, но каждый раз руки его точно отнимались и бессильно падали вниз. Но вот и еще новые гости, но уже в виде туманных призраков, появились на краю обрыва. То были Гицур сын Оспакара, и многие из его людей, и Сванхильда, дочь колдуньи Гроа. Вдруг их заслонили собою две рослые тени в полном воинском вооружении; одной из них был Эйрик Светлоокий, а другой — Скаллагрим.
Так, еще будучи живыми, оба героя увидели свои собственные тени, и при виде их громко вскрикнули и лишились чувств. Когда же они очнулись и пришли в себя, костер уже погас; стало совсем светло.
— Знаешь ли, Скаллагрим, мне снился страшный сон! — произнес Эйрик и рассказал другу обо всем, что видел.
— Не сой то был, — ответил Скаллагрим, — ведь и я все это видел, государь мой. Как видно, нам предстоит совершить сегодня наш последний подвиг. Пойдем же, умоемся, приберемся и поедим, чтобы, когда настанет час, быть бодрыми и полными сил!
Так они и сделали. Повеселел Эйрик, зная, что теперь конец его близок. И вот увидели они облако пыли вдали в долине и сразу узнали, что то Гицур, Сванхильда и с ними их люди. Герои решили ожидать врагов здесь, наверху скалы, на площадке перед пещерой. Тем временем враги достигли подножия Мшистой скалы, но только после полу-Дня начали взбираться на гору, да и то взбирались не спеша, сберегая свои силы. Пока Гицур со своими людьми взбирался в гору, тот тралль и с ним шесть человек, что были посланы вперед, успели уже обойти гору и, тайной тропой выйдя на вершину скалы, теперь смотрели оттуда вниз на Эйрика и Скаллагрима, готовя камни, чтобы скатывать их вниз.
XXXIII. Как Эйрик Светлоокий и Скаллагрим берсерк бились в своей последней битве
— Ну, теперь их пора прихлопнуть, не то нелегко будет нашим товарищам устоять против Молнии Света и топора Скаллагрима! — произнес тралль Сванхильды и первый сбросил сверху громадную глыбу камня.
Глыба рухнула и упала подле самого Эйрика, задев крыло его шлема и сплющив его.
— Шлем не голова! — сказал Эйрик. Скаллагрим, подняв голову, увидел, в чем дело.
— Хм! — сказал он. — Нам теперь остается или спрятаться в пещеру, или выйти навстречу врагам в узкий проход и загородить его им.
Так и сделали. Шум шагов и голоса Гицура и его людей неслись им навстречу. Эйрик и Скаллагрим спустились в узкий проход и встали плечом к плечу. Как увидел их Гицур, разом отпрянул назад, и засмеялся над ним Скаллагрим.
— Ведь их только двое! — крикнул из-за спины Гицура старый викинг Кетиль. — Что же ты, Гицур сын Оспакара, бей его!
— Стой! — крикнула повелительно Сванхильда и выступила вперед. — Я хочу говорить с ним… Сдайся, Эйрик! Ты видишь, спереди враги и сзади враги; вас только двое, а нас более ста человек! Сдайся, говорят тебе, и, быть может, ты будешь помилован!
— Ни я, ни Скаллагрим не привыкли сдаваться! Да и пощады от тебя я не хочу, а ему не надо! — отвечал Эйрик. — Мы хотим умереть и умрем; для меня смерть — отрада и желанная цель: она соединит меня с моей возлюбленной супругой, с Гудрудой Прекрасной. Мы умрем, но умрем не одни: умрет и Гицур, умрешь и ты сегодня. Так предсказали нам в эту ночь норны! Умрет и викинг Кетиль, и многие другие. Так не трать даром слов: чему суждено быть, то будет, и не тебе твоим бабьим языком изменить волю судьбы. Отойди!.. Ну, Гицур, что же? Где твой меч? Готовь свой щит!
— Слышишь, Гицур, Эйрик вызывает тебя, чего же ты медлишь?! — крикнул Кетиль, старый викинг.
Но Гицур, белый, как мел, пятился назад, прячась за спины своих людей.
Тогда Кетиль не стерпел и, как разъяренный зверь, кинулся на Эйрика, призывая за собой людей. И начался бой. Люди падали один за другим под мечом Эйрика и топором Скаллагрима; трупы их преграждали дорогу новым воинам. И сердца всех робели; никто уже не решался выходить против Эйрика и берсерка.
Но тралль Сванхильды, засевший на вершине скалы со своими шестью людьми, по звукам битвы, доносившимся до него, понял, в чем дело, и угадал, что никто не может одолеть Эйрика. Приказав своим людям укрепить надежную веревку, он спустился по ней с товарищами к пещере и, крадучись, стал пробираться в узкий проход, рассчитывая захватить Эйрика врасплох и напасть на него с тыла.
Хитро это было придумано, но Скаллагрим, уловив злорадный взгляд Сванхильды, обернулся как раз вовремя, чтобы успеть спасти Эйрика, над головой которого коварный тралль уже занес свой меч.
— Спина к спине! — крикнул Скаллагрим, отразив удар, и вот, снова началась кровавая битва.
Враги, видя неожиданную поддержку себе, приободрились и с новым воодушевлением стали нападать на Эйрика, который теперь отбивался от них один, тогда как тралль и его шесть человек с бешенством нападали на Скаллагрима. Но вскоре из них не оставалось ни одного в живых, путь к пещере был свободен. Однако в этот момент один отчаянный смельчак накинулся на Эйрика, а Гицур стал красться за его спиной. Эйрик отразил удар, поразив насмерть смельчака, но, пользуясь этой минутой, Гицур успел нанести Эйрику смертельную рану в голову. Герой упал.
— Моя песня спета! — проговорил он Скаллагриму. — Взбирайся на скалу, а меня оставь здесь!
— Полно, государь, это просто царапина! Подымись. Взберись наверх, я приду следом за тобой! — И с громким, пронзительным криком берсерк один устремился на врагов, рубя направо и налево. Им овладел припадок бешенства; враги отступали перед ним. В несколько минут весь проход опустел. Тогда Скаллагрим последовал за Эйриком вверх на площадку перед пещерой. С трудом, чуть не падая, хватаясь за выступы скал, Эйрик добрался до пещеры и опустился на землю, прислонясь спиной к скале и положив свой меч Молнии Свет на колени.
Но вот Скаллагрим подошел к нему.
— Теперь мы с тобой можем вздохнуть на минутку, государь. Вот вода, попей! — И он напоил Эйрика, затем сам напился и вылил целый ковш на рану друга. И будто новая жизнь влилась в них двоих, оба они поднялись теперь на ноги. Но люди Гицура и Сванхильды, видя, что никто не преграждает им пути, собравшись с духом, взобрались на скалы, Сванхильда — впереди всех, за нею Гицур и другие. Однако многие люди остались внизу, не желая больше биться с Эйриком и Скаллагримом.
Сванхильда, подойдя к Эйрику, снова стала уговаривать его сдаться, но герой отвечал, что сам хочет смерти, так как в смерти он соединится с той, которую он одну любил и любит больше жизни; хочет смерти потому еще, что она избавит его навсегда от встречи с нею, со Сванхильдой, лицо которой он желал бы никогда не видеть.
Вскипела Сванхильда яростью, и лицо ее исказилось от злобы.
— Мало того, —
продолжал Эйрик, — я знаю, что и над тобой висит смерть, что и ты не уйдешь от своей судьбы. Но ты не найдешь радости и успокоения в смерти; тебя будут вечно мучить и терзать проклятия людей, злая совесть и неудовлетворенные желания. Всякий, кто вспомнит о тебе, вспомнит с проклятием!
— Идите и убейте этих людей, стоящих вне закона! Прикончите их скорее! — злобно закричала Сванхильда.
И еще раз люди Гицура наступили на двух витязей тесной гурьбой. Размахнулся Эйрик раз, другой, третий — и всякий раз удар его не пропадал даром. Но тут силы оставили его, и он в изнеможении упал на землю. Скаллагрим, видя это, заступил его своей мощной, плечистой фигурой и, точно косматая медведица стоя над своим раненым детенышем, никого не допускал до него, один отбиваясь от целой толпы. Тогда, выбрав удобную минуту, Гицур сзади пустил стрелу в лежащего на земле умирающего Эйрика. Стрела попала ему в бок, глубоко вонзившись в тело.
— Кончено! — громким, звучным голосом воскликнул Эйрик, и голова его откинулась назад, а глаза сомкнулись. Вся толпа врагов отпрянула назад и притихла; все хотели видеть кончину великого витязя, Эйрика Светлоокого.
Скаллагрим, склонившись над ним, бережно вынул стрелу из раны и поцеловал умирающего в бледный лоб.
— Прощай, Эйрик Светлоокий! Другого такого человека, как ты, не увидит Исландия. Немногие могут похвастать такой славной смертью, как ты. Подожди немного, государь! Погоди, я поспешаю за тобой!
С криком: «Эйрик! Эйрик!» — он с бешенством накинулся на стоявших вокруг и снова стал разить вокруг себя. Смешались и отступили перед ним враги. Хотя кровь сочилась у него из ран, он продолжал биться, пока, наконец, секира не выпала у него из рук, и сам он, покачнувшись из стороны в сторону, не упал мертвым на Эйрика, подобно тому, как падает вековая сосна, сраженная топором, на родную скалу.
Но Эйрик еще не был мертв. Он раскрыл глаза, и при виде Скаллагрима лицо его озарилось радостной улыбкой.
— Хороший конец, товарищ! Скоро свидимся, верный друг и брат! — прошептал он.
— Эй, да этот Эйрик еще жив! — крикнул Гицур. — Ну, так я прикончу его, и меч Оспакара возвратится к сыну Оспакара.
— Ты удивительно смел теперь, когда Эйрик уже при последнем издыхании! — насмешливо и злобно заметила Сванхильда.
И видно, Эйрик слышал слова Гицура: сила на мгновение вернулась к нему; он приподнялся на колени, затем, опираясь на скалу, встал на ноги. Толпа врагов в ужасе отхлынула назад. Взмахнул герой Молнии Светом и, размахнувшись широко-широко, швырнул его в бездну.
— Дело твое сделано! Пусть ты будешь ничьим! — воскликнул Эйрик. — А теперь иди, Гицур, теперь ты можешь меня убить, если хочешь!
Гицур приблизился к нему не совсем охотно. А Эйрик продолжал громко и звучно:
— Безоружный, я убил твоего отца Оспакара, а теперь, безоружный, обессиленный и умирающий, убью тебя, Гицур, убийца жены моей! — И с громким криком он упал всей своею тяжестью на Гицура. Тот, отступив, нанес было ему еще новую рану, но Эйрик, схватив его в свои железные объятия, поднял от земли и упал вместе с ним на землю на самый край обрыва над страшной зияющей бездной. Гицур, угадав его мысль, стал вырываться, но напрасно; Эйрик поднялся, не выпуская из своих объятий Гицура, встал на край бездны и кинулся в пропасть.
Враги были ошеломлены. А Сванхильда воскликнула, простирая вперед руки:
— О, Эйрик! Такой смерти я и ожидала от тебя! Ты из всех людей был прекраснейший, сильнейший и смелейший!
Такова была смерть Эйрика Светлоокого, Эйрика Несчастливого, первого витязя в Исландии.
На другой день на рассвете Сванхильда приказала своим людям обыскать все ущелье и принести ей тело Эйрика, а когда люди нашли его, приказала омыть его и нарядить в золоченые доспехи; потом сама навязала ему на нога башмаки и вместе с телами всех убитых в тот день, а также вместе с телом Скаллагрима берсерка, верного тралля Эйрика, приказала перевезти к побережью, где стояло на якоре ее длинное военное судно, на котором она прибыла сюда, в Исландию. Здесь тела убитых были сложены высокой грудой на палубе ее судна, а наверху, поверх всех убитых, положили тело Эйрика; голова его покоилась на груди Скаллагрима, а ноги попирали тело Гицура сына Оспакара. Когда все это было сделано, Сванхильда приказала поднять паруса и сама взошла на судно, все края которого были изукрашены щитами павших в последней великой битве на Мосфьелле, названном с тех пор Эйриксфьеллем. Когда настал вечер, Сванхильда собственной рукой обрубила якорный канат, и судно ее, точно птица, понеслось вперед, а она, Сванхильда, распустив свои черные кудри по ветру, стояла в головах Эйрика Светлоокого, запев предсмертную песню. Вдруг два белых лебедя спустились с облаков и стали парить над судном, которое теперь быстро уносилось в лучах заката на крыльях бурного ветра. А ветер все свежел и крепчал; мрак спускался на землю и на бушующее море. Большое боевое судно Сванхильды потонуло во мраке, и предсмертная песня Сванхильды колдуньи, дочери колдуньи Гроа, смолкла среди завывающей бури.
Но далеко на краю горизонта, среди моря, вдруг вспыхнуло яркое зарево пожара; пламя его высоко подымалось к небесам. Все догадались, что то горело судно Сванхильды с мертвыми телами Эйрика Светлоокого, Скаллагрима берсерка, Гицура сына Оспакара и других мертвецов, служивших им почетным ложем.
Таково предание об Эйрике Светлооком, сыне Торгримура, о Гудруде Прекрасной, дочери Асмунда жреца, о Сванхильде Незнающей отца, жене Атли Добросердечного, об Унунде, прозванном Скаллагримом Овечий Хвост, которые жили все и умерли еще до того, когда Тангбранд сын Вильбальдуса стал проповедовать Белого Христа в Исландии.
Хаггард Г.Р. Жемчужина Востока
I. В тюрьмах Кесарии
Два часа ночи, но в Кесарии, на Сирийском побережье, многие еще не спали. Агриппа
[164], милостями Рима ставший царем всей Палестины
[165], достигший апогея своей власти, давал великолепный праздник в честь императора Клавдия
[166]. На его призыв поспешили все важные и влиятельные лица страны и десятки тысяч прочих палестинцев. Город был переполнен людьми, прибывшими со всех концов страны. Берег моря пестрел палатками и шалашами, в которых ютились те, кому не нашлось места ни в гостиницах, ни в заезжих дворах, ни в частных домах обывателей. Весь город кипел жизнью, как муравейник. Даже сейчас, ночью — хотя разноголосый оглушающий шум и стих над городом — толпы отпировавших гостей в венках из роз, теперь уже помятых и поблекших, возвращаясь к себе на ночлег, проходили по улицам с громкими песнями и смехом, а те, что были еще достаточно трезвы, обсуждали подробности игр в цирке, которые они только что наблюдали.
На холме возвышались мрачные каменные здания тюрьмы, разделенной на несколько крытых дворов, обнесенных общей высокой стеной и глубоким рвом. Заключенные могли слышать, как работали там, внизу, у подножия храма, в амфитеатре, чернорабочие, готовя цирк и арену к завтрашнему зрелищу; доносившиеся звуки волновали несчастных: они должны были стать действующими лицами на этой арене.
На переднем дворе тюрьмы толпилось около сотни человек, называемых преступниками или злодеями, — по преимуществу иудеев, обвиненных в каких-нибудь политических проступках. Завтра они сражаются в цирке с двойным против них числом диких арабов, детей пустыни, захваченных во время их пограничных набегов. Арабы вооружаются громадными копьями и мечами. На протяжении двадцати минут безоружные, но одетые в тяжелые панцири и снабженные большими щитами иудеи должны будут бороться против вооруженных арабов. Тем из них, кто останется жив и не проявит трусости или малодушия в бою, равно арабам и иудеям, была обещана свобода. Действительно, милостивым указом царя Агриппы, не любившего бесполезного кровопролития, вопреки обычаям того времени, даже раненым даровали жизнь, если находились люди, желающие взять на себя уход за ними.
В другом большом дворе в пустынной зале находилось не более пятидесяти человек заключенных. В глубоких нишах и гротах этой обширной залы отдельные группы имели полную возможность уединиться друг от друга. Здесь были женщины и дети разного возраста, а также около десятка мужчин, старых и хилых; остальные мужчины, сильные и молодые, были предназначены для роли гладиаторов. Все они, за немногим исключением, принадлежали к новой секте христиан, последователей некоего Иисуса. Он, гласила молва, был распят — как человек беспокойный, возмущавший народ и восставший против власти, — лет пятнадцать тому назад по приказанию римского правителя Иудеи Понтия Пилата, впоследствии впавшего в немилость и сосланного в Галилею, где он покончил жизнь самоубийством. Этот Пилат не пользовался большой популярностью среди иудеев, так как завладел сокровищами Иерусалимского храма и употребил их на сооружение акведуков, что вызвало сильное возмущение в народе, и во время бунта многие были убиты. Но теперь о нем почти забыли. Зато память и слава о распятом им демагоге Иисусе росла и распространялась повсюду: многие делали из него какого-то бога, проповедуя от его имени некое новое учение, совершенно противное всем законам и обычаям страны и крайне ненавистное существующим сектам иудеев.
Фарисеи и саддукеи, зилоты, когены и левиты
[167] — все единогласно восстали против этого учения, убеждая Агриппу истребить вероотступников, проповедовавших народу, что обещанный иудеям Мессия, небесный Царь, долженствующий ниспровергнуть владычество Рима и сделать Иерусалим столицей мира, уже приходил в образе простого плотника-проповедника, но его не признали, и он погиб, как преступник.
Зилоты — представители еврейской бедноты, мелких торговцев, ремесленников. Занимали радикальную позицию в религиозных и политических вопросах.
Когены — жрецы-священники культа Яхве. Ниже их по рангу стояли жрецы-левиты.
Агриппа же, подобно высокообразованным римлянам того времени, с которыми он постоянно поддерживал самые тесные отношения и среди которых постоянно вращался, лично не исповедовал никакой религии. В Иерусалиме в угоду народу он украшал храм и приносил жертвы Иегове
[168], а в Берите украшал храм и делал жертвоприношения Юпитеру. С каждым человеком он был тем, кого тому приятно видеть, с самим же собой — ленивым и сладострастным сыном своего века. О христианах он никогда много не думал и нисколько не интересовался ими, но так как влиятельные и приближенные к нему иудеи прожужжали ему все уши и так как среди христиан не было ни одного сколько-нибудь уважаемого и знатного лица — а все какие-то незначительные, жалкие людишки, которых можно было безнаказанно преследовать — он и решил, в угоду иудеям, преследовать их, но делал это без всякой злобы, без всякого желания. По настоянию иудеев одного из этих христиан, Иоанна — ученика распятого, он приказал схватить и распять в Иерусалиме. Другого, по имени Петр, известного проповедника, горячего и убежденного, бросил в тюрьму, а многих из их последователей убивал или держал в тюрьмах для цирковых игр. Женщин, если они были молоды и красивы, продавал в рабство, пожилых же матрон и старух кидал диким зверям.
Именно эта участь ожидала на следующий день бедные жертвы, что находились во втором дворе в большой мрачной зале тюрьмы. В программе увеселений на наступающий день было объявлено, что после битвы гладиаторов и других цирковых игр шестьдесят взрослых христиан, престарелых, хилых и ни к чему не пригодных, и малых ребят, которых никто не желает купить, выгонят на арену амфитеатра и выпустят на них тридцать голодных львов и других диких зверей, уже заранее разъяренных запахом крови. Но и тут Агриппа не преминул выказать свою мягкосердечность, приказав, чтобы все, кого львы и другие дикие звери откажутся растерзать, были наделены одеждами, небольшой суммой денег и выпущены на свободу.
Такие зрелища, как кормление диких животных живыми женщинами, старцами и детьми, являлись излюбленным развлечением. Большие суммы денег ставились в заклад относительно того, сколько из несчастных останется в живых и сколько будет растерзано зверями. При этом стоявшие за то, что уцелеют лишь очень немногие, подкупали солдат и сторожей, и они опрыскивали волосы и платье несчастных жертв валериановым отваром или настойкой — существовало мнение, что запах валерианы возбуждает аппетит этих громадных кошек. Другие, составлявшие сравнительно большое число, заставляли тех же солдат и тюремщиков путем более крупных подкупов проделывать над несчастными жертвами иного рода манипуляции, будто бы возбуждающие отвращение у львов, причем личность осужденного, конечно, не играла в глазах этих азартных игроков никакой роли.
В тени одного из сводов второго двора, близ железной решетки ворот, у которых мерным шагом расхаживали часовые с длинными копьями в руках, сидели две женщины. Одна из них, несомненно еврейка, еще совсем молодая, красивая, но исхудавшая и измученная, с явными признаками знатного происхождения, была Рахиль, вдова Демаса, богатого греко-сирийца, и единственная дочь известного всей стране родовитого иудея Бенони, богатейшего торговца в Тире. Другая женщина, уже немолодая, родом с Ливийских берегов, в юности была похищена иудейскими торговцами и продана в рабство. Это была чистейшего происхождения арабка без малейшей примеси негритянской крови, о чем свидетельствовали ее стройное, гибкое, сильное сложение, медно-желтый цвет кожи, густые, прямые, черные, как смоль, волосы и огненные глаза с гордым и непокорным взглядом. Все ее лицо дышало гордостью и неустрашимостью, что-то дикое и свирепое было в нем, но когда взгляд ее останавливался на молодой красавице, невыразимая нежность и тревога отражались в ее чертах. Эту женщину звали Нехушта (по-еврейски "медь"). Имя придумал Бенони, когда много лет тому назад купил ее на базарной площади Тира. На родине же она носила другое имя: там ее звали Ноу, и покойная госпожа, супруга Бенони, и дочь его, прекрасная Рахиль, всегда называли ее так.
Сидя на земле, Рахиль мерно раскачивалась из стороны в сторону, закрыв лицо руками, — она молилась. Нехушта же, сидевшая подле нее на корточках, неподвижно смотрела куда-то в пространство.
Ночь была тихая, лунная.
— Это наша последняя ночь на земле, Ноу! — проговорила Рахиль, отняв наконец руки от лица и взглянув на звездное небо. — Странно подумать, что мы никогда больше не увидим ни этого ясного месяца, ни этих мерцающих звезд!
— Как знать, госпожа, — отозвалась Ноу, — но я, во всяком случае, не намерена умереть завтра, да и тебе дать умереть не намерена. Я не страшусь львов, они — дети моей родной пустыни, они мне братья, и их рев убаюкивал меня, когда я была ребенком. Мой отец, вождь нашего племени, назывался повелителем львов, так как умел укрощать их, и я ребенком кормила их из рук, они ходили за мной как псы!
— Но ведь тех львов давно нет, а другие тебя не знают!
— Все равно, они почуют родную кровь, почуют дочь повелителя львов! Говорю тебе, госпожа, они могут растерзать всех, но нас с тобой не тронут!
— Нет, Ноу, я не могу этому поверить, и завтра мы умрем ужасной смертью, чтобы Агриппа мог почтить своего господина, цезаря!
— Госпожа, если ты не веришь, что звери пощадят нас, то лучше умереть сейчас, по своей доброй воле, чем быть растерзанными ими для увеселения подлой толпы. Смотри: у меня в волосах спрятан смертельный яд, он действует и быстро, и безболезненно! Выпьем его — пусть все будет кончено!
— Нет, Ноу, я не могу наложить на себя руки, да если бы и захотела это сделать, то не вправе распорядиться жизнью моего еще не родившегося ребенка!
— Умрешь ты, госпожа, — умрет и он. Не все ли равно, случится это сегодня или завтра?
— Да, но кто может предвидеть, что случится завтра? Быть может, Агриппа будет мертв, а мы с тобой живы, и мой ребенок будет жить: все в воле Божьей, пусть же Бог решит его участь!
— Ради тебя я стала христианкой и верю, как могу, в то, чему нас научили. Но в моих жилах течет буйная кровь: я горда, сильна и не хочу покоряться судьбе. Пока я жива, когти льва не коснутся твоего нежного тела, я скорее заколю тебя своим ножом, а если у меня отнимут нож, расшибу твою голову о столб на арене на глазах у всех!..
— Не принимай греха на свою душу, Ноу! — сказала кротко ее госпожа.
— Что мне эта душа?! Моя душа — это ты, свет очей моих, ты, которую я качала в колыбели, которой я своими руками готовила брачное ложе. Своими руками я хочу дать тебе легкую, быструю смерть, чтобы спасти от худшей смерти, а затем скажу себе, что честно исполнила долг, и умру подле твоего бездыханного трупа, до конца верная клятве, данной твоей покойной матери. А тогда пусть Бог или сам сатана делают с моей душой, что им угодно. Мне все равно!
— Ты не должна так говорить, Ноу! Я бы охотно умерла, чтобы скорей соединиться с моим возлюбленным супругом. Только бы мое дитя получило жизнь, хоть на час. Тогда я знала бы, что мы все трое или, вернее, четверо, пребудем вместе в веках в царстве Божием; я говорю "четверо", так как ты, Ноу, мне дорога наравне с моим мужем и ребенком…
— Не может этого быть, и не хочу я этого! — пылко воскликнула Нехушта. — Я — рабыня, собака, лежащая под столом у ног своих господ… О, если бы я могла спасти тебе жизнь! С какой радостью потом показала бы я, как презирает своих мучителей и как сумеет умереть дочь пустыни, дочь моего отца! — Глаза арабки загорелись гневным огнем, она заскрипела зубами в бессильной злобе, но, охваченная внезапным порывом страстной нежности к своей госпоже, стала покрывать ее лицо, руки и плечи горячими поцелуями, а затем разразилась тихими, сотрясающими душу рыданиями.
— Слышишь ли, Ноу, — сказала Рахиль, ласково проведя рукой по ее волосам, — как ревут львы в своих логовищах, в пещере над этой залой?
Нехушта подняла голову, прислушалась, и лицо ее просветлело: сотрясающие своды залы могучие звуки львиного рыка воскрешали в ее душе картины далекой родины, будили дорогие воспоминания, говорили ей о свободе.
— Их — девять, — сказала Нехушта уверенно, — и все бородатые, царственные львы, старые самцы, могучие и величественные. Слушая их, я молодею, я чую запах родной пустыни и вижу порог отцовского шатра… Ребенком я охотилась на них, теперь они отплатят мне тем же: настал их час!
— Воздуха! Мне душно! Душно! — вдруг вскрикнула молодая женщина и без чувств упала на землю. Служанка подняла ее, как малого ребенка, и со своей драгоценной ношей направилась к фонтану, плескавшемуся посреди двора. Его холодная струя вскоре оживила Рахиль. Мрачная тюрьма некогда была дворцом, и это место у фонтана было красиво и удобно, в его прохладе были устроены каменные скамьи, и на одной из них расположилась теперь Рахиль. Нехушта опустилась на землю у ее ног. Вдруг чугунная решетка калитки, проделанной в тюремных воротах, раскрылась, и несколько мужчин, женщин и детей вошли во внутренний двор, понукаемые свирепыми стражами.
Позади всех с трудом переступала, опираясь на костыль, седая сгорбленная старуха в темной одежде.
— Спешите попасть на завтрак львам, друзья христиане! — издевался очередной тюремщик, пропуская в калитку вновь прибывших. — Спешите вкусить последнюю вечерю по вашему обычаю. Вы найдете вина и хлеба вдоволь, наедитесь перед тем, как сами будете съедены без остатка!
— Не кощунствуй, — подняла голову старуха, — я, Анна, которую Бог наградил даром прорицания, говорю тебе, вероотступнику, который сам был раньше последователем Христа, что ты уже вкусил свою последнюю трапезу здесь, на земле, и вскоре предстанешь пред судом Божиим!
Вне себя от бешенства, тюремщик выхватил из-за пояса нож и хотел ударить им старую Анну, но одумался и, сердито хлопнув калиткой, вышел. Он знал, что Анна обладала даром пророчества, и слова ее звучали у него в ушах смертным приговором. Старуха же поплелась дальше вслед за своими спутниками.
— Мир тебе! — проговорила Рахиль, подымаясь и приветствуя Анну, когда та проходила мимо фонтана. Нехушта последовала ее примеру.
— Именем Христа, мир вам! — ответила старая женщина.
— Матерь Анна, разве ты не узнаешь меня? Я — Рахиль, дочь Бенони!
— Рахиль?! Как же ты, дочь моя, попала сюда?
— Тем путем, каким идут все последователи Христа! Но ты утомлена, присядь!
— Спасибо! — Анна медленно, с помощью Ноу, опустилась на каменные ступеньки фонтана. — Дай мне напиться, дочь моя, путь наш был долог, и меня томит жажда!
Рахиль зачерпнула горсть воды своими тонкими, красивыми руками и из ладоней напоила Анну.
— Хвала Богу за эту живительную влагу и за то, что я вижу дочь Бенони прозревшей и уверовавшей во Христа! Мне говорили, что ты стала женой купца Демаса!..
— Теперь уже вдовой: они убили его шесть месяцев тому назад в амфитеатре в Берите! — И молодая женщина залилась горькими слезами.
— Не плачь, дочь моя, скоро ты свидишься с ним, смерть не должна страшить тебя!
— Смерти я не боюсь, мать Анна, но ты сама видишь, что я готова стать матерью, и о нем, моем ребенке, все мое горе. Я плачу о том, что ему не суждено увидеть света Божьего. Будь он уже рожден, я знала бы, что все мы вместе пребудем в славе и вечном блаженстве. Но теперь этому не бывать!
Анна взглянула на нее своим глубоким, проницательным взглядом и проговорила:
— Разве и ты, дочь моя, обладаешь даром прорицания, что с такой уверенностью говоришь "этого не будет"? Будущее в руках Господа! И царь Агриппа, и твой отец, и римляне, и жестокие иудейские начальники, и мы, обреченные стать пищей хищным зверям, — все в руках Божиих, и что Им назначено, то и будет! Прославим же и возблагодарим Господа!
— Дух бодр, но плоть немощна! — скорбно проговорила Рахиль. — Но слышите: братья и сестры зовут нас к Трапезе любви и принятию Святого Причастия! Пойдемте! — И она встала и направилась под тень мрачных сводов залы.
Нехушта осталась, чтобы помочь Анне подняться на ноги, и, когда госпожа уже не могла ее слышать, верная служанка, наклонившись к самому уху пророчицы, прошептала:
— Мать, тебе дан Богом дар пророчества, скажи же мне, должен ее ребенок родиться на свет?
Анна возвела глаза к небу и затем тихо и вдумчиво произнесла:
— Младенец родится и проживет многие годы. Завтра, думается мне, никто из нас не умрет от кровожадности хищных львов, но твоя госпожа все-таки в самом скором времени вновь соединится со своим супругом, поэтому я и не высказала ей того, что у меня было на душе.
— Тогда лучше всего умереть и мне! Я умру и буду там служить своей госпоже! — сказала Нехушта.
— Нет, — возразила Анна строго и наставительно. — Ты останешься охранять ребенка, ты воспитаешь его вместо матери и после дашь ей отчет во всем!
II. Глас Божий
Высока была цивилизация Рима. Его законы, его гений не умерли и сейчас, его военное искусство и теперь еще возбуждает удивление, его великолепные, грандиозные здания, развалины которых уцелели местами, служат образцами красоты строительного искусства, а между тем этот самый Рим не знал ни жалости, ни сострадания. В числе великолепных и величественных развалин мы не видим ни одного госпиталя или богадельни, приюта для престарелых и сирот. Эти человеческие чувства были совершенно незнакомы народу Рима, находившему удовольствие, забаву и наслаждение в муках и страданиях подобных себе.
Царь Агриппа по своим мыслям и понятиям, по вкусам и привычкам был настоящий римлянин. Рим был его идеалом, а идеалы Рима были его идеалами!
Стояло жаркое время года — и по распоряжению Агриппы игры в цирке должны были начаться рано, а окончиться за час до полудня. Уже с полуночи толпы народа устремились в амфитеатр занимать места, и несмотря на то, что последний вмещал свыше двадцати тысяч человек, очень многим места не досталось. За час до рассвета все было уже заполнено. Только ложи, предназначенные для Агриппы и его приближенных, да почетных гостей, оставались пока еще не занятыми.
* * *
Между тем под темными сводами большой залы тюрьмы, вокруг длинного, ничем не покрытого стола собрались осужденные христиане. Старые и малые сидели на скамьях, остальные, стоя, толпились вокруг них.
На главном месте помещался почтенный старец; то был христианский епископ, которого долгое время щадили преследователи из уважения к преклонным летам и высоким душевным качествам, но теперь, видно, пришел и его час.
Хлеб и вино, смешанное с водой, были освящены, все вкусили от них. Затем епископ благословил собрание и растроганным голосом возгласил: "Радуйтесь, братья и сестры мои во Христе! Сегодня — день великой радости, мы вкусили истинную Трапезу любви и, подобно Господу нашему, можем сказать теперь: "Мы не будем пить от плода сего виноградного, пока не будем пить новое вино в царстве Отца нашего Небесного!" Мы сбросим с себя тяготы жизни земной, все тревоги, волнения и страдания и вступим в вечное блаженство! Возблагодарим, прославим Бога и возрадуемся великой радостью! Пусть когти и пасти львов не страшат вас, пусть расставание с жизнью не смущает покоя ваших душ; другие возьмут из рук ваших светоч спасения и понесут его вместо вас — и разольется свет учения Христа на весь мир. Возрадуемся же и возвеселимся в этот день!"
И все воскликнули: "Возрадуемся!", даже дети. Затем они совершили молитву и славили, и благодарили Бога, а в заключение епископ благословил их во имя Святой Троицы. Едва окончили приговоренные свое богослужение, как железная решетка ворот распахнулась и главный тюремный страж со своими помощниками приказал им идти в амфитеатр. У ворот тюремщики передали осужденных солдатам, под конвоем которых те двинулись попарно, с епископом во главе, по узкой темной улице между двумя высокими каменными стенами к боковому входу, ведущему на арену цирка. По слову епископа христиане, проходя в узкую калитку, запели хвалебный псалом. С пением вышли они на арену и заняли предназначенные им места за особой загородкой в противоположном царскому балкону конце амфитеатра, на специальном низком помосте.
До восхода солнца оставалось еще около часа, луна уже зашла, весь амфитеатр был погружен во мрак. Лишь там и здесь, на далеком друг от друга расстоянии, горели стоячие факелы да два больших бронзовых светильника по обе стороны пышного трона Агриппы, остававшегося еще не занятым. Этот мрак как-то подавляюще действовал на присутствующих, никто не шумел, не пел и даже не смел громко говорить. Вместо обычных в таких случаях криков "Песье мясо!" и насмешливого требования чудес при появлении христиан собрание безмолвно следило за ними глазами, и только шепотом зрители передавали друг другу: "Смотрите, это — христиане!"
Разместившись, христиане снова запели свой тихий гимн, и собравшийся народ, точно заколдованный, слушал их почти с благоговением. Когда осужденные допели хвалебную песнь и последний звук замер в густом полумраке амфитеатра, старец епископ, движимый вдохновением свыше, встал и обратился к собравшемуся народу, и, как это не странно, вся многочисленная толпа слушала его, ни один голос не поднялся, чтобы прервать или осыпать насмешками и издевательствами, как это обычно бывало в подобных случаях.
Быть может, его слушали только потому, что так сокращалось время томительного ожидания и сглаживалось удручающее впечатление от мрака… Но так или иначе все внимание было обращено на невидимого оратора, голос которого звучал ласково и призывно.
— Замолчишь ли ты, старик? — вдруг крикнул тот вероотступник, которому пророчица Анна предсказала близкую смерть. — Не смей проповедовать свою проклятую веру!
— Оставь его, пусть говорит! — послышалось из толпы. — Мы хотим слушать его рассказ! Говорят тебе, оставь, не мешай!
И старик продолжал свою простую, но трогательную речь. Он говорил с поразительным красноречием и удивительным по силе убеждением почти целый час, и никто не решился прервать его.
— Почему эти люди, которые лучше нас, должны умереть? — выкрикнул вдруг кто-то из дальних рядов.
— Друзья, — ответил проповедник, — мы должны умереть потому, что такова воля царя Агриппы. Но вы не сожалейте о нас: это день нашего радостного возрождения для новой, вечной жизни; сожалейте лучше о нем, так как с него взыщется кровь наша и вся кровь, пролитая им в дни царствования. Смерть, которая теперь так близка к нам, быть может, еще ближе к некоторым из вас! Меч Господень каждый час может оставить этот трон пустым. Глас Господень может призвать царя к ответу! Какой же ответ даст он Всевышнему Судии? Оглянитесь кругом, уже беды, о которых Тот, Кого вы распяли, говорил вам, висят над головами вашими; близко время, когда из вас, собравшихся здесь, ни одного не останется в живых. Покайтесь же, пока не поздно! Говорю вам, последний суд ваш близок! И теперь, хотя вы не можете этого видеть, Ангел Господень летает над вами и вписывает ваши имена в книгу жизни или книгу смерти. Еще есть время, я буду молиться, братья, за вас, за царя вашего! Мир вам, братья мои и сестры мои, мир вам!
Пока старец говорил, впечатление, производимое его словами на толпу, было так неотразимо, так сильно, что тысячи голов поднялись вверх, чтобы увидеть Ангела. И вдруг сотни голосов воскликнули, указывая на небо, бледным шатром нависшее у них над головами:
— Смотрите! Смотрите! Вот он, его Ангел!
Действительно, что-то белое бесшумно парило в небе, то появлялось, то скрывалось, затем как будто спустилось над троном, и исчезло.
— Безумные! Да это просто птица! — крикнул кто-то.
— Да будет угодно богам, чтобы то был не филин! — некоторые голоса.
Все знали историю Агриппы и филина, знали о предсказании, что дух в образе этой птицы вновь явится царю в его последний час, как явился в час торжества.
Но вот со стороны дворца Агриппы послышались звуки трубы, и глашатай с высоты большой восточной башни возвестил, что солнце поднимается из-за гор, и царь Агриппа со своим двором и гостями сейчас прибудет в амфитеатр. Проповедь епископа и предсказанные им бедствия были мгновенно забыты, наэлектризованная толпа, привыкшая трепетать при имени Агриппы, замерла в радостном ожидании.
Скоро тяжелые бронзовые ворота триумфальной арки широко распахнулись. Громкие, торжественные звуки труб слышались все ближе и ближе. Агриппа в роскошном царственном одеянии, в сопровождении своих легионеров, вошел в амфитеатр. По правую его руку шел Вибий Марс, римский проконсул
[169] Сирии, а по левую — Антиох, царь Коммагены
[170], за ним следовали другие цари и принцы, затем влиятельнейшие люди страны и соседних государств.
Агриппа воссел на свой золотой трон под громкие крики приветствующей его толпы, гости разместились подле и позади него. Снова затрубили трубы. Это был знак, чтобы гладиаторы, следующие за "эквитами", то есть конными, которые должны были сражаться верхом на лошадях, выстроились и прошли церемониальным маршем мимо царской ложи или, вернее, балкона, перед смертью приветствуя своего повелителя. Осужденных христиан тоже вывели на подиум и приказали им встать по двое позади пеших борцов, выждать очереди и пройти вслед за ними, чтобы приветствовать, согласно установленному обычаю, царя словами: "Ave, Caesar, morituri, te salutant!"
[171]. Царь отвечал на это безучастной улыбкой, толпа же кричала, выражая свое одобрение. Когда наконец стали проходить христиане, эта жалкая вереница хилых старцев, испуганных детей, цеплявшихся за платье матерей, бледных растрепанных женщин в жалких рубищах, та самая толпа, что в полумраке темного амфитеатра безмолвно внимала им, теперь, ободренная бледным светом народившегося дня, звуками трубы и присутствием могущественного Агриппы, начала осыпать их насмешками и издевательствами. Вот христиане поравнялись с царским местом, и толпа закричала: "Приветствуйте Агриппу!" Епископ возвел руки к небу и взглянул на царя, остальные молчали.
— Царь, мы, идя на смерть, прощаем тебя! Да простит тебя Бог, как мы тебя прощаем! — послышался его тихий голос.
Минуту назад толпа еще смеялась, но вдруг все смолкло. Агриппа нетерпеливым жестом дал понять, чтобы они проходили дальше. Старая Анна, будучи очень слаба, не могла поспеть за остальными; наконец, поравнявшись с царским балконом, она совсем остановилась. Хотя стражи кричали ей: "Проходи, старуха! Ну, живее!", — она стояла неподвижно, опершись на длинную палку и упорно глядя в лицо Агриппы. Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся, и глаза их встретились. При этом все заметили, что царь побледнел. Анна с усилием выпрямилась и, стараясь удержаться на дрожащих ногах, подняла свой костыль и указала им на золотой карниз балдахина над головой Агриппы.
Все присутствующие обратили туда взоры, но никто не мог ничего различить — карниз все еще оставался в тени. Но казалось, будто Агриппа увидел что-то, так как, поднявшись, чтобы объявить игры открытыми, он вдруг тяжело опустился на свое место и погрузился в глубокое раздумье, которого никто не смел нарушить. А Анна, медленно ковыляя и опираясь на свой костыль, поплелась вслед за остальными, которых теперь вновь водворили на прежние места. Они должны были присутствовать при гибели своих родных, христианских борцов-гладиаторов.
Наконец с видимым усилием Агриппа поднялся на ноги, и в этот момент первые лучи восходящего солнца упали на него. Это был высокий, благородного вида мужчина, величественный, великолепно сложенный, одеяние его было прекрасно и богато. Многотысячной толпе, все взоры которой были теперь прикованы к нему, он казался лучезарно прекрасным, сияющим в своем серебряном венке, серебряном панцире и белой, затканной серебром тоге, весь залитый солнцем.
— Именем великого цезаря и во славу цезаря, объявляю игры открытыми! — произнес он звучно и громко.
И точно под влиянием какого-то неудержимого порыва, вся многотысячная толпа закричала, опьяняясь звуками собственных голосов: "То — голос бога! Голос божественного Агриппы!"
Царь не возражал, упиваясь этим поклонением. Он стоял в лучах восходящего солнца, гордый и счастливый. Милостивым жестом он простер свои руки вперед, как бы благословляя эту боготворившую его толпу. Возможно, в эти минуты в памяти его воскресло воспоминание о том, как он, жалкий, бездомный, изгнанный отцом, вдруг вознесся на такую высоту, и на мгновение мелькнула безумная мысль, что, быть может, он в самом деле бог.
Вдруг Ангел Господень сразил его в его гордыне: невыносимая боль сжала, точно тисками, сердце, и Агриппа вдруг понял, что он смертный человек и смерть стоит за его спиной
— Увы, народ мой! Я — не бог, а простой человек, и общая человеческая участь готова постигнуть и меня! — воскликнул он. В этот самый момент большая белая сова, слетев с карниза балдахина над его головой, пролетела над ареной амфитеатра.
— Видите! Видите! — продолжал он. — Тот добрый гений, что приносил мне счастье, покинул меня! Я умираю! Народ мой, видишь, я умираю!.. — И, опрокинувшись на золотой трон, этот человек, еще минуту назад принимавший как должное божеские почести, теперь корчился в муках агонии и плакал, как женщина, как дитя. Да, Агриппа плакал!
Слуги и приближенные подбежали к нему и подняли на руки.
— Унесите меня отсюда! — простонал он.
И глашатай громким голосом возгласил:
— Царя постиг жестокий недуг! Игры закрыты! Люди, расходитесь по домам!
Сначала все оставались неподвижными, пораженные страхом, не находя слов для выражения своих чувств, но вдруг по рядам зрителей пробежал шепот, точно шелест листьев перед сильной бурей, шепот этот разрастался, пока наконец сотни голосов не огласили воздух: "Христиане! Христиане! Это они напророчили смерть царю, и накликали на нас беду! Они — колдуны и злодеи! Убейте их! Пусть они умрут! Смерть, смерть христианам!"
Словно волны моря, огромная толпа хлынула на арену к тому месту, где находились осужденные христиане. Но стены арены были высоки, а все входы и выходы закрыты. Толпа волновалась и бушевала, но добраться до христиан не могла. Люди напирали друг на друга, лезли на стены, срывались, падали, другие наступали на них, топтали, давили и, в свою очередь, падали, а их опять давили другие.
— Пришел наш смертный час! — воскликнул кто-то из христиан.
— Нет, мы еще живы! — отозвалась Нехушта. — Все за мной, я знаю выход! — И увлекая Рахиль за собой, она ринулась к маленькой дверке, которая оказалась незапертой и охранялась только одним тюремным сторожем, тем самым вероотступником, который накануне издевался над христианами.
— Назад! — крикнул он грозно и занес свое копье над Нехуштой, но та проворно пригнулась, так что копье скользнуло высоко над ее спиной, и ударила его ножом. Страж повалился на землю с громким криком, но христиане уже хлынули в узкий проход и затоптали его в безумном страхе ногами. Далее за проходом находился
вомиториум — вход в римские амфитеатры, оттуда христиане уже беспрепятственно вырвались на улицу и смешались с многотысячной толпой, бежавшей из амфитеатра. Некоторые падали и были затоптаны, других же уносил своим течением людской поток. В конце концов Нехушта и Рахиль очутились на широкой террасе, обращенной к морю.
— Ну, куда же теперь? — простонала Рахиль.
— Иди за мной, не останавливайся, спеши! — молила Нехушта.
— Что же будет с остальными? — тихо вымолвила молодая женщина, оглядываясь назад на рассвирепевшую толпу, избивавшую попадавших ей в руки христиан.
— Храни их Бог! Мы не можем им помочь!
— Оставь меня, Ноу, беги, спасайся!.. Я выбилась из сил… Больше не могу! — И в изнеможении молодая женщина упала на колени.
— Но я сильна! — прошептала Нехушта. Она подхватила лишившуюся чувств Рахиль на руки и кинулась вперед, выкрикивая громко и повелительно:
— Дорогу! Дорогу для моей госпожи, благородной римлянки, ей дурно!
И толпа расступалась, давая ей дорогу.
III. Уговор
Благополучно миновав всю выходившую на море террасу, Нехушта со своей драгоценной ношей очутилась на узкой боковой улице, пролегавшей вдоль старой городской стены, местами разрушенной и обвалившейся, и здесь на минуту остановилась, чтобы перевести дух и обдумать, что делать и куда "бежать. Пронести на руках свою госпожу через весь город до ближайшей окраины, даже если бы у нее на то хватило сил, было невозможно: обе они около двух месяцев содержались в местной тюрьме и, как было принято в Кесарии, все городское население, когда не предвиделось лучших развлечений, посещало тюрьму и позволяло себе забавы ради издеваться над заключенными, рассматривая их сквозь решетку тюремных ворот или же свободно расхаживая между ними, с разрешения тюремных стражей, за небольшое денежное вознаграждение. Таким образом, жители Кесарии прекрасно знали в лицо всех заключенных, и мудрено было, чтобы рослая темнокожая Нехушта и ее госпожа остались неузнанными теперь, когда толпа искала христиан по всему городу. Ни близких, ни друзей у них здесь найтись не могло, так как незадолго перед тем все христиане были изгнаны из города. Им оставалось только укрыться где-нибудь в надежном месте, хоть на некоторое время. Нехушта огляделась вокруг: в нескольких шагах от нее находились древние ворота городской стены, под этими воротами часто ночевали бездомные бродяги, днем же обычно здесь было пусто. Туда и направилась Нехушта, надеясь хоть ненадолго спрятаться в полумраке широкого свода.
На их счастье, они не встретили никого, но тлевшие угли потухшего костра и разбитая амфора с водой свидетельствовали о том, что здесь еще совсем недавно были люди. "К ночи они, конечно, вернутся!" — размышляла верная служанка, опустив на землю свою бесчувственную ношу. Вдруг ее наблюдательный глаз заметил узкую каменную лестницу в стене. Ни минуты не задумываясь, взбежала она по ней и очутилась перед тяжелой дубовой дверью с железными оковами. Постояв секунду в нерешительности, арабка уже хотела вернуться назад, но вдруг глаза ее сверкнули, и она с диким отчаяньем изо всех сил толкнула дверь. К ее удивлению, дверь подалась, а затем и вовсе распахнулась настежь. За дверью оказалось большое просторное помещение, заваленное мешками зерна, его освещали круглые бойницы, проделанные в толще стены и служившие некогда для военных целей. Как птица слетела арабка вниз и, подхватив на руки Рахиль, внесла ее по лестнице.
Здесь она бережно опустила свою госпожу на сложенные у стены овечьи бурдюки, затем, спохватившись, еще раз сбежала вниз и принесла оттуда разбитую амфору, до половины еще наполненную свежей чистой водой. Благодаря воде молодая женщина скоро пришла в чувство. Только было она принялась расспрашивать свою верную служанку, как чуткий слух арабки уловил какие-то звуки внизу, под сводом ворот. Тщательно заперев дверь, она приложила ухо к замочной скважине и стала прислушиваться. Там внизу разговаривали трое солдат.
— Ведь старик уверял, что видел, как ливийка со своей госпожой свернули на эту улицу, другой темнокожей не было среди христиан. Она же, кажется, и пырнула ножом Руфа! — сказал один голос.
— Э, кто их разберет! Во всяком случае, здесь — ни души! Чего нам тут еще толкаться? — пробурчал другой.
— Эй, ребята, я нашел лестницу! Не мешало бы посмотреть…
— Полно, тут зерновой амбар Амрама финикийца, а он не такой человек, чтобы оставлять ключ в дверях! Впрочем, если охота, пойди посмотри!
И Нехушта услышала тяжелые шаги. Ближе… Ближе…
Солдат подошел и попробовал толкнуть дверь.
— Заперта крепко! — крикнул он вниз и стал спускаться. — А надо бы взять у Амрама ключ да проверить на всякий случай!
— Ну, и беги за ключом, если тебе охота! Финикиец живет на том конце города, а сегодня его и с собаками не сыскать…
— Хвала Богу, ушли! — произнесла наконец Нехушта, отходя от двери.
— Но они, быть может, опять вернутся! — промолвила Рахиль.
— Не думаю, а вот хозяин этого помещения, вероятно, придет сюда наведаться: нынче на его товар большой спрос!
Не успела она договорить, как ключ заскрипел в замке и, прежде чем Нехушта успела отскочить, дверь отворилась и вошел Амрам
Обе женщины застыли на месте, не выдавая ни единым звуком своего присутствия.
Амрам был средних лет финикийцем с худощавым лицом и пронзительным взглядом, одетым в скромную одежду темного цвета, но из дорогой ткани; по-видимому,
безоружным. Этот известный всему городу, уважаемый и богатый человек успешно занимался торговлей, как большинство финикийцев того времени. Зернохранилище, где он теперь находился, было лишь одним — и не самым значительным — из складов его громадных зерновых запасов.
Заперев дверь на ключ, Амрам сделал шаг к столу, где хранились его таблицы и записи отпуска и приема зерна, и вдруг очутился лицом к лицу с Нехуштой, которая тотчас же проскользнула к двери и выдернула ключ из замка.
— Во имя Молоха, скажи, кто ты? — спросил купец, невольно отступив назад, при этом он заметил полулежавшую у стены на куче порожних бурдюков Рахиль. — А ты? — добавил он. — Вы духи? Приведения? Или воры? Госпожи, ищущие пристанища и приюта в этом запруженном людьми городе, или, быть может, те две христианки, которых повсюду ищут солдаты?!
— Да, те самые христианки, — сказала Рахиль, — мы бежали из амфитеатра и укрылись здесь, где нас чуть было не нашли легионеры!
— Вот что получается, когда человек не запирает дверей, — произнес Амрам, — но это произошло не по моей вине, а по вине одного из моих подчиненных, с которым я серьезно поговорю по этому поводу, и поговорю сейчас же! — И он направился к двери.
— Ты не уйдешь отсюда! — решительным тоном произнесла Нехушта, загораживая ему дорогу и выставляя напоказ свой нож.
Купец испуганно попятился.
— Чего ты требуешь от меня?
— Я требую, чтобы ты дал нам возможность покинуть Кесарию с полной для нас безопасностью, а иначе мы умрем здесь все трое. Прежде чем кто-нибудь дотронется до моей госпожи или до меня, этот нож пронзит твое сердце! Некогда твои братья продали меня, княжескую дочь, в рабство, и я буду рада случаю отомстить за это тебе! Понимаешь?
— Понимаю. Только напрасно ты так гневаешься! Поговорим лучше, как говорят между собою деловые люди: вы хотите покинуть Кесарию, а я хочу, чтобы вы покинули мое зернохранилище. Так дай же мне выйти отсюда и устроить все по нашему обоюдному желанию!
— Ты выйдешь отсюда не иначе, как в сопровождении нас обеих, — сказала Нехушта, — но советую тебе, не трать слов по-пустому! Госпожа моя — единственная дочь Бенони, богатейшего купца в Тире. Ты, наверное, слышал о нем? Ручаюсь тебе, что он щедро заплатит тому, кто спасет его дочь от смертельной опасности!
— Может быть, но я не вполне в этом уверен. Бенони — человек, полный предрассудков, притом ревностный иудей, не терпящий христиан! Это я знаю!
— Пусть так, но ты — купец и знаешь, что даже сомнительный барыш лучше, чем нож в горле!
— Не спорю! Но никаких барышей мне с этого дела не надо. Таким товаром, — он указал на нее и на Рахиль, — я не торгую. Поверь мне, женщина, я всей душой готов исполнить ваше желание: я не питаю к христианам ненависти! Те из них, с кем мне случалось иметь дело, были люди хорошие, честные!
— Однако не трать лишних слов, — сурово повторила арабка. — Время дорого!
— Что же мне делать? Разве только вот что: сегодня под вечер одно из моих судов отправляется в Тир, и если вы хотите, я буду рад предложить вам место на нем. Согласны?
— Конечно, но при условии, что ты будешь сопровождать нас!
— Я не имел намерения плыть сейчас в Тир!
— Но ты можешь изменить свое намерение, — сказала Нехушта. — Слушай, вот мое последнее слово: мы требуем у тебя, чтобы ты спас двух ни в чем не повинных женщин, дав им возможность бежать из этого проклятого города. Скажи, согласен ты это сделать? Если да, то пусть так, если же нет, — я воткну тебе этот нож в горло и зарою тебя в твоем же зерне!
— Согласен! Когда стемнеет, я отведу вас на мое судно, оно отправляется через два часа после захода солнца с вечерним ветром я буду сопровождать вас и в Тире сдам твою госпожу на руки ее отцу. А теперь… Здесь жарко и душно, крыша же окружена высоким парапетом, который не позволяет видеть тех, кто сидит или стоит на ней. Пойдем, там нам будет лучше!
— Только иди первым. И если ты вздумаешь крикнуть, то знай что нож у меня всегда наготове!
— О, в этом я вполне уверен! К тому же, раз я дал слово, то не возьму его назад! Будь что будет, но я останусь верен своему слову!
Наверху было действительно приятно сидеть под небольшим навесом, служившим некогда для защиты часовых от зноя или непогоды.
Здесь было так хорошо, дышалось так свободно, что Рахиль, измученная всеми событиями дня, вскоре заснула под навесом. Нехушта же, которая не соглашалась отдохнуть, стала вместе с Амрамом следить за тем, что делалось в городе, лежавшем у ног, словно пестрый движущийся ковер. Тысячи людей с женами и детьми сидели на площадях и на улицах прямо на земле и посыпали себе головы придорожной пылью, в один голос воссылая к небу усердную мольбу, доходившую до слуха Нехушты и Амрама, как рокот волн во время прибоя.
— Они молят, чтобы царь остался жив! — сказал Амрам.
— А я хочу, чтобы он умер! — воскликнула ливийка.
Финикиец только пожал плечами: ему было все равно, лишь бы дела торговли от этого не пострадали.
Вдруг толпа разразилась громкими жалобными воплями.
— Царь умер или кончается! — сказал финикиец. — Так как сын его еще младенец, то вместо него поставят над нами правителем какого-нибудь римского прокуратора
[172] с бездонными карманами, и я думаю, что ваш старик епископ был прав, когда говорил, что всем нам грозят беды и несчастья!
— А что стало с ним и остальными? — спросила Нехушта.
— Одни были затоптаны народом, других иудеи побили камнями, а некоторые, без сомнения, успели спастись и, подобно вам, скрываются теперь где-нибудь!
Нехушта внимательно посмотрела на свою госпожу, которая спала крепким сном, опустив голову на тонкие бледные руки.
— Мир безжалостен и жесток к христианам! — проговорила она.
— Он жесток ко всем, сестрица, — отозвался Амрам, — если бы я рассказал тебе мою повесть, то даже ты согласилась бы со мной! — И он тяжело вздохнул. — Вы, христиане, имеете хоть то утешение, что для вас смерть — это только переход из мрака жизни к светлому бытию. Я готов поверить, что вы правы… Госпожа твоя кажется мне болезненной и слабой. Она больна?
— Она всегда была слаба здоровьем, а тяжкое горе и страдания сделали свое дело; мужа ее убили полгода назад в Берите, а теперь ей пришло время разрешиться от бремени!
— Я слышал, что кровь ее мужа лежит на старом Бенони: он предал его. Кто может быть так жесток, как иудей? Даже мы, финикийцы, о которых говорят так много дурного, не способны на это. У меня тоже дочь… но зачем вспоминать! — прервал он себя. — Так вот, видишь ли, я рискую многим, но все, что будет в моих силах, сделаю для твоей госпожи и для тебя, сестрица! Не сомневайся во мне, я не выдам, не обману. Слушай, мое судно небольшое, беспалубное, а сегодня ночью отсюда в Александрию уходит большая галера, которая зайдет в Тир и Иоппию. На этой галере я устрою вам проезд, выдав твою госпожу за мою родственницу, а тебя — за ее служанку. Советую вам отправляться прямо в Египет, где много христиан и есть христианские общины, которые примут вас на время под свою защиту. Оттуда твоя госпожа напишет отцу, и если он пожелает принять ее в свой дом, то она сможет вернуться, в противном же случае она будет в безопасности в Александрии, где иудеев не любят и куда власть Агриппы не распространяется!
— Совет твой кажется хорошим! — сказала Нехушта. — Только бы моя госпожа согласилась!
— Она должна согласиться, у нее нет другого выхода. Ну, а теперь отпусти меня, до наступления ночи я вернусь за вами с запасом пищи и одежды и провожу вас на галеру. Да не сомневайся же, сестрица, неужели ты не можешь поверить мне?
— Нет, я верю, потому что вынуждена тебе верить, но ты пойми, в каком мы положении и как странно найти истинного друга в человеке, которому я еще так недавно угрожала ножом!
— Забудем это, и пусть дальнейшее покажет, можно ли мне доверять. Спустись со мною вниз и запри дверь. Когда я вернусь, ты увидишь меня перед воротами на открытом месте, я буду с рабом и сделаю вид, будто у меня развязался мешок, а я стараюсь его завязать. Тогда ты сойди вниз и отопри!
После ухода Амрама Нехушта села подле своей госпожи и с тревогой ожидала возвращения финикийца. "Если Амрам предаст, — думала она, — у меня есть нож, и я прежде, чем нас успеют схватить, заколю госпожу и себя". Пока же ей оставалось только молиться, и она молилась страстно и бурно, молилась не за себя, а за свою госпожу и ее ребенка, который, по словам пророчицы Анны, должен был родиться и жить. Но при мысли, что ее госпожа должна будет умереть, Нехушта закрыла лицо руками и горько заплакала, глотая слезы.
IV. Рождение Мириам
Медленно тянулось время до вечера, но никто не тревожил несчастных женщин. Часа в три пополудни Рахиль проснулась: ее мучил голод. Но у них не было другой пищи, кроме зерна в зернохранилище. Нехушта рассказала своей госпоже, как она договорилась с Амрамом и как доверилась ему.
За час до заката Нехушта, не спускавшая глаз с открытого пространства перед воротами стены, увидела, что двое людей, один из них Амрам, а другой, очевидно, его раб, нагруженные узлами, подходят к воротам. Вдруг узел у них развязался, и Амрам стал возиться около него, затягивая бечевку. Нехушта поспешила вниз и отомкнула дверь.
— Где же твой раб? — спросила она, впуская Амрама и принимая из его рук тяжелый узел.
— Сторожит внизу. Ты его не бойся, он — человек верный. Но вы обе, должно быть, голодны, я принес вам еду и вино. Оно подкрепит силы твоей госпожи, ведь ваша вера не запрещает употребления вина? Здесь и одежда для вас обеих, — перекусив, можете сойти сюда и переодеться. А вот еще, — он подал Нехуште кошелек, полный золота. — Это самое необходимое! — сказал он. — Не благодари меня, я дал тебе слово спасти вас, сделать для вас все, что могу, и сделаю. Когда-нибудь, когда настанут лучшие дни, вы возвратите мне все, а я могу подождать. Проезд на галере я вам оплатил, только смотрите, не дайте никому заметить, что вы — христиане: моряки думают, что христиане навлекают несчастья на суда. Теперь помоги мне отнести вино и еду наверх. Госпожа твоя, верно, нуждается в подкреплении сил!
Минуту спустя они были на крыше.
— Мы хорошо сделали, госпожа, что доверились этому человеку! Смотри, он вернулся и принес все, в чем мы нуждались! — проговорила арабка.
— Да почит на нем благословение Всевышнего за то, что он делает для нас, беззащитных! — отвечала Рахиль, бросив благодарный взгляд на финикийца.
— Пей и ешь, — сказал Амрам, — тебе нужны силы! — И он подвинул вино, мясо и другие принесенные им вкусные блюда.
После госпожи поела и Нехушта, затем обе они возблагодарили Бога и выразили свою признательность Амраму. После этого женщины сошли вниз и переоделись: одна — в богатые одежды знатной финикийской госпожи, а другая — в белое одеяние с пестрой каймой, обычное для приближенных рабынь.
День начал угасать, но они ждали, пока совсем стемнеет, и только тогда вышли на улицу, где их ожидал хорошо вооруженный раб. В сопровождении раба обе женщины и Амрам направились к набережной, выбирая самые безлюдные улицы. Теперь, когда стало известно, что болезнь Агриппы смертельна, солдаты восстали против властей, проявляя во всем наглое своеволие: врывались в дома, грабили, убивали тех, кто им сопротивлялся.
У набережной беглянок ожидала лодка с двумя гребцами финикийцами. В шлюпку поместились обе женщины, Амрам и его раб, и она довезла их до стоявшей невдалеке от берега галеры, готовившейся к отплытию. Амрам представил капитану Рахиль как свою близкую родственницу, гостившую у него и теперь возвращавшуюся в Александрию, а Нехушту назвал ее рабыней. Проводив женщине предназначенную для них каюту, добрый купец простился с ними, пожелав счастливого пути.
Четверть часа спустя галера снялась с якоря и, пользуясь благоприятным ветром, вышла в море. По прошествии некоторого времени ветер вдруг стих, и судно продолжало идти только на одних веслах. Свинцовое небо низко нависло над морем, предвещая сильную бурю. Капитан хотел было бросить якорь, но место оказалось слишком глубоким, и якорь не достал до дна. За час до рассвета вдруг поднялся страшный северный ветер, вскоре разыгралась настоящая буря. Когда рассвело, Нехушта увидела вдали белые стены Тира, но капитан сказал ей, что зайти туда нет возможности и что он пойдет прямо в Александрию.
Около полудня буря перешла в ураган. У судна сломало мачту, затем оторвало руль и с невероятной силой понесло на прибрежные рифы, где, пенясь, с ревом разбивались громадные волны.
— Это все из-за проклятых христианок! — кричали моряки. — Клянусь Вакхом, мы видели эту желтолицую женщину в амфитеатре.
Заслышав такие речи, Нехушта поспешила вниз, в каюту к своей госпоже, жестоко страдавшей от качки. Наверху же царила настоящая паника: не только экипаж судна, но даже невольники-гребцы кинулись к запасам спиртного и старались хмелем отогнать ужас близкой смерти. Раза два эти возбужденные вином люди пытались ворваться в каюту, угрожая выбросить в море христианок, виновниц их гибели. Но Нехушта, стоя в угрожающей позе у самой двери, грозила убить первого, кто сунется в каюту. Так прошла ночь, а когда рассвело, серая полоса берега уже вырисовывалась менее чем в полумиле от судна, которое быстро неслось на прибрежные скалы. Близость опасности отрезвила людей, они стали спускать шлюпки и вязать плоты из досок палубы. Видя, что все готовятся покинуть судно, Нехушта стала просить спасти их тоже, но женщину грубо оттолкнули, пригрозив смертью. Вдруг громадный вал подхватил галеру и бросил ее на скалы. Со страшным треском она врезалась носом между двумя рифами и засела на большой плоской скалистой мели.
Плот и шлюпка уже удалялись от судна, а Нехушта, полная отчаяния, смотрела им вслед. Вдруг страшный, нечеловеческий вопль покрыл рев бури и шум волн — плот и шлюпка, брошенные на скалы, разбились в щепки. С минуту несколько несчастных беспомощно барахтались в волнах, но скоро все исчезло — как будто и не бывало. Тогда Нехушта, воссылая благодарение Богу, еще раз сохранившему им жизнь, вернулась в каюту и рассказала своей госпоже о случившемся.
— Да простит им Господь прегрешения их! — сказала Рахиль. — Что же касается нас, то не все ли равно, утонуть там, на плоту, или здесь, на галере?!
— Мы не утонем, госпожа, в этом я уверена! — возразила Нехушта
— Что дает тебе эту уверенность? Видишь, как бушует море! — заметила Рахиль.
Как раз в этот момент новый вал с бешеной силой подхватил галеру и не только приподнял ее с мели, на которой она засела, но даже перенес через гряду рифов, о которые разбились плот и шлюпка, выбросив на мягкую песчаную отмель, где она и осталась, глубоко врезавшись в мокрый песок на расстоянии нескольких десятков сажень от берега. Затем, как бы закончив свое дело, ветер разом спал, и на закате море совершенно утихло, как часто бывает на Сирийском побережье. Теперь Рахиль и Нехушта, если бы были в силах, могли беспрепятственно достигнуть берега, но об этом не стоило и думать: то, что должно было случиться и чего Нехушта с тревогой ждала с часу на час, теперь ожидалось с минуты на минуту. Перед закатом у Рахили родилась дочь…
— Дай мне поглядеть на ребенка! — попросила молодая мать, и Нехушта показала ей при свете уже зажженного в каюте светильника хорошенького младенца, правда очень маленького, но белокожего, с большими синими глазами и темными вьющимися волосиками.
Долго и любовно смотрела на своего ребенка Рахиль, затем сказала: "Принеси сюда воды: пока еще есть время, надо окрестить младенца".
И во имя Святой Троицы, освятив воду, мать дрожащей рукой, смоченной в этой воде, трижды осенила крестным знамением девочку, дав ей имя Мириам.
— А теперь, — прошептала Рахиль, — проживет ли она один час или целую жизнь, все равно, она крещена мною и будет христианкой… Тебе, Ноу, я поручаю дочь, как приемной матери. Передай ей также завещание ее покойного отца, чтобы она не смела брать себе в мужья человека, который не исповедует Христа Распятого; такова и моя воля!
— О, зачем ты говоришь такие слова, госпожа?!
— Я умираю, Ноу, я это чувствую… Теперь, когда мой ребенок рожден для жизни временной и вечной, я с радостью иду к тому, который ждет меня в новом загробном мире, и к Господу нашему Богу… Дай мне вина, оно восстановит мои силы — мне надо сказать тебе еще многое, а я чувствую, что слабею!
Рахиль отпила несколько глотков и затем продолжала:
— Как только меня не станет, возьми ребенка и иди в ближайшее селение, пусть она там подрастет. Деньги у тебя есть, их хватит надолго. Когда дитя окрепнет, не возвращайся с ним в Тир, где мой отец воспитает ребенка в строгом иудействе, а найди селение ессеев
[173] на берегу Мертвого моря. Там живет брат моей покойной матери Итиэль. Расскажи ему все без утайки. Хотя он не христианин, но человек добросердечный и искренне сочувствующий христианам. Ты знаешь, как он упрекал отца за его жестокий поступок и пытался сделать все возможное, чтобы спасти нас. Ты ему скажи, что я, умирая, просила именем его покойной сестры, которую он так нежно любил, принять к себе мою дочь, заменить ей отца, а тебе стать другом, защитить вас обеих. Тогда мир и счастье снизойдут на него и на весь дом его…
Последние слова Рахиль произносила с трудом, силы ее уходили. Затем она стала молиться, едва шевеля губами, и вскоре уснула. Проснувшись на заре, она знаками попросила принести к ней младенца и, возложив руки на его головку, благословила его, затем Нехушту и как будто снова забылась сном, но уже на этот раз — сном вечным. С громким криком отчаяния кинулась Нехушта на труп своей госпожи, страстно целовала ее руки, клянясь, что будет служить ее ребенку, как служила ей. Тут она вспомнила, что ребенок еще не ел и скоро почувствует голод — надо спешить на берег. Но дорогую покойницу Нехушта не хотела оставлять акулам и решила устроить ей царские похороны по обычаю своей страны. А какой костер мог быть грандиознее и величественнее этой большой галеры? С этой мыслью она вынесла тело покойной госпожи на палубу и, разостлав дорогой ковер, посадила ее, прислонив к обломку мачты. Затем вошла в каюту капитана, захватила из забытой на столе шкатулки золотые драгоценности и попрятала все это на себе. Найдя в углу амфору гарного масла, Нехушта разбила ее, разлила масло по каюте и подожгла. Укутав ребенка в теплое одеяло и выбежав с младенцем на руках на палубу, она опустилась на мгновение подле своей мертвой госпожи и, страстно целуя, простилась с ней. Пламя начинало уже охватывать судно, когда Нехушта осторожно спустилась по веревочной лестнице, оставленной за бортом спасавшимися моряками, и, очутившись по пояс в воде, пошла к берегу, унося на себе все золото и драгоценности, какие только были на судне. Выйдя на сушу, арабка взошла на высокий песчаный холм и с вершины его оглянулась назад на зажженный ею костер. Яркое пламя восходило высоко к небесам, так как в трюме на галере было много масла.
— Прощай! Прощай! — громко воскликнула Нехушта, посылая последний привет своей любимой госпоже, и затем быстро стала спускаться с холма, спеша дойти до ближайшего селения.
V. Водворение Мириам
Спустившись с холма, Нехушта очутилась среди воз деланных полей ячменя и плодовых садов, огороженных низкими каменными стенами. Там и здесь виднелись дома, но большинство их было разрушено пожаром, а поля и сады смяты и вытоптаны, точно здесь только что прошел неприятель.
Но Нехушта смело шла вперед по главной улице селения до тех пор, пока не увидела смотревшую на нее из-за стены сада молодую женщину. На вопрос, что здесь случилось, женщина с плачем рассказала, что в их селение нагрянули римляне, все сожгли и разорили, стариков и старух убили, здоровых же молодых людей, кого могли изловить, увели в рабство — и все это только за то, что старейшина их селения поспорил с римским сборщиком податей из-за несправедливого вторичного сбора налогов и отказался уплатить слугам великого цезаря…
— Неужели, — воскликнула Нехушта, — я не найду здесь ни одной женщины, которая могла бы выкормить ребенка? Я готова щедро заплатить за это!
— Но скажи мне, откуда ты? Откуда у тебя этот младенец? — осведомилась женщина.
Нехушта рассказала женщине то, что считала нужным, и та предложила себя в кормилицы. Римляне убили ее дитя, она же и муж ее успели скрыться в подвале, где их не нашли. Дом тоже случайно уцелел, и муж теперь ушел на поле собрать то, что осталось от урожая. Нехушта возблагодарила Бога и согласилась поселиться у этой женщины.
Муж кормилицы Мириам оказался трудолюбивым виноградарем, добрым хозяином и надежным заступником для Нехушты и маленькой питомицы его жены. В доме этих славных людей, которым Нехушта каждый месяц давала по золотому, она и младенец пробыли целых шесть месяцев, ребенок окреп, поздоровел и мог без всякого риска вынести самое дальнее путешествие. Поэтому, помня завещание покойной госпожи, верная Нехушта обещала дать этим добрым людям денег на покупку двух волов и на наем работника и, кроме того, еще три золотых, если они согласятся проводить ее и ребенка в окрестности Иерихона. Сверх того она обещала оставить им в полную собственность вьючного осла и мула, которых поручила приобрести для путешествия. Хозяева не только согласились проводить их до окрестностей Иерихона, но даже обещали пробыть там около трех месяцев, до того времени, когда ребенка можно будет отнять от груди.
Скалистый берег, где галера, на которой Мириам увидела свет, потерпела крушение, находился всего в пяти лигах
[174] от Иоппии и в двух днях пути от Иерусалима, откуда в такой же срок можно было дойти до берегов Мертвого моря.
Путешествие Нехушта с маленькой Мириам и своими двумя спутниками совершила благополучно и беспрепятственно, быть может потому, что их скромный вид не привлекал внимания ни разбойников, которыми тогда кишели все большие дороги, ни римских воинов, разосланных начальством для поимки этих разбойников и нередко бравшихся за их ремесло.
На шестой день пути путешественники спустились наконец в долину Иордана, а в два часа пополудни на седьмые сутки подошли к селению ессеев. Оставив своих вьючных животных и мужа кормилицы за околицей селения, Нехушта с младенцем, который теперь уже размахивал ручонками, смеялся и лепетал, в сопровождении самой кормилицы смело вошла в селение, где, по-видимому, жили только одни мужчины, так как женщин нигде не было видно.
Попавшегося навстречу старого человека, одетого в чистые белые одежды, Нехушта попросила помочь найти брата Итиэля. Почтенный старец, отворачивая от нее свое лицо, точно лик женщины казался ему опасным, весьма вежливо отвечал, что брат Итиэль работает в поле и возвратится не раньше, чем к ужину. Но если у нее спешное дело, она может дойти до зеленых ив, растущих по берегу Иордана, и оттуда непременно увидит Итиэля, который пашет в соседнем поле на паре белых волов.
Выслушав эти указания, обе женщины направились к реке и действительно вскоре увидели вдали на пашне двух белых волов и шедшего за сохой немолодого пахаря. Нехушта приказала кормилице остаться в некотором отдалении, а сама с младенцем на руках подошла к Итиэлю.
— Скажи, прошу тебя, — обратилась к нему арабка, — вижу ли я перед собой Итиэля, священника высшего сана среди ессеев, брата покойной госпожи моей Мириам, жены иудея Бенони, богатейшего купца в городе Тире?
— Меня зовут Итиэль, и госпожа Мириам, жена Бенони, пребывающая ныне в стране вечного блаженства за гранью океана
[175], была моей сестрой!
— Хорошо. Так ты, верно, знаешь, что у госпожи моей Мириам была дочь Рахиль, которой я служила до последней ее минуты. Она умерла в родах — вот младенец, которому она умирая дала жизнь! — И Нехушта показала ему спящую малютку. Итиэль долго вглядывался в маленькое личико, а затем, растроганный, с нежностью поцеловал ребенка, улыбнувшегося ему во сне. Ессеи, хотя и мало видят детей, любят их, как и все люди.
— Поведай мне, добрая женщина, эту печальную повесть! — сказал Итиэль. И Нехушта рассказала ему все, передав в точности последние предсмертные слова своей молодой госпожи.
Дослушав, Итиэль отошел в сторону и застыл в скорби об усопшей, затем сотворил молитву — ессеи не предпринимают ничего, даже и самого пустячного дела, не помолившись предварительно Богу о помощи и вразумлении — и только после этого вернулся к Нехуште со словами:
— Добрая и верная женщина, в которой, думается мне, нет ни коварства, ни лукавства, ни женского тщеславия, как у остальных сестер твоих! Ты загнала меня в угол; я не знаю, как мне теперь быть и что делать. Законы моего братства воспрещают нам иметь какое-либо дело с женщинами, будь они стары или молоды. Суди сама, как могу я принять тебя и младенца в мой дом?
— Законы твоей общины мне неизвестны, — несколько резко возразила Нехушта, — но общечеловеческие законы природы для меня ясны, а также и некоторые заповеди Божий. Я, подобно госпоже и ее ребенку, тоже христианка. Все эти законы говорят, что прогнать от себя сироту-младенца родственной тебе крови, которого горькая судьба привела к твоему порогу, — жестокий и дурной поступок. За это тебе придется когда-нибудь дать ответ Тому, Кто превыше всех законов земных!
— Я не стану спорить, особенно с женщиной, — огорченно сказал Итиэль. — Мои слова правдивы, но правда и то, что наши законы предписывают нам самое широкое гостеприимство и строжайше воспрещают отказывать в помощи обездоленным и беспомощным!
— А тем более ребенку, в жилах которого течет родная вам кровь. Если вы оттолкнете его, он попадет в руки деда и будет воспитан среди иудеев и зилотов, будет приносить в жертву живые существа, мазаться маслом и кровью жертвенных животных!
— О, одна мысль об этом приводит меня в ужас! — воскликнул Итиэль. — Пусть уж лучше она будет христианкой!
Ессеи считали употребление масла нечистым и более всего испытывали отвращение к приношению в жертву животных и птиц. Хотя они не признавали Христа и не хотели слышать ни о каком новом учении, но, тем не менее, многому из того, что завещал своим ученикам Христос, сочувствовали.
— Но решить этот вопрос один я не могу, — продолжал Итиэль, — а должен представить его на обсуждение собрания ста кураторов. Как они решат, так и будет! На вынесение решения потребуется не менее трех дней, я имею право предложить на это время тебе с ребенком и тем людям, которые пришли с тобой, кров и пищу в нашем странноприимном доме. К счастью, этот дом стоит как раз на том конце селения, где живут наши братья низших степеней, для которых допускается брак. Там вы найдете нескольких женщин — они не могут показываться среди нас в другой части селения!
— Прекрасно, — сказала Нехушта, — только я назвала бы этих братьев — братьями высших степеней, так как они исполняют завет Божий, которым заповедано людям плодиться и множиться!
— Об этом я не стану спорить, нет, нет… Но, во всяком случае, это — прелестный ребенок. Вот она открыла глазки, и эти глазки — точно васильки! — Старик снова склонился над малюткой и поцеловал ее, затем добавил со вздохом: — Грешник я, грешник. Я осквернил себя и должен теперь очиститься и покаяться.
— Почему? — спросила Нехушта.
— Я нечаянно коснулся твоей одежды и дал волю земному чувству, поцеловав ребенка дважды. Согласно нашему правилу, я осквернился!
— Осквернился! — воскликнула негодующим тоном Нехушта. — Ах ты, старый сумасброд! Нет, ты осквернил этого чистого младенца своими мозолистыми руками и щетинистой бородой! Лучше бы ваши священные правила учили вас любить детей и уважать честных женщин-матерей, без которых не было бы на свете и вас, ессеев!
— Я не смею спорить с тобой, не смею спорить! — нервно отозвался Итиэль, ничуть не возмущаясь резкостью речи Нехушты. — Все это должны решить кураторы, а пока пойдем, я погоню своих волов, хотя еще не время выпрягать их из ярма, а ты и спутница твоя идите немного позади меня. Впрочем, нет, не позади, а впереди, чтобы я мог видеть, что вы не уроните ребенка. Право, личико его так прекрасно — жаль расстаться с ним, прости мне, Господи, это прегрешение… Дитя напоминает мне покойную сестру, когда она была еще ребенком и я держал ее на руках… Да, да… Прости, Господи, мои прегрешения!
— Уронить ребенка! — воскликнула было Нехушта, возмущенная словами этой "жертвы глупых правил", как она мысленно назвала его. Но угадав своим женским чутьем, что этот человек успел уже полюбить младенца, она смягчилась и полушутя заметила: — Смотри сам не пугай малютку своими огромными волами. Вам, мужчинам, так презирающим женщин, еще многому следовало бы поучиться у нас!
Затем, подозвав кормилицу, она молча пошла впереди Итиэля. Так они дошли до большого прекрасного дома на самом краю селения. Это был странноприимный дом ессеев, где они оказывали своим гостям самый радушный прием, окружая их всеми возможными удобствами и предоставляя все, что у них было лучшего. Дом этот оказался незанятым. Призвав женщину, жену одного из низших братьев-ессеев, Итиэль, закрыв лицо руками, чтобы не видеть ее лица, и говоря с нею издали, поручил ей позаботиться о Нехуште, младенце и их спутниках. Затем старик удалился доложить обо всем кураторам.
— Что, все они такие полоумные? — презрительно спросила Нехушта у женщины.
— Да, сестра, — ответила та, — все они таковы, даже мужа своего я вижу мало, и он каждый раз твердит мне о том, что женщины полны всяких пороков, что они — искушение для человека праведного, ловушка и многое другое, столь же лестное…
В этом странноприимном доме гости прожили несколько дней.
На четвертые сутки собрался совет кураторов, и Нехушта должна была явиться на собрание вместе с ребенком. Сто почтенных, убеленных сединами старцев в белых одеждах разместились на длинных скамьях; на противоположном конце залы было приготовлено особое место для арабки. По-видимому, Итиэль уже заранее изложил все обстоятельства дела, так как кураторы сразу же приступили к расспросам. Нехушта отвечала вполне ясно и точно, после чего кураторы стали совещаться между собой. Большинство оказались согласны принять и воспитать ребенка, но нашлись и такие, которые считали, что так как и младенец, и приемная мать его женского пола, то им здесь не место, или же что если оставить здесь ребенка, то все полюбят и привяжутся к нему, тогда как они должны любить только одного Бога! Другие на это возражали, что они должны любить и всех обездоленных, и все человечество. Затем Нехуште предложили удалиться. Встав со своего места, она высоко подняла улыбающегося младенца — так что все могли видеть его прелестное личико — и умоляла собрание не отвергать просьбы умирающей женщины, не лишать ребенка попечений единственного родственника, не отказывать бедной сиротке в наставлениях и мудром руководстве ее дяди Итиэля и всей святой общины ессеев.
Затем она вышла в смежную комнату, где оставалась довольно долго в ожидании решения собрания. Наконец ее вновь призвали в залу совета; при одном взгляде на сиявшее радостью лицо Итиэля Нехушта поняла: решение кураторов благоприятно. Действительно, председатель собрания объявил, что большинством голосов решено принять младенца Мириам на попечение общины до достижения ею восемнадцатилетнего возраста, когда девушке придется покинуть селение. За это время никто не попытается отвратить ее от веры родителей. Мириам и ее приемной матери даны будут дом и все лучшее для их удобства и безбедного существования. Дважды в неделю к ним будут приходить выборные из кураторов, чтобы убедиться, что ребенок здоров и ни в чем не испытывает нужды. Когда девочка подрастет, ее будут обучать полезным наукам и познаниям мудрейшие и ученейшие из братьев.
— А теперь пусть все знают, что мы приняли этого ребенка на наше попечение, — сказал председатель. — Мы все в полном составе проводим вас до предназначенного вам дома, а брат Итиэль, как ближайший родственник ребенка, понесет девочку на руках. Ты, женщина, пойдешь рядом с ним и будешь давать ему необходимые указания, как обращаться с ребенком!
И вот организовалось целое торжественное шествие с председателем совета кураторов и их священниками во главе, с младенцем, которого нес брат Итиэль, в центре, и длинной вереницей кураторов и простых братьев-ессеев. Шествие это проследовало через все селение и остановилось на дальней окраине села, у одного из лучших домов, предназначенного служить жилищем малютке Мириам и ее верной хранительнице Нехуште.
Таким образом это дитя, которое впоследствии стало называться "царицей ессеев", в сопровождении "царского эскорта" было водворено в свой домик — и не только в домик, но и в сердца всех этих добрых людей, воздвигших ему там трон.
VI. Халев
Вряд ли какой-нибудь другой ребенок мог похвастать более своеобразным воспитанием и более счастливым детством, чем Мириам. Правда, у нее не было матери, но это с избытком возмещалось любовью и заботами, которыми ее окружала Нехушта и несколько сотен отцов — каждый любил ее как родное дитя. "Отцами" она не смела их называть, но зато всех звала "дядями", прибавляя для отличия имена тех, кого знала.
С появлением Мириам в общине ессеев между почтенными братьями нередко стали проявляться чувства зависти и ревности: все они наперебой старались приобрести ее расположение, прибегая нередко к тайным друг от друга подаркам девочке, прельщая ее лакомствами и игрушками. Комитет, в обязанности которого входили ежедневные посещения домика Мириам, состоявший из выборных кураторов, в том числе и Итиэля, был вскоре расформирован. Теперь депутация составлялась так, что каждый из братьев, по очереди, имел возможность посещать девочку и любоваться их общей питомицей.
К семи годам, когда девочка уже успела стать обожаемым божеством для каждого из братьев-ессеев, она захворала лихорадкой, весьма распространенной в окрестностях Иерихона и Мертвого моря. Хотя среди братьев было несколько весьма искусных и опытных врачей, лихорадка не оставляла больную, и они день и ночь не отходили от ее кровати. Вся же остальная братия была в таком горе, что все селение наполнилось воплями и стонами, вознося молитву Господу Богу об исцелении девочки. Три дня всё пребывали в непрестанной молитве, и многие за это время не дотрагивались до пищи. Никогда еще ни один монарх на свете не был окружен во время болезни такой любовью и тревогой своих подданных, и никогда еще его выздоровление не было встречено такой единодушной радостью и искренней благодарностью Богу, как выздоровление маленькой Мириам.
И неудивительно, ведь она была единственной радостью их бесцветной, однообразной жизни, единственным молодым, веселым существом, щебетавшим как птичка среди угрюмых и молчаливых братьев, вся жизнь которых являлась полным отречением от всех радостей земных.
Когда девочка подросла и настало время подумать о ее обучении, совет ессеев после долгих обсуждений решил возложить эту обязанность на трех ученейших мужей из своей среды.
Один из них был родом египтянин, воспитанный в Коллегии жрецов в Фивах. От него Мириам узнала многое о древней цивилизации Египта и даже многие тайны их религии и объяснения этих тайн, известные одним только жрецам. Второй был Феофил, грек, живший долгие годы в Риме и изучивший язык, нравы и литературу римлян, как свои собственные. Третий, посвятивший жизнь изучению животных, птиц, насекомых и всей природы; а также и движению небесных светил, передавал с полным старанием эти познания своей возлюбленной ученице, стараясь пояснять все живыми и наглядными примерами.
Впоследствии, когда Мириам стала постарше, ей дали еще четвертого учителя. Новый преподаватель был художник. Он научил девушку искусству лепки из глины и ваяния из мрамора, а также употреблению пигментов, или красок. Этот в высшей степени талантливый человек был сверх того искусным музыкантом и охотно занимался с ней музыкой и пением в свободные от других занятий часы. Таким образом, Мириам получила образование, о каком девушки и женщины ее времени не имели даже представления, и ознакомилась с науками и познаниями, о которых те даже и не слыхали. Таинства религии она постигала частью с помощью Нехушты, частью же благодаря захожим христианам — они приходили и сюда проповедовать учение Христа; особенно заслуживал внимания один старик, узнавший это учение из уст самого Иисуса и видевший Его распятым. Но главным наставником девочки была сама природа, которую она научилась страстно любить.
Светлый, ясный ум и чуткая, поэтическая натура рано стали заметны в этом и внешне привлекательном создании. Прелестная девочка была миниатюрного и несколько хрупкого сложения, на бледном тонком личике светились огромные темно-синие глаза, черные волосы густыми кудрями ниспадали на плечи. Руки и ноги изящные, движения грациозные. Нежная душа ее была полна любви ко всему живущему; сама она росла всеми любимой, даже птицы и животные, которых она кормила, видели в ней друга, цветы как-то особенно расцветали под ее уходом и улыбались ей.
Столь серьезные и регулярные занятия девочки не очень нравились Нехуште. Долгое время она молчала, но наконец высказалась на одном из собраний, как всегда несколько резко и с упреком:
— Вы хотите прежде времени сделать из девочки старуху? На что ей все эти знания? В ее годы другие дети еще беззаботны, как мотыльки, и думают только об играх и забавах, свойственных их возрасту, она же не знает иных товарищей, кроме седобородых старцев, которые пичкают ее юную головку своей старческой премудростью, преждевременно делая чуждой всех молодых радостей жизни! Ребенок растет, точно одинокий цветок среди угрюмых темных скал, не видя ни солнца, ни зеленого луга!
После долгого обсуждения решили дать Мириам в товарищи кого-нибудь из сверстников. Но, увы! У ессеев не было выбора: в целом селении не оказалось ни одной девочки, а среди принимаемых и призреваемых общиной мальчиков, из которых ессеи готовили будущих последователей своего учения, всего лишь один оказался равным Мириам по рождению. Несмотря на то, что в среде ессеев не существовало кастовых предрассудков и вопрос происхождения не имел никакого значения, им казалось, что для Мириам, которая со времени должна покинуть их тихое убежище и вступить в жизнь, общение с детьми низкого происхождения нежелательно. Этот единственный мальчик, ровесник Мириам, круглый сирота, призреваемый ессеями, был сыном очень родовитого и богатого иудея по имени Гиллиэль. Мальчик родился в тот год, когда после смерти царя Агриппы Куспий Фад стал правителем Иудеи. Отец ребенка не то был убит римлянами, не то погиб в числе двадцати тысяч затоптанных насмерть и смятых лошадьми в день праздника Пасхи в Иерусалиме, когда прокуратор Куман приказал своим солдатам атаковать народ.
Зилот Тирсон, считавший Гиллиэля предателем — тот нередко становился на сторону Римской партии — сумел присвоить все его имущество. Матери ребенка уже не было в живых. Халев остался бездомным сиротой и был привезен одной женщиной в окрестности Иерихона и передан на попечение ессеям.
Халев был красивый, черноволосый мальчик, с темными пытливыми глазами, умный и отважный, но при этом горячий и мстительный. Если он чего-нибудь хотел, то всегда старался добиться этого во что бы то ни стало; как в любви, так и в ненависти своей он был тверд и непоколебим. Одним из ненавистных ему существ была Нехушта. Эта женщина со свойственной ей проницательностью сразу разгадала характер мальчика и открыто высказалась о том, что он может стать во главе любого дела, если только не изменит ему, и что, когда Бог мешал его кровь из всего лучшего, чтобы сам цезарь мог найти в нем себе соперника, Он забыл примешать в нее соль честности и долил чашу вином страстей и злобы.
Когда эти слова были пересказаны ему Мириам, думавшей подразнить своего нового товарища, тот не пришел в бешенство, как она того ожидала, а только сощурил глаза и стал мрачен, как туча над горой Нево
[176].
— Ты скажи, госпожа Мириам, этой старой темнокожей женщине, что я стану во главе не одного дела — так как намерен быть первым везде — и чего уж Бог точно не забыл примешать к моей крови, так это хорошую долю памятливости!
Нехушта, услыхав это возражение, рассмеялась и сказала, что все это очень может быть и правдой, но только не мешало бы ему знать, что кто разом взбирается на несколько лестниц, обыкновенно падает на землю, и что, когда голова распростилась со своими плечами, то даже самая лучшая память теряет свое значение!
Халев нравился Мириам, но не так, как любила она своих старых дядей-ессеев или Нехушту, которая для нее была дороже всего в жизни. Между тем по отношению к Мириам мальчик никогда не проявлял своего гнева, а всегда старался не только угодить и услужить ей во всем, но даже предугадать ее желания и порадовать, чем только можно. Он положительно обожал ее. Хотя в характере Халева было много лжи и фальши, но его чувство к девочке было искренним и непритворным. Сначала он любил ее, как ребенок любит ребенка, а затем — как юноша любит девушку, но Мириам его никогда не любила, и в этом-то и заключалось все несчастье. Будь это не так, вся жизнь обоих сложилась бы иначе.
Особенно странным было то, что Халев, кроме Мириам, не любил решительно никого, разве только самого себя. Каким-то путем мальчик узнал свою печальную повесть и возненавидел римлян, завладевших его родиной и попиравших ее ногами. Но еще больше он возненавидел иудеев, лишивших его состояния и земель, принадлежавших ему по праву после смерти отца. Что же касается ессеев, которым был обязан всем, то он, достигнув того возраста, когда самостоятельно может судить о подобного рода вещах, стал относиться к ним с презрением, прозвав их "общиной прачек и судомоек" за частые омовения и особенно усердное соблюдение чистоты. Халев говорил Мириам, что, по его мнению, люди должны принимать жизнь такой, как она есть, а не мечтать беспрерывно о какой-то иной, к которой они еще не принадлежат, и не нарушать общих законов существующей жизни.
Слушая его и видя, что он не сочувствует учению ессеев, Мириам вздумала было обратить его в христианство, но старания ее не увенчались успехом, так как по крови он был иудей из иудеев и не мог преклоняться перед Богом, позволившим распять Себя! Его Мессия за которым он пошел бы охотно, должен
быть великим завоевателем, победителем всех врагов Иудеи, сильным и могучим царем, способным низвергнуть ненавистное иго римлян!
Быстро проходили годы. Над Иудеей проносились восстания, в Иерусалиме случались погромы. Ложные пророки смущали легковерных, которые тысячами шли за ними, но римские легионы скоро рассеивали в прах эти толпы. В Риме воцарялись и свергались цезари. Великий Иерусалимский храм был наконец достроен и красовался в полном своем великолепии. Век был богат многими знаменательными событиями, и только в селении ессеев на берегу Мертвого моря жизнь текла своим чередом, и никаких особенно выдающихся происшествий в ней не замечалось, разве только умирал какой-нибудь престарелый брат или новый испытуемый бывал принят в число братии.
День за днем эти добрые, кроткие и скромные люди вставали до зари и возносили свои моления солнцу, а затем брались каждый за свою работу — возделывали поля, сеяли хлеб и были благодарны, если он хорошо родился; если же плохо родился, то были благодарны и за это, и по-прежнему совершали свои омовения и творили молитвы, скорбя о злобе мирской и об испорченности людей.
Так шло время. Мириам уже исполнилось семнадцать лет, когда первая туча появилась над мирной общиной ессеев, как предвестница предстоящих бед.
Время от времени первосвященник
[177] Иерусалимский, ненавидевший ессеев как еретиков, присылал к ним требование установленной подати на жертвоприношения в храме. От уплаты этой подати ессеи всегда упорно отказывались, так как всякого рода жертвоприношения были ненавистны им, и сборщики податей каждый раз возвращались ни с чем. Но когда первосвященнический престол занял Анан, он послал к ессеям вооруженных людей силой взять с них десятинный сбор на храм. Тем было отказано в добровольной уплате этой подати, и они обрушились на житницы, амбары и погреба общины, своевольно взяли сколько хотели, а то что не могли увезти с собой рассыпали растоптали и развеяли по ветру.
Случилось так, что во время этого погрома Мириам в сопровождении неразлучной с ней Нехушты находилась в Иерихоне, куда они иногда отправлялись с посильной лептой для бедных. Возвращаясь к себе, Мириам и Нехушта пробирались руслом пересохшей реки, заваленном камнями и поросшим кустами терновника. Здесь их встретил Халев, ставший теперь довольно красивым, сильным и энергичным юношей. В руках у него был лук, а за спиной висел колчан с шестью стрелами.
— Госпожа Мириам, — сказал он, приветствуя женщин, — я искал тебя, желая предупредить, чтобы вы не шли домой большой дорогой. Там разбойники и грабители, которых прислал первосвященник, чтобы ограбить житницы ессеев. Они могут обидеть или оскорбить тебя, так как все они пьяны. Видишь, один меня ударил! — И он указал на большую ссадину на плече.
— Что же делать? Идти назад в Иерихон?
— Нет, они могут нагнать вас в пути! Идите вот этим руслом, а затем пешей тропой, которая приведет к околице селения. Таким образом вы избежите встречи с ними!
— Это правда, — сказала Нехушта, — пойдем, госпожа!
— А ты куда, Халев? — спросила Мириам, удивленная тем, что юноша не идет за ними.
— Я? Я притаюсь здесь, между скалами, пока эти люди не пройдут. Затем буду выслеживать ту гиену, которая напала на овцу, я уже приметил ее, и мне, может быть, удастся ее поймать. Потому-то я и захватил лук и стрелы!
— Пойдем! — торопила Нехушта. — Этот парень сумеет сам за себя постоять!
— Смотри, Халев, будь осторожен! — предостерегла его Мириам. — Странно, — добавила она, догоняя Нехушту, — что Халев выбрал именно сегодняшний вечер для охоты…
— Если не ошибаюсь, он задумал охотиться за гиеной в человеческом образе! — проговорила Нехушта. — Ты слышала, госпожа, что один из этих людей ударил его? Мне думается, он хочет омыть свой ушиб в крови этого человека!
— Ах, нет, Ноу, — воскликнула девушка, — ведь это было бы местью, а месть — дурное дело!
Нехушта только пожала плечами. "Увидим!" — прошептала она, и действительно — они увидели. В какой-то момент тропа взбежала на вершину холма, и им хорошо стало видно, что по дороге движется небольшой отряд людей с вьючными мулами. Эта кучка людей только спустилась в овраг иссохшего русла реки, как вдруг раздался крик, начался переполох, люди бросились в разные стороны, как бы разыскивая кого-то, в то же время четверо подняли на руки одного, который, по-видимому, был ранен или убит.
— Как видно, Халев пристрелил свою гиену, — многозначительно заметила Нехушта. — Но я ничего не видела, и ты, госпожа, если хочешь быть благоразумной, тоже ничего никому не скажешь! Ты знаешь, я не люблю Халева, но не тебе накликать беду на своего товарища!
Мириам только кивнула головой вместо ответа.
Вечером того же дня, когда Нехушта и Мириам стояли на пороге своего дома, при свете полного месяца они увидели Халева, который направлялся к ним по главной улице селения.
Юноша зашел к ним и здесь, отвечая на расспросы ливийки, должен был сознаться, что действительно смыл удар кровью обидчика.
В разговор их вмешалась девушка. Халев в вызывающем тоне повторил свой рассказ, затем, не найдя сочувствия, быстро сменил тему и стал клясться Мириам в своей любви. Тщетно девушка останавливала его, он ничего не слушал и ушел, повторяя: "Я люблю тебя, Мириам, так, как никто никогда не будет любить".
VII. Марк
В эту ночь кураторам не удалось помолиться спокойно: с полпути вернулся отряд первосвященника, накануне разграбивший селение. Командующий отрядом явился с обвинением, что один из его людей был убит кем-то из ессеев по дороге в Иерихон, но виновника не нашли. Ему пытались объяснить, что временами здесь пошаливают разбойники, что ни один из ессеев никогда не решится обагрить свои руки кровью, и попросили показать им стрелу, которой был ранен пострадавший. После тщательного исследования определили, что это была боевая стрела несомненно римского изготовления.
Возмущенные явной клеветой и выведенные из терпения кураторы в конце концов выгнали наглеца, предложив ему рассказать свою басню первосвященнику Анану, такому же вору, как он сам, или еще худшему вору и разбойнику, римскому прокуратору Альбину.
В результате всех этих событий в селение пришел приказ явиться на суд Альбина представителям общины ессеев. Советом решено было послать Итиэля и двух других старших братьев. Они отправились в Иерусалим, но там их продержали совершенно бесполезно целых три месяца, под разными предлогами оттягивая суд. В то же время ессеям дали понять, что обвинение можно признать недобросовестным, если они согласятся дать прокуратору взятку, но те отказались. Альбин подождал немного, а потом, видя, что с ессеев нечего взять, приказал им убираться из Иерусалима, сказав, что пришлет офицера, который расследует это дело на месте.
Прошло еще два месяца, и наконец прибыл офицер в сопровождении двадцати солдат. Одним прекрасным зимним утром Мириам с Нехуштой вышли погулять по дороге, ведущей в Иерихон, как вдруг увидели небольшой отряд вооруженных римлян. Они хотели свернуть и притаиться в кустах, но римлянин, бывший, по-видимому, начальником отряда, пришпорил коня, явно намереваясь пересечь им дорогу. Волей-неволей пришлось остановиться.
Всадник обратился к ним с просьбой показать ему дорогу в селение, и женщины согласились. Спешившись и отдав отряду приказание следовать несколько поодаль, офицер пошел рядом с Мириам, расспрашивая ее об ессеях, их жизни и прочем.
На вид ему было не более двадцати трех или двадцати четырех лет. Роста выше среднего, стройный, но крепкой красиво сложенный, с живыми и энергичными жестами. Его густые темно-каштановые волосы, коротко остриженные, вились крутыми кольцами, золотистый загар покрывал тонкую нежную кожу, а большие серые широко расставленные глаза смотрели смело, открыто из-под резких черных бровей, придававших лицу выражение твердости и решимости.
Красиво очерченный, хотя и несколько крупный рот, обнажавшиеся в улыбке ровные белые зубы и слегка выдающийся, чисто выбритый подбородок дополняли его лицо. Он производил впечатление смелого воина, человека, привыкшего повелевать, но при этом великодушного и добросердечного.
С первого же взгляда офицер понравился Мириам, понравился больше, чем кто-либо из молодых людей, которых она видела до сих пор, да и несравненно больше Халева, ее товарища детства.
Покончив с распоряжениями, римлянин отрекомендовался девушке:
— Я — Марк, — сказал он, — сын Эмилия, это имя было известно Риму в свое время. Я же могу лишь надеяться, что и мое, быть может, тоже станет со временем известно. Пока же я ничем не могу похвастаться перед тобой — разве только дядюшке моему Каю вздумается умереть и оставить мне свои громадные богатства, выжатые из испанцев. В настоящее время я — простой центурион под начальством достопочтенного и высокочтимого прокуратора Иудеи, благородного Альбина! — добавил Марк с оттенком сарказма в голосе. — Я послан расследовать дело по обвинению ваших уважаемых покровителей-ессеев в убийстве или в соучастии в убийстве одного недостойного иудея, который в числе других был послан сюда грабить житницы этой общины! Ну, а теперь я желал бы услышать что-нибудь о тебе, прекрасная госпожа!
Мириам с минуту молчала в нерешимости, не зная, следует ли ей быть столь откровенной с мало знакомым человеком. Нехуште же казалось, что молодой римлянин — человек влиятельный и сильный здесь, в Иудее, и заслуживает полного доверия, поэтому она отвечала за свою молодую госпожу:
— Девушка, которую ты видишь, господин, — моя госпожа, единственное дитя высокорожденного греко-сирийца Демаса и благородной супруги его Рахили, дочери богатейшего купца в Тире Бенони!
— Бенони! Я знавал его в Тире, где служил до последнего времени, — произнес Марк. — Я не раз обедал за его столом. Это знатный иудеи и, как утверждают, зилот, богаче его нет купца в Тире, не считая Амрама финикийца!
— Отец госпожи моей умер в амфитеатре Берита, а мать умерла от родов!
— В амфитеатре? — воскликнул молодой римлянин. — Разве он был злодеем или преступником?
— Нет, господин, — вмешалась Мириам, — он был христианином!
— Христианином! — повторил Марк. — О христианах говорят много дурного, но я знаю о них только то, что они мечтатели… Однако если я не ошибаюсь, ты сказала мне, госпожа, что принадлежишь к общине ессеев?
— Я — христианка, как мой отец и мать, но нашла приют у ессеев, и они не пытались отвратить меня от той веры, в которой я была крещена ребенком!
— Это дело опасное — быть христианкой! — заметил ее собеседник.
— Пусть так! Меня ничто не пугает! — ответила Мириам. — Я готова на все!
— Господин, — вмешалась теперь Нехушта, — быть может, госпожа моя и я сказали больше, чем было надо. Но мы доверяем тебе и, хотя ты водишь дружбу с Бенони, все же надеемся, что ты сохранишь в тайне все сказанное и не откроешь ему убежище его внучки!
— Вы не напрасно оказали мне доверие! Но обидно, что все его богатства, которые по праву принадлежат внучке, не достанутся ей!
— Высокое положение и богатство — еще не все, свобода личности и свобода веры значат больше, а моя госпожа ни в чем здесь не нуждается. Теперь я сказала тебе все, господин! — докончила Нехушта.
— Не все! Ты не сказала мне имени твоей госпожи, — возразил молодой римлянин.
— Ее зовут Мириам.
— Мириам, — повторил он, — какое красивое и милое имя. А вот уже видно и селение! Это оно и есть?
— Да, господин, это селение ессеев, — сказала Мириам, — вон в том доме зала совета, а это — странноприимный дом…
— А домик, что стоит так особняком от других? — спросил Марк.
— Это, господин, наш домик, там живем мы с Нехуштой!
— Я угадал! Этот прекрасный сад может принадлежать только женщинам!
Тем временем они подходили к селению. Марк шел подле молодой девушки, ведя лошадь в поводу за собой и удивляясь, что эта полуеврейская девушка так же свободно отвечает на все его вопросы, как любая египтянка, римлянка или гречанка.
Вдруг из кустов справа выступил на дорогу Халев и остановился как раз перед ними.
— А, друг Халев, — сказала Мириам. — Римский сотник Марк прибыл сюда посетить кураторов! Проводи его и других воинов в залу совета, да предупреди дядю моего Итиэля и остальных о его прибытии. Нам же с Нехуштой пора домой!
— Римляне всегда сами прокладывали себе дорогу, им не требуется, чтобы иудей указывал им путь! — мрачно проговорил Халев и снова скрылся в кустах по другую сторону дороги.
— Друг твой, госпожа, неприветлив, — сказал Марк, провожая его глазами, — недобрый у него вид. Если кто-либо из ессеев и мог совершить поступок, из-за которого я сюда приехал, так, кажется, только он!
— Этот мальчик не убил даже хищной птицы! — сказала Нехушта.
— Халев не любит чужих людей! — заметила, как бы извиняясь, Мириам.
— Я это вижу и могу признаться, что и мне не по душе этот Халев!
— Пойдем, Нехушта, — сказала Мириам, — нам — сюда, а тебе с твоими людьми, господин, надо идти вон туда! Прощай!
— Прощай, госпожа, спасибо, что указала мне путь! — ответил Марк и пошел указанной ему дорогой.
Домик, отведенный ессеями Мириам и ее пестунье Нехуште, находился на краю селения подле странноприимного дома и даже был построен на земле этого последнего, но отделен от него широкой канавой и довольно высокой живой изгородью из гранатовых кустов, увешанных в это время года золотисто-красными плодами. Гуляя с Нехуштой вечером в своем садике, Мириам услыхала знакомый голос дяди Итиэля, окликавший ее из-за изгороди.
— Что тебе угодно, дядя? — спросила Мириам.
— Я хотел предупредить тебя, дитя мое, что благородный Марк, римский центурион, будет жить в странноприимном доме все время, пока пожелает быть нашим гостем. А потому не пугайся, если увидишь в этом саду или дворе воинов. Я тоже буду жить здесь, чтобы заботиться о нашем госте. Он, как мне кажется, для римлянина весьма вежливый и приятный человек!
— Я ничуть не боюсь его, дядя, — сказала девушка, — мы с Нехуштой уже успели познакомиться с этим римским центурионом сегодня утром! — И она, слегка краснея, рассказала о своей встрече с Марком на Иерихонской дороге.
— Ну, спокойной ночи, дитя мое, — проговорил старик, — завтра мы с тобой увидимся, а теперь пора на покой!
Мириам послушно вернулась в дом и легла спать. Во сне ей снился молодой римский сотник.
Встав поутру, Мириам принялась за свое любимое занятие, лепку из глины. Ваяние давалось ей легко, так как у нее был природный дар, и работы ее удивляли путешественников, заглядывавших в селение ессеев, и всегда находили покупателей. Деньги, вырученные за эти работы, шли на поддержку бедных. Мастерской служил небольшой тростниковый навес в саду у стены, где Мириам ежедневно проводила по нескольку часов и куда заходил ее старый учитель, теперь уже весьма преклонных лет старец. Под его руководством Мириам исполнила несколько художественных вещей из мрамора и теперь работала над мраморным бюстом своего дяди в натуральную величину. Исходным материалом послужил обломок старой мраморной колонны, привезенной из развалин дворца близ Иерихона. Но сегодня утром Мириам работала с глиной. Нехушта прислуживала ей.
Вдруг чья-то тень заслонила ей свет солнца, проникающий под навес. Подняв глаза, она увидела перед собой дядюшку Итиэля и с ним молодого римлянина.
— Не смущайся, дочь моя, — начал старик, — я привел сюда нашего гостя, чтобы показать ему твою работу.
— Ах, дядя, посмотри на меня! Разве я могу показываться кому-нибудь в таком виде? — воскликнула Мириам, стыдясь своих мокрых рук и испачканного глиной платья.
— Смотрю и ничего решительно не вижу! — сказал старик. — Разве что-нибудь неладно?
— Я тоже смотрю и восхищаюсь! — сказал Марк. — Хорошо было бы, если бы мы чаще заставали женщин за таким прекрасным занятием.
— Ты смеешься, господин, — возразила Мириам, — возможно ли восхищаться незаконченной работой новичка в деле искусства? Тем более тебе, видавшему лучшие произведения великих греческих мастеров, о которых я только слыхала!
— Клянусь троном цезаря, госпожа, — воскликнул он искренне, — хотя я сам не художник, но выдающийся ваятель нашего времени Главк не создал бы подобного бюста!
— О, конечно! — улыбнулась Мириам. — Главк помешался бы, увидев его!
— Да, от зависти! Но скажи, что ты делаешь с этими произведениями искусства? — И он указал рукой на целый ряд работ, расставленных на полке под навесом.
— Я продаю их желающим, или, вернее, дяди мои продают, а вырученные деньги идут на бедных.
— Не будет ли нескромно с моей стороны спросить, за какую цену вы их продаете?
— Иногда путешественники давали мне по серебряному сиклю
[178], а однажды за группу верблюдов с арабом-проводником я получила целых три сикля!
— Один сикль! Три сикля! О, я куплю их все! Нет, это просто грабеж! Ну, а этот бюст, сколько он стоит?
— Это не для продажи, — сказала Мириам, — это мой скромный дар дяде или, вернее, дядям, которые хотят поставить бюст в своей зале совета.
Вдруг счастливая мысль озарила Марка.
— Я пробуду здесь несколько недель, — сказал он, — не согласишься ли ты, госпожа, исполнить мой бюст в такую же величину, и сколько это может стоить?
— О, много, очень много, — отвечала девушка, — мрамор здесь стоит дорого, да и резцы изнашиваются… Это будет (она говорила очень медленно, мучительно напрягаясь, так как не знала даже, что ей можно спросить)… Это будет стоить… пятьдесят сиклей… Да, пятьдесят сиклей! — повторила она неуверенно.
— Я не богатый человек, — воскликнул Марк, — но охотно дам двести сиклей!
— Двести, — пробормотала Мириам. — Нет, это безумие! Я не могу, не смею взять такой суммы… После этого ты, господин, вправе будешь сказать, что попал к разбойникам, которые ограбили тебя… Нет, если мои дяди разрешат принять этот заказ и у меня хватит времени, я постараюсь сделать все, что могу, за пятьдесят сиклей, но только я должна сказать, господин, что тебе придется просидеть немало часов, чтобы получилось хоть слабое сходство с оригиналом!
— Пусть так! Но как только я снова попаду в какую-нибудь цивилизованную страну, я доставлю тебе столько заказов, что ваши нищие превратятся в состоятельных людей. А пока я к твоим услугам, начинай, госпожа, сейчас же, если угодно!
— Я не имею разрешения, а без этого не смею приступить к такой работе!
— Это дело должно быть рассмотрено на совете кураторов, которым принадлежит право решать, может ли она исполнить твое желание, — вмешался Итиэль. — Но я не вижу ничего предосудительного в том, что моя племянница начнет моделировать из глины твой бюст уже сегодня. Если совет не даст согласия, его можно будет уничтожить!
— Благодарю, почтенный Итиэль, за твое разрешение. Где прикажешь мне сесть, госпожа? Ты увидишь, я буду самой послушной моделью!
— Сядь здесь, господин, и смотри вот сюда, в мою сторону.
VIII. Марк и Халев
На другой день Итиэль, выполняя свое обещание, предложил на обсуждение совета вопрос, можно ли позволить Мириам исполнить заказ римского центуриона. Ессеи по обыкновению долго совещались по поводу всего, что касалось их возлюбленной питомицы — но наконец разрешение приступить к работе было получено, при условии, однако, что сеансы будут проходить не иначе как в присутствии трех старейших братьев ессеев, в том числе престарелого учителя Мириам.
Таким образом, когда Марк явился в назначенный Итиэлем час в мастерскую, он застал там трех седобородых старцев в белых одеждах, а позади них темную фигуру Нехушты с приветливо улыбающимся лицом. При появлении Марка старцы поднялись со своих мест и поклонились ему, на что и он отвечал низким, почтительным поклоном, а затем приветствовал Мириам.
— Скажи мне, госпожа, эти почтенные отцы ожидают своей очереди служить тебе моделями или же это критики? — спросил римлянин.
— Это критики, господин! — сухо ответила девушка, снимая мокрый холст с глыбы сырой глины и принимаясь за работу.
Так как старцы сидели все трое в глубоких креслах, стоявших в ряд у задней стены, в глубине мастерской, и вставать со своих мест считали неудобным, то следить за ходом работы им било невозможно. А между тем из-за привычки, свойственной всем ессеям, вставать до зари, стариков, попавших в этот жаркий полдень в тень навеса, невольно клонило ко сну, и вскоре все трое заскули крепким, блаженным сном.
— Посмотрите на них, — сказал Марк, — какой прекраснейший сюжет для любого художника!
Мириам сочувственно кивнула головой и, взяв три куска глины, проворно слепила портреты трех спящих старцев, а когда те проснулись, показала им свою лепку. Добродушные старички от души посмеялись.
Каждый день сеансы повторялись тем же порядком, и славные старики-кураторы каждый раз засыпали, так что молодые люди, в сущности, оставались наедине. Ничто не мешало их взаимному обмену мыслей и чувств. Марк рассказывал молодой художнице о войнах, в которых принимал участие, о странах, которые он имел случай посетить, об известных ему народах, их нравах и обычаях; девушка же передавала ему различные подробности своей жизни среди ессеев. Наконец разговор коснулся религии. Марк был знаком со многими верованиями как западных, так и восточных народов, и все они, по-видимому, не удовлетворяли его, не внушали большого уважения. Тогда Мириам решилась изложить ему, как умела, основы своей религии, новой религии — христианства, о котором в то время непосвященные имели лишь смутное представление.
— Все, что говоришь ты, госпожа, кажется мне прекрасным! — отвечал Марк. — Но объясни, как примирить это учение с требованиями жизни? Твоя христианская вера чиста и высока. Но почему-то все народы в одинаковой мере ненавидят и презирают христиан, да и какой смысл верить в этого Распятого, который обещал всем верующим в него воскресить их в последний день! В чем тут смысл религии?
— Это ты поймешь, господин, когда все остальное изменит тебе!
— Да, ты права. Эта ваша христианская религия — религия тех, кому все остальное в жизни изменяло, религия несчастных, обездоленных. Но теперь давай поговорим о чем-нибудь более веселом, вопросы вечности мне представляются туманными: кроме вечной красоты искусства, я не знаю пока ничего вечного!
В этот момент престарелый учитель Мириам пробудился и протер глаза.
— Подойди сюда, великий учитель мой, — воскликнула Мириам, — помоги твоей неопытной ученице справиться с этим капризным изгибом линии губ!
— Дочь моя, Мириам, когда-то я был искусен в этом деле, — отвечал старец. — Но теперь я — простой каменщик, а ты — гениальный ваятель. У меня было дарование, у тебя — божественный талант! Не мне помогать тебе!
Тем не менее старик подошел к бюсту и, восхищенный, залюбовался работой девушки.
— Да, — добавил он, — тут вот, как сама ты говоришь, не совсем верно… Но попробуй сделать вот так… Нет, нет, я не возьму резца из твоих рук, сделай сама… Видишь, теперь — прекрасно!.. О, дитя, теперь не тебе у меня учиться!..
— Не говорил ли я, что ты гениальна в своем искусстве, госпожа! — воскликнул Марк.
— Ты, господин, много говоришь, и я боюсь, что очень многие из твоих слов находятся не в согласии с твоими мыслями. Но теперь, прошу тебя, не говори вовсе: я хочу изучить твои губы!
И работа продолжалась некоторое время в полном безмолвии.
Не всегда, однако, сеансы проходили в разговорах. Иногда Мириам принималась петь вполголоса, а когда заметила, что голос ее приятен молодому римлянину и убаюкивающе действует на старцев, стала петь часто. Кроме того она рассказывала сказки и легенды иорданских рыбаков, и Марк слушал ее с видимым удовольствием. Иногда ее сменяла старая Нехушта, и тогда молодые люди жадно внимали полудиким сказаниям о далекой и знойной Ливии, о тамошних кровавых потехах и о чудесах белой и черной магии.
Так проходили часы работы, и дни следовали за днями счастливой чередой.
Но не всем они казались светлыми днями тихого счастья — для Халева это были бурные дни жгучей ревности, зависти и ненависти. Он готов был в любой момент вонзить нож в сердце блестящего молодого римлянина. И Мириам поняла это, поняла, что отныне горе тому человеку, который полюбится ей. Теперь она боялась Халева, боялась за Марка, хотя, в сущности, молодой римлянин был для нее никем в это время; но она знала, что Халев думал иначе. В последнее время она редко видела друга детства, однако тот находил возможность узнавать до мельчайших подробностей все о Мириам или молодом центурионе. Марк не раз говорил ей, что куда бы он ни пошел, где бы ни был, везде и всюду встречает он этого красивого странного юношу, которого она назвала "друг Халев".
Однажды во время сеанса, когда гипсовый слепок был уже готов, и Мириам работала над мрамором, Марк сказал ей:
— Я должен сообщить тебе новость, госпожа. Теперь я знаю, кто убил того плута иудея. Это твой друг Халев, как доказывают свидетельские показания!
Мириам невольно содрогнулась, так что резец выпал у нее из рук.
— Ш-ш! — прошептала она, оглядываясь на спящих кураторов. (В этот самый момент один из них начал просыпаться.) — Ведь они еще не знают об этом? — шепотом спросила она, наклонившись к Марку.
Он отрицательно покачал головой и казался изумленным.
— Я должна поговорить с тобой об этом деле, только не здесь и не теперь!
Вдруг Нехушта, как нельзя более некстати, уронила какой-то сосуд с металлическими инструментами.
Шум этот разбудил и остальных кураторов, но Мириам уже успела шепнуть:
— Встретимся в моем саду, в час после заката; калитка будет незаперта!
— Хорошо! — ответил Марк. — Но, боги, что это за шум? Друг Нехушта, ты неосторожно потревожила сон наших уважаемых кураторов, хотя, впрочем, на сегодня сеанс, кажется, закончен? — добавил он, обращаясь к Мириам.
— Я не буду задерживать теперь тебя дольше! — ответила та.
Солнце уже зашло, и мягкий лунный свет залил все вокруг. Олеандры, лилии и нежные цветы апельсиновых деревьев наполняли воздух нежным благоуханием. Кругом все стихло, разве только кое-где лаяли собаки, да вдали завывал одинокий голодный шакал.
Марк явился минут за десять до назначенного времени и, найдя калитку незапертой, вошел в сад. Вдоль высокой каменной стены, служившей оградой, шел длинный ряд деревьев, где царила густая тень. Середина же сада, сравнительно открытая, была освещена луной. Марк встал в тени. Крадучись, точно кошка за намеченной добычей, Халев за спиной Марка также пробрался в сад и притаился у стены.
Марк ожидал назначенного свидания, не помышляя о том, что ему могла грозить опасность. Вон там, впереди, мелькнуло белое платье, и молодой римлянин сделал несколько поспешных шагов навстречу девушке и ее неизбежной спутнице Нехуште. Теперь они стояли Достаточно далеко от Халева, так что он хотя и мог ясно различать их фигуры и движения, но разговора, который происходил шепотом, слышать не мог.
— Господин, — начала Мириам, глядя на римлянина своим ласковым, тихим взглядом, напоминавшим спокойную синеву небес, — прости, что я потревожила тебя в такой необычный час.
— Полно, госпожа Мириам, я всегда рад тебе служить! — отвечал Центурион. — Да не называй меня господином, а зови Марком, мне будет приятнее!
— Дело в том, что эта история с Халевом…
— Пусть бы все духи ада побрали этого Халева, что, как я полагаю, вскоре и должно случиться!
— Нет, этого-то именно и не должно случиться! — воскликнула Мириам. — Мы встретились здесь для того, чтобы поговорить о Халеве! Скажи же, господин Марк, что ты узнал о нем?
Марк рассказал, что нашлись свидетели из числа окрестных жителей, которые присутствовали при убийстве, и упомянул о долге, обязывающем арестовать Халева.
Мириам стала просить пощадить его. Но римлянин ревниво заметил, что он видит, как Халев любит Мириам, и спросил, не отвечает ли она взаимностью. Мириам пылко запротестовала против такого предположения, и смягченный римлянин уступил ее мольбам.
Между тем подслушивающий Халев не расслышал ни слова; до него доносился только смутный шепот двух голосов, но зато ни один жест, ни одно движение обоих не укрылось от его ревнивого взгляда. Нет сомнения, он присутствовал при страстном свидании влюбленных. Ему казалось, что сердце разорвется в его груди от ревнивой злобы, он готов был броситься на римлянина и тут же на месте убить его. Но минуту спустя чувства благоразумия и самосохранения взяли верх: он хотел убить, но не быть убитым! Если он убьет римлянина, Нехушта, эта старая кошка, подкупленная римским золотом, вонзит ему в спину нож, с которым она никогда не разлучается! Тогда Мириам достанется кому-нибудь другому, а он не получит никакого удовлетворения. Так рассуждал Халев, не спуская глаз с освещенной луной площадки сада.
Вот они расстались, и Мириам, не оглядываясь, исчезла в дверях дома. Марк, точно в полусне, прошел мимо юноши так близко, что чуть не коснулся его одежд. Только Нехушта оставалась неподвижной на том месте, где стояла, точно в глубоком раздумье. Халев, крадучись, последовал за Марком, прячась в тени деревьев. В десяти шагах от калитки сада Мириам в стене была другая калитка, ведущая в сад странноприимного дома. В тот момент, когда центурион обернулся, чтобы запереть за собой калитку, перед ним, точно из-под земли, выросла какая-то человеческая фигура.
— Кто ты? — спросил римлянин, отступив на шаг, чтобы лучше разглядеть своего посетителя.
Халев между тем переступил через порог калитки и запер ее за собой на засов.
— Я — Халев, сын Гиллиэля; я хочу говорить с тобой!
— Какое же у тебя дело ко мне, Халев, сын Гиллиэля? — спросил Марк.
— Дело о жизни и смерти, Марк, сын Эмилия! Мы оба любим одну девушку. Я видел все! Двоим нам она принадлежать не может. Я рассчитываю, что со временем она будет моей, если только глаз и рука не изменят мне сейчас. Из этого, полагаю, ясно, что один из нас должен сегодня умереть!
Тщетно Марк взывал к его разуму — пылкий юноша оставался непоколебим в своем намерении. Тогда центурион принял вызов. Драться решили на коротких мечах.
С минуту соперники стояли друг против друга. Римлянин гордо и смело ждал нападения, зорко следя за малейшим движением своего противника, иудей же присел, как тигр, готовящийся к прыжку, выжидая удобного момента. И вот с тихим отрывистым криком Халев кинулся на Марка, глаза его сверкнули дикой яростью. Но Марк проворно отскочил в сторону в тот момент, когда удар готов был его поразить. Меч Халева запутался в складках плаща соперника, и Марк, поймав его, возвратил удар, но, не желая нанести юноше серьезную рану, направил удар на руку и отсек ему один из пальцев, поранив остальные; Халев выронил свое оружие. Тогда Марк, наступив ногой на меч противника, обернулся к нему и проговорил:
— Юноша, ты сам того хотел! Это тебе урок, и ты до самой смерти не забудешь его. Ну, а теперь иди!
Халев заскрежетал зубами.
— Мы дрались на смерть. Слышишь, насмерть!.. Ты победил, убей же меня! — И окровавленной рукой он распахнул на груди одежду, чтобы противник сразу мог пронзить его мечом.
— Оставь такие шутки лицедеям! — сказал Марк. — Иди, но помни: если ты когда-нибудь осмелишься на какой-либо предательский поступок по отношению ко мне или к любимой тобой девушке, то я убью тебя, как воробья!
Издав нечто похожее на стон или проклятие, Халев скрылся во мраке. Марк, пожав плечами, готовился уже войти в дом, как вдруг чья-то тень пересекла его путь. Он обернулся и увидел подле себя Нехушту.
— Ах, друг Нехушта, каким путем ты очутилась здесь?
— Вот этим! — ответила та, указывая на живую изгородь, отделявшую их сад от сада странноприимного дома. — Оттуда я все видела и слышала!
— Если так, то, надеюсь, ты похвалишь меня за ловкость в бою и за добродушный нрав?
— В бою ты ловок, это правда, хотя тут нечем похвалиться при таком безумном противнике. Ну, а что касается твоего добродушия, господин, то скажу тебе, что оно достойно глупца!
— Так вот какова награда за добродетель! — воскликнул Марк. — Скажи, пожалуйста, почему ты так говоришь?
— Да потому, господин, что этот Халев станет опаснейшим в Иудее человеком, и всего более опасным для госпожи моей Мириам и для тебя самого. Тебе следовало убить его теперь, когда представился благоприятный случай это сделать. А в будущем может повезти и ему!
— Ты права, добрая Нехушта, но я последнее время вращался среди христиан и, быть может, невольно заразился их взглядами. Это, кажется, славный меч, возьми его, друг Нехушта, и храни у себя. Спокойной ночи!
На следующий день при перекличке юных воспитанников ессеев Халев не отозвался, и ни на второй, ни на третий день его нигде не могли разыскать.
IX. Праведный суд Флора
Много дней спустя на имя кураторов было получено короткое послание от Халева, в котором он говорил что, сознавая в себе полное отсутствие призвания стать последователем учения ессеев, он покинул их приют и нашел убежище у друзей своего покойного отца, но где именно, об этом в послании не упоминалось. Принимая во внимание разнесшийся в окрестностях слух о том, что виновником убийства был не кто иной, как Халев, почтенные старцы ессеи нашли в этом достаточное объяснение внезапного бегства юноши и, так как он не подавал блестящих надежд, то о нем не особенно жалели.
Прошла неделя со времени исчезновения Халева. Мириам за это время почти не видела Марка, так как надобности в дальнейших сеансах не было и она могла работать по глиняной модели, которая была уже полностью закончена. Теперь же и сам бюст был готов и даже почти отполирован. Однажды поутру, когда Мириам заканчивала свою работу, чья-то тень заслонила широкую полосу солнечного света, врывавшуюся в ее мастерскую через открытую дверь. Она подняла глаза и, к немалому удивлению своему, увидела перед собой Марка в полном боевом одеянии, в кольчуге, панцире и дорожном плаще.
Мириам была одна в мастерской, так как Нехушта вышла распорядиться по хозяйству. Увидав Марка, девушка слегка покраснела и выронила из рук тряпку, которой она полировала мрамор.
— Прости, госпожа Мириам, — начал римлянин, — что я осмелился нарушить так неожиданно твое уединение, но время не терпит!
— Ты покидаешь нас, господин? — прошептала она.
— Да, в три часа пополудни я должен выехать отсюда. Дело мое здесь завершено, мой отчет о непричастности ессеев к убийству и их лояльности по отношению к властям окончен, и меня спешно вызывают в Иерусалим через гонца, прибывшего сюда с час тому назад!
— В три часа пополудни, — повторила девушка. — Что же, работа моя готова, и если ты, господин, хочешь, возьми ее!
— Конечно, я возьму ее с собой, а относительно цены мы сговоримся с уважаемыми старцами.
— Да, да, — промолвила Мириам, кивнув головой, — но если ты позволишь, я желала бы сама упаковать этот мрамор, чтобы он не пострадал в дороге. Кроме того, разреши мне оставить у себя модель, она по праву должна принадлежать тебе, но я не совсем довольна этим мраморным бюстом и хотела бы сделать другой!
— Мне кажется, что мрамор безупречен, но модель я оставлю в твоем распоряжении, госпожа, и скажу больше — я очень рад, что ты хочешь оставить ее у себя! Ноты не спрашиваешь, госпожа, почему меня вдруг так спешно вызывают в Иерусалим, или тебе не интересно?
— Если тебе угодно будет сказать, то я буду рада!
— Помнится, я упоминал как-то, госпожа Мириам, о дяде моем Кае, проконсуле римского императора в нашей богатейшей провинции, Испании, где он нажил большое состояние. Так вот, старик занемог, и болезнь его смертельна; быть может, он уже умер, хотя врачи уверяли, что он может протянуть еще с полгода или даже больше. Во время своей болезни он вдруг вспомнил обо мне и пожелал увидеть племянника, хотя в течение многих лет совершенно не вспоминал о моем существовании. Мало того, в своем письме он выражает намерение сделать меня наследником, а пока послал весьма крупную сумму на путевые издержки, прося поспешить к нему, насколько только возможно. Одновременно с его письмом к прокуратору Альбину пришло приказание цезаря Нерона
[179] немедленно отпустить меня к дяде, снабдив всем необходимым. Вот почему я срочно должен ехать, госпожа Мириам!
— Да, конечно, — сказала молодая девушка, — через два часа этот мраморный бюст будет докончен и упакован! — И она протянула ему руку на прощание.
Марк взял ее руку и удержал в ладонях.
— Мне тяжело прощаться с тобой так!
— Мне кажется, что иного прощания не может быть!
— Проститься можно и так, и этак, но всякое прощание с тобой мне тяжело, больно и ненавистно!
— Стоит ли тебе, господин, терять время на такие слова?! Мы встретились на час и расстаемся навек. К чему тут пустые слова?
— Я не хочу этой вечной разлуки с тобой, госпожа! — воскликнул Марк. — Вот почему я и сказал тебе это!
— Отпусти, господин, мою руку, мне надо еще кончить работу!
— Тебе надо кончить, мне надо начать! — сказал Марк каким-то загадочным, взволнованным тоном. — Мириам, я тебя люблю!
— Я не должна выслушивать от тебя, Марк, такие слова! — смущенно сказала девушка.
— Почему же нет? До сих пор они считались позволительными между мужчиной и женщиной, когда намерения их чисты. В моих устах они значат одно: я предлагаю тебе быть моей женой, если только и ты любишь меня!
— Едва ли ты говоришь серьезно…
— Клянусь своей честью, Мириам, это мое самое искреннее желание! — воскликнул молодой воин.
— В таком случае, Марк, тебе придется теперь же отказаться от него, — печально проговорила она, тогда как глаза ее глядели ласково и с любовью. — Между нами лежит целая пропасть!
— И зовут эту пропасть Халев? — с горечью подхватил Марк.
— Нет, у нее другое название, и ты сам хорошо это знаешь. Ты — римлянин и поклоняешься богам Рима, а я — христианка и верую в Бога и во Христа Распятого. Вот что разлучает нас навек!
— Почему же? Очень часто муж христианин или жена христианка обращают своего супруга или супругу в свою веру. Ведь это дело убеждения, дело времени.
— Да, но что касается меня, то даже если бы я того хотела, все равно я не могла бы стать женой человека иной веры, чем моя!
— Почему же? — спросил Марк.
И Мириам рассказала ему о завете покойных родителей.
— Как бы я ни любила человека, все разно, я должка помнить этот завет!
Марк пытался было указать на необязательность этого завета для нее. Но девушка была непоколебима. Тогда центурион выразил предположение, что, может быть, и он станет в ряды последователей Христа, но просил дать ему время подумать, пока же обещал писать ей из Рима. Лицо девушки озарилось лучезарной улыбкой…
Долго еще говорили молодые люди. Наконец пришло время расставаться.
— Прощай, Марк, — проговорила девушка, — и пусть любовь Всевышнего сопутствует тебе!
— А твоя любовь, Мириам? — спросил он.
— Моя любовь всегда с тобой, Марк! — просто отвечала Мириам.
— О, я жил недаром! — воскликнул римлянин. — Знай, что как я ни люблю тебя, а еще более уважаю! — И опустившись перед ней на колено, он поцеловал ее руку и кайму ее платья, потом быстро вскочил на ноги, повернулся и вышел.
Когда стемнело, Мириам смотрела с крыши своего дома, как Марк во главе отряда тихим шагом выезжает из селения ессеев. На вершине холма, с которого открывался вид на окрестности, он придержал коня и, пропустив мимо себя солдат, повернулся лицом к селению и долго смотрел в ту сторону, где стоял домик Мириам. Серебристый свет луны играл на его боевых доспехах, он казался светлой точкой в окружающем мраке ночного пейзажа. Мириам не могла оторвать глаз от этой светлой точки, сердце ее слышало его немой привет и посылало ему такой же привет, такое же нежное слово любви.
Но вот он быстро повернул коня и исчез. Все мужество бедной девушки разом оставило ее: припав головою к перилам, Мириам залилась слезами.
— Не плачь, дитя, и не горюй! Тот, кто исчез теперь во мраке ночи, вернется к тебе в сиянии дня! Верь мне! — произнес за ее плечом ласковый голос Нехушты.
— Но, увы, дорогая Ноу, что из того, если он вернется? Ведь я же связана этим зароком, нарушить который не могу без того, чтобы не навлечь на себя проклятия неба и людей!
— Я знаю только то, дитя мое, что и в этой стене, и во всякой другой найдется калитка. Не тревожь же себя — все в руках Божиих, и верь — он вернется. Ты можешь гордиться любовью этого римлянина: он честен, верен и чист сердцем, несмотря па то, что вырос и воспитан в развратном Риме. Подумай об этом и будь благодарна Богу, так как многие женщины прожили свою жизнь, не встретив и не испытав любви, не изведав этой земной радости!
— Ты права, дорогая Ноу, — сказала девушка, — твои слова придали мне силы!
— Ну, а теперь, когда ты немного успокоилась, — продолжала Нехушта, — я сообщу тебе об одном важном деле. Когда ессеи приняли нас с тобой в свою общину, то поставили при этом строжайшее условие, что ты останешься у них только до достижения тобою восемнадцатилетнего возраста. Но этот срок минул уже почти год тому назад, и, хотя ты ничего об этом не знала, вопрос основательно обсуждался на совете. Слова "полных восемнадцать лет" были истолкованы так, что эти восемнадцать лет исполнятся тогда, когда тебе минет девятнадцать, иначе говоря, ровно через полгода, считая от сегодняшнего дня!
— И тогда мы должны будем покинуть этот дом, Ноу?! — воскликнула девушка, для которой это затерявшееся в пустыне селение было целым светом, а добродушные старцы — единственными друзьями. — Куда же мы с тобой пойдем, Ноу? Ведь у нас нет ни дома, ни родных, ни денег!
— Не знаю, дитя. Но, без сомнения, и в этой стене отыщется калитка. У христианки много братьев, и для нее всегда найдется приют. Кроме того, с твоим искусством ты всегда сумеешь в Иерусалиме или любом другом большом городе заработать себе на пропитание. Да и у меня сбережено на черный день немало денег: почти все золото, данное Амрамом, цело, да и те деньги и драгоценности, которые капитан погибшей галеры оставил в своей каюте, тоже хранятся у меня. Наконец, и ессеи не допустили бы, чтобы ты терпела нужду. Итак, дитя, не мучь себя заботой, ты без того утомлена сегодня, тебе нужно отдыхать. Ложись-ка спать, уж поздно!
* * *
С тяжелым сердцем покидал Халев тихую деревеньку ессеев за час до рассвета после поединка с
Марком. Дойдя до вершины холма, он обернулся назад и долго-долго смотрел на домик, где жила Мириам. В любви и в бою он был несчастлив. Побежденный, униженный тем, что надменный римлянин подарил ему жизнь, угадывая в душе, что счастливый соперник овладел сердцем Мириам, Халев невыносимо страдал. Но самое страдание рождало в нем злобу, а злоба — силу.
Мало-помалу тени ночи бледнели, восток начинал алеть, и скоро дневное светило торжественно взошло на горизонте, озарив все своим золотым светом.
— О! — воскликнул Халев. — Я еще восторжествую над всеми, как солнце восторжествовало над сумрачной мглой! Теперь я рад, что этот римлянин сохранил мне жизнь: настанет день, когда я отниму у него и жизнь, и Мириам! — И юноша, забыв про боль израненной руки, полный злобного торжества и зародившейся в нем надежды, чуть не бегом спустился с холма в долину и, бодро шагая, направил свой путь к Иерусалиму.
Дорогой он много размышлял и вступал в длинные беседы со всеми встречными, стараясь разузнать положение дел в Иерусалиме. Прибыв сюда, он разыскал дом своей бывшей покровительницы. Ее уже не было в живых, но сын этой женщины принял его, обласкал и снабдил хорошим платьем и небольшой суммой денег, чтобы он мог подыскать себе какое-нибудь занятие. Однако Халев, как только залечилась его рана, стал ежедневно ходить к дворцу Гессия Флора римского прокуратора, ища случая поговорить с ним.
Три дня ожидал он напрасно по четыре-пять часов кряду, и в конце концов его прогоняла дворцовая стража. Но это не смущало Халева, и на четвертый день, когда он снова явился туда, Флор, приметивший его, приказал своим приближенным спросить юношу, чего он так терпеливо ожидает. Офицер возвратился с ответом, что этот иудей имеет просьбу к благородному Флору.
— Так пусть он выскажет ее! — сказал управитель. — Я на то и сижу здесь, чтобы чинить суд и расправу по милости и именем цезаря!
Халев очутился перед Флором, одним из худших людей и худших правителей, каких когда-либо имела Иудея.
— Чего ты хочешь от меня, иудей? — спросил прокуратор Халева.
— Того, что, наверное, получу от тебя, благороднейший Флор! Справедливости! Ничего, кроме справедливости!
— Что ж, это можно получить, но за соответствующую цену! — с усмешкой сказал правитель.
— Я согласен заплатить надлежащую цену!
— Если так, то расскажи свое дело!
И Халев рассказал, как отец его был случайно убит во время бунта, и как некие иудеи-зилоты захватили все имущество, поделив между собой на том основании, что его отец был сторонником римлян. Таким образом он, Халев, единственный сын и наследник всех земель и капиталов, был оставлен нищим и воспитан из милости добрыми людьми, а те иудеи-зилоты или их наследники владеют всем его достоянием.
Маленькие бегающие глазки Флора заискрились корыстной радостью.
— Называй имена твоих обидчиков! — приказал он.
Но Халев был не так прост: он предварительно настоял на формальном договоре относительно того, что достанется ему, законному наследнику, и что должно быть уступлено правителю. После долгих препирательств было наконец решено, что все земли и дворец в Тире, с прилежащими к нему складами и магазинами, а также половина доходов за истекшее время передаются ему, Халеву, все же недвижимое имущество его отца, находящееся в Иерусалиме, и другая половина доходов достанется на долю правителя или, по выражению Флора, на долю цезаря. В этом, как и во всем, Халев оказался предусмотрителен: "Дома, — думал он, — могут сгореть или быть разрушены во время какого-нибудь бунта, поместье же и земли всегда будут в цене". Потом условие было оформлено и подписано. Тогда только он назвал имена своих обидчиков и представил свои доказательства.
Спустя неделю названные им лица были уже заключены в тюрьму, а все имущество их отобрано. Потому ли, что Флор радовался такой непредвиденной наживе, или потому, что он угадал в Халеве человека многообещающего и со временем могущего стать ему полезным, но только на этот раз, вопреки обыкновению, римский прокуратор в точности выполнил свой договор.
Вот так, спустя несколько месяцев после бегства из селения ессеев, бездомный и униженный сирота Халев стал богатым и влиятельным человеком. Солнце счастья взошло теперь и для него.
X. Бенони
По прошествии некоторого времени Халев, теперь уже не бездомный сирота, а состоятельный молодой человек, владелец богатых поместий и земель, выезжал из Дамасских ворот Иерусалима на дорогом коне, в богатой одежде и в сопровождении нескольких слуг.
Выехав за город и поднявшись на холмистую возвышенность, по которой лежал его путь, он оглянулся на Иерусалим и промолвил про себя:
— Придет срок, и римляне будут изгнаны отсюда, а я стану властителем Великого города!
Честолюбивый юноша уже не желал довольствоваться своим богатством и положением, которое оно создало ему, — теперь Халеву хотелось большего. Он направился в Тир, чтобы вступить во владение теми домами с прилежащими к ним землями, которые некогда принадлежали его отцу. Кроме того, у него была еще и другая цель: в Тире жил старый иудей Бенони, дед Мириам, о котором он слышал от нее самой, еще когда оба они были детьми. Этого-то Бенони Халев и желал повидать.
В колоннаде портика одного из богатейших и великолепнейших дворцов Тира в послеобеденное время возлежал на роскошном ложе красивый старик. Он отдыхал после дневных трудов, прислушиваясь к монотонному рокоту синих волн Средиземного моря. Дворец его стоял в той части города, что расположена на острове, а не на материке, где расселилось большинство богатых сирийцев.
Темные, полные жизни и энергии глаза старика, его тонкий орлиный нос, длинные, седые как лунь волосы и серебристая борода делали его положительно красивым, несмотря на его далеко уже не молодые годы. Одет он был в богатое и роскошное платье, кроме того, так как время года было зимнее и даже в Тире было довольно холодно, на нем был дорогой меховой плащ. Сам дворец был достоин своего владельца: выстроен из чистого мрамора, убран великолепно и изысканно. Драгоценная мебель, лучшие ковры, редкая утварь и художественные произведения лучших мастеров делали этот дом настоящим музеем.
Покончив с подсчетами и приемом товара с только что прибывшего из Египта торгового судна, старик Бенони прилег отдохнуть на своей мраморной террасе, выходившей на море. Но сон его был тревожен, скоро он вскочил на ноги и, схватившись за голову, воскликнул;
— О, Рахиль, дитя мое! Почему ты преследуешь меня днем и ночью? Почему образ твой не покидает меня даже во сне, стоит пред глазами и укоряет меня… Пощади, Рахиль!.. Впрочем, это не ты, это мой грех преследует меня, совесть не дает мне покоя! — Присев на край ложа, старик закрыл лицо руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, громко застонал.
Вдруг он снова вскочил и принялся ходить большими шагами взад и вперед по портику.
— Нет, то не был грех! — бормотал он. — А только справедливость! Я принес ее в жертву Иегове, как некогда отец наш Авраам готов был принести в жертву Исаака. Но я чувствую, что проклятие этого лжепророка тяготеет надо мной, и все по вине Демаса, этого ублюдка, который вкрался в мой дом, вкрался в душу моей голубки, а я, безумец, позволил дочери взять его в мужья. Я ли виноват, если меч, который должен был пасть только на его голову, сразил их обоих! — И измученный, обессилевший старик упал на шелковые подушки своего ложа.
В этот момент в нескольких шагах от него появился араб-привратник в богатой одежде, вооруженный громадным мечом. Убедившись, что хозяин не спит, он молча сделал низкий, почтительный салам
[180].
— Что такое? — коротко спросил Бенони.
— Господин, там внизу ожидает молодой человек по имени Халев, сын Гиллиэля, и желает говорить с тобою.
— Халев, которому римский правитель, — при этом старик плюнул на пол, — возвратил его собственность. Да, я уже слышал о нем. Проводи его сюда!
Араб снова отвесил поклон и удалился, а спустя немного времени ввел благородного вида юношу в богатой одежде. Бенони приветствовал его поклоном и просил садиться. Халев, в свою очередь, отвесил ему низкий поклон, коснувшись по восточному обычаю лба рукой. При этом хозяин заметил, что у гостя на руке не доставало пальца.
— Я готов служить тебе, господин! — произнес старик сдержанно, но вежливо.
— Я — твой раб, господин, и готов повиноваться тебе! — ответил Халев. — Мне говорили, что ты знавал моего отца, и я при первом удобном случае явился к тебе засвидетельствовать свое почтение. Моего отца звали Гиллиэль, и он погиб много лет тому назад в Иерусалиме, о чем ты, вероятно, слышал!
— Да, — сказал Бенони, — я знал Гиллиэля. Умный был человек, но он попал в конце концов в ловушку… Я по тебе вижу, что ты его сын!
— Я рад тому, что ты говоришь, господин! — отозвался Халев, и хотя по тону хозяина понял, что между ним и его покойным отцом не было большой дружбы, тем не менее, продолжал:
— Имущество мое, как ты, господин, верно, знаешь, незаконно отнятое, теперь отчасти возвращено мне…
— Гессием Флором, римским прокуратором, не так ли, который по этому случаю заключил многих совершенно ни в чем не повинных иудеев в тюрьму?!
— Неужели?! Вот именно относительно этого Флора я и пришел спросить твоего мудрого совета. Он удержал в свою пользу добрую половину моей собственности. Неужели нет такого закона, который принудил бы его возвратить все, принадлежащее мне по праву? Не можешь ли ты, такой сильный и влиятельный среди нашего народа, помочь мне в этом?
— Нет, — сказал Бенони, — ты должен почитать себя счастливым, что Флор оставил себе только половину твоего достояния, а не все. Права имеют только римские граждане, а иудеи — только то, что сумеют добыть сами. Относительно меня ты тоже ошибаешься: я не силен и не влиятелен, я — просто старый, скромный купец, не имеющий ни в чем никакого авторитета!
— Как видно, настали тяжелые времена для нас, иудеев! — заметил Халев после некоторого молчания. — Что ж, попробую довольствоваться тем, что имею, и постараюсь простить моим врагам!
— Лучше попробуй быть довольным, но постарайся уничтожить своих врагов! — поправил его Бенони. — Ты был голоден и наг, а теперь богат, за это должен благодарить Бога!
Наступило молчание.
— Что же, ты намерен поселиться здесь в доме Хезрона — то есть в твоем доме?
— На время, быть может, пока не подыщу подходящего нанимателя. Я не привык к городам, так как вырос среди ессеев в пустыне близ Иерихона, хотя сам я не ессей и их учение ненавистно мне!
— Почему же? Они не дурные люди. Ты, может быть, знал среди них брата моей покойной жены Итиэля? Добродушнейший старец!
— Да, конечно, я хорошо знаю его, а также его внучатую племянницу, госпожу Мириам!
Бенони чуть не подскочил при последних словах своего собеседника.
— Прости меня, но я не понимаю, как может эта девушка быть ему племянницей? Я знаю, что у него другой родни, кроме покойной жены моей, не было!
— Точно не скажу, — небрежно отозвался Халев, — но, кажется, лет девятнадцать или двадцать тому назад ее принесла в селение ессеев еще грудным младенцем ливийская рабыня по имени Нехушта. Она рассказала, что мать девочки, попав в кораблекрушение на пути в Александрию, родила младенца на разбитом судне и умерла в родах, завещав отнести ребенка к старику Итиэлю, чтобы тот вырастил и воспитал ее!
— Так, значит, эта госпожа Мириам — последовательница учения ессеев? — спросил Бенони.
— Нет, она — христианка, как того желала ее покойная мать, которая сама принадлежала к этой секте!
Старик не выдержал, поднялся со своего ложа и принялся ходить взад и вперед по портику.
— Ну, а какова эта госпожа Мириам? — продолжал расспрашивать старый Бенони.
— О, она прекраснее всех девушек Иудеи, хотя несколько миниатюрна и худощава. Мила, кротка, приветлива и образованна, как ни одна женщина!
— Весьма восторженные похвалы! — заметил старик.
— Быть может, я несколько пристрастен, но мы росли вместе, и надеюсь, что когда-нибудь она станет моей женой!
— Ты разве обручен с нею, господин? — осведомился Бенони.
— Нет, мы еще не обручены, — сказал Халев несколько смущенно, — но я не смею злоупотреблять твоей любезностью и отнимать твое драгоценное время, господин, рассказами о своих сердечных делах! Позволь просить тебя пожаловать завтра ко мне на ужин. Если ты почтишь меня своим посещением, то я буду тебе за это крайне признателен!
— Я буду у тебя на ужине, господин, — проговорил Бенони, — так как хотел бы знать, что теперь делается в Иерусалиме, откуда ты только что прибыл, если не ошибаюсь. А ты, я вижу, из числа тех людей, которые умеют держать глаза и уши всегда широко раскрытыми!
— Я стараюсь и видеть, и слышать! — скромно ответил Халев. — Но еще так неопытен и несведущ, что сильно нуждаюсь в мудром руководителе, каким мог бы быть ты, господин, если бы того пожелал. А пока прощай, господин, буду ожидать тебя завтра!
Бенони проводил глазами своего посетителя и затем снова стал ходить взад и вперед, размышляя:
— Не доверяю я этому Халеву, но он богатый и способный юноша. Быть может, он сумеет быть полезным нашему делу… Но кто же эта госпожа Мириам?.. Неужели дочь Рахили?! Конечно, это очень возможно… Она не велела отвезти ребенка ко мне, желая, чтобы он был воспитан в ее проклятой вере! Хороша, образованна, говорил он, но христианка! Как видно, проклятие родителей падает на голову детей… Ну, что тебе еще? Разве ты не видишь, что я хочу остаться один?! — грозно прикрикнул старик на вновь появившегося араба-привратника.
— Прости меня, господин, но римский воин Марк пришел побеседовать с тобой. Он говорит, что нынче ночью отплывает в Рим!
— Ну, ну, впусти его, — проворчал Бенони. — Быть может, он явился уплатить свой долг!
Под портиком послышались звучные, мерные, уверенные шаги, и молодой римский центурион подошел к Бенони.
— Привет тебе, Бенони! — произнес он со своей обычной приятной улыбкой. — Как видишь, вопреки твоим опасениям, я еще жив, и твои деньги не пропали!
— Очень рад это слышать!
— Но я явился к тебе сделать новый заем!
Бенони отрицательно покачал головой.
— На этот раз я могу представить, друг Бенони, самые лучшие гарантии! — И Марк вручил старому иудею послание своего дяди Кая и рескрипт цезаря Нерона.
— Что же, рад за тебя, благородный Марк, и верю, что тебя ожидает самая блестящая будущность! Но все ж Италия далеко отсюда, и все твои надежды — плохая порука за целость моих денег!
— Неужели ты думаешь, старик, что я тебя обману?
— Нет, господин, но возможны всякие случайности.
— Ну, тогда покончим с этим! У меня есть к тебе более важное дело, чем презренные деньги!
— Что же это такое? — осведомился Бенони.
— Вот что: когда я был командирован на следствие к ессеям на берега Иордана, то близко познакомился с этими людьми и, можно сказать, даже подружился с одним из них. Это — славные люди, которые каким-то образом читают будущее, и вот они предсказывают, что случатся великие волнения, смуты, голод, чума и мор по всей вашей стране!
— О, старая история! — произнес Бенони. — Это пророчества проклятых христиан!
— Не называй их проклятыми, друг Бенони, — заметил Марк, — тебе менее, чем кому-либо, пристало так называть христиан. Возможно, принесенные мною вести неверны. Но то же говорят и пророчества ессеев. Я готов верить, что и те и другие не ошибаются. Итак, тот старец, с которым я подружился, говорил, что в Иудее будет великое восстание против римского владычества и что большинство иудеев, которые примут участие в этом восстании, погибнут, в том числе и ты, друг Бенони. Ты выручал меня и делил со мной свои хлеб-соль, поэтому я, хотя и римлянин по крови, заехал сюда в Тир предупредить тебя держаться в стороне от всех этих восстаний и волнений!
Старик молча слушал своего гостя и, когда тот кончил, отвечал спокойно и наставительно:
— Все, что ты говоришь, быть может, правда, но если мое имя написано на скрижалях смерти, то мне не избежать разящего меча Господня. К тому же, я стар и, право, лучше умереть, сражаясь с врагами отечества, чем хилым старцем в постели. С этим, вероятно, согласишься и ты! Но вот что странно, — прибавил Бенони, немного помолчав, — ты говорил сейчас о пророчествах ессеев, а часом раньше у меня был гость, который вырос среди ессеев, хотя сам не ессей. Он говорил мне, что в их селении живет красавица девушка, зовущаяся "царицей ессеев". Правда ли это?
— Да, правда, я сам видел ее, она прекраснее и образованнее всех женщин, каких я когда-либо знал. Кроме того, она такой скульптор, с которым могут сравниться только величайшие мастера нашего времени! Если пожелаешь последовать за мной на корабль, я открою ящик и покажу тебе ее работу, большой мраморный бюст, сделанный с меня. Но прежде скажи, не заметил ли ты, что на правой руке твоего посетителя недостает одного пальца?
— Да, заметил!
— Его зовут Халев! Я сам отсек этот палец, конечно, в честном бою. Это молодой негодяй, готовый на убийство и на всякое зло, но ловкий и способный. Я раскаиваюсь, что сохранил тогда ему жизнь!
— А-а, — сказал Бенони, — как видно, я еще не утратил способности различать людей. Именно такое впечатление и произвел на меня этот юноша. Но что тебе известно о девушке?
— Мне многое известно — в некотором роде я помолвлен с ней!
— Как? Неужели и ты? То же самое говорил мне Халев!
— Он лжет! — воскликнул Марк, вскочив со своего ложа. — Она отвергла его, это мне хорошо известно через Нехушту, кроме того, есть еще и другие доказательства!
— Иначе говоря, девушка дала слово быть твоей женой, благородный Марк?
— Нет, друг Бенони, не совсем так, — грустно возразил молодой центурион, — но я знаю, что она любит меня, и если бы я был христианином, то была бы вскоре моей женой!
— Вот как! Но Халев, как будто, сомневался в ее любви к тебе, господин!
— Он лжет! — воскликнул с негодованием римлянин. — И я говорю тебе, друг Бенони: остерегайся, не доверяй ему.
— Мне-то почему его остерегаться? — спросил старик.
— Я говорю это потому, что госпожа Мириам, которую я люблю и которая любит меня, — твоя родная внучка, Бенони, и наследница всего твоего состояния. Я говорю тебе это, так как ты все равно узнал бы от Халева…
Старик на мгновение закрыл лицо руками, и когда, немного погодя, отнял руки, лицо его было взволнованно, хотя говорил он совершенно спокойно.
— Я так и подозревал, а теперь уверен! Но прошу заметить, благородный Марк, что если кровь этой девушки — моя кровь, то мое состояние — моя собственность!
— Без сомнения, и делай ты с ним, что тебе угодно, оставляй его, кому вздумаешь! Мне же нужна только Мириам, денег мне совсем не нужно!
— Ну, а Халев, полагаю, хотел бы получить и ее, и мои деньги, как человек предусмотрительный. И почему бы мне не отдать ему и то, и другое? Он — иудей хорошего, знатного происхождения и, кажется, пойдет далеко!
— А я — римлянин более знатного рода и пойду дальше, чем он!
— Да, ты — римлянин, а я, дед этой девушки, — иудей, который не любит римлян!
— Но Мириам — не иудейка и не римлянка, а христианка, воспитанная не вами, а ессеями! И она любит меня, хотя и не соглашается стать моей женой, потому что я — не христианин!
Бенони пожал плечами.
— Да, все это такая сложная задача, над которой надо хорошенько подумать, а затем уже решить!
— Не тебе, Бенони, решать и не Халеву, а только ей самой! — воскликнул Марк, и глаза его сверкнули угрозой. — Понимаешь?
— Ты как будто угрожаешь мне!
— Да, и в известном случае сумею привести свои угрозы в исполнение. Мириам достигла теперь совершеннолетия и должна покинуть селение ессеев. Вероятно, ты пожелаешь взять ее к себе, на что, конечно, имеешь право. Но смотри, друг, как ты будешь обращаться с ней! Если она пожелает по доброй воле стать женой Халева, пусть будет ему женой, но если ты принудишь ее к тому или позволишь заставить ее, то клянусь твоим Богом, моими богами и ее Богом, я вернусь и так отомщу и ему, и тебе, Бенони, и всему твоему народу, что об этом будут помнить сыны, внуки и правнуки ваши. Веришь мне?
Бенони посмотрел на молодого римлянина, стоявшего перед ним во всей красе силы и молодости, с глазами, искрившимися благородным гневом, с лицом открытым и честным, и невольно отступил на шаг, но не от страха, а от удивления: он никогда не думал, чтобы этот пустой, как ему казалось, и легкомысленный римлянин мог обладать такой стойкостью намерений, такой нравственной мощью. Теперь он впервые понял, что это — истинный сын того грозного народа, который покорил половину вселенной.
— Я думаю, что сам ты веришь сейчас своим словам, но останешься ли тверд в намерениях после того, как прибудешь в Рим, где немало женщин, столь же прекрасных и образованных, как эта воспитанница ессеев, — вот в чем дело!
— Это касается только меня!
— Совершенно верно. Теперь скажи, что ты хочешь еще прибавить к тем требованиям, которые возложил на смиренного слугу твоего и заимодавца, купца Бенони?
— Вот что: во-первых, скажу тебе, что когда я уйду отсюда, ты уже не будешь более моим заимодавцем, а я — твоим должником. Я привез с собой достаточно денег, чтобы уплатить тебе всю сумму с надлежащими процентами, а речь о новом займе повел только для того, чтобы перейти к разговору о Мириам. Во-вторых, скажу тебе еще вот что: Мириам — христианка, и ты не посягай на ее веру, я сам не христианин, но требую, чтобы ты не притеснял ее веры, не насиловал убеждений. Я знаю, что отца ее и мать ты предал на страшную и позорную смерть в амфитеатре! Посмей только поднять на нее палец, и сам будешь растерзан львами в римском амфитеатре. За это я тебе ручаюсь. Хотя меня не будет здесь, но я все узнаю: у меня тут остаются друзья и соглядатаи. Кроме того, я и сам вернусь вскоре. А теперь я спрашиваю тебя, Бенони, согласен ли ты дать торжественную клятву именем Бога, которому служишь и поклоняешься, исполнить мои требования?
— Нет, римлянин, я не согласен! — воскликнул взбешенный Бенони, вскочив на ноги. — Кто ты такой, что смеешь диктовать в моем собственном доме предписания, как мне действовать и поступать с моей собственной внучкой? Уплати долг и не затемняй более собой света, входящего в мою дверь!
— А-а… — проговорил Марк. — Как видно, тебе пришло время пуститься в путь, Бенони, — люди, побывавшие в чужих странах, всегда становятся более терпимыми к другим и более свободомыслящими! Вот, прочти эту бумагу! — И он выложил на стол перед стариком какой-то документ.
Бенони взял пергамент и прочел:
Марку, сыну Эмилия, привет! Сим повелеваем тебе, если найдешь нужным, по своему усмотрению, схватить иудейского купца Бенони, пребывающего в Тире, и препроводить в качестве пленника в Рим для суда перед Римским Трибуналом по обвинениям, возводимым на него как на участника тайного заговора, мечтающего свергнуть владычество всемогущего римского цезаря в подвластной ему провинции иудейской.
Далее следовала подпись:
Гессий Флор, Прокуратор. Бенони так и обмер от страха, но в следующий момент схватил со стола бумагу и изорвал ее в клочья.
— Ну, римлянин, где теперь твои полномочия? — воскликнул он.
— В кармане! — спокойно ответил Марк. — Это была только копия. Не зови своих слуг, не трудись. Видишь этот серебряный свисток? Стоит мне поднести его к губам — и те пятьдесят воинов, что стоят у ворот твоего дома, ворвутся сюда!
— Не делай этого, я готов дать клятву, которую ты от меня требуешь, хотя, право, она бесполезна. Зачем бы мне принуждать внучку к замужеству или причинять ей какое-либо зло за ее веру и убеждения?
— Зачем? Затем, что ты — фанатик и ненавидишь меня, как и всех римлян! Потому клянись!
Старик поднял руку и произнес требуемую от него клятву.
— Этого не достаточно, — сказал Марк, — теперь напиши все собственной рукой и подпишись полным именем!
Не возразив ни слова, Бенони подчинился, Марк подписался вслед за ним в качестве свидетеля.
— А теперь, Бенони, выслушай меня: мне предоставляется право, как ты сам видел, отвезти тебя в Рим и поставить перед судом. Но я могу сказать, что не нашел достаточных причин. Тем не менее, помни, что эта бумага у меня в руках и она пока что не теряет своей силы! Помни также, что за тобой неотступно следят, и чтобы пророчество ессеев не сбылось, откажись от участия в заговорах и волнениях. Это — мой тебе добрый совет! Теперь прикажи позвать сюда моего слугу, который ждет внизу с мешками золота, и возьми их все, а затем прощай! Где и когда мы с тобой снова встретимся, не знаю, но будь уверен — мы еще встретимся с тобой!
Марк встал и тем же твердым, уверенным шагом вышел из дома Бенони. Старый иудей посмотрел ему вслед, и в глазах его зажегся недобрый огонек.
— Теперь — твой час, но придет и мой, и тогда мы посмотрим, благородный Марк! Клятву же свою я должен исполнить, да и зачем мне причинять зло бедной девочке? Зачем отдавать ее в жены Халеву, который даже хуже римлянина? Этот, по крайне мере, смел и отважен, честен и не лжив. Но я хочу видеть эту девушку, я немедленно отправляюсь в Иерихон! — решил старик и, призвав слугу, приказал проводить к себе казначея центуриона Марка.
XI. Ессеи лишаются своей царицы
Весь совет ессеев собрался для обсуждения вопроса об удалении их воспитанницы Мириам за пределы селения. После долгих споров решено было призвать ее саму в зал совета и услышать из ее уст, чего бы, собственно, желала она для себя.
Мириам вошла в сопровождении Нехушты, и при ее появлении седые, белобородые старцы встали и приветствовали девушку низким поклоном, после чего председатель совета взял ее за руку и проводил к специально приготовленному почетному месту. Только когда она заняла свое место, сели и все присутствующие.
В словах старшего из братьев-ессеев, обращенных к общей любимице, звучала глубокая печаль от неизбежной близкой разлуки. В конце своей речи председатель объяснил, что они из своих скромных доходов определили на ее содержание некоторую сумму, которая обеспечит ей возможность безбедного существования.
Мириам, в свою очередь, от всего сердца благодарила собрание, своих любимых наставников и опекунов за все, что они делали для нее с самого раннего ее детства и по сей час, и выразила желание поселиться в одном из приморских городов, где найдутся добрые люди, известные кому-нибудь из ессеев, или родственные им семейства. Ведь в Иерусалиме слишком часто происходят волнения, смуты и беспорядки, грозящие бедой всем, даже и самым скромным обитателям города.
Некоторые из братьев тотчас же пожелали письменно снестись со своими родственниками и друзьями, и предложение каждого обсуждалось всем советом.
Вдруг кто-то постучал в дверь зала собрания, и когда — после предварительного опроса — послушник получил разрешение войти, то объявил, что прибыл с большим караваном богатый иудей Бенони, купец из Тира, и желает говорить с кураторами о внучке своей Мириам, которая, как ему известно, находится на их попечении.
С общего согласия решено было просить Бенони в зал совета. Спустя несколько минут старый иудей, в богатой шелковой одежде, расшитой серебром и золотом, в драгоценных мехах, вошел и поклонился председателю собрания. Тот ответил ему и ждал, пока гость заговорит.
— Уважаемые, — сказал Бенони, прерывая молчание, — я явился сюда потребовать девушку, которую имею основание считать своей внучкой и о существовании которой недавно случайно узнал от посторонних людей, но о которой вы заботились с самых ранних лет. Скажите мне, здесь ли еще эта девушка?
— Госпожа Мириам сидит среди нас, — ответил председатель совета. — Она действительно твоя внучка, и все мы знали об этом с тех пор, как она здесь!
— В таком случае почему же мне не было известно об этом до сих пор? — спросил Бенони.
— Мы не считали нужным выдать ребенка, который был поручен нашим попечениям умирающей матерью, человеку, предавшему ее родителей на смерть и муки! — При этом почтенный старец негодующе посмотрел на надменного, богатого иудея.
То же сделало и все собрание, так что смущенный Бенони невольно опустил голову под этим немым укором. Но вскоре к нему вернулось обычное самообладание и, гордо выпрямясь, он сказал:
— Я здесь не за тем, чтобы держать ответ за свои поступки, а для того только, чтобы потребовать мою внучку. Она теперь, как вижу, уже вполне взрослая, да и естественным опекуном ее являюсь я!
— Это так, но прежде чем принять это во внимание, мы, бывшие все эти годы ее защитниками, требуем от тебя некоторых гарантий и обязательств!
— Каких гарантий? Каких обязательств?
— Во-первых, ей должна быть завещана достаточная сумма, обеспечивающая безбедное существование в случае твоей смерти; во-вторых, предоставлена полная свобода веры и выбора супруга в случае, если бы она пожелала выйти замуж!
— А если я отвергну эти условия?
— Тогда ты видишь внучку твою Мириам последний раз в жизни! — твердо и смело ответил председатель совета ессеев. — Мы — люди смирные, но знай, купец, что мы не бессильны, и хотя по правилам нашим госпожа Мириам не может более оставаться среди нас, но где бы она ни была, до последней минуты жизни наше попечение о ней не прекратится, и наша власть будет всегда охранять ее. Какое бы зло ни приключилось с ней, мы тотчас же узнаем и отомстим! Ты свободен принять или отвергнуть наши требования, но в последнем случае она исчезнет для тебя навсегда, и никто и ничто на свете не поможет тебе разыскать ее. Мы сказали!
— Мы сказали! — подтвердили в один голос все сто старцев и смолкли.
— Ты слышал их слова, господин, — сказала Нехушта среди воцарившегося молчания, — и я, которая знаю этих людей, говорю тебе, что они сдержат свое слово!
— Пусть моя внучка решит, прилично ли ставить мне такие обидные условия?
— Высокочтимый господин, — сказала девушка, — я не могу восставать против того, что делается для моего блага! Деньги меня не прельщают, я боюсь потерять свободу и не хочу для себя участи, постигшей моих родителей. Я говорю и думаю, как эти люди, которые любят меня и которых я с детства привыкла уважать.
— Гордый ум! — пробормотал старик и с минуту молчал, поглаживая свою седую бороду.
— Дай нам ответ, господин, время близится к закату. А мы должны все решить прежде, чем настанет час молитвы! — сказал председатель собрания. — Не понимаю, что смущает тебя в наших условиях? Ведь мы не требуем от тебя ничего иного, кроме того, в чем ты уже дал клятву и расписку римскому центуриону, благородному Марку!
Вздрогнув, Мириам удивленно перевела глаза с деда на собрание белобородых старцев.
Бенони побледнел от злобы и разразился желчным смехом:
— Да-а… теперь я понял…
— Что руки ессеев достаточно длинны, раз могут дотянуться до Рима? — докончил фразу старейший из кураторов.
— Берегитесь, чтобы римские мечи не оказались еще длиннее ваших рук и не достали из Рима до ваших голов! — заметил Бенони. — А теперь выслушайте мой ответ. Я готов был бы вернуться домой, предоставив вам делать с вашей воспитанницей все, что вздумается, но она — единственное существо, в котором течет моя кровь, другой родни у меня нет. Я уже стар и потому соглашаюсь на все ваши требования и беру Мириам с собой в Тир в надежде, что она когда-нибудь сумеет полюбить меня!
— Хорошо, — сказал председатель собрания, — завтра все бумаги будут готовы, ты подпишешь их, а до тех пор будь нашим гостем!
На следующий день вечером все бумаги были оформлены, все условия подписаны, и старый Бенони не только назначил Мириам известную сумму на случай своей смерти, но еще и определил ей некоторый ежегодный доход при своей жизни, обеспечив таким образом ее полную материальную независимость.
Спустя три дня Мириам простилась со своими добрыми покровителями, которые в полном своем составе проводили ее за селение. На вершине холма, в минуту расставания, девушка не выдержала и залилась горючими слезами.
— Не плачь, дорогое дитя, — проговорил Итиэль, — мы расстаемся здесь телесно, но духовно все неразлучно будем с тобой и в этой жизни, и за ее пределами!
— Не бойся за воспитанницу, Итиэль! — сказал Бенони. — Ваши обязательства и гарантии надежны, но еще надежнее любовь деда к внучке!
— Если так, — воскликнула Мириам, — то и внучка не останется в долгу, высокочтимый господин! — Затем она снова стала прощаться с ессеями.
Прощание вышло самым трогательным. Когда караван Бенони двинулся дальше по дороге к Иерихону, ессеи печально возвратились в свое селение, но Итиэль утверждал, что они не только в будущей, но еще и в этой жизни свидятся с Мириам.
Путешествуя не спеша, Бенони, его внучка, Нехушта и весь караван под вечер на второй день пути разбили свои шатры вблизи Дамасских ворот Иерусалима, вне новой городской стены, воздвигнутой Агриппой. Бенони опасался, что караван будет ограблен римскими солдатами, если войдет в самый город.
Пока рабы готовили ужин, Нехушта взяла Мириам за руку и указала ей на скалистую гору, довольно крутую, но не особенно высокую:
— Там, на горе, был распят Господь!
Услыхав эти слова, девушка благоговейно опустилась на колени и склонилась в тихой молитве. Вдруг за ее спиной раздался голос деда приказывавший ей подняться с колен.
— Дитя, — сказал он, — Нехушта сказала правду. Этот ложный Мессия умер там, на кресте, смертью злодея между злодеями. И хотя я обещал, что не буду препятствовать тебе следовать учению и обрядам твоей веры, но все же прошу: не молись так, на глазах у всех, этому твоему Богу. Посторонние люди могут оказаться менее терпимыми, чем я, и предать тебя на страшную смерть и муки!
Мириам кивнула головой и вместе со стариком вернулась в шатер, где их ожидал ужин.
Через четыре дня путешественники благополучно прибыли в Тир, этот богатый, цветущий и великолепный город. Мириам увидела то море, на котором родилась. До сих пор оно представлялось ей похожим на Мертвое море, на берегах которого прошли все ее детство и ранняя молодость. При виде же искрящихся и пенящихся волн Средиземного моря сердце ее дрогнуло от восторга, и с этого момента она полюбила его всей душой.
Еще из Иерусалима Бенони отправил гонцов в Тир, чтобы предупредить своих слуг и управляющего, что он прибудет с почетной гостьей, и потому к приезду Мириам весь дом принял праздничный вид, а стол был приготовлен, как для брачного пира.
Этот роскошный дворец, служивший в течение многих веков жилищем для царственных особ, своим изысканным и богатым убранством восхитил девушку. Старый Бенони внимательно наблюдал за внучкой, следуя за ней по пятам.
— Довольна ли ты, дочь моя, своим новым домом? — спросил он наконец.
— Ах, дедушка, это просто великолепно! — ответила Мириам. — Мне никогда даже не снился такой дворец, такая сказочная роскошь и богатство. Но скажи, позволишь ли ты мне заниматься моим искусством в одном из этих больших залов?
— Отныне, Мириам, ты — хозяйка в этом доме, а со временем станешь его владелицей. Дитя мое, не было надобности стольким посторонним думать о том, как обеспечить тебя всем необходимым! Все, что у меня есть, — твое! Но я был бы счастлив, если бы ты и мне уделила хоть малую долю своей любви, мне, бездетному и одинокому!
— И я готова… но…
— Не говори! — прервал ее старик. — Не говори, я знаю, что ты хочешь сказать. Я горько каюсь в том, что для меня твоя вера — ничто и твой Бог — посрамление, но еще горше мысль, что посылать за веру на смерть и муку жестоко и несправедливо. Мало того, я прибегну даже к одной из заповедей Распятого. Он, кажется, учит прощать обиды?
— Да, так нас учит Христос, и потому христиане любят все человечество!
— Так внеси же это учение в стены этого дома и люби меня, нанесшего тебе обиду в лице родителей твоих, обиду, в которой я теперь горько каюсь!
Вместо ответа Мириам впервые обвила шею старика руками и одарила его поцелуем.
С этого времени старый Бенони с каждым днем все больше привязывался к внучке, ревнуя ее ко всем и каждому, особенно к Нехуште, которую девушка любила, как мать.
XII. Ожерелье, кольцо и письмо
Мириам жилось хорошо и спокойно в Тире, в доме деда, который не отказывал ей ни в чем, даже не запрещал общаться с другими христианами, жившими в Тире. Впрочем тогда христиане подвергались сравнительно меньшей опасности, чем иудеи, ненавидимые сирийцами и греками за их богатства и жившие под непрестанной угрозой убийства и ограбления. Среди великих волнений и смут того времени скромные, разноплеменные и сравнительно немногочисленные христиане оставались мало замечаемыми.
Дни проходили однообразно и несколько тоскливо, так как Мириам редко показывалась на улице, сидя почти безвыходно дома. Несмотря на усердные занятия излюбленным искусством, у нее оставалось много времени для размышлений и воспоминаний о прошлом, и среди этих дорогих воспоминаний наряду с добрыми старцами-ессеями ярко выступала в каком-то лучезарном блеске фигура молодого римского воина Марка.
О, как страстно ждала она вести о нем!
Тоскуя взаперти в роскошном дворце Бенони и желая хоть сколько-нибудь рассеяться, Мириам выпросила у деда разрешение посетить принадлежавшие ему в северной части города великолепные сады и в сопровождении Нехушты и многочисленных слуг отправилась туда.
Обойдя богатые владения Бенони, девушка присела отдохнуть на обломок мраморной колонны, остаток древнего храма, некогда стоявшего на этом месте. Вдруг послышались чьи-то торопливые шаги, и Мириам увидела перед собой римского воина в полном походном снаряжении, в сопровождении одного из слуг Бенони.
— Госпожа, — произнес он, склоняясь перед нею, — меня зовут Галл. У меня к тебе поручение! — С этими словами он достал из-под дорожного плаща пергамент, перевязанный шелковой нитью и запечатанный большой печатью, и небольшой сверток, которые вручил Мириам.
— Кто и откуда прислал мне это? — спросила девушка.
— То и другое я привез из Рима, а посылает это тебе благородный Марк, прозванный теперь Фортунатом (Счастливым)!
— Ах, — воскликнула Мириам, — скажи мне, господин, здоров ли он и хорошо ли ему живется?
— Я оставил его в добром здравии, госпожа, но божественный Нерон возлюбил его так сильно, что не может обойтись без него. А любимцы цезаря часто бывают недолговечны. Впрочем, не печалься, госпожа! Мне думается, что пока благородному Марку не грозит никакая опасность. А теперь поручение мое исполнено, госпожа, и я должен спешить, ты же все узнаешь из послания! — И Галл откланялся и удалился так же поспешно, как пришел.
— Перережь скорей эту нитку, Ноу! — воскликнула Мириам, протягивая свиток Нехуште. — Скорее, дорогая, у меня не хватает терпения!
Нехушта улыбаясь поспешила исполнить приказание молодой госпожи, и та, развернув свиток, принялась читать.
Марк писал, что благополучно прибыл в Рим, где застал своего дядюшку Кая на смертном одре, уже готового в отсутствие племянника завещать все свои богатства императору Нерону. "Тем не менее, — писал Марк, — я пришелся дядюшке по вкусу, и он сделал меня своим наследником, а спустя месяц после его смерти, я стал одним из богатейших людей в Риме. Конечно, Нерон не знал о намерении Кая, не то я лишился бы не только своего наследства, но и головы под каким-нибудь пустым предлогом. Я собирался вернуться в Иудею немедленно, но случилось нечто, чего я никак не мог предвидеть".
Оказалось, что, вступив во владение домом Кая, Марк поставил на самом видном месте в вестибюле свой бюст работы Мириам и пригласил друга Главка и некоторых других знаменитых скульпторов Рима полюбоваться им. Художники пришли в неописуемый восторг и в последующие дни не говорили ни о чем другом, как только об этом бюсте.
Слава этого произведения дошла до самого Нерона, и однажды, не предупредив никого о своем посещении, император явился в дом Марка. Долгое время он стоял, безмолвно любуясь мраморным бюстом, затем воскликнул:
— Какая страна имела несказанное счастье породить того гения, который создал это произведение?
Узнав, что то была Иудея, император поклялся сделать художника правителем Иудеи. Когда ему сказали, что художник — женщина, он сказал, что все равно заставит всю Иудею и весь Рим поклоняться ей. Но прежде автора нужно разыскать и доставить ко дворцу.
Услыхав эти слова, Марк так и обмер и поспешил уверить императора, что гениальной художницы уже нет в живых. Тогда император разразился слезами, но все еще не уходил. Один из его приближенных шепотом посоветовал хозяину преподнести мраморный бюст императору в подарок, дружески предупредив: "Иначе не пройдет и нескольких дней, как ты лишишься своего сокровища, а может быть и состояния и даже головы". После этого Марк поднес бюст Нерону который сперва заключил в свои объятия скульптуру, затем молодого римлянина и приказал тотчас же отнести подарок во дворец.
По прошествии двух дней Марк получил императорский указ, гласивший, что несравненное произведение искусства, вывезенное им из Иудеи, поставлено в таком-то храме и все желающие угодить императору приглашаются для поклонения гениальному творению и духу той, которая создала этот мрамор. Кроме того по воле императора Марк назначался хранителем собственного изображения, и ему вменялось в обязанность дважды в неделю неотлучно проводить день в этом храме подле своего бюста, чтобы поклоняющиеся могли видеть и модель. Такова была воля всемогущего цезаря, правящего Римом.
Далее в письме Марк рассказывал, что сейчас он в милости у Нерона, и поэтому ему удается оказывать значительные услуги христианам, иногда даже избавлять их от смерти. Однажды Нерон лично явился в храм, где стояло изображение Марка, и высказал мысль принести в жертву духу умершей художницы нескольких христиан, которых он хотел обречь на самую мучительную и ужасную смерть.
Но когда Марк сказал ему, что это едва ли будет угодно художнице, которая при жизни сама была христианкой, то Нерон воскликнул: "Боги! Какое преступление я готов был совершить!" — и тотчас же отменил свой приговор, на некоторое время совершенно оставив христиан в покое.
Дорогая, возлюбленная Мириам, я страшно несчастен, что не могу теперь же вернуться в Иудею, так как Нерон ни за что не выпустит меня живым из Рима. Но я денно и нощно думаю о тебе и мучаюсь мыслью, что другие, в том числе и Халев, видят твое дорогое лицо, упиваются твоим голосом. Скажу тебе еще,
что я разыскал здесь, в Риме, ваших лучших проповедников, беседовал с ними и приобрел за большие деньги их рукописи, в которых изложены все ваше учение и все догматы, вашей веры. Книги эти я намерен изучить основательно, но пока откладываю, опасаясь, что уверую и стану христианином, а затем, подобно многим десяткам римских христиан, буду обращен в факел, чтобы освещать в ночное время сады Нерона.
Далее упоминалось, что кольцо с изумрудом, на котором вырезаны профили Марка и Мириам (изображая профиль последней, автор воспользовался маленькой статуэткой, подаренной девушкой Марку, на которой она была изображена склонившейся над ручьем), работы Главка, и жемчужное ожерелье имеют свою историю, которую Марк со временем расскажет.
Кольцо и ожерелье он просил ее носить, не снимая, и при случае предлагал написать ему хоть несколько слов или, по крайней мере, вспоминать о том, который только о ней одной и думает и т. д.
Дочитав это послание, Мириам поцеловала его и спрятала у себя на груди, а Нехушта между тем раскрыла шкатулочку слоновой кости, из которой молодая девушка достала кольцо с дивной красоты изумрудом и жемчужное ожерелье.
— Посмотри же, Ноу! Посмотри! — воскликнула Мириам в восторге.
— Да, есть на что полюбоваться! Этот жемчуг — целое состояние! Счастливая девочка, снискавшая себе любовь такого человека!
— Несчастная, — возразила Мириам, — которая никогда не будет женой этого человека! — И глаза ее наполнились слезами.
— Не горюй раньше времени и не говори того, о чем знать не можешь, — сказала Нехушта, надевая ей на шею ожерелье. — Ну, а теперь давай сюда твой палец. Тот, на котором носят обручальное кольцо! Вот видишь, как оно пришлось, словно по мерке!
— Нехушта, я не должна этого делать, — прошептала Мириам, но кольца с пальца не сняла.
— Пойдем домой, дитя, сегодня у господина будут гости на ужине!
— Гости? Какие гости?
— Все заговорщики! Отведи Господи от нас беду! Слыхала ты, что Халев возвратился?
— Нет!
— Вчера прибыл в Тир и сегодня будет в числе гостей Бенони. Он воевал в пустыне и, говорят, участвовал во взятии крепости Масада, весь римский гарнизон которой перебит!
— Так Халев восстал против римлян?
— Да, он надеется стать правителем Иудеи!
— Я его боюсь, Ноу! — сказала Мириам.
Когда Мириам вошла в большой зал, где был приготовлен ужин для гостей, то, выполняя желание деда, она выглядела ослепительно — в великолепном наряде греческого покроя, богато украшенном золотым шитьем, с золотым поясом, унизанным камнями, и золотыми обручами в волосах. Все эти мрачные, суровые иудеи с решительными лицами встали и один за другим поклонились ей, как госпоже и хозяйке этого дома.
Она отвечала низким поклоном на приветствие каждого и, вглядывалась в лица, с невольной тревогой искала среди них Халева, но его не было в числе гостей. Вдруг занавеси зала отдернулись, и вошел Халев.
О, как он изменился за эти два года! Теперь это был великолепный, блестящий юноша, могучий, гордый и самоуверенный. Присутствующие почтительно кланялись ему, как человеку, добившемуся высокого и завидного положения и способному выдвинуться со временем еще дальше. Даже сам Бенони сделал несколько шагов ему навстречу, чтобы приветствовать его. На все эти поклоны и приветствия Халев отвечал небрежно, даже несколько надменно, как вдруг взгляд его упал на Мириам, стоявшую в тени. Тогда, не обращая ни на кого внимания, он двинулся прямо к ней и занял место подле нее, хотя оно собственно говоря, предназначалось старейшему из гостей. Заметив происшедшее вследствие этого замешательство, Бенони поспешил посадить лишившегося места гостя подле себя.
— Вот мы и встретились вновь, Мириам! — начал Халев несколько растроганно, и жестокие, надменные черты его лица мгновенно смягчились. — Рада ты меня видеть?
— Конечно, Халев! Кто не рад встрече с товарищем детских игр? — сказала Мириам. — Откуда ты теперь?
— С войны, — ответил он, — мы бросили вызов Риму, и Рим принял этот вызов!
Она вопросительно взглянула на него.
— А хорошо ли вы сделали?
— Как знать! Трудно сказать наперед, — отозвался Халев. — Что касается меня, то я долго колебался, но твой дед восторжествовал надо мной, и теперь я, волей-неволей, должен идти навстречу судьбе!
В этот момент в зал вошел гонец. Все встали, на всех лицах отразилась тревога.
— Какие вести? — спросил кто-то.
— Галл, римлянин, был отброшен от стен Иерусалима, и отряд его уничтожен на перевале Бет-Хорана!
— Хвала Богу! — воскликнули присутствующие в один голос.
— Хвала Богу! — повторил за ними и Халев. — Проклятые римляне наконец пали!
Но Мириам не сказала ничего.
— Что же ты молчишь? Что у тебя на уме?
— Думается мне, что они восстанут с большей силой, чем прежде! — сказала она. — И тогда…
В этот момент Бенони сделал знак, и девушка, поднявшись со своего места, вышла из зала. Она прошла под портик и, сев у мраморной балюстрады террасы, выходившей на море, стала прислушиваться к рокоту волн, разбивавшихся внизу о мраморный цоколь дворца. В голове ее роились самые разные мысли.
Как недавно еще и она, и Марк, и Халев были скромными, маленькими, незначительными людьми без средств, а теперь все трое поднялись высоко, все достигли богатства и высокого положения. — Но надолго ли? — думалось молодой девушке. — Судьбы человеческие капризны, как волны моря, они шумят, бурлят, с минуту искрятся на солнце, улыбающемся им, затем со стоном разбиваются о стену, и наступают ночь и забвение…
Мечты девушки нарушил Халев, незаметно подошедший к ней. Раскрыв перед Мириам свои честолюбивые планы, — он мечтал ни больше и ни меньше, как о царском троне в Иудее, — юноша вновь просил Мириам быть его женой, но получил отказ. Узнав, что Мириам любит Марка, он заскрежетал зубами и поклялся убить соперника.
— Это не поможет тебе! — коротко сказала Мириам. — Почему нам нельзя быть друзьями, Халев, как в прежние дни?
— Потому, что я хочу того, что больше дружбы, и рано или поздно, так или иначе, но, клянусь, добьюсь своего!
— Друг Халев, — вдруг раздался голос Бенони, — мы ожидаем тебя. А ты, Мириам, что делаешь здесь? Ступай, дочь моя, в свою комнату, речь идет о делах, в которых женщины не должны принимать участия!
— Но, увы, нам придется нести свою долю тяжести! — прошептала она и, поклонившись, удалилась.
XIII. Горе тебе, Иерусалим!
Прошло еще два года, два кровопролитных и ужасных года для Иудеи и особенно для Иерусалима, где различные секты уничтожали друг друга. В то время как в Галилее, — невзирая на все усилия иудейского вождя Иосифа
[181], под началом которого сражался Халев, — Веспасиан
[182] и его военачальники брали штурмом город за городом, уничтожая население тысячами и десятками тысяч, в прибрежных городах и во многих других торговых центрах сирийцы и иудеи поднимались друг против друга и беспощадно избивали одни других. Иудеи осаждали Гадару и Голонитис, Себасту и Аскалон, Анфедов и Газу, истребляя огнем и мечом сирийцев, а там настала и их очередь, сирийцы и греки восстали против них и также не знали пощады.
До описываемого момента в Тире еще не было кровопролития, но все ждали его со дня на день. Ессеи, изгнанные из своего селения у берегов Мертвого моря, искали себе убежища в Иерусалиме; они посылали к Мириам посла за послом, увещевая ее бежать, если возможно, куда-нибудь за море, так как в Тире ожидались погромы и пожары, а Иерусалим, как они полагали, был обречен на гибель. Христиане, со своей стороны, уговаривали ее бежать вместе с ними в Пеллу, где они собирались не только из Иерусалима, но и из Тира, и со всей Иудеи. Но Мириам и тем, и другим отвечала, что не оставит деда — он всегда был добр к ней, и она поклялась не покидать его.
Послы ессеев возвратились тогда обратно, а христиане, помолившись вместе с ней об общем спасении, покинули Тир.
Простившись с ними, Мириам пошла к деду, которого застала взволнованно расхаживающим по комнате. Увидев ее, он поднял голову и спросил:
— Что с тобой, дочь моя? Отчего ты так печальна? Верно, твои друзья предупредили, что нам грозят новые невзгоды?
— Да, господин, — проговорила Мириам и передала все, что ей было известно.
Старик выслушал ее до конца и сказал:
— Я не верю всем этим предсказаниям христианских книг! Напротив, многие знамения указывают, что время явления Мессии близко, того настоящего Мессии, который сразит врагов страны и воцарится в Иерусалиме, сделав его великим и могучим. Если ты веришь, что бедствия обрушатся на Иерусалим и на избранный народ божий, и боишься, то беги с друзьями, а меня оставь одного встречать бурю!
— Я верю в предсказания христиан и их священных книг, верю, что гибель Иерусалима и всего народа нашего близка, но я ничего не боюсь! Я знаю, что и волос с головы нашей не упадет без воли Отца, и что из нас, христиан, никто не погибнет в эти дни! Но за тебя я боюсь и буду с тобой, где бы ты ни остался!
— Я не брошу дом и богатство даже для того, чтобы спасти свою жизнь! Не могу покинуть свой народ во время его священной войны за независимость и свободу дорогой родины. Но ты беги, дитя! Я не хочу, чтобы ты могла упрекнуть меня, что я довел тебя до погибели!
Но Мириам была непоколебима.
Так они и остались в Тире. А спустя неделю гроза действительно разразилась. В последнее время иудеям уже небезопасно было показываться на улицах города: тех, кто, крадучись, появлялся вне своего дома, избивала разъяренная толпа, которую возбуждали тайным образом против них римские эмиссары. Бенони воспользовался этим временем для того, чтобы сделать громадные запасы продовольствия и снарядов и привести свой дворец, бывший некогда грозной крепостью, в готовность к серьезной обороне.
Одновременно он послал известить Халева, находившегося в это время в Иоппии, где командовал иудейскими военными силами, о грозящей жителям Тира опасности. До ста семейств наиболее знатных и богатых иудеев перебрались в дом Бенони, так как другого, более надежного убежища поблизости не было.
Но вот однажды ночью страшный шум и вопли разбудили Мириам. Она вскочила с кровати. Нехушта была уже подле нее.
— Что случилось, Ноу? — спросила девушка.
— Эти псы сирийцы напали на иудеев и громят их жилища! Видишь, половина города объята пламенем! Люди бегут из огня, но их беспощадно добивают тут же, в двух шагах от порога дома. Пойдем на крышу! Оттуда все видно! — И накинув плащи, обе женщины побежали вверх по мраморной лестнице. Опершись на перила, Мириам взглянула вниз и тотчас отшатнулась, закрыв лицо руками.
— О, Христос! Сжалься над ними! Пощади свой народ!
— А они, эти иудеи, разве пощадили Его, ни в чем не повинного?! — воскликнула Нехушта. — Теперь настал час возмездия… Не так ли избивали иудеи греков и сирийцев во многих городах? Но если хочешь, госпожа, будем молиться за них, особенно за их детей, которые теперь гибнут за грехи отцов!
После полудня, когда все беднейшее и беззащитное иудейское население города было перебито и только несколько каким-то чудом уцелевших несчастных бродили, как бесприютные псы, по окраинам города, прячась ото всех и пугаясь своей тени, толпа с бешенством атаковала укрепленный дворец Бенони, в котором собрались большинство богатых иудеев с женами и детьми.
Но в первый день все усилия атакующих оставались безуспешными: ни поджечь, ни разгромить этой мраморной крепости они не могли. Три последовательных атаки на главные ворота дома Бенони были отбиты, а в течение ночи осаждающие не произвели ни одного нападения, хотя защитники дворца все время оставались наготове. Когда рассвело, стало ясно, почему целую ночь враги их не тревожили: как раз против ворот была поставлена громадная стенобитная машина, а со стороны моря подошла и встала против дворца большая сирийская галера, сильно вооруженная, с которой матросы с помощью катапульт собирались засыпать осажденных градом стрел и камней.
И вот началась борьба — страшная, кровавая борьба, не на жизнь, а на смерть. Защитники дворца Бенони осыпали с крыши стрелами людей, работавших у стенобитной машины, и перебили огромное число прежде, чем те успели придвинуться настолько близко, что стрелы перестали достигать их. Когда наконец первые ворота были разбиты, защитники во главе с Бенони, выжидавшие этого момента, устремились на осаждающих и перебили всех до одного вблизи ворот, не дав никому ворваться внутрь. Затем, прежде чем новая гурьба подоспела на смену перебитых, иудеи кинулись за ров и на глазах у атакующих уничтожили за собой деревянный подъемный мост, отрезав им путь. Теперь стенобитная машина, которую не было возможности перетащить через ров, сделалась бесполезной, а иудеи за второй стеной дворца могли считать себя в сравнительной безопасности. Зато галера, стоявшая на якоре в нескольких сотнях шагов, стала засыпать дворец камнями и стрелами.
Так продолжалось до полудня. Все время иудеи заботились лишь о том, чтобы враги не перешли рва, хладнокровно убивая каждого, кто пытался отважиться на этот шаг. Тем не менее Бенони отлично сознавал, что ночью неприятель перекинет мост через ров, и тогда им трудно будет продержаться еще одни сутки. Созвали на совет всех присутствующих и решили в последнюю минуту убить друг друга, жен и детей, но не отдаться живыми в руки врага. Узнав о таком решении, женщины и дети подняли страшный вопль. Нехушта схватила Мириам за руку и шепнула ей:
— Пойдем, госпожа, на верхнюю крышу! Туда ни стрелы, ни камни не попадают. В случае необходимости мы можем броситься вниз, вместо того чтобы быть зарезанными, как бараны! — Они пошли и молились там, как вдруг Нехушта вскочила на ноги, воскликнув-
— Смотри, дитя! Видишь, галера идет сюда на всех веслах и парусах? Это наше спасение! Это иудейское судно, я знаю, на ней не римский орел, а финикийский флаг. Смотри, видишь, это сирийская галера подняла якорь и готовится к бою… Видишь?
Действительно, сирийская галера повернула и двинулась навстречу иудейской, но течение подхватило ее и развернуло так, что она пришлась бортом к неприятельскому судну, которое теперь со всего маха налетело на нее, врезавшись носом в самую середину сирийской галеры и ударив ее с такой силой, что та тут же перевернулась килем кверху.
Крики торжества и отчаяния огласили воздух, на море зарябили черные точки: то были головы утопающих, искавших спасения. Мириам закрыла лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов.
— Смотри! — продолжала Нехушта. — Иудейская галера бросила якорь и спускает лодки, они хотят спасти нас! Бежим скорее вниз к решетке, выходящей на море!
На лестнице они столкнулись со стариком Бенони, который спешил за ними. Маленькая каменная пристань за решеткой была переполнена несчастными, искавшими спасения. Две больших лодки с галеры уже пристали в тот момент, когда Мириам с Нехуштой и дедом выбежали на пристань. На носу первой лодки стоял благородного облика молодой воин и громким, звучным голосом кричал:
— Бенони, госпожа Мириам, Нехушта, если вы еще живы, выступите вперед!
— Это — Халев! Халев, который явился спасти нас! — воскликнула Мириам.
— Идите смело в воду! Ближе мы не можем подойти! — крикнул он снова.
Они послушно пошли к лодке, десятки и сотни других двинулись за ними. Лодки принимали людей до тех пор, пока не переполнились и едва могли держаться на воде. Люди в лодках обещали сейчас же вернуться за оставшимися — и действительно, высадив на галеру первых, они вернулись и снова, почти переполненные, привезли новых пассажиров на галеру, опять вернулись ко дворцу, и опять мужчины, женщины и дети устремились к лодкам. Но в этот момент над портиком показалась лестница, и сирийцы потоком хлынули во дворец. Теперь уже лодки были до того полны, что каждый лишний человек мог затопить их, а между тем матери с грудными младенцами на руках бежали в воду, плача и прося о помощи. Многие плыли за лодками, пока не выбивались из сил и не тонули.
— О, спасите, спасите их! — молила Мириам, кидаясь лицом вниз на палубу, чтобы не видеть этих надрывающих душу сцен.
— О, мой дом, мой дом! — стонал старый Бенони. — Имущество мое разграблено! Богатство в руках этих псов… Братья мои убиты, слуги разогнаны…
— Разве христиане не говорили тебе, что все это будет? Но ты не верил! — сказала Нехушта. — Увидишь, господин, все сбудется, все до последнего!
В этот момент к ним подошел Халев, гордый, самоуверенный и довольный своим подвигом.
— Взгляни на своего спасителя! — воскликнул старик, взяв Мириам за плечо и заставляя ее встать на ноги.
— Благодарю тебя, Халев, за то, что ты сделал! — произнесла Мириам.
— Я доволен тем, что мне удалось в счастливый для меня день потопить эту большую сирийскую галеру и спасти любимую девушку!
— Что клятвы и обещания! — воскликнул Бенони, обнимая спасителя и желая доказать ему свою благодарность. — Та жизнь, которую ты спас, принадлежит тебе по праву. Если только будет это в моей власти, ты, Халев, получишь ее и все, что еще уцелело от ее наследства!
— Время ли теперь говорить о таких вещах! — воскликнула негодующая девушка. — Смотрите, наших слуг и друзей гонят в море и топят, а кто не идет, тех убивают! — И она горько расплакалась.
— Не плачь, Мириам, мы сделали все, что могли! — проговорил Халев. — Я не могу еще раз послать лодки, матросы не послушают меня — это судно не мое. Нехушта, уведи госпожу в приготовленную для нее каюту. Зачем ей смотреть на все это? Но что ты теперь думаешь делать, Бенони? — повернулся он к старику.
— Я хочу обратиться к двоюродному брату моему, Матфею, иерусалимскому первосвященнику, который обещал мне приют и поддержку, насколько то и другое возможно в эти трудные времена!
— Нет, лучше нам искать спасения в Александрии! — сказала Нехушта.
— Где также избивают иудеев сотнями и тысячами, так что улицы города утопают в крови! — произнес Халев с насмешкой. — К тому же я не могу отвезти вас в Египет. Я должен вернуть судно владельцу, доверившему его мне и ожидающему меня в Иоппии, откуда я отправлюсь в Иерусалим, куда меня вызывают!
— Я хочу попасть только в Иерусалим и никуда больше, — заявил Бенони, — Мириам же свободна отправляться, куда ей угодно!
Все судно было переполнено стонами и воплями спасенных, потерявших в это день свои дома, богатства, близких, родных и дорогих друзей, убитых или утонувших на их глазах. Всю ночь никто не знал покоя.
На рассвете галера бросила якорь, и Мириам в сопровождении Нехушты вышла из своей каюты на палубу.
— Видишь длинную гряду рифов, госпожа? Там, на этих самых скалах, разбилось наше судно, а ты впервые увидела свет Божий! Там я схоронила ее, твою мать, незабвенную госпожу мою!
— Как странно, Ноу, что мне суждено вернуться к этому месту!.. Кажется, Халев зовет нас?
— Мы будем добираться до берега на лодках. Здесь мелко, и судно не может подойти ближе! — проговорил тот, подходя к ним.
Когда все собрались на берегу, Халев, передав галеру другому иудею, которому поручено было идти с ней навстречу римским судам с грузом хлеба, также сошел на берег, и все беглецы из Тира, числом около шестидесяти человек, направились к Иерусалиму.
Довольно скоро путники пришли в бедную деревушку, ту самую где некогда Нехушта поселилась с маленькой Мириам, и где жила кормилица ребенка. Здесь они решили запастись пищей. Пока Халев и другие хлопотали, к Нехуште подошла старуха, положила ей руку на плечо, внимательно поглядела в лицо и спросила:
— Скажи мне, добрая женщина, та красавица, что сидит там, не то ли самое дитя, которое я выкормила своею грудью?
Когда Нехушта признала бывшую кормилицу и ответила утвердительно на ее вопрос, старая женщина обвила шею девушки руками и, поцеловав, сказала, что теперь умрет спокойно, так как повидала ее. Больше ничего отрадного у нее в жизни не остается: муж ее умер, она стара и одна на свете. Старуха благословила девушку, а когда путешественники стали собираться в путь, подарила ей мула и дала с собой всяких припасов. Они расстались, чтобы уже больше никогда не встретиться.
Путешествие прошло спокойно. Благодаря сопровождавшему беглецов конвою Халева, состоявшему из двадцати воинов, они были в безопасности от нападения разбойников, грабивших на больших дорогах. Хотя носился слух, что Тит со своим войском прибыл из Египта и в настоящее время подступил к Кесарии, беглецы не видели еще ни одного римского отряда. Они страдали только от холода, особенно во вторую ночь пути, когда расположились на ночлег на высотах, господствующих над Иерусалимом. Холод был так силен, что приходилось всю ночь оставаться на ногах и согреваться движением.
В это время в небе над Иерусалимом и над Сионом были видения, предвещавшие гибель Иерусалима: комета в виде огненного меча и облако, похожее на сражающихся воинов.
А с рассветом все стало спокойно, священный город казался мирно уснувшим, хотя он давно уже превратился в место взаимного избиения и страшной братоубийственной войны. Спустившись в долину Иерусалима, путешественники заметили, что все окрестности опустошены и разорены. Подойдя к Иоппским воротам, беглецы нашли их запертыми; дикого вида солдаты со свирепыми лицами окликнули пришельцев:
— Кто вы такие и что вам тут надо?
Халев назвал свой чин и положение, но так как это, по-видимому, не удовлетворило суровых стражей, то Бенони выступил вперед, назвал себя и сказал, что все они беглецы из Тира, где было страшное избиение иудеев.
— Беглецы! Стало быть, изменники и заслуживают смерти. Лучше всего прикончить их! — сказали солдаты.
Халев воспылал гневом и спросил, по какому праву они осмеливаются преграждать путь ему, человеку, оказавшему столь крупные услуги своему отечеству.
— По праву сильного! — отвечали ему. — Кто впустил Симона — имеет дело с Симоном, а вы, быть может, из сторонников Иоанна или Элеазара…
— Неужели, — воскликнул Бенони, — мы дожили до того, что иудеи избивают иудеев в стенах Иерусалима, в то время как римские гиены и шакалы рыщут вокруг его стен?! Слушайте, люди, мы не сторонники ни того, ни другого, ни третьего и хотим только, чтобы нас провели к первосвященнику Матфею, который призвал нас сюда, в Иерусалим!
— Матфей — первосвященник, — сказал начальник стражи, — это другое дело, он впустил нас в город, где мы нашли поживу, в благодарность за это и мы, в свою очередь, можем впустить его друзей. Ну, так и быть, проходите все! — И он раскрыл ворота. Беглецы вошли в город и направились по узким пустынным улицам к площади Иерусалимского храма. Было самое оживленное время дня, а между тем город казался в запустении; там и здесь лежали на мостовой тела убитых в одной из ночных схваток женщин или мужчин. Из-за ставен домов боязливо выглядывали сотни глаз, но ни одно окно не отворялось, и никто не показывался на улице, никто не приветствовал вновь прибывших и не спрашивал их, откуда они. Всюду царили гробовое молчание и могильная тишина. Вдруг издали донесся одинокий жалобный голос, выкрикивавший слова, значение которых еще трудно было уловить на таком расстоянии. Все ближе и ближе слышались эти вопли, и вот, свернув на узкую, темную улицу, беглецы увидели в конце ее высокого, исхудалого человека, обнаженного до пояса, а ниже пояса едва прикрытого какой-то пеленой. Все тело несчастного носило следы жестоких побоев и было покрыто шрамами и рубцами. Длинная седая борода и волосы развевались по ветру. Воздевая руки к небу, он восклицал: "Слышу голос с востока! Слышу голос с запада! Слышу голос со всех четырех ветров! Горе, горе Иерусалиму! Горе, горе храму Иерусалимскому!.. Горе женихам и невестам!.. Горе всему народу!.. Горе тебе, Иерусалим, горе!"
В этот момент он поравнялся с беглецами и, как будто не замечая их и продолжая выкрикивать свои прорицания, прошел между ними. Когда Бенони окликнул его в гневном ужасе: "Что это значит? Что ты каркаешь, старый коршун?" — человек этот, не обратив на него внимания и вперив свои бледные, почти бесцветные глаза в небо, прокричал:
— Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе и вам, пришедшим в Иерусалим! Горе! Горе!.. — И он прошел дальше.
— Да, — сказала Нехушта, — град этот обречен на погибель, и жители его должны погибнуть!
Все молчали, объятые ужасом, только Халев старался казаться спокойным.
— Не бойся, Мириам, — произнес он, — я знаю этого человека, он — безумный!
— Как знать, где кончается разум и начинается безумие?! — прошептала Нехушта.
Беглецы продолжили свой путь к воротам храма.
XIV. Опять среди ессеев
Те ворота, через которые Бенони и его спутники должны были войти в храм, чтобы отыскать жилище первосвященника, находились в южной части Царской ограды. К ней они могли пройти долиной Тиропеон
И вот, когда они уже приблизились, ворота вдруг распахнулись, и из них хлынула, словно поток, толпа вооруженных людей. С бешенством потрясая оружием и оглушая воздух неистовыми криками, злодеи устремились на беззащитных. Те разбежались в разные стороны, словно овцы перед стаей волков, стараясь укрыться в развалинах обгорелых и разрушенных домов, черневших кругом.
— Люди Иоанна нападают на нас! — раздался чей-то голос. Прежде чем вооруженная толпа успела добежать до развалин, из них выскочили десятки и сотни других вооруженных людей, и завязалась схватка.
Мириам увидела, как Халев уложил на месте одного из воинов Иоанна, и как на него тотчас же набросились несколько воинов Симона. Видимо, все жаждали крови, даже не разбирая, кого и за что убивают.
Девушка видела также, как эти обезумевшие люди схватили ее деда и как старик Бенони вскочил на ноги и снова упал. Затем все скрылось от ее взоров — Нехушта потащила ее за собой, не давая оглянуться, все дальше и дальше, пока Мириам окончательно не выбилась из сил. Шум и крики битвы замерли в отдалении.
— Бежим! Бежим! — подгоняла Нехушта.
— Ноу, я не могу… Я чем-то поранила ногу, видишь кровь?
Нехушта оглянулась. Здесь было тихо и пустынно, они находились уже за второй городской стеной, в Новом городе, Везефе, недалеко от старых Дамасских ворот. Немного позади возвышалась башня Антония, а здесь кругом были навалены кучи всякого мусора и между камней и комков глины росли тощие колосья. Нигде вблизи не было видно никакого жилья, в самой же стене кое-где виднелись расщелины, поросшие диким бурьяном. В одну из таких расщелин Нехушта и затащила свою госпожу, и тут бедняжка в изнеможении упала на землю. Прежде чем ливийка успела справиться с перевязкой ее распухшей ноги, вероятно, ушибленной камнем, пущенным из пращи, девушка уже крепко заснула.
Нехушта села подле нее и стала обдумывать, что ей делать дальше, как и где укрыть свою госпожу от опасности.
Но она задремала, пригретая теплыми солнечными лучами, прежде чем успела что-либо придумать. Ей приснилось, будто из-за ближайшей груды камней на нее глядит чье-то знакомое седобородое лицо. Нехушта открыла глаза, осмотрелась кругом, но нигде не было ни души. Она снова задремала, и снова ей привиделось то же лицо, а подле него еще чье-то. Вдруг она узнала в одном из них брата Итиэля.
— Брат Итиэль! — радостным шепотом воскликнула она. — Зачем ты прячешься от меня?
— Сестра Нехушта, неужели это ты? А это госпожа Мириам, дорогое дитя наше? Что, она крепко спит?
— Как убитая! — отвечала Нехушта.
— Хвала Творцу, мы нашли вас! Брат, — обратился Итиэль к своему товарищу, — доползи-ка до стены и посмотри, не может ли кто увидеть нас оттуда, сверху?
Второй ессей возвратился с ответом, что на стенах никого нет и что их оттуда нельзя увидеть. Тогда ессеи подняли почти бесчувственную девушку на руки и понесли к одной из щелей в стене, совершенно заросшей чахлыми кустами и бурьяном. Тут они осторожно опустили ее на землю и с большими усилиями сдвинули с места громадную глыбу камня, закрывавшую небольшое отверстие в стене, похожее на нору шакала. В эту-то черную дыру сперва спустился ногами вперед брат Итиэль и втащил за собой Мириам, за ними последовала Нехушта и, наконец, второй ессей.
Очутившись в узком, темном подземелье, один из братьев высек огонь кремнем из огнива и зажег маленький факел, с которым пошел вперед, освещая путь, по разным подземным ходам и залам, некогда служившими водохранилищами. Сырой воздух подземелья заставил девушку очнуться.
— Где я? Неужели я умерла? — спросила она, раскрыв глаза.
— Нет, нет, ты сейчас все узнаешь, госпожа! — успокоила ее Нехушта.
— Я вижу лицо дядюшки Итиэля! — воскликнула Мириам. — Это его дух пришел ко мне!
— Не дух, а я сам, дитя мое! Иди за мной, я проведу тебя к остальным братьям, и ты опять будешь среди нас в полной безопасности от злых людей!
— Что это за место? — спросила девушка.
— Это подземелье — та самая шахта или, вернее, каменоломня, из которой царь Соломон добывал камень для постройки Иерусалимского храма. Здесь же этот камень и обтесывали: вот чем объясняется, что при сооружении храма не слышно было ни стука молота, ни звука топора или пилы!
Наконец Итиэль и его спутники подошли к потайной двери, казавшейся с первого взгляда глухой стеной; при нажатии на определенное место громадная плита отошла в сторону, обнаружив вход в большой зал. Здесь горел яркий костер из каменного угля, у которого один из членов общины был занят стряпней, а вдоль стен сидело около пятидесяти старцев в белых одеждах ессеев.
— Братья, — проговорил Итиэль, — я привел вам ту, о которой все мы грустили, я привел наше возлюбленное дитя, госпожу Мириам!
— Неужели?! Неужели это она?! — воскликнули разом десятки голосов. Обрадованные ессеи стали приветствовать один за другим свою названную царицу, подносили ей пищу, воду и вино для подкрепления сил и, пока она ела, рассказывали обо всем, что произошло с ними в ее отсутствие.
Более года тому назад римляне, подступая к Иерихону, разорили их селение, некоторых убили, некоторых увели в плен, большинство же успели бежать в Иерусалим. Но и здесь многие погибли от руки сторонников различных враждующих группировок и разбойников, расплодившихся в осажденном городе. Видя, что всем им грозит неминуемая гибель, мирные ессеи решили укрыться в этом подземелье, тайна существования которого была известна одному из братьев. Мало-помалу они стали собирать здесь в большом количестве припасы — запасать топливо, одежду, разную домашнюю утварь и даже кое-что из мебели. Управившись с этим, они окончательно переселились сюда и теперь только изредка, поодиночке или по двое, выходили наверх узнать о том, что происходит в Иерусалиме и в Иудее, и вместе с тем пополнить свои запасы.
Кроме прохода, которым пришли сюда Мириам и Нехушта, существовал еще другой выход из подземелья, который Итиэль обещал им впоследствии показать.
Когда Мириам поела и отдохнула, а ушибленная нога ее была обмыта и перевязана, ессеи повели ее показывать свои подземные владения. Кроме большого зала, были еще отдельные маленькие сводчатые кельи, совершенно без света, как и общий зал; воздух здесь был чист. Одну из таких келий отвели женщинам, предоставив им все удобства, возможные в этой обстановке. Некоторые кельи служили кладовыми и складами, а в одной, довольно большой, находился глубокий колодец. Очевидно, на дне колодца был родник. Вода из родника имела выход наверх, на поверхность земли, и в течение многих веков колодец содержал в себе свежую, вкусную воду. Вдоль стены этой кельи шла крутая каменная лестница, сильно истертая, но еще вполне надежная.
— Куда ведет эта лестница? — спросила Мириам.
— Наверх, в разрушенную башню! — ответил Итиэль и обещал в другой раз отвести ее туда.
Мириам вернулась в свою комнатку и, поужинав, заснула крепким сном. Поутру к ней вернулась острая тревога за деда и мысль, что если он остался жив, то наверное мучается неизвестностью относительно внучки. Поэтому девушка попросила как-нибудь известить его о том, что она находится в безопасности.
После долгих обсуждений было решено, что брат Итиэль в сопровождении другого брата совершит вылазку и постарается передать Бенони записку от Мириам. Однако ессеи просили девушку не указывать места своего пребывания, а только успокоить старика, что ей не грозит никакая опасность и что она скрывается у надежных людей.
Через день Итиэль и его спутник возвратились невредимыми, но принесли известие об ужаснейших избиениях, происходящих на улицах города и даже в самой ограде Иерусалимского храма, где обезумевшие враждующие партии беспощадно истребляли друг друга.
— Жив ли мой дед? — спросила девушка.
— Да, успокойся! Бенони благополучно добрался до дома первосвященника Матфея, а с ним вместе и Халев. Теперь они укрываются в стенах храма… Все это я узнал от одного из слуг первосвященника, который за сикль серебра поклялся, что немедленно вручит твою записку Бенони. Однако он подозрительно взглянул на меня, и вторично я не решусь исполнить такое поручение… Но кроме этих известий, я имею еще и другие! — продолжал Итиэль. — Из Кесарии Тит с громадным войском приближается к Иерусалиму и, как я слышал из достоверных источников, в числе его военачальников есть один воин, который, кажется, скорее предпочтет взять тебя, чем святой город!
— Кто? — прошептала девушка, и кровь разом прилила к ее лицу.
— Один из префектов всадников
[183] Тита, благородный римлянин Марк, которого ты некогда знавала на берегах Иордана!
Теперь кровь ее прилила к сердцу, и Мириам до того побледнела, что казалась белее своего белого платья.
— Марк, — прошептала она, оправившись немного, — он клялся, что возвратится сюда, но это мало чем поможет ему! — добавила она чуть слышно и, встав, удалилась к себе.
С того времени как Мириам получила от Марка письмо, кольцо и ожерелье, она ничего не знала и не слыхала о нем, хотя прошло уже два года. Дважды за это время она писала ему, отправляла письма с надежными, как ей казалось, послами, но не знала, дошло ли хоть одно из них по назначению. Иногда ей казалось даже, что его уже нет в живых, — и вдруг он здесь! Да, но увидит ли она его? Кто может знать, что будет?!
И девушка встала на колени и долго и горячо молилась, чтобы Господь даровал ей счастье еще хоть раз увидеть его и поговорить с ним. Эта надежда увидеть Марка поддерживала ее в течение всех этих страшных, долгих месяцев испытаний.
Между тем прошло больше недели с того времени, как она узнала о приближении армии Тита.
Ушиб ее давно зажил, но Мириам словно цветок увядала без света и солнца.
— Ей надо хоть немного подышать свежим воздухом и посмотреть на голубое небо, — говорила Нехушта ессеям. — Иначе она заболеет здесь.
Тогда брат Итиэль взялся показать дорогу в ту старую заброшенную башню, куда вела лестница из кельи с колодцем. Башня, некогда составлявшая часть дворца, теперь уже давно была заброшена, и даже ход в нее был заложен кирпичами, чтобы воры и бродяги не могли по ночам укрываться там. Для военных целей она была непригодна, так как стояла особняком, а не на городской стене.
О потайном ходе из кельи-колодца давно забыли, и никто не подозревал о его существовании. Здесь находился целый ряд потайных дверей, перекидных мостиков и таинственных затворов, известных одним только ессеям.
Башня достигала приблизительно ста футов высоты, диаметр ее был около сорока футов. Крыша давно обрушилась, но каменная лестница и такие же четыре внутренних галереи, освещенные бойницами, были еще в полной исправности.
На следующее утро еще солнце не успело взойти, как Мириам проснулась и стала уговаривать Нехушту подняться в башню.
— Потерпи немного, госпожа, — сказала Нехушта, — дай ессеям окончить утреннюю молитву, сейчас мы их потревожим!
И Мириам покорно ждала, пока не пришел Итиэль и не провел их на башню.
Девушка чуть не вскрикнула от восторга, когда впервые после столь долгого времени увидела над своей головой лазурное небо. Когда же они поднялись на верхнюю галерею, находившуюся на расстоянии не более восьми футов от вершины башни, открывшаяся отсюда панорама восхитила девушку. Там, к югу, блестели на солнце великолепные здания Иерусалимского храма, с его мраморными дворцами и грандиозными ходами и воротами. Несмотря на то, что ежедневно происходили кровопролитные схватки, там все еще курился в кадильницах фимиам и приносились жертвы. За храмом раскинулись Верхний и Нижний города, пестревшие тысячами домов. К востоку лежала долина Иерусалима, за ней возвышалась Масличная гора, зеленевшая своими роскошными маслинами, которые вскоре должны были пасть под топорами римлян. К северу расположился Новый город, Везефа, опоясанный третьей стеной, а да ней расстилалась скалистая местность. Неподалеку, несколько влево, возвышалась грандиозная Антониева башня, в которой теперь засел со своими приверженцами-зилотами Иоанн Гисхальский. На западе, позади громадной городской площади, вздымались башни Гиппика, Фасаила и Марнаммы, за ними стоял великолепный дворец Ирода. А дальше шел целый ряд стен, крепостных зданий, укреплений, площадей, домов и дворцов — нескончаемое море крыш с островами садов и дворов.
И в то время как Мириам, Нехушта и Итиэль смотрели на всю эту пеструю великолепную панораму, вдали, на северо-востоке показалось серое облако пыли.
— Римляне! — воскликнула Нехушта, указывая на это облако, и у всех невольно дрогнули сердца.
Очевидно, не они одни заметили их, так как все стены, башни и крыши мгновенно покрылись людьми, засуетившимися подобно муравьям в потревоженном муравейнике.
Вдруг тот же жалобный и вместе с тем грозный голос раздался среди всеобщей тишины на опустевших улицах города:
— Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе граду сему, горе храму сему! Горе всем!
Теперь на каменистой почве пыль как будто рассеялась, и можно было различить отдельные отряды огромной армии римлян.
Впереди всех двигался многотысячный отряд сирийских союзников, за ними целая туча стрелков и разведчиков, далее шли саперы и квартирьеры, вьючные животные, военные повозки и фуры с многочисленной прислугой. За этим обозом следовал Тит со своей блестящей свитой, телохранителями, оруженосцами, копейщиками и всадниками. Еще дальше тяжело и медленно двигались бесчисленные громадные, страшного вида, стенобитные машины, баллисты, катапульты, за ними трибуны
[184] и командиры когорт со своей гвардией, предшествуемые знаменами и римскими орлами в окружении трубачей, которые время от времени оглашали воздух громкими торжественными звуками. А там, дальше, бесконечной лентой тянулась армия Тита, двигавшаяся в строгом порядке, разделенная на легионы, с конными отрядами воинов и квартирьерами; в хвосте ее — нескончаемые обозы с амуницией, провиантом и всякими припасами. На холме Саула римляне стали разбивать лагерь, а спустя час отряд всадников в пятьсот или шестьсот человек выехал из лагеря по большой дороге, ведущей прямо к стенам Иерусалима.
— Это сам Тит, — сказал Итиэль, — видите, перед ним императорский штандарт!
Мириам впивалась глазами в блестящую свиту Тита, стараясь угадать, который из этих блестящих всадников Марк.
И вот в тот момент, когда римляне поравнялись с Башней Женщин, городские ворота вдруг распахнулись, и изо всех прилежащих улиц и домов, где они до сих пор сидели в засаде, тысячи иудейских воинов и вооруженных горожан устремились на римлян, вытянувшихся длинной линией, прорвали ее и отрезали конец от остальной цепи, многих перебив. Мириам видела, как раненые падали с коней, как упал императорский штандарт, тотчас же снова поднялся, а затем все скрылось в облаке пыли. Казалось, все римляне уничтожены. Но нет, вот они один за другим поворачивают от города, направляясь обратно к холму Саула. Правда, теперь их стало меньше, но они все-таки смогли пробиться сквозь тысячную толпу нападающих. Но кто из них возвращался в лагерь, а кто остался на месте? Этого Мириам не знала… С сильно бьющимся, тяжелым сердцем покинула она башню, вернувшись в свое темное подземелье.
XV. Что произошло в башне
Прошло еще четыре месяца. Можно сказать, что во всей мировой истории никогда не было и, вероятно, не будет таких страшных бедствий, таких беспримерных ужасов, какие переносили в это тяжелое время жители Иерусалима или, вернее, последние остатки иудейского народа, искавшие убежища в стенах Иерусалима. Отбросив в сторону внутренние распри, иудейские партии общими силами ополчились на врага, но, увы, было слишком поздно. Правда, все, что только в человеческих силах, было сделано. Десятки и сотни тысяч римлян погибли от рук защитников города, они отбивали и уничтожали стенобитные машины и катапульты, взрывали или сжигали гигантские деревянные башни, сооруженные Титом для штурма. Но несмотря на все это Тит овладел третьей стеной и Новым городом, затем удачно штурмовал вторую стену и, разрушив ее, отправил к иудеям историка Иосифа Флавия, чтобы тот убедил их сдаться. Возмущенные этим предложением, собратья иудеи чуть не побили ренегата Иосифа каменьями, и война продолжалась.
Убедившись, что приступом взять Иерусалим невозможно, Тит решил принудить его сдаться голодом. Он окружил еще не взятую первую городскую стену другой стеной, за которой и засел, выжидая, когда его союзник голод сделает свое дело. Вначале Иерусалим был хорошо снабжен съестными припасами и мог бы выдержать продолжительную осаду, но вскоре обезумевшие от отчаяния враждующие партии принялись уничтожать друг друга, отбивать и предавать огню продовольствие своих противников, громить их склады, так что припасы, которых могло бы хватить на многие месяцы, быстро таяли в этих безумных оргиях взаимной ненависти, и население Иерусалима вымирало сотнями и тысячами от голода.
Трудно описать, до каких ужасов, до каких невероятных зверств доходили люди под влиянием этого страшного голода. Страшное пророчество сбывалось теперь: матери поедали своих собственных детей, дети вырывали последний кусок хлеба изо рта умиравших от голода родителей, и никто не знал в те дни ни жалости, ни сострадания. Люди уподобились диким зверям, стали даже хуже диких зверей.
Весь город, казалось, обезумел. Тысячи людей гибли ежедневно, и каждую ночь тысячи других бежали к римлянам, которые ловили несчастных и распинали на крестах перед городской стеной. Не хватало уже и леса на кресты, не хватало места этим крестам.
Все это
знала и видела Мириам со своей старой башни — видела улицы Иерусалима, усеянные мертвыми, так что местами невозможно было пройти, видела, как несчастных выгоняли с семьями и детьми из домов, подвергали ужасным пыткам и затем тут же убивали за то, что те якобы не хотели отдать свои спрятанные припасы. Вся долина Кедрона и нижние склоны Масличной горы были покрыты крестами, на которых корчились в предсмертных муках плененные иудеи. Девушка ежедневно видела кровавые стычки и битвы; затем у нее больше не стало сил выносить эти зрелища, и она часами лежала на галерее башни, закрыв лицо руками, чтобы не видеть, и заткнув уши, чтобы не слышать, что делалось кругом.
У ессеев еще сохранялись большие запасы пищи и всего необходимого, никто до сего дня не тревожил их, не подозревая о существовании подземелья. Время от времени тот или другой из членов общины выползал на поверхность земли и пробирался в город. Некоторые так и не возвращались, другие же возвращались и рассказывали о том, что им удавалось узнать.
Так все узнали, что после убийства первосвященника Матфея и его сыновей вместе с шестнадцатью членами синедриона
[185] по обвинению в сношениях с римлянами старый Бенони был избран на его место и многих заподозренных в измене и приверженности Риму предал смерти; что Халев стоял во главе сильной партии и всюду был впереди. Говорили, что он поклялся во что бы то ни стало убить римского префекта всадников Марка и что они уже однажды встретились на поле битвы.
Между тем настал август месяц, и ко всем остальным бедствиям злополучного города прибавилась страшная зараза, распространяемая разлагавшимися на улицах трупами, которые валялись повсюду сотнями и тысячами и которых никто не успевал и не хотел хоронить. Теперь Тит установил свои военные машины у самых стен Иерусалимского храма и с каждым днем, хотя и медленно, но упорно прокладывал себе путь во внешние дворы храма.
Однажды ночью, еще за час до рассвета, Мириам пробудилась и стала просить Нехушту выйти наверх в старую башню — она задыхалась в этом подземелье.
Обычным путем обе женщины достигли верхней галереи башни и, сев на верхней ступени против одной из бойниц, долго молча следили за огнями в римском лагере, раскинувшемся на громадном пространстве вокруг городских стен и даже среди развалин домов, под самой башней, так как эта часть города была уже во власти римлян. Но вот первый луч солнца, словно огненная стрела, прорезав туман, упал с вершины Масличной горы через долину Иосафата прямо на золоченые кровли храма и его мраморные дворы. И, словно это был условный сигнал, северные ворота храма широко распахнулись, и из них хлынул целый поток истощенных, свирепого вида воинов и с дикими криками устремился вперед. Римские пикеты старались остановить их, но были смяты и опрокинуты из-за своей малочисленности. Теперь иудеи оцепили одну из деревянных башен Тита. Его стрелки встретили неприятеля градом стрел. Завязалась серьезная битва, но не прошло и десяти минут, как башня была уже в огне. При свете зарева пожара Мириам видела, как римские солдаты, находившиеся в башне, кидались вниз с ее высоты чтобы спастись от огня. С криками торжества иудеи ворвались сквозь брешь во второй стене и, оставив слева от себя остатки дворца Антония, рассыпались на открытом пространстве среди развалин уничтоженной Титом части города, непосредственно у подножия старой башни, где находились Мириам и Нехушта.
Уцелевшие римляне старались добраться до главного лагеря, иудеи преследовали их, но встретили сильный отпор и, отброшенные обратно ко второй стене, пытались укрыться от римлян в развалинах. Внезапно в начальнике конного отряда, атакующего иудеев, Мириам сначала угадала, а потом и точно узнала Марка.
— Смотри, Ноу, смотри, ведь это он! — воскликнула молодая девушка, и сердце в груди ее сильно забилось.
— Да, госпожа, это он! Ну, а теперь, когда ты его видела, пойдем вниз: не те, так другие могут с минуту на минуту взять башню. Ты видишь, бой кипит кругом. Нас могут найти!
— Нет, нет, Ноу! Быть может, ты права, но я не уйду отсюда. Я хочу видеть все до конца!
Нехушта не стала возражать. "Все равно, — думала она, — Бог одинаково может хранить нас и здесь, на башне, и там, в подземелье!"
Между тем римляне вновь построились в ряды и под предводительством префекта Марка двинулись со своих позиций на неприятеля, который, получив подкрепление из храма, на полпути столкнулся с ними. Среди подкрепления оказался и Халев. Вот какой-то иудей кинулся на Марка и убил под ним лошадь. Но молодой префект проворно высвободил ноги из стремян и продолжал биться пешим. Этого, казалось, и ожидал Халев. Точно дикий зверь, накинулся он на римлянина сзади и ударил его плашмя мечом по спине. Такого оскорбления не мог снести ни один римлянин. Марк обернулся, и враги очутились лицом к лицу.
В это время, пользуясь небольшим перерывом в сражении, кто-то из иудейских начальников приказал своим людям проломить заложенный кирпичами ход в башню, на которой находились обе женщины. Иудеи с горячностью принялись за дело.
— Видишь, госпожа! — сказала Нехушта.
— Ах, Ноу, ты была права! Я вовлекла тебя в беду, что же нам теперь делать?
— Сидеть здесь смирно, пока не придут и не возьмут нас, а там, если дадут время, объяснимся с ними, как сумеем!
Но наверх никто не явился. Иудеи опасались внезапного нападения римлян в тот момент, когда начнут взбираться по незнакомой им, быть может, разрушенной лестнице. Поэтому, взломав вход, они воспользовались только низом башни, чтобы втащить в нее и укрыть на время раненых.
Тем временем Марк с мечом в руке устремился на Халева. Иудей успел вовремя отскочить в сторону и нанес Марку такой страшный удар по голове, что, не будь на том массивного шлема, наверно, череп римлянина раскололся бы надвое. Теперь же он раздробил только шлем и нанес Марку глубокую рану, от которой молодой префект пошатнулся и упал, широко раскинув руки и выронив свой меч. Халев подскочил к нему, чтобы прикончить, но Марк вдруг очнулся и, видя, что он теперь безоружен, бросился на Халева, стараясь схватить его голыми руками за горло. Халев успел нанести еще один удар по плечу, но Марк как будто даже не почувствовал его. Спустя минуту меч Халева валялся в стороне, а оба противника в бешеной схватке катались по земле. Тогда из рядов римских воинов раздался крик: "Спасем его!", на который иудеи отвечали: "Хватай его!" И те и другие хлынули на место борьбы, завязался кровавый бой. Обе стороны дрались с остервенением. Где люди стояли, там они и падали мертвыми, никто не хотел отступать. Римляне, хотя и были малочисленнее своих врагов, предпочитали умереть все до единого, но не оставлять в руках неприятеля своего любимого раненого командира. Иудеи же слишком хорошо понимали цену такой добычи, как римский префект, любимец Тита, чтобы дать вырвать его из своих рук. С каждой минутой новые отряды иудеев спешили на подмогу своим собратьям, число же римлян, не получавших подкрепления, заметно таяло, но они упорно продвигались вперед, сражаясь грудь с грудью и щит со щитом.
Вдруг во фланг римлянам с криком торжества ворвался новый отряд иудеев, числом до четырехсот человек. Римский офицер, вовремя заметив опасность и решив, что лучше дать префекту умереть вместе с павшими товарищами, чем сознательно уложить на месте весь легион и посрамить оружие цезаря, скомандовал отступление. В строгом порядке, словно на параде, римская дружина отступила к своим укреплениям, унося с собой раненых, несмотря на град копий и стрел, беспрерывно сыпавшихся на нее.
Видя, что им теперь ничего более не остается делать, иудеи отступили к стене старой базарной площади в тридцати или сорока шагах от старой башни и принялись укреплять ее. Солнце уже клонилось к закату, и день медленно угасал. Раненые римляне, оставшиеся на поле сражения, видя, что их товарищи отступили, кидались на свои мечи или копья и умирали от собственной руки, чтобы не попасть живыми в руки иудеев, которые, подвергнув жестоким пыткам, все равно распяли бы их на кресте. Кроме того, Титом был издан указ, что всякий солдат, попавший живым в руки неприятеля, будет всенародно предан посрамлению, лишен звания солдата и навсегда вычеркнут из списка легиона, а будучи вновь пойман своими, предан смерти или обречен на пожизненное изгнание.
Как охотно последовал бы Марк примеру своих товарищей, но — увы! — у него не было на то ни силы, ни оружия. Когда их с Халевом вытащили из груды раненых и убитых, он был в глубоком обмороке от потери крови и истощения сил. В первую минуту его приняли за мертвого, но оказавшийся тут врач заявил, что Марк жив, и если дать ему отлежаться, то он очнется и придет в себя. Поэтому, желая сохранить этого префекта живым у себя в руках, иудеи втащили его в старую башню и оставили там, приставив на случай, если он очнется стражу ко входу.
Мириам с замирающим сердцем следила за всем происходящим вокруг нее на поле сражения и у подножия башни. Временами ей казалось, что она сейчас умрет от нестерпимой душевной муки и тревоги за своего возлюбленного.
— Успокойся, госпожа, благородный Марк жив! — говорила ей Нехушта. — Иначе его оставили бы на поле сражения с остальными убитыми. Он нужен им пленный, иначе Халеву позволили бы пронзить его мечом, как он намеревался это сделать!
— О, тогда он будет повешен на кресте, подобно тем римлянам, которых мы видели вчера на стенах храма! — воскликнула Мириам.
— Это, конечно, возможно, — ответила Нехушта, — если Марк не найдет возможности покончить с собой или не будет спасен кем-нибудь!
— Спасен! Они не могут спасти его, Ноу! — Бедная девушка упала на колени, всхлипывая в порыве отчаяния. — Христос! Христос, научи меня, как спасти его! Если же нужно, чтобы кто-нибудь умер, возьми лучше мою жизнь!
— Полно, госпожа, — утешала ее Нехушта, — попробуем сделать что-нибудь! Смотри, они положили его в нескольких шагах от нашей подъемной каменной двери, у самых ступеней лестницы, стража стоит снаружи, в башне же никого нет. Я видела, как иудеи вынесли своих раненых, оставив там разве только мертвых. Если благородный Марк в сознании и может хоть чуть-чуть держаться на ногах, мы стащим его вниз и опустим за собой каменную дверь!
— Но нас могут увидеть и открыть убежище ессеев. И тогда их замучают и убьют за то, что те утаили пищевые запасы!
— Полно! Когда мы останемся за дверью, никто не найдет дороги в подземелье. Ты знаешь, что снаружи дверь поднять нельзя. Кроме того, ессеи все предвидели, приняв на всякий случай все меры предосторожности, за них ты не бойся!
Тогда Мириам обвила шею старухи руками и, страстно целуя ее, вся в слезах, молила:
— О, Ноу! Попробуем спасти его! А если не удастся, лучше умрем вместе с ним!
— Так пойдем скорее, пока еще есть хоть немного света, а то, когда стемнеет, здесь, на этой лестнице, шею сломишь. Иди за мной!
И они осторожно стали спускаться по старой каменной лестнице, где мимо них шныряли потревоженные ими совы и летучие мыши. Вот и та площадка с дверью, ведущей внутрь башни. Опустившись на колени, Нехушта стала ощупывать руками почву. В башне было темно, как в могиле, но слабый отблеск вечерних сумерек падал сквозь брешь в стене, пробитую недавно. Внезапно в лунном свете блеснул панцирь Марка, лежавшего так близко от Нехушты, что она могла коснуться его рукой. Склонясь над ним, ливийка внимательно прислушалась.
— Марк жив! — проговорила она, обернувшись к Мириам. — Он дышит и, как мне показалось, даже пошевелил рукой. Я боюсь, что он испугается, если я заговорю с ним! Твой же голос он, вероятно, узнает!
Тогда девушка осторожно заняла место Нехушты и, склонясь к самому лицу Марка, прошептала чуть слышным, нежным, ласковым голосом:
— Проснись, Марк, слушай меня, но не шевелись: нас могут услышать! Я — та Мириам, которую ты знавал на берегах Иордана!
При ее имени раненый слегка содрогнулся.
— Мириам, — прошептали его губы, — сладкая греза… дивный сон…
— Не сон и не греза! Я и Нехушта пришли попытаться спасти тебя. Ты ранен и в плену… Можешь ты подняться на ноги? Тогда мы проведем тебя в такое место, где тебе не будет грозить никакая опасность!
— О, сладкий сон… — прошептал Марк.
— Марк, это не сон, это действительность! — воскликнула шепотом девушка. — Чувствуешь ты мой поцелуй? — И она, наклонившись, прижала свои губы к его губам. — Дай руку, ощупай твое ожерелье на моей груди, твое кольцо на моей руке. Веришь теперь, что это не сон?
— Да, возлюбленная! Да! Скажи, что я должен делать?
— Постарайся подняться и встать на ноги, если можешь! Нехушта, ты сильнее, поддержи его, пока я отворю дверь! Живо! Я слышу, стража подходит сюда и сейчас заглянет в брешь!
Нехушта опустилась на колени подле раненого и, пропустив руки под его спину, сказала:
— Ну, готово! Вот ключ, возьми!
Мириам взяла из ее рук ключ, повернула его в замке, и так как дверь была очень тяжела, то она всей силой, всем корпусом налегла на каменную плиту двери, чтобы удержать ее.
— Ну! — сказала она. — Быстрее, я слышу, стража входит сюда!
Поддерживаемый Нехуштой, Марк сделал три шага и очутился у открытой двери, но здесь, на самом пороге, силы изменили ему, так как кроме тяжелой раны в голову он получил еще рану в ногу, и со стоном "Не могу!" он грузно упал, увлекая за собою старую ливийку. При этом его стальной нагрудник зазвенел о каменный порог. Часовой снаружи услыхал этот звук и позвал товарища, чтобы тот дал светильник. Мигом Нехушта вскочила на ноги и, схватив Марка за руку, потащила его в отверстие, между тем как Мириам, подпирая спиной каменную плиту, служившую дверью, проталкивала его ноги.
Вот замигал светильник во входном отверстии, где была проломана заложенная кирпичами наружная входная дверь. Нехушта изо всех сил тянула тяжелое беспомощное тело римлянина, хорошо понимая, что если свет светильника упадет на его латы, все погибло. Страж-иудей со светильником в руке торопливо вошел, но споткнулся о лежавшее на дороге мертвое тело и упал на одно колено. В этот момент Мириам, собрав все свои силы, широко распахнула каменную дверь и отскочила к стене. Прежде чем иудей успел подняться, она ударила ключом от двери, зажатым у нее в руке, по светильнику, который мгновенно разбился и погас. Затем она кинулась к двери надеясь бежать, зная, что теперь каменная дверь должна уже сама собой захлопнуться. Но, увы! Две железные руки обхватили ее поперек туловища, и сколько она ни отбивалась, сколько ни наносила ударов тяжелым железным ключом своему врагу, все усилия были тщетны. Тяжелая каменная плита с глухим звуком захлопнулась, и теперь ей уже не было спасения. Она сразу поняла это и, опасаясь, чтобы ключ не послужил уликой, зашвырнула его в самый дальний угол башни, где, как она знала, были навалены целые груды мусора и птичьего помета.
При звуке захлопнувшейся двери сердце ее радостно дрогнуло, она знала теперь, что Марк спасен: дверь не могла захлопнуться, пока он еще лежал поперек порога. Мириам знала также, что страж, державший ее, ничего не видел и не мог рассказать; отпереть же дверь без другого такого ключа невозможно ни с той, ни с другой стороны.
Теперь уже несколько человек с фонарями вбежали в башню. С ними был Халев.
— Что тут такое? — крикнул он.
— Не знаю, только я вбежал на шум и схватил какого-то здоровенного парня, с которым порядком-таки повозился и сейчас крепко держу, хотя он не переставал все время наносить мне удары своим мечом!
Подошли люди с фонарями и увидели красавицу-девушку с распущенными волосами, стройную и на вид хрупкую, как ребенок, и расхохотались над мнимым геройским подвигом бдительного стража.
— Э, да это девушка! Неужели ты каждый раз зовешь на помощь, когда попадаешься девушке в лапки? — со смехом спрашивали они.
— А римлянин? Где римлянин? — раздался чей-то грозный голос, и все бросились искать пленника в темной башне, заваленной бревнами, кирпичом и мусором. Но римлянина нигде не было, и целый град ужаснейших проклятий сыпался из уст иудеев, только, Халев стоял неподвижно, вперив глаза в молодую девушку.
— Мириам! — прошептал он.
— Да, Халев, это я! — спокойно ответила она. — Странная встреча, не правда ли? Зачем вы вломились в мое убежище?
— Женщина! — воскликнул он вне себя от бешенства. — Где ты спрятала римлянина Марка? Говори сейчас же!
— Марка? — спросила она. — А разве он здесь? Я этого не знала, я видела, как какой-то человек выбежал отсюда, быть может, то был он. Тогда спеши, может быть, ты его догонишь!
— Ни один человек не выходил отсюда! — заявил часовой. — Берите эту женщину, она укрыла его где-нибудь в потайном месте!
Ее схватили, связали и, точно обезумев, с фонарями бросились обыскивать все углы и все щели башни.
— Здесь лестница! — крикнул кто-то. — Смотрите, друзья, видно, он ушел туда! — И с фонарями в руках они поднялись на самый верх башни, но там никого не было. Вдруг раздались звуки трубы, в отверстии входной двери показался начальник отряда и второпях крикнул:
— Бегите скорее в храм, сам Тит идет на нас во главе двух легионов отомстить за своего префекта!.. Бегите и тащите пленника за собой, слышите?
— Он исчез! — мрачно отозвался Халев, и при этом взгляд его, полный непримиримой ненависти, упал на Мириам. — А на его месте мы нашли вот эту девушку, внучку Бенони, которая некогда была возлюбленной этого римлянина!
— Слышишь, женщина, скажи нам сейчас же, что ты сделала с твоим любовником, или умрешь здесь, сейчас же!
— Я ничего не сделала! Я видела, как отсюда вышел человек и прошел мимо часового, а больше я ничего не знаю!
— Она лжет! Заколите изменницу!
Меч над ее головой был уже занесен, но Халев успел сказать несколько слов начальнику, и тот изменил свое приказание.
— Нет, лучше отведите ее в храм: пусть дед учинит ей допрос в присутствии всего синедриона. Но живо, живо, не то все мы очутимся в руках римлян!
Мириам схватили и утащили из старой башни, которая час спустя была уже во власти римлян, поспешивших разрушить ее, равно как и все соседние строения.
XVI. Синедрион
Иудейские воины вели Мириам по узким темным улицам с обгоревшими и разгромленными домами, усеянным десятками и сотнями трупов. Они спешили как только могли, ведь римляне, оттесненные в течение дня из этой части города, теперь вновь занимали ее, предавая огню и мечу все, что встречалось на их пути.
Северный и восточный внешние дворы храма были уже во власти римлян, и потому, чтобы проникнуть в ограду храма, приходилось далеко ее обходить. Однажды отряду, уводившему Мириам, пришлось выжидать в укрытии, когда мимо них пройдет многочисленный отряд римлян, затем ждать у каждых ворот, которые лишь после долгих переговоров отпирались для них. Только под утро Мириам очутилась наконец во внутренней ограде храма. По приказанию начальника отряда ее втолкнули в тесную, темную и сырую келью одного из больших зданий и, заперев за ней дверь, оставили там одну. Несмотря на страшную усталость, она не могла заснуть: события этого ужасного дня преследовали ее, как кошмар, среди которого, подобно светлому лучу солнца, ей улыбалось одно воспоминание — то были слова Марка: "Мириам, возлюбленная моя… Это сладкий сон, это чудная греза…" Значит, он не забыл ее, любил, несмотря на то, что в Риме сотни прекраснейших женщин окружали его, стремясь назвать его своим супругом. О, она верила в его любовь и была счастлива ею! Счастлива тем, что Бог помог ей спасти его жизнь. Правда он был ранен, тяжело ранен, но ессеи — такие искусные врачи, они вылечат его! И, опустившись на колени, Мириам стала горячо молиться. Вдруг до нее донесся странный звук, точно слабый вздох, исходивший из дальнего угла кельи. Вглядевшись пристальнее, девушка различила в полумраке смутное очертание человеческой фигуры с длинной седой бородой. Что-то знакомое почудилось ей в этой фигуре, и она приблизилась к месту, откуда послышался вздох. То был не человек, а скелет, обтянутый кожей, и одни лишь глаза горели на лице этого живого мертвеца. Девушка узнала его, это был Феофил, возглавляющий совет ессеев. Десять дней тому назад он, несмотря на увещания братьев, вышел из своего убежища и больше не возвратился; его ходили искать, но не нашли, думали, что он убит кем-то из людей Симона. И вдруг Мириам нашла его здесь. Оказывается, иудеи захватили его в плен.
— Есть у тебя какая-нибудь пища, дитя? — простонал старик, узнав девушку.
— Да, господин, вот кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Я случайно захватила это с собой, когда шла на башню. Возьми, поешь!
— Нет, нет, дочь моя! Это значило бы только продлить мои муки. Я хочу умереть и рад, что скоро для меня все кончится, но ты сбереги еду для себя, спрячь так, чтобы ее у тебя не отняли. Вот тут, в кувшине есть вода, они давали ее мне, заставляя пить, чтобы продлить мучения. Пей сколько можешь теперь, быть может, завтра они не дадут тебе воды!
Некоторое время продолжалось молчание, старик постепенно слабел, а Мириам, глядя на него, горько плакала.
— Не плачь, дитя, обо мне, я скоро успокоюсь. Лучше скажи, за что тебя заперли здесь?
Девушка вкратце рассказала обо всем.
— Ты — отважная женщина, и твой римлянин многим тебе обязан! Я умираю, но в этот последний час призываю благословение Бога на вас!
После этого Феофил закрыл глаза и уже больше не мог или не хотел говорить.
Прошло немного времени, и вдруг дверной засов заскрипел. В келью вошли два тощих, злобного вида человека. Один из них грубо толкнул старика.
— Проснись, видишь, мясо, — и он ткнул ему кусок мяса под нос, — что, вкусно? Так вот, скажи нам, где хранятся твои припасы, и ты получишь весь этот кусок мяса!
Ессей только отрицательно покачал головой.
— Я не стану есть и ничего вам не скажу! Я умру, и все вы умрете, а Бог воздаст каждому по делам.
Тогда посетители принялись поносить и проклинать несчастного мученика, не обращая внимания на прижавшуюся к стене Мириам.
Едва они ушли, девушка тихонько приблизилась к старцу, но, взглянув в его лицо, увидела, что он уже умер. Тихая улыбка скользнула по ее лицу — она была рада, что мучения старика кончились.
Спустя немного времени дверь снова отворилась — теперь пришли за ней.
Мириам встала и пошла на допрос. Проходя через внутренний двор храма, она заметила, что повсюду на мраморных плитах лежат еще не убранные трупы, а за стеной слышался шум битвы и сотрясающие храм удары стенобойных машин.
Ее ввели в громадный зал с белыми мраморными колоннами, в котором было множество голодных, истощенных до предела людей, в том числе женщин и детей с ввалившимися щеками и глубоко запавшими глазами. Одни бесцельно бродили, другие безмолвно и неподвижно сидели группами на полу, а в дальнем конце зала, под богатым балдахином, на возвышении восседали человек двенадцать-четырнадцать почтенного вида старцев в богатых резных креслах художественной работы. По обе стороны от них стояло еще много таких же, но пустых кресел. Старцы были одеты в дорогие великолепные одежды, висящие на них, как на вешалках, а лица их, бескровные и сморщенные, пугали своей худобой. То были члены иудейского синедриона.
В тот момент, когда Мириам вошла в зал, один из членов синедриона произносил приговор над каким-то несчастным, измученным человеком. Девушка взглянула на судью и узнала в нем деда своего Бенони, но то была лишь тень прежнего Бенони. Некогда высокий, прямой старик с гордой, уверенной осанкой стал теперь дряхлым, сгорбленным старцем, из-под тонких бесцветных губ виднелись желтые зубы, длинная серебристо-седая борода старика висела клочьями, руки дрожали, голова тряслась и была лишена волос. Даже глаза его приняли какое-то злобное выражение, словно взгляд голодного волка.
— Обвиняемый, что ты хочешь сказать в свое оправдание? — спросил он глухим, дребезжащим голосом.
— Да, я действительно утаил небольшой запас пищи, приобретенный мною на последние крохи состояния! Твои гиены схватили мою жену, мучили и истязали ее, пока она не указала, где у меня были спрятаны запасы, которыми я надеялся поддержать жизнь семьи. Эти люди накинулись на пищу и уничтожили почти все на моих глазах. Жена умерла от нанесенных ей ран, а все дети умерли с голоду, кроме младшей, шестилетней малютки, которую я кормил последними крохами. Когда и она стала умирать у меня на руках, я упросил римлянина, отдав ему все драгоценности, какие у меня были, камни и жемчуг, чтобы он отвез ее в свой лагерь и там кормил, за что обещал указать ему слабое место в стене храма. Он накормил ребенка при мне и дал ей хороший запас с собой, обещал держать ее у себя, кормить каждый день — и я указал ему место, где легко проникнуть через ограду в храм. Но, как тебе известно, я был пойман, и то место в стене было укреплено, так что моя измена не имела никаких дурных последствий. Однако я готов еще двадцать раз повторить свой поступок, если это поможет спасти жизнь моего ребенка. Вы убили мою жену и моих детей, убейте и меня! Что мне жизнь!
— Презренный, что значит жизнь твоей жены и детей в сравнении с неприкосновенностью этого святилища, которое мы отстаиваем от врагов Иеговы?! Уведите его, и пусть его казнят на стене, на глазах римлян, его друзей!
Несчастного увели, а чей-то голос приказал: "Введите следующего изменника". Подвели Мириам. Бенони взглянул на нее и сразу узнал.
— Мириам! — простонал он, поднявшись со своего кресла, и тотчас же упал обратно. — Тут какое-нибудь недоразумение… Эта девушка не может быть виновна… Отпустите ее!..
— Сперва выслушай обвинение, — сказал угрюмо и подозрительно один из судей, тогда как другой прибавил:
— Это как будто та самая девушка, которая жила в твоем доме, рабби Бенони? Говорят, она христианка!
— Скажи нам, женщина, ты принадлежишь к секте христиан?
— Да, господин, я — христианка! — спокойно ответила Мириам.
— Мы собрались здесь не для того, чтобы разбирать вопросы веры. Теперь не время заниматься этим! — вмешался Бенони.
— Пусть так, — произнес один из судей, — оставим вопросы веры. Кто обвиняет эту женщину и в чем?
Вперед выступил человек, за спиной которого, как заметила Мириам, стояли Халев, расстроенный и взволнованный, и тот иудей, который сторожил Марка.
— Я обвиняю ее в том, что она дала возможность бежать римскому префекту Марку, захваченному в плен Халевом. Мы оставили его в старой башне, пока он не пришел в себя от ран.
— Римский префект Марк! — проговорил один из членов синедриона. — Он — ближайший друг Тита и один стоит сотни других римлян! Скажи нам, женщина, помогла ты ему бежать? Впрочем, ты, конечно, не скажешь! Обвинитель, изложи свои основания и доказательства!
Тот поверил обо всем, что произошло в башне. За ним был допрошен страж и, наконец, Халев.
— Я ничего не знаю, кроме того, что ранил и взял в плен римлянина, которого на моих глазах снесли бесчувственного в старую башню. Когда же я вернулся после новой атаки, римлянин исчез, а эта госпожа находилась в башне и утверждала, что он ушел через дверь. Вместе я их не видал! — кратко дал отчет Халев.
— Это — ложь! — грубо крикнул один из судей. — Ты говорил, что префект был ее возлюбленным!
— Я сказал это потому, что много лет тому назад, на берегах Иордана, она сделала его бюст из камня. Она — скульптор!
— Разве это доказывает, что она была его возлюбленной? — спросил Бенони.
Халев молчал, но один из членов синедриона, по имени Симеон, друг Симона, сидевший подле него, крикнул:
— Перестаньте препираться! Эта дочь сатаны прекрасна, и, по-видимому, Халев желает взять ее в жены. До этого нам нет дела! Но он старается утаить истину!
— Никаких улик против нее нет! Отпустите эту женщину! — воскликнул Бенони.
— Ничего удивительного — таково решение ее родного деда, — с едким сарказмом заметил Симеон. — Тяжелые настали времена, недаром рука Господня тяготеет над нами, если рабби укрывают христиан и потворствуют им, а воины лжесвидетельствуют потому только, что виновная прекрасна! Я же говорю, что она достойна смерти, так как укрыла римлянина, не то зачем бы она загасила светильник?!
— Быть может для того, чтобы самой укрыться от стражей! — сказал кто-то. — Только каким образом очутилась она в этой башне?
— Я жила в ней! — ответила девушка.
— Одна, без воды и без пищи, словно сова или летучая мышь! Ведь до вчерашнего дня башня была заложена кирпичами! Значит, ей известен какой-нибудь потайной ход, которым она и спровадила римлянина, а сама не успела уйти за ним! Вот и все! По-моему, она достойна смерти!
Тогда старый Бенони встал и гневно начал:
— Не достаточно ли крови льется здесь изо дня в день, чтобы нам искать и крови невинных?! Мы давали клятву чинить справедливый суд. Где же тут доказательства или улики? Многие годы она даже не видала этого римлянина. Именем Всевышнего протестую против этого приговора!
— Весьма естественно, что ты протестуешь: ведь она тебе не чужая! — сказал кто-то, и затем все стали спорить и пререкаться. Вдруг Симеон поднял голову и приказал обыскать ее.
Двое из архиерейских слуг принялись обыскивать девушку, разорвав одежду на ее груди.
— Вот жемчуг! — воскликнул один. — Взять его?
— Безумец, что мы, воры, что ли? Куда нам эти безделушки?! — окрикнул его сердито Симеон.
— А вот и еще кое-что! — сказал другой из слуг, вынув письмо Марка, которое девушка постоянно носила у себя на груди.
— Не троньте, отдайте! — взмолилась Мириам.
— Подать это сюда! — сказал Симеон, протянул свою тощую, костлявую руку и, развязав шелковую нитку, прочел начальные строки письма: "Госпоже Мириам от Марка, римлянина, через посредство благородного Галла". Ну, что скажешь на это, рабби Бенони? Тут целое послание, но читать все у нас нет времени, а вот конец: "Прощай, твой неизменно верный друг и возлюбленный Марк". Пусть читает остальное тот, кому охота, что же касается меня, то я удовлетворен: эта женщина — изменница, и я подаю голос за предание ее смерти!
— Это письмо было писано мне из Рима два года тому назад! — ответила было Мириам, но по-видимому, никто не слышал ее слов, все говорили разом.
— Я требую, чтобы это письмо было прочтено от начала и до конца! — заявил Бенони.
— У нас нет времени заниматься такими пустяками! — ответил Симеон. — Другие обвиняемые ждут очереди, а римляне разбивают наши ворота. Нам некогда тратить драгоценные минуты с этой христианкой, шпионкой римлян. Увести ее!
— Увести ее! — подтвердил и Симон Зилот, остальные утвердительно закивали головами.
Затем все собрались и стали обсуждать, какой смертью девушка должна умереть. После долгих споров и пререканий, после того как Бенони тщетно просил и убеждал, проклинал и заклинал их, вынесен был следующий приговор: как всех предателей и изменников вообще, девушку нужно отвести к верхним воротам храма, называемым вратами Никанора, которые отделяют двор Израиля от двора Женщин, и приковать цепями к центральному столбу над воротами, где она будет видна и римлянам, и всему народу израильскому. Там она умрет голодной смертью или как Бог ей судил.
— Таким образом, — заявил Симон Зилот, — мы не обагрим свои руки кровью женщины. Кроме того, ввиду особого снисхождения к просьбам брата нашего, рабби Бенони, мы решили отсрочить исполнение приговора до заката солнца и заявить изменнице, что в случае, если она за это время одумается и пожелает открыть нам убежище римлянина Марка, мы возвратим ей свободу. Отведите ее обратно в тюрьму! — приказал он, обращаясь к страже.
Мириам схватили и, проведя сквозь толпу голодных людей, останавливавшихся, чтобы плюнуть в нее или послать ей вслед проклятие или камень, отвели обратно в темную келью.
Мириам села на пол и принялась есть спрятанный ею кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Вскоре, измученная и обессилевшая, она заснула крепким сном. Спустя четыре или пять часов ее разбудил какой-то посторонний звук. Она раскрыла глаза и увидела перед собой старого Бенони.
— О, дитя мое! Я пришел проститься с тобой и попросить у тебя прощения! Душа моя разрывается!
— Прощения? У меня? Да в чем же, дедушка? Ведь, с их точки зрения, приговор справедлив, и, если хочешь знать, я надеюсь, что мне действительно удалось спасти жизнь Марка, за что я и должна заплатить своей жизнью!
— Но как ты могла это сделать?
— Не спрашивай меня об этом, господин!
— Но еще не поздно спасти и твою жизнь! Ведь они вряд ли смогут вторично захватить его. Теперь иудеев оттеснили от старой башни, которая в руках римлян!
— Да, но иудеи вновь могут овладеть ею. Кроме того, я подвергла бы опасности и другие жизни, жизни дорогих своих друзей! Нет, я не могу!
— В таком случае ты должна будешь умереть позорной смертью, я бессилен спасти тебя! Не будь ты моею внучкой, они распяли бы тебя на кресте, поступив с тобой так, как поступают римляне с нашими братьями!
— Если на то воля Божия, я умру. Что значит одна моя жизнь там, где ежедневно гибнут тысячи жизней?! Не будем больше говорить об этом!
— О чем же говорить, Мириам?! — простонал старик. — Кругом горе, горе и горе… Ты была права, когда убеждала меня бежать. А ваш Мессия, которого я отвергал и теперь отвергаю, да, он обладал даром прорицания: Иерусалим погиб, и наш храм тоже погибнет. Римляне уже завладели внешними дворами, а в Верхнем городе жители поедают друг друга и мрут. Хоронить мертвецов некому, все мы погибнем или от голода, или от меча, или от болезней, и не останется в живых никого. Народ иудейский будет попран и поруган, Иерусалимский храм разорен, от него не останется и камня на камне! Да, все сбудется!
— Но вы могли бы сдаться! Тит пощадил бы вас!
— Нет, дитя, лучше уж всем погибнуть! Сдаться, чтобы нас повлекли на поругание целому Риму, как жалких рабов, за колесницей победителя по улицам их пышной столицы! Нет, мы будем просить пощады у Иеговы, а не у Тита! Ах, зачем я не послушал тебя тогда, сейчас ты была бы в Египте или Пелле. Я погубил тебя, кровь от крови моей и плоть от плоти, я своими руками навлек на тебя этот приговор!
— И несчастный старик долго и безутешно ломал руки и стонал от нестерпимой душевной муки.
— Полно, дедушка, — успокаивала его Мириам, — умоляю тебя, не упрекай себя ни в чем! Для меня смерть не страшна. Да может быть, я даже и не умру!
Старик поднял голову и вопросительно посмотрел на нее:
— Разве у тебя есть какая-нибудь надежда уйти отсюда? Бежать? — спросил он. — Халев…
— Нет, не Халев, хотя я благодарна, что тогда, на суде он пытался оправдать меня, но я предпочла бы скорее умереть, чем бежать с ним!
— В таком случае… Почему же ты думаешь?..
— Я не думаю, господин, а только надеюсь на Бога и верю, что Он может спасти меня. Одна из наших женщин, которую почитают как святую, предсказала мне долгую жизнь!
В тот момент, когда она произнесла эти слова, раздался звук, подобный громовому раскату, и они почувствовали, как земля содрогнулась.
— Рабби Бенони, — крикнули снаружи, — стена упала! Не мешкай, рабби Бенони, ради всего святого, спеши!..
— Увы, дитя мое, я должен идти! Какой-то новый ужас и несчастье обрушились на нас и призывают меня вернуться. Прощай, возлюбленная дочь моя, прощай и прости меня за все то зло, которое я навлек на тебя, видит Бог, против воли!
И обняв и поцеловав ее, старик вышел, оставив девушку в слезах.
XVII. Врата Никанора
Прошло еще часа два, близилось время заката. Вдруг железные болты и засовы тюрьмы Мириам загремели, и в полутемную келью вошел Халев. На нем были помятые в бою и иссеченные во многих местах латы, а в руке сверкал обнаженный меч.
— Ты пришел сюда привести в исполнение приговор синедриона? — спросила девушка.
Он молча опустил голову.
— Не мешкай, друг Халев! Когда мы с тобой были детьми, ты нередко опутывал мои руки цветами, теперь же свяжи их веревками, как тебе повелевает долг!
— Ты жестока, Мириам, я пытался выгородить тебя на суде, а если у меня там, в старой башне, вырвались против воли слова горькой обиды, то только потому, что любовь и ревность довели меня до безумия! — И Халев стал убеждать девушку бежать с ним к римлянам, говоря, что из любви к ней готов наложить на себя пятно измены родине. Но девушка отказалась.
Мало того, он предлагал даже креститься, но девушка была непоколебима.
С тоской вышел от нее Халев. Сразу вслед за этим явились четверо воинов и повели Мириам к воротам Никанора между двором Женщин и двором Израиля, украшенным серебром и золотом, над которыми возвышалось квадратное здание, высотой около пятидесяти футов. Здесь священнослужители хранили свои священные трубы и другие музыкальные инструменты. На плоской кровле этого здания возвышались три мраморных столба, украшенных золочеными капителями и шпилями.
У ворот осужденную ожидал один из членов синедриона, тот самый Симеон, который приказал обыскать Мириам и отказался прочесть все письмо Марка.
— Не призналась эта женщина, где скрывается римлянин? — спросил он.
— Нет! — отвечал Халев. — Она говорит, что ничего об этом не знает!
— Так ведите ее наверх.
Поднявшись по узкой каменной лестнице, Мириам и сопровождающие вышли на кровлю здания, где ее подвели к среднему из трех столбов, к которому была прикована тяжелая железная цепь футов десяти длиной. По приказанию Симеона Мириам связали руки за спиной, а на грудь повесили надпись, гласившую: "Мириам, христианка и изменница, приговорена умереть здесь, как ей Бог судил, пред лицом друзей ее, римлян". Далее следовали подписи нескольких членов синедриона, в том числе и деда ее Бенони, которого принудили таким образом дать восторжествовать чувству патриотизма над чувством кровного родства. Затем ее приковали цепью к столбу, после чего Симеон и остальные собрались удалиться и оставить ее одну. Но прежде чем покинуть эту кровлю, Симеон обратился к осужденной:
— Стой здесь, презренная изменница, пока кости твои не распадутся в прах! Стой под грозой и бурей, под палящими лучами знойного солнца, стой, проклятая, при свете дневном и во мраке ночи, на поругание и посмеяние римлян и иудеев. Дочь сатаны, возвратись к сатане, и пусть тот Сын плотника спасет тебя, если может!
— Пощади, не оскорбляй эту девушку, рабби! Или ты не знаешь, что проклятия — стрелы, которые обрушиваются на голову того, кто их мечет? — вступился Халев.
— Будь моя воля, первая стрела предназначалась бы тебе, дерзкий юнец, осмеливающийся учить старших! Но знай, мне известно больше, чем ты полагаешь! Быть может, и ты хочешь вступить в дружбу с римлянами? Что же, скатертью дорога!.. А теперь уходи!
Халев не ответил ни слова, только печально взглянул на осужденную и тихо произнес: "Прощай! Ты сама этого хотела!"
И Мириам осталась одна в красных лучах огненного заката, прикованная к столбу, с позорной надписью на груди и связанными за спиной руками. С минуту она стояла неподвижно, затем подошла к краю стены и заглянула вниз, во двор Израиля, где иудейские военачальники, старейшины и зилоты собрались посмотреть на осужденную. Целый град камней и обломков мрамора с ругательствами и проклятиями полетел в нее, и девушка поспешила отойти к противоположному краю стены, выходившему на двор Женщин. Весь этот двор теперь был превращен в военный лагерь, так как внешний двор, двор Язычников, был уже занят римлянами, и их стенобойные машины почти беспрерывно громили стены двора Женщин.
Настала ночь, но и она не принесла с собой обычной тишины и покоя. Римляне вновь пытались взять стены приступом — тараны и стенобойные машины оказались бессильными. Однако иудеи были все время настороже и сбрасывали приставные лестницы римлян, как только отважные и неустрашимые легионеры взбирались по ним. Однажды двум знаменосцам удалось взобраться на стену под громкие торжествующие крики римлян, но смельчаки были тотчас же окружены и убиты, а знамена с насмешкой сброшены со стен разодранными в клочья.
Наконец легионеры принялись подтаскивать горючий материал к воротам, сделанным из драгоценного кипариса и окованным листами серебра, и разводить под ними и подле костры. До этого времени Тит хотел сохранить невредимыми как сам храм, так и все его дворы, но видя, что ничто другое не поможет, решился прибегнуть к огню. Вскоре серебряные листы на воротах расплавились, а дерево вспыхнуло ярким пламенем. Когда огонь сделал свое дело, римляне бросились тушить пламя там, где им нужен был проход, и через эту брешь, словно река, прорвавшая плотину, мгновенно заполнили двор Женщин. Сам Тит въехал в него во главе большого отряда всадников. Иудеи бежали, ища спасения на уступах ворот Никанора, на стене и на кровле здания, где была прикована Мириам. Но на нее теперь никто не обращал внимания, над каждым висела смерть.
Римляне же снизу заметили ее, и какой-то воин пустил стрелу просвистевшую над самой головой девушки. Этот поступок не укрылся от зорких глаз Тита, который тут же приказал привести к себе виновного и, очевидно, выразил ему свой гнев, так как после этого больше никто не пытался причинить ей вред. Но зато августовское солнце теперь беспощадно палило ее своими жгучими лучами, и несчастная девушка нигде не могла укрыться от них. У нее не было ни капли воды, чтобы утолить мучительную жажду. Мириам безропотно выносила эту пытку и только ждала вечера с его живительной прохладой.
В этот день римляне не предприняли новых атак, а иудеи не делали вылазок. Во дворе Женщин установили несколько стенобойных машин и баллист, которыми метали громадные камни во двор Израиля по ту сторону стены.
Многие из этих камней с глухим звуком падали на мраморные плиты двора, дробя их и вздымая облака пыли, другие попадали в густую толпу иудеев и ранили или убивали разом десятки людей. Тогда вопли и стоны подымались и снова смолкали.
Среди притихшей, пораженной смертельным ужасом толпы бродил тот же безумный Иисус, сын Анны, который встретил Мириам при въезде в Иерусалим, и, как тогда, этот грозный пророк взывал все тем же пронзающим душу голосом:
— Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе граду сему и храму сему! Горе народу сему! — И вдруг, смолкнув на мгновение, воскликнул как-то особенно громко: "Горе и мне!", — и не успел еще звук его голоса замереть в воздухе, как громадный камень, перелетев из двора Женщин, упал на него и отскочил, продолжая свое дело уничтожения и разрушения, но пророк, предсказавший в последний момент жизни и свою собственную участь, остался нем и недвижим.
Весь день жилые помещения, примыкающие к стене, горели, поджигаемые римлянами. Чад и смрад
стояли в воздухе.
Наконец последние лучи заката погасли над вершиной Масличной горы, и белые палатки римлян и бесчисленные кресты с корчившимися на них в предсмертных муках страдальцами, кресты, которыми были утыканы и склоны, и подножие горы, и вся долина Иосафата, насколько только хватало глаз, — все это окуталось легкой дымкой расстилавшегося тумана. Настал благословенный, вожделенный час ночи, обильная роса своей живительной влагой обдала изнемогавшую, измученную зноем девушку и утолила ее жажду. Да, теперь, когда обильная роса оседала на мраморный столб, к которому была прикована Мириам, она могла слизывать ее и охлаждать прилипший к гортани язык. Освеженная, обновленная ночной росой, Мириам заснула.
XVIII. Последний бой Израиля
Начало светать, но в этот день люди напрасно ждали появления дневного светила. Густой туман наполнил воздух. Мириам благословила этот туман, зная, что ей не пережить второго дня под палящими лучами солнца. Она сильно ослабела, так как не получала никакой пищи уже вторые сутки и не утоляла жажды ничем, кроме росы, но пока туман скрывал солнце, она чувствовала, что жизнь еще не покидает ее.
Под покровом того же тумана Халев ухитрился подойти к воротам Никанора и, хотя ворота охранялись и были заперты тяжелыми болтами, все же нашел возможность, привязав к стреле небольшой холщовый мешок, в котором лежала кожаная фляга с водой и корка черствого хлеба, забросить все это на крышу здания, и так ловко, что стрела с мешком упала к самым ногам Мириам. Девушка зубами развязала шнурки мешка и с жадностью принялась грызть черствый хлеб. Но воспользоваться живительным напитком она не могла, так как руки ее были связаны за спиной. Мучимая целыми тучами насекомых, мошек и мух, несчастная девушка не могла даже защитить себя от них, будучи лишена возможности шевелить руками. Вдруг она заметила, что в мраморный столб, к которому она была прикована, вбиты несколько железных кольев. Один из них, очень острый, немного выдавался, и Мириам пришла мысль, что об него можно перетереть веревку, связывающую ее руки.
Встав спиной к столбу, она принялась за работу, но это движение чрезвычайно утомляло ее, тем более, что силы были уже на исходе. Затекшие, вспухшие руки страшно болели, и от прикосновения к железу кожа на них лопалась, причиняя новые мучения. Девушка плакала от боли, но все-таки продолжала тереть веревку. Настала ночь, а работа ее все еще не была окончена, но силы ее уже иссякли. Под прикрытием тумана римляне, движимые любопытством, приблизились к воротам и стали расспрашивать ее, за какое преступление она тут привязана. Она ответила им по-латыни, что ее осудили за спасение одного римлянина от смерти. Но прежде, чем римляне успели спросить ее еще о чем-нибудь, целый град стрел и копий заставил их отступить от ворот. Однако ей показалось, будто один из них добежал до своего начальника и что-то сообщил ему, а тот отдал какое-то приказание.
Между тем иудеи готовились к бою. Четыре тысячи человек столпились во дворе Израиля. Вдруг ворота распахнулись, в том числе и ворота Никанора. и при звуках труб, словно река, прорвавшая плотину, иудеи устремились во двор Женщин, смяв римских часовых, форпосты и сторожевую цепь римлян. Но легионеры были наготове и, сомкнув стальные ряды своих щитов в сплошную стену, отразили натиск иудеев, как непоколебимая скала отражает стремительный поток. Однако иудеи не хотели отступать и отчаянно бились до тех пор, пока сам Тит не двинулся на них с отрядом всадников и не погнал, как стадо овец, за пределы двора Женщин. Всех раненых и отставших римляне тут же прикончили, но во двор Израиля ворваться не пытались.
Некоторые военачальники подъехали к самым воротам и крикнули, что Тит желает пощадить храм и дарует им жизнь, если они сдадутся. На это осажденные отвечали насмешками, издевательствами и оскорблениями. Однако, несмотря на такой ответ осажденных, Тит желал спасти храм, и по его приказанию несколько тысяч римлян были отправлены тушить пожар в оградах и жилых строениях храма. Между тем защитники последнего уже не нападали и на новые вылазки не отваживались. Укрываясь там, где они были в сравнительной безопасности от стрел и камней, которые метали во двор катапульты и баллисты римлян, одни лежали в унылом безмолвии под прикрытием стен, другие громко стонали, ударяя себя в грудь и раздирая на себе одежды. Женщины и дети выли от голода, ужаса и нестерпимых мучений, проклиная судьбу и посыпая головы пеплом или землей.
Мириам видела все, и душа ее содрогалась от ужаса. Она знала, что Халев еще жив, видела, как после безумной атаки он одним из последних вернулся во двор Израиля весь в пыли и крови. В течение многих месяцев она теперь не увидит его…
Наконец и этот последний день долгой осады подошел к концу. Под вечер туман рассеялся, и яркие лучи солнца в последний раз заискрились на золоченой кровле и шпилях великолепного Иерусалимского храма. Никогда, казалось, не был он так величественен и великолепен, как в этот последний вечер, окруженный почерневшими развалинами разрушенного города. Все стихло, даже стоны и вопли голодных иудеев. В римском лагере тоже было спокойно: солдаты варили ужин, даже грозные стенобитные машины и баллисты прекратили свою разрушительную работу. Но стаи стервятников стали слетаться со всех сторон, садясь на стены храма. И вспомнились Мириам слова: "Где будет труп, туда соберутся и орлы", — и страх наполнил ее измученную душу, томительно захотелось вырваться на свободу и бежать отсюда, бежать, куда глаза глядят. Снова принялась она за свою изнуряющую работу, силясь перетереть веревку, которой были связаны руки, и вдруг почувствовала, что свободна. Чувство невыразимой радости охватило все ее существо, хотя затекшие руки причиняли ей страшную боль, а когда она попробовала поднять их, то чуть не лишилась чувств. Немного погодя, с неимоверным усилием она все-таки подняла их, и кровь стала постепенно приливать к окоченевшим, посиневшим пальцам. Тогда она протянула обе руки к фляге и, развязав зубами тряпку, удерживавшую пробку, с жадностью припала пересохшими губами к живительному напитку. Дитя пустыни, она знала, что пить вволю, когда человек истомился жаждой, грозит смертельною опасностью, и потому медленными, маленькими глоточками отпила половину фляжки воды, смешанной с вином.
Девушка была настолько слаба и изнурена, что даже эта смесь подействовала на нее опьяняюще: у нее зашумело в ушах и в голове и, не будучи в состоянии удержаться на ногах, она впала в забытье.
Очнувшись, она почувствовала себя несколько бодрее, и хотя голова была тяжела, она вполне могла рассуждать. Теперь ею владело непреодолимое желание освободиться от цепи, и она стала прилагать все усилия, но цепь была крепка, и вскоре она убедилась в тщетности своих попыток. Обессилевшая, Мириам упала на колени и, закрыв лицо руками, заплакала, как ребенок.
Вдруг глухой шум и легкое сотрясение привлекло ее внимание, она встала и взглянула вниз. Иудеи столпились у ворот, которые теперь тихо распахнулись, и среди ночной тишины, словно стая черных воронов, устремились во двор Женщин на последнюю отчаянную схватку. Они хотели перебить тех солдат, которые по приказанию Тита все еще силились потушить пожар, и затем врасплох обрушиться на спящий лагерь.
Но это им не удалось: из-за ограды, воздвигнутой Титом перед лагерем, хлынули тысячи римлян, разя и уничтожая все перед собой. Паника охватила несчастных сынов Израиля, с воплями отчаяния они бросились врассыпную, закрывая лицо руками, затыкая уши, чтобы не видеть и не слышать, словно не римляне, а какие-то всесильные духи-истребители преследовали их.
На этот раз легионеры уже не довольствовались тем, что прогнали их во двор Израиля, а и сами бросились туда за ними, некоторые даже опередили бежавших. Мигом ворота были заняты римскими караулами, новые легионы все прибывали и прибывали; вскоре римляне заполнили весь двор, проникнув даже к самому святилищу и беспощадно убивая каждого на своем пути. Теперь уже никто не старался остановить их, битвы не было, даже храбрейшие из иудейских воинов сознавали, что час их настал и Иегова отрекся от своего избранного народа. Они бросали оружие и бежали, сами не зная куда. Некоторые искали спасения в храме, но римляне последовали за ними туда с факелами в руках. Мириам, вне себя от ужаса, смотрела вниз. Вдруг в одном из окон храма, с северной стороны, показался огненный язык; минута — и вся стена вспыхнула ярким заревом. Все ярче и ярче разгоралось оно, и глаза не могли более выносить этого моря пламени, а тем временем римляне сплошным потоком врывались во двор Израиля через врата Никанора, пока наконец не раздался крик: "Дорогу! Дорогу!" Мириам увидела человека в белой одежде с обнаженной головой и без вооружения, на великолепном коне; впереди него знаменосцы несли орлов римских легионов
[186]. То был Тит, который, въехав во двор, крикнул центурионам, чтобы они скомандовали отбой, вернули легионеров назад и дали приказ тушить пожар. Но кто мог теперь повернуть обезумевших от жажды крови и грабежей солдат? Никакая сила в мире не могла образумить их и привести к повиновению.
Пламя уже охватило храм во многих местах. Золотые двери были взломаны и раскрыты, и Тит со своей свитой вошел в храм, чтобы в первый и последний раз взглянуть на жилище Иеговы, Бога иудеев. Из придела в придел шествовал Тит, до самой Святая Святых, куда также вошел и отдал приказ вынести золотые светильники, жертвенные сосуды и золотой стол.
И вот великолепный Иерусалимский храм, простоявший тысячу сто тридцать лет на священной вершине горы Мория, сам стал величайшей жертвой всесожжения, какая когда-либо приносилась на этой горе. В жертвах не было недостатка: в своем безумном исступлении римляне беспощадно избивали людей, томившихся во дворе Израиля, так что трупами, точно сплошным ковром, был усыпан весь двор. В эту ночь погибло более десяти тысяч воинов, женщин, детей и священнослужителей, кругом все утопало в крови. Многие римляне с награбленными сокровищами падали и задыхались от недостатка воздуха.
Громадными снопами, на сотни футов в вышину вздымалось необъятное пламя пожара, воздух кругом накалился, как в плавильной печи. Страшные стоны избиваемых, крики торжества победителей, громкие вопли жителей, наблюдавших все это с кровель домов Верхнего города, слились в один протяжный звук.
Несколько тысяч иудеев успели, однако, бежать в Верхний город. Уничтожив за собой мост, они стали следить оттуда за происходящим по эту сторону долины и оглашали воздух непрерывными стенаниями. Мириам, видевшая разрушения и избиения, уже не могла долее выдержать зрелища всех ужасов и, упав за мраморным столбом, задыхаясь от жара и смрада, стала молить Бога о смерти. Вдруг вспомнив, что во фляге оставалось немного воды с вином, она с жадностью припала губами к горлышку и, выпив все до последней капли, снова легла у столба и лишилась сознания.
Когда она пришла в себя, было уже светло, из груды развалин храма Иродова, великолепнейшего здания в мире, вздымался густой столб дыма и пламени, а весь двор Израиля был сплошь устлан трупами, по которым римляне прокладывали себе дорогу.
На жертвеннике теперь развевался римский штандарт, и легионеры приносили ему жертвы. Но вот к ним подъехал статный воин в сопровождении блестящей свиты, и они приветствовали его громкими криками: "Тит-император!" Здесь, на месте его торжества, победоносные легионеры провозгласили своего полководца цезарем.
Однако и теперь борьба была не совсем окончена, потому что на крышах горевших стен ограды собрались некоторые из уцелевших и самых отчаянных защитников храма Иерусалимского и, по мере того как эти ограды рушились, отступали к воротам Никанора, еще нетронутым огнем. Римляне, которые уже пресытились кровью, предлагали им сдаться, но те не соглашались, и Мириам, к несказанному своему ужасу, узнала в одном из отступавших своего деда Бенони.
Так как иудеи не сдавались, римляне стали стрелять и перебили их всех одного за другим, кроме старого Бенони.
— Перестаньте стрелять! — раздался чей-то властный голос. — Несите скорее лестницу! Это смелый и отважный старик, к тому же один из членов синедриона. Захватите его живым!
Римляне приставили лестницу, и по ней взобрались на стену. Бенони при виде их отступил к самому краю обрушившейся стены, охваченной пламенем, но внезапно обернулся — ив этот момент увидел Мириам. Он стал ломать руки и раздирать на себе одежды, думая, что внучка уже умерла. Мириам угадала его горе, но до того обессилела, что не могла сделать ни малейшего движения, не могла произнести ни одного звука, чтобы утешить несчастного старика.
— Сдавайся! — кричали между тем римляне, боясь приблизиться к горящим развалинам. — Сдавайся, безумец, Тит дарует тебе жизнь!
— Для того, чтобы протащить меня за своей колесницей победителя по улицам Рима? — гневно возразил старый иудей. — Нет, я не сдамся, а умру, моля Бога, чтобы Он с лихвой воздал Риму за Иерусалим и его детей! — И подняв с земли валявшееся копье, он метнул им в группу римлян с такой ловкостью и силой, что копье, пробив щит одного из воинов, пронзило насквозь и руку, державшую щит.
— Пусть бы это оружие так же пронзило твое сердце и сердца всех римлян! — воскликнул Бенони и, бросив последний, прощальный взгляд на развалины храма и Иерусалима, бросился в пламя горящих развалин и погиб, гордый и смелый, не изменив себе даже в час смерти.
При виде этого Мириам снова лишилась чувств, а когда очнулась, то вдруг увидела, как дверь, что вела на кровлю из потайной комнаты квадратного здания над воротами Никанора, распахнулась, и из нее выбежал с обнаженною головой, в разодранной одежде, весь в крови и копоти человек с глазами затравленного зверя. Мириам вгляделась и узнала в нем Симеона, осудившего ее на ужасную смерть.
Следом, цепляясь за полы его одежды, выбежали римляне, в том числе офицер, лицо которого показалось Мириам знакомым.
— Держите его! — крикнул он. — Надо же показать римскому народу, на что похож живой иудей!
Стараясь вырваться из рук врагов, Симеон поскользнулся и упал плашмя.
Только теперь римский офицер заметил Мириам, лежавшую у подножия столба.
— Ах, я ведь забыл про эту девушку, которую нам приказано спасти! Уж не умерла ли она, бедняжка? Клянусь Бахусом, я видел где-то это лицо. Ах да, вспомнил! — И он наклонился над ней и прочел надпись на груди.
— Смотри, господин, какое ожерелье, ценный жемчуг, прикажешь снять его? — проговорил один легионер.
— Снимите с нее цепь, а не ожерелье! — приказал начальник, затем, склонившись к девушке, спросил. — Можешь ты идти?
Мириам только отрицательно покачала головой.
— Ну, тогда я понесу тебя! — И бережно, словно ребенка, офицер поднял ее на руки и стал спускаться со своей ношей вниз, во двор. Солдаты вели за ним Симеона.
Во дворе Израиля, где еще уцелела часть жилых помещений, в кресле перед одним из сводчатых входов, сидел человек, рассматривающий священные сосуды и всякую драгоценную утварь, в окружении своих военачальников и префектов. Это был Тит. Подняв глаза он увидел Галла со своей ношей и спросил:
— Что ты несешь, центурион?
— Ту девушку, которая была прикована к столбу на воротах!
— Жива она еще?
— Да, цезарь! Но зной и жажда сделали свое дело!
— В чем заключалась ее вина? — спросил Тит.
— Тут все написано, цезарь!
— Хм… "христианка", мерзкая секта, хуже самих иудеев, как утверждал покойный Нерон. Но кто осудил ее?
Мириам с трудом подняла голову и указала на Симеона.
— Говори мне всю правду, — приказал Тит, — и знай, что я все равно ее узнаю!
— Она была осуждена синедрионом, — сказал Симеон, — среди них был и ее дед Бенони, вот тут его подпись!
— За какое преступление? — спросил Тит.
— За то, что она помогла бежать одному римскому пленнику — пусть душа ее вечно горит в геенне огненной!
— Судя по твоей одежде, ты тоже был членом синедриона, — сказал Тит. — Как твое имя?
— Меня зовут Симеон. Это имя ты, верно, слышал уже не раз?
— А-а, да, вот оно здесь, на этом приговоре, стоит первым! Ты приговорил эту девушку к страшной смерти за то, что она спасла жизнь одному римскому воину. Так испей же сам сию чашу. Отведите его на башню над воротами и прикуйте к тому столбу, к которому была прикована девушка. Храм твой погиб, святилища твоего не стало, и ты, как верный его служитель, должен желать себе смерти!
— Да, в этом ты прав, римлянин, — проговорил Симеон, — хотя я предпочел бы более легкую кончину!
Его увели, и цезарь Тит занялся Мириам.
— Отпустить девушку на свободу нельзя: это все равно, что обречь ее на смерть, кроме того, она — изменница и, вероятно, заслужила свою участь. Но она прекрасна и украсит собою мой триумф
[187], если боги удостоят меня этого, а пока… Кто возьмет ее на свое попечение? Но помните, пусть никто не смеет причинить ей вреда, девушка эта — моя собственность!
— Будь спокоен, цезарь, я буду обращаться с ней как с дочерью! — сказал ее освободитель. — Отдай ее мне!
— Хорошо, — сказал Тит, — теперь унесите ее отсюда, нам надо заняться другими, более важными делами, а в Риме, если будем живы, ты дашь мне отчет!
XIX. Жемчужина
Время шло, битвы и сражения продолжались, так как иудеи держались в Верхнем городе. Во время одной из схваток Галл, тот римский начальник отряда, который вызвался принять на свое попечение Мириам, был тяжело ранен в ногу. Тит вполне доверял этому человеку, поэтому по приказанию цезаря он должен был отплыть в Рим с другими больными и ранеными и доставить в столицу Империи большую часть захваченных в храме Иерусалимском сокровищ. По желанию цезаря, Галл должен был направиться в Тир, откуда отплывало судно, предоставленное в его распоряжение.
Мириам Галл поселил в особой палатке разбитого на Масличной горе лагеря, и поручил старухе, прислуживавшей раньше ему самому, ухаживать за девушкой и беречь ее как зеницу ока.
Долгое время девушка находилась между жизнью и смертью, но мало-помалу благодаря хорошему питанию и тщательному уходу силы ее вернулись и физическое здоровье было восстановлено. Однако душевное потрясение, испытанное ею, не прошло бесследно — казалось, бедная девушка навсегда останется с помутившимся рассудком. В продолжение многих недель она не переставала бредить, а речь ее оставалась бессвязной и неразумной.
Всякому другому на месте Галла надоело бы возиться с бедной помешанной, и он предоставил бы ее жестокой судьбе — десятки и сотни иудейских женщин теперь бродили по всей стране, как бездомные голодные собаки, отыскивая случайные крохи пропитания или погибая от голода.
Галл же, как и обещал Титу, относился к молодой пленнице с нежностью, любовью и заботливостью родного отца. Каждую свободную от служебных обязанностей минуту он проводил с ней, а после ранения — целые дни. В конце концов бедная безумная так привязалась к Галлу, что стала называть "дядей" и просиживала иногда целыми часами подле него, обвив его шею руками и забавляя своей несвязной речью. Кроме того, она привыкла узнавать солдат его легиона, которые полюбили бедняжку за ее милый, кроткий нрав и приветливую улыбку. Чтобы порадовать девушку, они постоянно приносили ей то фрукты, то цветы и оберегали ее, как ребенка.
Когда Галл получил от Тита приказ отправляться в Тир, он, забрав с собой вверенные ему иерусалимские сокровища и молодую пленницу, вместе с рабыней-служанкой тронулся в путь — с большой осторожностью, избегая утомления в пути для Мириам и окружая ее всевозможными удобствами и заботами. Таким образом, на восьмые сутки они прибыли в Тир.
Случилось так, что судно, на котором Галлу предстояло отплыть из Иудеи, не было готово к отплытию, и Галл приказал разбить лагерь на окраине Старого Тира — по странной случайности, в саду, принадлежавшем некогда старому Бенони.
Палатка Мириам и ее старой рабыни была раскинута на берегу моря, подле шатра ее покровителя. Эту ночь Мириам спала хорошо и, пробудившись на рассвете и заслышав рокот волн, вышла в сад. Весь лагерь еще отдыхал, и море и все кругом было спокойно. Вот, прорвав дымку тумана, дневное светило всплыло над горизонтом, залив своим светом сверкающую синеву моря и темную линию его берегов. И вдруг в мозгу бедной больной просветлело, разум возвратился к ней, так что, когда проснувшийся Галл подошел к ней, она признала сад и гордые линии древнего Тира, расположенного на острове. Вон пальма, под которой она с Нехуштой любила отдыхать, вон скала, близ которой растут лилии и где она получила послание от Марка. Инстинктивно она поднесла руку к ожерелью. Да, ожерелье и теперь было у нее на шее, и на нем она нащупала свой перстень, который старая рабыня нашла в ее волосах и для сохранности надела на ожерелье.
Мириам надела его на палец. Затем дошла до скалы и, сев на большой камень, принялась припоминать, что с ней произошло. Но вскоре все ее воспоминания потонули в каком-то кровавом хаосе…
Встав поутру, Галл как всегда прошел к палатке Мириам, чтобы осведомиться, как она спала, и узнал от ее прислужницы, что девушка уже вышла. Осмотревшись кругом, он увидел ее у скалы и, опираясь на свой костыль, так как рана еще не зажила и нога не действовала, побрел к ней.
— С добрым утром, дочь моя, — сказал он, — как ты провела ночь?
— Благодарю тебя, господин, я сегодня хорошо спала! Но скажи мне, этот город, который я там вижу, не Тир? А этот сад — не деда моего Бенони, где я бродила много дней тому назад? С тех пор случилось так много разных ужасных событий, которых я теперь не могу припомнить… Да, не могу! — она приложила руку ко лбу и тихо застонала.
— Не надо, не припоминай их! — весело сказал Галл. — В жизни много такого, о чем лучше забыть совсем… Да, это — Тир, а это — сад Бенони! Вчера, когда мы прибыли сюда, ты не узнала этих мест, было уже темно!
Говоря это, он следил за ней, не веря своим ушам, не веря, что к ней вернулся рассудок. Мириам, во своей стороны, не спускала глаз с его лица, точно стараясь уловить в них нечто знакомое ей, и вдруг воскликнула:
— Да, теперь я вспомнила! Ты — римлян Галл, тот римский военачальник, который привез мне письмо… — И она стала искать у себя на груди это письмо. — Оно пропало! Куда оно могло деваться?.. Дайте мне вспомнить…
— Нет, нет не надо вспоминать! — поспешил прервать ее мысли Галл. — Да, я действительно тот самый человек, который несколько лет тому назад привез тебе письмо от моего друга Марка, прозванного Фортунатом — что, как тебе известно, означает "Счастливый", — а также и эти безделушки, что вижу на тебе. Но мы обо всем этом поговорим после, а теперь тебе пора подкрепиться, а мне — перевязать рану. А там мы с тобой побеседуем!
Но в это утро Галл не показывался, боясь, чтобы Мириам не переутомилась, напрягая свои мысли. Не видя его, она до самого обеда пробродила одна по саду, любуясь синим простором моря и прислушиваясь к однообразному плеску волн.
Мало-помалу в ее мозгу воскресли воспоминания о том ужасном прошлом, которое поначалу, казалось, совершенно изгладилось из памяти. Наконец старая служанка пришла звать ее обедать и повела в столовую. На пути к этой палатке она увидела несколько десятков римских солдат, как будто преграждавших ей дорогу.
Мириам испугалась и готова была бежать, но старуха успокоила ее:
— Не бойся, они ничего тебе не сделают, потому что любят свою Жемчужину и собрались здесь, чтобы приветствовать тебя: они слышали, что ты поправилась, и очень этому рады!
— Жемчужину? Что это значит?
— Так они тебя называют из-за жемчужного ожерелья!
Действительно, при ее приближении эти грубые, суровые воины осыпали Мириам приветствиями и хлопали в ладоши, выражая свою радость, а один из них даже поднес ей пучок полевых цветов, которые так редки в это время года. Услыхав из своего шатра радостные крики и приветствия легионеров, Галл вышел и, чтобы почтить день выздоровления их общей любимицы, приказал выдать солдатам бочонок доброго ливанского вина.
Затем, взяв девушку за руку, Галл повел ее в палатку, где был накрыт стол. За обедом Мириам рассказала Галлу свою историю и спросила, что ожидает ее в Риме.
— До возвращения Тита ты останешься у меня, — отвечал тот, — а затем пойдешь за его триумфальной колесницей. А там, если он не изменит своего решения, чего трудно ожидать — Тит гордится тем, что никогда не отменял ни одного своего декрета, не изменял суждения или решения, как бы поспешно оно ни было принято — ты будешь продана с публичного торга на форуме!
[188]
— Продана в рабство, как скотина на базаре! Продана с публичного торга! О, Галл, какая печальная, какая позорная участь!
— Не думай об этом, дитя мое, будем надеяться, что и в этом, как во всем остальном, судьба будет благоприятствовать тебе!
— Я желала бы только, чтобы Марк узнал о том, что меня ожидает в Риме!
— Но как это сделать, даже если он жив? Завтра, перед наступлением ночи, наше судно уходит в море. Что же могу я сделать?
— Пошли гонца к Марку с вестью от меня!
— Гонца? Но кто же сумеет отыскать его? Я могу отправить только одного из моих солдат, но он не найдет убежища ессеев, о котором ты говорила мне!
— У меня есть друзья в Тире, ессеи и христиане, и, если бы я могла увидеться с ними, то нашла бы подходящего человека, который сумел бы исполнить поручение.
Галл призадумался, а затем решил послать старую невольницу в город с поручением отыскать кого-нибудь из христиан или ессеев, пообещав ей в награду свободу.
Ловкая и хитрая старуха пустилась бродить по городу и перед закатом возвратилась, заявив, что христиан в городе не осталось, но ей после долгих поисков удалось наконец встретить одного молодого ессея. Он обещал прийти в римский лагерь, когда совсем стемнеет.
Действительно, спустя два часа после заката ессей явился и был проведен старой рабыней в шатер Мириам.
Это был брат Самуил. Он отсутствовал в селении на берегу Иордана в то время, когда ессеи были вынуждены бежать оттуда, потому что отпросился в Тир проститься со своей умирающей матерью. Брат Самуил, узнав о бегстве братства в Иерусалим и не зная, где именно они укрылись, но слыша об ужасах, происходивших в этом городе, решил остаться с матерью, которая тогда еще была жива и не отпускала его от себя. Таким образом ему удалось избегнуть всех ужасов осады Иерусалима, а теперь, схоронив мать, он собирался разыскать свое братство, если только кто-нибудь из него еще уцелел.
Убедившись в том, что брат Самуил действительно ессей, Мириам рассказала ему все, что ей было известно о тайном убежище ессеев, и вручила кольцо — подарок Марка, — прося передать кольцо римлянину, пленнику ессеев, если он жив, а также сообщить ему об участи, ожидающей ее в Риме. Если же пленника по имени Марк уже нет в живых или среди ессеев, то нужно отдать кольцо и сообщить ту же весть старой ливийской женщине Нехуште, а если и ее он не найдет — то дяде Итиэлю или тому человеку, который в данный момент будет считаться главой совета братства ессеев.
Чтобы брат Самуил не забыл просьбы, Мириам изложила все в письме, которое и вручила ему. Письмо было подписано: "Мириам, из дома Бенони", но она умолчала о том, к кому оно писано, из боязни, как бы письмо не попало в чужие руки и не навлекло беды на тех, к кому оно было обращено.
Когда обо всем переговорили, в шатер Мириам вернулся Галл и осведомился, сколько брату ессею нужно денег на путевые издержки и сколько он желает получить за свои труды. Римлянин был крайне поражен, когда услышал, что никакого вознаграждения не нужно, что это противно правилам братства, предписывающим оказывать безвозмездно всякую услугу каждому, кто в ней нуждается.
После этого брат Самуил удалился, и Мириам уже никогда более не видала его, но, как оказалось впоследствии, он добросовестно исполнил возложенное на него поручение и тем самым оказал ей громадную услугу. После его ухода Галл по просьбе Мириам также написал письмо к одному своему товарищу по службе, с вложением письма к Марку и просьбой доставить ему это письмо, если только Марк вернется в армию.
— Ну, дочь моя, мы теперь сделали все, что от нас зависело! Остальное надо предоставить судьбе.
В тот же вечер они сели на большую римскую галеру и на тридцатые сутки пришли в Регий, откуда сухим путем двинулись к Риму.
XX. О Марке и Халеве
В то время как Нехушта, напрягая все свои силы, старалась втащить бесчувственное тело Марка в тайный ход старой башни, она не видела, как Мириам отскочила от камня, чтобы выбить светильник из рук стража, и поэтому, услыхав глухой звук захлопнувшейся двери, со вздохом облегчения воскликнула:
— Ну, как раз вовремя! Кажется, никто нас не видел!
Но ответа не было, и у Нехушты вырвался вопль отчаяния:
— Госпожа! Где ты, отзовись, Христа ради! Где ты, госпожа?! Но опять то же безмолвие могилы, опять ни звука.
— Что случилось? — спросил пришедший в себя Марк. — Где я, Мириам?
— Случилось то, что Мириам в руках иудеев, проклятый римлянин! Чтобы спасти тебя, она пожертвовала собой! Они распнут ее за то, что она помогла бежать тебе, римлянину!.. Дверь захлопнулась за ней, и теперь мы ничего не можем поделать! — хриплым от бешенства и отчаяния голосом воскликнула верная служанка.
— О, не говори так! Отопри эту дверь, я еще жив, могу отстоять ее… — Но, вспомнив, что у него нет меча, добавил: — Или хоть умереть вместе с ней!
— Отпереть дверь? Ключ у нее! Я ничего не могу сделать!
— Так я помогу тебе выломать ее!
— Выломать эту дверь?.. Каменную плиту в три фута толщиной… Ха! Ха!
Но, выкрикивая эти слова, несчастная женщина, как безумная, старалась засунуть в узкую скважину свои тонкие пальцы, те хрустели, кожа была сорвана до мяса. В то же время Марк пытался сдвинуть плечом тяжелую глыбу, но, сознавая свою немощность, в отчаянии упал.
— Погибла! Из-за меня, о боги!.. Из-за меня! — И он принимался рыдать и дико хохотал в бреду, пока не лишился сознания.
"Убить бы его! — мелькнуло в озлобленном сердце Нехушты. — Проклятый римлянин, из-за него… Нет, нет, она его любила, лучше мне покончить с собой, без нее на что мне жизнь? Пусть это грех, мне все равно!"
И измученная, разбитая опустилась Нехушта на каменную ступень лестницы, бессмысленно уставившись глазами в одну точку. Вдруг впереди замигал огонек. То был брат Итиэль. Нехушта встала и посмотрела ему в лицо.
— Ну, хвала Богу! — произнес старик. — Вы здесь, а я уж третий раз прихожу сюда искать вас, мы беспокоимся, почему Мириам не идет!
— Она никогда больше не придет! — с рыданием воскликнула несчастная женщина. — Взамен себя она оставила нам этого проклятого римлянина, римского префекта Марка!
— Что?! Что ты говоришь?! Где Мириам?
— В руках иудеев! — И она рассказала ему все…
— Помочь ей, увы, мы не можем. Пусть ей поможет Бог! — простонал Итиэль.
— А что мы будем делать с этим человеком?
— Все, что в наших силах, ведь она, пожертвовавшая собой ради него, рассчитывала, что мы поможем ему. Кроме того, много лет назад он был нашим гостем и другом!
Итиэль ушел и призвал более сильных и молодых братьев, которые отнесли Марка в келью, обжитую Мириам, где бедный больной пролежал не одну неделю без сознания, в бреду, не подавая надежды на выздоровление. Только благодаря необычайному врачевательному искусству братьев и неусыпному уходу Нехушты удалось спасти ему жизнь.
Скоро ессеям пришлось узнать, что и Иерусалим, и гора Сион пали, что Мириам была осуждена синедрионом и прикована к позорному столбу на вратах Никанора.
К этому времени их запасы стали подходить к концу, и так как стража римлян теперь была не очень бдительна, а иудеи, если они были не в плену и не в тюрьме, прятались, как совы, боясь показаться на свет Божий, и их опасаться не было нужды, ессеи решили покинуть свое подземное убежище и попытаться вернуться к берегам Иордана.
Однажды ночью вереница бледных людей (среди них несколько больных, которых несли на носилках) осторожно вышла из подземелья и направилась по дороге к Иерихону. Местность вокруг, всегда довольно пустынная, теперь окончательно вымерла, и они с трудом могли найти пропитание в пути, собирая коренья, деля последние крохи из своих запасов.
Ни при выходе из подземелья, ни в дороге никто не остановил и не потревожил их.
Прибыв в Иерихон, ессеи убедились, что города нет, есть только груда развалин, и, не останавливаясь, пошли к своему бывшему селению. Почти все дома и сады были сожжены и разрушены, но несколько пещер в песчаном холме позади селения — их амбары и склады — остались нетронутыми, и к великой их радости запасы, хранившиеся там, уцелели.
Здесь ессеи временно поселились, принявшись вновь возделывать заброшенные поля, виноградники и отстраивать дома. Но теперь их было почти вполовину меньше прежнего, и работа шла медленно.
Пленника своего Марка они принесли с собой. Рана на голове его теперь зажила, но повреждение колена было так серьезно, что он не мог ходить без костыля и вообще был слаб и беспомощен, как ребенок. Кроме того, душевное состояние его казалось безнадежным, он часами неподвижно просиживал в бывшем садике Мириам, не спуская глаз с того навеса, где прежде располагалась ее мастерская. Он почти ни с кем не говорил, никогда не улыбался и, видимо, неутешно горевал о любимой девушке.
Ходили слухи, что Тит, окончательно разорив и разрушив Иерусалим, двинулся со своими войсками к Кесарии, где зимовал, устраивая великолепные зрелища в амфитеатре, почти ежедневно обрекая на смерть на арене десятки и сотни иудейских пленников. Но Марк не имел возможности, да и не хотел дать знать о себе Титу отчасти из опасения навлечь беду на своих благодетелей ессеев, а отчасти еще и потому, что для римлянина считалось позором быть захваченным в плен живым, как это случилось с ним.
Между тем брат Самуил прибыл в Иерусалим с намерением исполнить поручение Мириам. Там он застал только груды трупов, развалины и стаи хищных птиц. Верный своему обещанию, брат Самуил приложил все старания, чтобы отыскать убежище ессеев, но несмотря на упорство, это ему не удавалось. От тех примет, о которых ему говорила Мириам, уже не осталось и следа, повсюду валялись груды камней и обломков скал, шакалы успели прорыть столько нор, что разобраться в них не было никакой возможности. В конце концов он был схвачен римским патрулем, которому показался подозрительным, и подвергся допросу. После чего его включили в число пленных невольников, работавших над разрушением остатков Иерусалимских стен — Тит решил сравнять их с землей. Здесь он промучился более четырех месяцев, получая только насущный хлеб да бесчисленные побои и брань. Среди его товарищей, работавших подобно ему под кнутом победителей, был один брат-ессей, который сообщил, что их единоверцы вернулись на берега Иордана. Когда Самуилу удалось бежать из-под надзора римлян, он направился прямо в бывшее селение ессеев близ Иерихона. Благополучно прибыв к своим братьям, он осведомился, у них ли еще находится раненый римлянин, префект Марк, к которому он имеет поручение от Мириам, внучки Бенони, прозванной царицей ессеев.
Разузнав о ней все, что мог сообщить Самуил, ессеи сопроводили его в бывший садик Мириам, где Марк проводил целые дни в обществе старой Нехушты, которая теперь ни на шаг не отходила от него. Она первой заметила приближавшегося Самуила.
— Кого ты ищешь? — спросила она.
— Благородного Марка, римского префекта, к которому я имею поручение от Мириам, внучки старого Бенони! — ответил Самуил.
При этих словах и Марк, и Нехушта вскочили на ноги.
— Какое ты представишь тому доказательство? — воскликнул Марк, весь бледный, едва держась на ногах.
— Вот это! — промолвил Самуил, подавая ему кольцо. После этого брат передал все, что было ему поручено, добавив, что у него было собственноручное письмо Мириам к Марку, но его отняли римские солдаты.
— А давно ли ты видел ее? — спросила Нехушта.
— Около пяти месяцев тому назад! — сказал Самуил.
— Около пяти месяцев! А Тит покинул Иудею? — тревожно осведомился Марк.
— Да, я слышал, что он отплыл из Александрии в Рим!
— Женщина, нам нельзя терять ни минуты! — воскликнул Марк. — Тит на пути в Рим!
— Да! — отозвалась Нехушта. — Нам остается только поблагодарить человека, который принес эту весть, и так как мы не в силах вознаградить его за эту услугу, сказать, что Бог вознаградит его за нас!
— Да, пусть боги вознаградят тебя, добрый человек, а мы благодарим от всей души! — сказал Марк и, опережая Самуила, бросился с Нехуштой сообщить радостную и вместе с тем тревожную весть умирающему Итиэлю.
Выслушав их, старец возблагодарил Бога за Его беспредельное милосердие и в ответ на высказанные Марком опасения тихо сказал:
— Бог, спасший ее на вратах Никанора, спасет и от позора на форуме… Но у тебя какая-то просьба, благородный Марк?
— Я прошу братьев ессеев — не ради себя, а ради нее — даровать мне свободу и отпустить немедленно в Рим, чтобы я мог спасти Мириам от продажи на торжище или хоть купить ее, если только не опоздаю!
— Купить себе в невольницы?
— Нет, чтобы даровать свободу!
— Сейчас мы созовем совет и обсудим твою просьбу, — сказал старик.
После взволнованного обсуждения совет ессеев решил даровать Марку свободу и даже снабдить его необходимыми на время путешествия деньгами, поручив передать Мириам их благословение.
После этого Марк и Нехушта сердечно простились со всей общиной ессеев и отдельно со стариком Итиэлем.
— Я умираю, друзья мои, и прежде чем вы прибудете в Рим, меня уже не будет в живых! — проговорил Итиэль. — Передайте Мириам, возлюбленной племяннице моей, что дух мой всегда невидимо будет охранять ее в ожидании радостного свидания в ином, лучшем мире!
Простившись с ним, Марк и Нехушта в ту же ночь на лошадях отправились в Иоппию, где, на их счастье, застали судно, готовившееся к отплытию в Александрию. А в этом крупном портовом городе было немало всяких судов, и на одном из них римлянин и старая ливийка в самый день прибытия в Александрию отплыли в Регий.
* * *
В страшную ночь пожара Иерусалимского храма Халев вместе с Симоном Зилотом и несколькими сотнями других уцелевших защитников храма скрылся в Верхнем городе, где, разрушив за собой мост, еще долго держались последние сыновья иудейского народа. Во время поспешного бегства из горящего храма Халев несколько раз пытался вернуться назад к вратам Никанора и, рискуя жизнью, спасти, если еще не поздно, любимую девушку. Но римляне уже заняли эти врата и мост, который иудеи спешили уничтожить, чтобы отрезать Верхний город от собственно Иерусалима и храма, занятых неприятелем. Тогда у Халева появилась уверенность, что Мириам погибла, и такое горькое отчаяние овладело его душой при мысли об утрате той, которая была ему всего дороже на свете, что в продолжение шести дней он непрестанно искал себе смерти. Но смерть бежала от него. Как назло, кругом умирали сотни и тысячи людей, а он оставался жив. На седьмые сутки Халев получил вести о той, которую оплакивал: одному иудею, долго скрывавшемуся в развалинах храма, удалось бежать в Верхний город. От этого человека Халев узнал, что женщина, прикованная к столбу на вратах Никанора, отдана Титом на попечение одному из военачальников.
С этого момента Халев решил отступиться от дела иудеев и бежать из Верхнего города. Но сделать это было не так-то легко, так как здесь все защитники были наперечет, а Халев был слишком выдающимся борцом, чтобы его исчезновение могло остаться незамеченным. В конце концов он все-таки бежал и, переодевшись в платье убитого крестьянина, ночью добрался до тайника, где у него были зарыты деньги. На эти деньги у встретившегося ему поселянина, получившего от римлян разрешение продавать зелень и овощи в римском лагере, он купил и это разрешение, и овощи и отправился вместо него продавать товар. Таким образом он обходил один за другим лагеря различных легионов, стараясь разузнать, в каком из них находилась иудейская пленница.
Разговорившись с одним воином в долине Кедрона против развалин бывших Золотых ворот, Халев узнал, что в лагере на Масличной горе находилась молодая пленница-еврейка, отданная на попечение старому Галлу самим цезарем Титом и прозванная "Жемчужиной" за ее красоту и драгоценное жемчужное ожерелье, которое носила на шее. От него же Халев узнал, что несколько дней тому назад Галл со своей пленницей и значительной частью сокровищ, взятых в Иерусалимском храме, покинул лагерь и отправился в Тир, откуда должен отплыть, согласно распоряжению Тита, в Рим.
— Быть может, ты пожелаешь отправиться туда продавать свой лук и капусту? — насмешливо добавил римлянин, уловив то волнение, с каким торговец выслушал весть об отъезде иудейской пленницы в Рим.
— Да, пожалуй! Когда вы, римляне, уйдете отсюда, то нам, огородникам, будет плохое житье: здесь после вас, кроме сов и летучих мышей, не останется ни одного живого существа, а летучие мыши и совы — плохие потребители овощей!
— Ты прав! — согласился римлянин. — Цезарь знает, как обращаться с метлой и выметает все начисто! — И он с самодовольным видом указал на развалины храма и Иерусалима. — Так сколько же тебе полагается за эту корзину овощей?
— Ничего не надо, возьми так! — сказал Халев и быстро скрылся в роще олив.
Еще долго смотрел ему вслед римлянин, пытаясь понять, что побудило иудея отдать что-нибудь даром, да еще римлянину, и наконец решил, что, вероятно, этот торговец овощами — возлюбленный или жених "Жемчужины".
Между тем Халев, не теряя ни минуты, за громадные деньги купил коня и во весь опор помчался по холмам и долинам в Тир в надежде застать там Мириам и успеть повидать ее.
Но, увы! Когда он к закату въезжал в Тир, красивая римская галера с белоснежными парусами плавно выходила из гавани в открытое море. У первого встречного он справился, что это за галера, и узнал, что на ней отправляется в Рим римский военачальник Галл с сокровищами Иерусалимского храма.
Горько стало на душе у Халева при мысли, что он прибыл сюда слишком поздно. Но не такой это был человек, чтобы падать духом и признать себя побежденным. По природе своей предусмотрительный и рассудительный, он еще в начале войны, в ту пору, когда успех был на стороне иудеев, побеспокоился все свое недвижимое имущество
обратить в деньги и драгоценные камни, которые зарыл в укромном месте в Тире. Впоследствии он еще несколько раз добавлял к этим скрытым сокровищам новые — его военную добычу, в том числе и один весьма крупный выкуп, полученный за богатого римского всадника, его пленника.
Теперь, отрыв свои сокровища, Халев тщательно упаковал их в тюки персидских ковров, и затем крестьянин, прибывший в Тир по делу о смерти брата, бесследно исчез, а вместо него появился богатый египетский купец Деметрий, который закупил много всякого товара и с первым же отправлявшимся из Тира судном отплыл в Александрию. Здесь он накупил еще больше товара для Римского рынка и нагрузил им галеру, стоявшую в гавани близ Фароса и отправлявшуюся в Сиракузы, а оттуда — в Регий.
Наконец судно вышло в море, держа курс на Крит, но в пути было захвачено сильной бурей и прибито к Кипру, где, несмотря на все усилия купца Деметрия, капитан галеры, а равно и весь его экипаж упорно отказались выйти в море до наступления весны. Перезимовав на Кипре и должным образом отпраздновав весенний праздник Венеры, галера вышла в море и, зайдя на Родос и Крит, а оттуда в Ситеры и Сиракузы на Сицилии, наконец вошла в гавань Регия. Здесь Деметрий перегрузил свой товар на судно, следовавшее в порт
Centum Cellae, оттуда по суше доставил его в Рим, сопровождая лично свой караван.
До Рима было около сорока миль пути. И это было уже почти ничто в сравнении с тем долгим путешествием, которое Халев совершил от Иерусалима до Рима в надежде узнать что-нибудь о Мириам и, если возможно, вырвать ее из рук римлян.
XXI. Цезари и Домициан
Приблизившись к окрестностям Рима, Галл остановился, не желая, чтобы Мириам шла днем по улицам, возбуждая любопытство толпы. В первую очередь он послал гонца разыскать в городе свою супругу Юлию, если она еще жива, — Галл семь лет не видал жены и не имел известий о ней, находясь все время в иудейской армии. Еще не стемнело, когда гонец вернулся, и вместе с ним прибыла Юлия, женщина старше средних лет, седая, но все еще красивая и величественная.
Мириам была растрогана сердечной встречей супругов, так долго не видавших друг друга, причем девушку поразило одно обстоятельство: в то время как Галл, воздевая руки к небу, благодарил римских богов за счастливую встречу, Юлия только воскликнула:
— И я благодарю Бога! — И она коснулась пальцами груди и плеч.
Затем взгляд ее упал на девушку, стоявшую несколько поодаль, и подозрение шевельнулось в ее груди.
— Какими судьбами очутилась эта красивая девушка на твоем попечении, супруг?
— По приказу цезаря Тита, которому я обязан представить ее тотчас по его возвращении в Рим. Она была осуждена на смерть за измену своему народу и за то, что она — христианка!
Теперь Юлия вторично взглянула на девушку:
— Ты действительно этой веры, дочь моя? — И, как бы случайно, сложила руки крестообразно на груди.
— Да, мать! — ответила девушка, повторяя ее жест.
— Хорошо, супруг мой! — обратилась тогда Юлия к мужу. — Не наше дело, в чем она виновата, но теперь бедняжка на твоем попечении, и потому я рада принять ее! — Подойдя к Мириам, стоявшей с поникшей головой, Юлия запечатлела поцелуй на ее лбу.
— Приветствую тебя, дочь моя, столь прекрасная на взгляд и столь несчастная, во имя Того, Которого ты знаешь! — чуть слышно сказала она.
Мириам поняла, что попала к такой же христианке, как и она сама, и возблагодарила Бога — пока цезари правили в Риме, христиане всех народов и всех сословий были единой семьей. Когда стемнело, они вошли в Рим через Аппиевы ворота. Здесь Галл, снабдив женщин надлежащим эскортом, сам со своими солдатами отправился сдавать привезенные им сокровища в государственную сокровищницу. Затем ему требовалось отвести солдат в предназначенные для них казармы. Тем временем Юлия и Мириам пришли к небольшому чистенькому домику, стоявшему на узкой улице над Тибром близ
Porta Flaminia, и здесь Юлия отпустила солдат, сказав, что ручается за сохранность пленницы.
Заперев за собой двери, хозяйка ввела гостью через маленький внутренний двор в опрятную, но скромно обставленную комнату, освещенную висячими бронзовыми светильниками.
— Это мой собственный дом, доставшийся мне после смерти отца, и здесь я жила все эти годы в отсутствие супруга. Небогатое жилище, но в нем ты найдешь мир, спокойствие и безопасность, а быть может, и утешение, дитя мое! — ласково сказала Юлия. — Я тоже христианка, хотя супруг мой еще ничего не знает об этом. Итак, приветствую тебя во имя Христа, Господа нашего.
Затем по знаку Юлии обе женщины опустились на колени и возблагодарили Бога — одна за то, что увидела своего мужа живым и здоровым, а другая за то, что нашла друзей и покровителей в далеком и чуждом ей Риме. После этого Юлия провела девушку в небольшую, опрятную, чисто выбеленную комнатку с каменным полом и белоснежным ложем, приготовленную для нее.
— Тут когда-то спала другая девушка, — подавляя вздох, сказала Юлия. — Живи и будь счастлива, дочь моя!
— Девушку звали Флавия? Это было твое единственное дитя? Не так ли? — спросила Мириам.
— Как, ты это знаешь? Неужели Галл говорил тебе о ней? Он не любит вспоминать об этом!
— Говорил. Он всегда был так добр, да благословит его Господь за все, что он делал для меня! — добавила Мириам.
— И да благословит Господь всех нас, живых и умерших! — сказала Юлия и, поцеловав Мириам родственным поцелуем, удалилась.
На другой день поутру, выйдя из своей комнаты, Мириам застала старого Галла в панцире и при полном вооружении.
— Как это понять, Галл? Ты, в таком одеянии, здесь, в мирном Риме? — спросила девушка.
Тот отвечал ей, что получил приказ немедленно явиться к цезарю Веспасиану, чтобы дать отчет о ходе дел в Иудее и о привезенных сокровищах.
Спустя три часа Галл возвратился и застал обеих женщин, ожидавших его в сильной тревоге, так как от воли цезаря могла зависеть дальнейшая участь Мириам: он мог потребовать ее к себе немедленно и таким образом лишить ее искренних друзей. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Из расспросов мужа Юлия узнала, что цезарь Веспасиан навсегда уволил Галла с военной службы, так как врачи признали его безнадежно хромым до конца жизни. Сверх обычной награды за заслуги цезарь назначил пожизненно половинное содержание. Но старый Галл был опечален тем, что ему больше не бывать в бою.
— Полно тебе, Галл, — сказала Юлия, — тридцать лет ты воевал и проливал кровь. Теперь пора и отдохнуть. Я в твое отсутствие успела сберечь немного денег, на наш с тобой век хватит, и благодаря милостям цезаря мы проживем безбедно. Но скажи, что решил Веспасиан относительно Мириам?
— Когда я доложил о ней цезарю, то Домициан, сын цезаря, из любопытства стал побуждать своего родителя приказать привести ее сейчас же во дворец, и цезарь чуть было не отдал приказание. Но я доложил ему, что девушка эта была очень больна и сейчас еще нуждается в уходе. Я сказал, что если цезарю угодно, жена моя будет опекать ее до возвращения цезаря Тита, который считает девушку своей военной добычей. Домициан снова хотел что-то возразить, но цезарь остановил его, заявив:
— Эта иудейская девушка не твоя невольница, Домициан, и не моя, она пленница твоего брата Тита, пусть же остается у этого доблестного воина, которому Тит поручил ее! — Он махнул рукой в знак того, что вопрос решен, и стал говорить о другом.
— Итак, Мириам, до возвращения Тита ты останешься у нас! — сказала Юлия.
— До возвращения Тита, а затем? — спросила Мириам.
— А там одни боги знают, что будет, — досадливо отозвался Галл. — Но до того времени ты, Мириам, должна дать мне честное слово, что не сделаешь попытки бежать из моего дома, тогда можешь считать себя здесь свободной; помни, я отвечаю за тебя головой!
— Будь спокоен, Галл! Куда мне бежать?! Да и потом, я скорее соглашусь умереть, чем навлечь на тебя хотя бы самую малую беду!
Так прожила Мириам в доме Галла и Юлии целых шесть месяцев, и если бы не мысль об ожидающей ее участи, то она могла бы считать себя счастливой среди этих добрых людей, любивших ее, как родное дитя.
Иногда Юлия брала девушку с собой побродить по улицам Рима, и, затерявшись в толпе, Мириам видела богатых патрициев в колесницах или на конях, или в носилках и паланкинах, на плечах рабов, — таких жирных, откормленных, наглых и самодовольных. Видела и суровых, с жестким выражением лица и гордой осанкой государственных людей, сановников и судей. Встречала закаленных в бою, грубых, жестоких воинов. Наблюдала разнузданных юношей в ярких, крикливых одеждах, надушенных франтов с наглым взглядом и пренебрежительной улыбкой. С невольным трепетом размышляла бедная девушка о том, что придет день, и она станет невольницей одного из этих людей.
Однажды, переходя через площадь, Юлия и Мириам должны были остановиться, чтобы дать дорогу целой веренице пышно и пестро одетых рабов с длинными тростями в руках, расчищавших кому-то дорогу, за слугами шли ликторы со своими фасциями
[189], а за ними следовала великолепная колесница, запряженная белыми лошадьми, которыми правил небольшого роста красивый кудрявый возница. На самой же колеснице не сидел, а стоял — для того, чтобы толпа могла лучше видеть его — высокий молодой человек с румяным лицом, в царском одеянии, с как бы потупленным от смущения взором. Наблюдательный глаз легко мог уловить, что он все время пытливо разглядывал толпу своими бледно-голубыми, точно выцветшими глазами из-под опущенных век, лишенных ресниц. На секунду взгляд этих тусклых голубых глаз остановился на Мириам, и она угадала, что послужила поводом к какой-то грубой шутке этого краснощекого юноши — его возница не мог удержаться от смеха. Мириам почувствовала, что ненавидит этого человека всей душой.
— Кто этот румяный молодой человек? — спросила она у Юлии.
— Кто же, как не Домициан, сын одного цезаря и брат другого, ненавидящий одинаково обоих! Дурной человек, которого все боятся и никто не любит!
Так шло время. Галл постоянно справлялся у прибывающих из Иудеи воинов о Марке, но никто не видел его, даже не слышал ничего, так что Мириам решила, что его, вероятно, нет уже в живых.
Однако в своей горькой судьбе бедная девушка находила утешение в молитве — в царствование Веспасиана христиане не терпели гонений и могли свободно вздохнуть. Мириам вместе с Юлией часто ночью посещали катакомбы на Аппиевой дороге и там получали благословение священнослужителя. Хотя в то время святые апостолы Петр и Павел уже претерпели мученическую смерть, но они оставили после себя многих последователей, ставших теперь наставниками, и христианская община в Риме росла и увеличивалась с каждым днем. Со временем Галл узнал, что жена его — христианка. Сначала он был как бы пришиблен этим известием, но затем, когда ему изложили истины христианского учения, стал слушать их с вниманием и даже с непритворным сочувствием, а потом сказал, что Юлия, конечно, в таких летах, когда сама может судить, что для нее лучше.
Наконец в Рим прибыл Тит. Сенат, который еще задолго до его приезда объявил о том, что цезарь заслужил триумф, встретил его за городом и с соблюдением известных, издревле установленных правил сообщил ему о своем решение. Кроме того было решено, что его триумф разделит с ним цезарь Веспасиан, его отец, отличившийся своими подвигами в Египте. Так что этот триумф, как говорили, должен стать величайшим торжеством, какое когда-либо видел Рим.
По приезде в Рим Тит поселился в своем дворце и недели три прожил как частный гражданин, так как сильно нуждался в отдыхе. Однажды утром Галла потребовали во дворец. Вернувшись оттуда, он потирал руки, улыбался и старался казаться очень веселым и довольным.
— Что такое, супруг мой? — спросила Юлия, знавшая, что это дурной признак.
— Ничего, ничего, милая… Только наша Жемчужина должна сегодня явиться со мной во дворец к цезарям Веспасиану и Титу, которые желают ее видеть. Надо решить, какое место она займет в триумфальном шествии. Если ее найдут достаточно красивой, то поведут отдельно, в самом начале процессии, перед колесницей Тита. Что же ты не радуешься, жена? А какой дивный наряд готовят, все будут заглядываться на нее: на груди у нее должно быть изображение ворот Никанора, вышитое самым искуснейшим образом.
Мириам залилась слезами.
— Полно, девушка, не надо слез, — строго остановил ее Галл. — Чего тебе бояться? Это не более чем продолжительная прогулка при криках восторженной толпы, а затем последует то, что предназначил для тебя твой Бог! Ну, а пока собирайся! Пора на смотр к цезарям, нас ждут!
После обеда Мириам в закрытых носилках понесли во дворец, с ней отправились Юлия и Галл. Но ее носилки намного опередили носилки супругов, и рабы тотчас же поспешили высадить и провести девушку в большой приемный зал, наполненный воинами и патрициями, ожидавшими аудиенции.
— Смотри, это Жемчужина Востока! — сказал кто-то, и все, столпившись вокруг, стали пристально рассматривать ее, громко критикуя рост, лицо, фигуру, обсуждая ее достоинства.
— Люций говорит, что она — совершенство! Значит, так и есть!
— Да, конечно, вы посмотрите только, какое у нее тело, твердое и упругое! Видите, мой палец не оставил даже следа!
— Но зато мой кулак оставляет след! — послышался в этот момент гневный бас, и в следующий момент кулак Галла врезался меж глаз ценителя женской красоты с такой силой, что тот покатился на пол, и кровь ручьем хлынула из носа.
Большинство присутствующих захохотали, а Галл, взяв Мириам за руку, пошел вперед, говоря:
— Дорогу, друзья, дорогу! Я должен представить ее цезарю с ручательством, что ни один мужчина не дотронулся до нее даже пальцем. Дорогу, друзья, а если этот франт, что валяется на полу, пожелает рассчитаться со мной, то он знает, где найти Галла. Мой меч нанесет ему метку лучше, чем кулак!
Толпа, видимо, одобряя поведение Галла, с шутками и извинениями расступилась, давая дорогу. Пройдя ряд красивых залов и вестибюлей, они остановились у большой арки, задернутой драгоценной занавесью, у которой стояли два офицера. Одному из них Галл что-то сказал, и тот, выйдя из зала, вскоре вернулся, пригласив их следовать за собой в большую круглую комнату, высокую, светлую и прохладную; свет в ней падал сверху.
Здесь находились три человека: Веспасиан, которого нетрудно было узнать по его крупному, спокойному лицу и по волосам с сильной проседью, Тит, сын его, "Любимец Человечества", тонкий, деятельный, энергичный, выглядевший немного аскетом, но с приятным выражением темных серых глаз и саркастической усмешкой, мелькавшей в углах губ, и Домициан, наружность которого уже была описана. Ростом значительно выше отца и брата, он был одет роскошнее их и смотрел надменно и самодовольно. Перед цезарями стоял церемониймейстер, предлагая на их усмотрение проекты триумфального шествия и отмечая на табличках их желания и изменения в плане.
Кроме церемониймейстера здесь присутствовали хранитель сокровищницы, несколько военачальников и наиболее приближенные из друзей Тита.
Веспасиан поднял голову и взглянул на вошедших.
— Привет тебе, достойный Галл! — приветствовал он ласковым, дружеским тоном человека, проведшего, как и он, большую половину жизни в военном лагере. — И жене твоей, Юлии, тоже привет! Так вот она, эта "Жемчужина", о которой так много говорят! Что же, я, конечно, не ценитель и не знаток женской красоты, а все же должен сознаться, что эта иудейская девушка заслуживает свое прозвище. Узнаешь ее, Тит?
— Нет, отец! Когда я ее видел в последний раз, она была худа, бледна, измучена, но теперь я согласен с тобой, она заслуживает наилучшего места в шествии. А затем, вероятно, пойдет за весьма высокую цену, так как и жемчужное ожерелье пойдет с ней в придачу, и также стоимость ее весьма значительного имущества в Тире и иных местах, которые она, в виде особой милости, унаследует после своего деда, старого рабби Бенони, одного из членов синедриона, погибшего добровольно в пламени Иерусалимского храма!
— Как же может невольница наследовать имущество, сын мой? — спросил Веспасиан.
— Не знаю! — ответил Тит, улыбаясь. — Быть может, Домициан сумеет объяснить тебе это, ведь он, говорят, изучал законы. Но я так решил и так приказал!
— Невольница, — сказал Домициан, — не имеет никаких прав и не может владеть никакой собственностью, но цезарь Востока, конечно, может объявить, что известные земли и имущество перейдут вместе с личностью невольницы к тому, кто предложит за нее наивысшую сумму на торгах. Так, вероятно, и пожелал сделать, если я не ошибаюсь, цезарь Тит, мой брат?
— Да, именно! — сказал Тит спокойно, хотя краска бросилась ему в лицо. — А разве не достаточно моей воли?
— Покоритель и завоеватель Востока, разрушитель твердыни Сиона, истребитель бесчисленных племен фанатиков, заблуждающихся фанатиков, для чего твоей воли может быть не достаточно? — возразил Домициан. — Но прошу милости, цезарь! Ты велик — так будь же и великодушен! — И насмешливым движением он опустился на одно колено перед Титом.
— Какой милости хочешь ты, брат, от меня? Ты знаешь, что все мое будет принадлежать тебе!
— Ты уже даровал мне твоими драгоценными словами, Тит! Из всего, что ты имеешь, желаю только эту "Жемчужину Востока", которая околдовала меня своей красотой. Я хочу только ее! А имущество в Тире или где бы то ни было можешь оставить себе, если хочешь! — Веспасиан приподнял брови, но прежде чем успел вымолвить слово, Тит поспешил ответить брату сам:
— Я сказал, Домициан, что все мое будет принадлежать тебе, но эта девушка не моя, а потому слова мои к ней не относятся. Я издал указ, что сумма, вырученная от продажи пленницы, будет разделена поровну между ранеными солдатами и бедняками Рима, значит, невольница принадлежит им, а не мне!
— О, добрейший Тит! Неудивительно, что легионеры боготворят тебя, если ты не можешь даже для родного брата обделить их одной невольницей из тысячи! — насмешливо воскликнул Домициан.
— Если ты желаешь получить эту девушку, то кто же мешает тебе купить ее на торгах?! Это мое последнее слово!
Тут Домициан пришел в бешенство, его напускное почтение к брату мигом исчезло, он выпрямился во весь рост и повел кругом своими злыми выцветшими глазами.
— Взываю к тебе, Цезарь, на цезаря малого, к тебе, Цезарю Великому, на убийцу и истребителя благородного, мужественного племени, к тебе, Завоевателю Вселенной! Этот Тит сейчас говорил, что все его будет моим, а когда я прошу у него одну пленницу, отказывает мне. Прикажи ему, прошу тебя, держать свое слово!
Присутствующие взглянули на Веспасиана. Дело становилось серьезным. Тайная вражда завистливого Домициана к брату была давно известна всем, но до этого времени он старался скрывать ее, теперь же по пустячному случаю она вдруг выплыла наружу и проявилась на глазах у всех.
Лицо Тита приняло жестокое и суровое выражение, как у статуи оскорбленного Иова.
— Прикажи, отец, прошу тебя, — сказал он медленно и твердо, — чтобы брат мой не смел более говорить мне того, что для меня оскорбительно! Прикажи ему также перестать обсуждать мою волю и мои распоряжения, как в малом, так и в большом. Пока он не цезарь, не подобает ему судить дела цезаря.
Веспасиан обвел вокруг себя беспокойным взглядом, как бы ища выхода — и не находя его. Он предчувствовал за этой ссорой нечто глубокое и серьезное.
— Сыновья мои, вас только двое, и оба — вместе или один за другим — вы должны наследовать царства половины вселенной. Плохо, если между вами возникнет разлад, вражда приведет к вашей гибели и гибели вашего царства и подвластных вам народов. Примиритесь, прошу вас! Ведь вам обоим всего довольно, всего хватит с избытком. А об этом деле таков мой суд: как вся военная добыча иудейского народа, эта девушка — законная и неотъемлемая собственность Тита. Тит, который гордится тем, что никогда не отменял и не изменял ни одного своего плана, решил ее продать, а вырученные от продажи деньги отдать раненым солдатам и бедным. Следовательно, она уже действительно не принадлежит ему, и он не может распоряжаться ею, даже в угоду брату. Я, как и Тит, говорю тебе: если хочешь владеть, купи ее на торгах!
— Э, да я и куплю ее! Но клянусь, рано или поздно Тит заплатит за нее такой ценой, которая покажется ему слишком дорогой! — И повернувшись, Домициан вышел из зала в сопровождении своего секретаря и приближенных офицеров.
— Что он хотел этим сказать? — спросил Веспасиан, тревожно глядя ему вслед.
— Он хотел сказать… — начал Тит. — Ну, да время и судьба покажут миру, что он хотел сказать. Что же касается тебя, "Жемчужина Востока", то ты столь прекрасна, что займешь одно из лучших мест во время триумфа, а затем желаю, ради тебя самой, чтобы нашелся в Риме такой человек, который на торгах перебил бы тебя у Домициана! — С этими словами Тит сделал знак рукой, что аудиенция окончена. Галл с пленницей удалились.
XXII. Триумф
Прошла неделя — наступил канун триумфа. После полудня швеи принесли Мириам наряд, который она должна была надеть завтра. Наряд был поистине великолепен: из дорогого белого шелка, весь вышитый серебром и жемчугом, с изображением ворот Никанора, но при всем своем великолепии платье было так низко вырезано на груди и на плечах, что Мириам посчитала позорным для себя надеть его.
— Ничего, ничего! — успокаивала ее Юлия. — Они сделали это для того, чтобы толпа могла видеть жемчужное ожерелье, из-за которого ты получила свое прозвище "Жемчужина"!
Так говорила добрая женщина, но в душе проклинала развратную толпу, которая могла наслаждаться позором бедной, беззащитной девушки.
Галл получил предписание, куда и к какому времени представить вверенную ему девушку и кому ее сдать. Посланный, доставивший предписание, принес еще сверток: в нем оказался драгоценный золотой пояс с аметистовой застежкой, на которой была сделана надпись: "Дар Домициана той, которая завтра будет его собственностью!"
Мириам отшвырнула от себя этот драгоценный пояс, как будто он унижал ее.
— Я не надену его! — воскликнула она. — Сегодня я еще принадлежу себе!
Вечером, когда уже стемнело, Мириам посетил епископ Кирилл, глава христианской церкви в Риме, бывший некогда другом и учеником апостола Петра.
Пока Галл сторожил, чтобы никто не вошел невзначай и не потревожил их, Кирилл долго утешал и ободрял бедную девушку, затем, благословив Мириам и напутствовав ее словами утешения, он простился с ней.
— Я должен теперь покинуть тебя, дочь моя, но на мое место заступит невидимо Тот, Кто не покинет тебя до конца и спасет, как спасал уже несколько раз. Веришь ли этому?
— Верю, отец! — убежденно и искренне ответила Мириам. И действительно, в те времена, когда еще были люди, знавшие и видевшие самого Иисуса Христа, когда слова его еще были живы в их памяти и звучали над миром, глубокая убежденная вера Его последователей была достаточно сильной, чтобы заставить их временами ощущать Его присутствие на земле.
В эту ночь во многих катакомбах Рима возносились горячие молитвы за Мириам. Она, успокоенная и утешенная, спала крепким сном до самого рассвета. На рассвете Юлия разбудила ее, нарядила в великолепные одежды и, когда все было готово, со слезами простилась:
— Дитя мое, ты мне стала дорога, как дочь, а теперь я не знаю, увижу ли тебя когда-нибудь!
— Быть может, даже очень скоро, а если нет, то призываю благословение Бога на тебя и на Галла, которые любили и берегли меня, как родную!
— И которые надеются и впредь оберегать тебя, дорогая! — сказал подошедший Галл. — Клянусь римскими орлами, пусть Домициан остерегается того, что он задумал! Кинжал мщения может пронзать и сердца князей!
— Но пусть то будет не твой кинжал, Галл, — сказала ласково Мириам, — надеюсь, тебе не будет надобности мстить!
Во двор внесли носилки, в которых поместилась Мириам с Галлом, чтобы отправиться к месту сборища. Было еще темно, повсюду мигали факелы и огни, изо всех домов доносился шум голосов, местами толпа была до того густа, что солдаты с трудом прокладывали дорогу для паланкина. После довольно продолжительного пути носилки остановились наконец у ворот большого здания, и Мириам пригласили выйти. Здесь девушку ожидали несколько должностных лиц, которые приняли ее от Галла, выдав ему расписку в получении ее, точно ценной вещи. Получив расписку, Галл повернулся и вышел, не простившись с ней и даже не взглянув на нее.
— Ну, пойдем, что ли, поворачивайся! — сказал один из служителей.
— Эй, ты, слышишь, поосторожнее с этим сокровищем! Это — "Жемчужина"! Та пленница, из-за которой поссорились цезари с Домицианом, теперь о ней весь Рим говорит. Помни, что теперь многие наши патрицианки стоят меньше, чем она сейчас! — заявил кто-то служителю.
Тогда раб с низким почтительным поклоном попросил Мириам следовать за ним в приготовленное помещение. Она послушно последовала через толпу пленных в небольшую комнату, где ее оставили одну. Снаружи до нее доносились звуки голосов, прерываемые по временам приглушенными рыданиями, вздохами и жалобными воплями. Но вот дверь отворилась, слуга внес кувшин молока и хлеб. Мириам была этому очень рада, так как почувствовала, что силы ее нуждаются в поддержке. Но едва только она принялась за еду, как явился раб в ливрее императорского двора и поставил перед нею поднос, на котором в серебряных сосудах и на серебряных блюдах находились самые изысканные яства и напитки.
— "Жемчужина Востока", — сказал он, — господин мой, Домициан, посылает тебе привет и вот этот дар: эти ценные сосуды и блюда чистого серебра твои, их сохранят для тебя, а сегодня вечером ты будешь ужинать на золотых тарелках!
Мириам ничего не ответила, но едва только раб вышел, как она ногой опрокинула все серебряные сосуды и блюда и продолжала есть хлеб и пить молоко из глиняного кувшина. Вскоре явился офицер и вывел ее наружу, на большую квадратную площадь. Солнце уже взошло, и она ясно увидела перед собой великолепное, грандиозное здание, а перед ним — весь римский сенат в богатых тогах и лавровых венках и множество вооруженных всадников в блестящих доспехах. Перед зданием располагались длинные величественные колоннады, занятые знатными дамами, а впереди стояли два слоновой кости кресла, никем не занятые. По обе стороны кресел, насколько можно было разглядеть, тянулись бесконечные ряды войск. И вот из колоннады в богатых шелковых одеждах и с лавровыми венками на голове появились цезари Веспасиан и Тит в сопровождении Домициана и их свиты. Солдаты при виде их разразились громкими криками, и голоса их, сливаясь в общий рев, подобно рокоту моря, долгим раскатом звучали в воздухе, пока Веспасиан не подал рукой знак смолкнуть.
Цезари заняли свои места и, среди всеобщей тишины, накрыв головы плащами, казалось, произносили тихую молитву. Затем Веспасиан встал и, выступив вперед, обратился с речью к солдатам, благодаря их за мужество и воинские подвиги и обещая награды. Когда он закончил, его речь снова приветствовали громкие крики, после чего легион за легионом прошли мимо императоров туда, где для них был приготовлен богатый пир.
Затем цезари и свита удалились, и церемониймейстеры стали выстраивать процессию. Ни начала, ни конца этой процессии Мириам не могла видеть, она заметила только, что впереди нее вели около двух тысяч пленных иудеев, связанных по восемь в ряд, за ними шла она одна, а за нею, также один, но в сопровождении двух стражей, в, белой одежде и пурпурном плаще, с вызолоченной цепью на шее и кандалами на руках, шел знаменитый иудейский военачальник Симон, сын Гиора, тот самый свирепый воин, которого иудеи пустили в Иерусалим, чтобы одолеть зилота Иоанна Гисхальского. С того самого дня, когда Симон заседал в синедрионе и в числе других осудил Мириам на страшную смерть, девушка не видела его; несмотря на это, теперь, когда судьба снова столкнула их, он сразу узнал ее.
Вскоре торжественная процессия двинулась по Триумфальному пути.
За пленными иудеями, за "Жемчужиной Востока" и Симоном несли на подставках и столах золотую утварь и сосуды Иерусалимского храма, золотые семисвечники, светильники, а также и священную книгу иудейского закона. Далее следовали люди, несущие высоко над головой богинь победы из слоновой кости и золота. Когда это шествие подошло к
Porta Triumphalis, Триумфальным воротам, в него вступили цезари, каждый в сопровождении своих ликторов, фасции которых были увиты лаврами.
Впереди двигался цезарь Веспасиан на великолепной золотой колеснице, запряженной четверкой белоснежных коней, которых вели под уздцы солдаты-ливийцы. За спиной цезаря стоял чернокожий раб в темной одежде, чтобы отвращать дурной глаз и влияние завистливых божеств.
Раб держал над головой императора золотой венок из лавровых листьев и время от времени наклонялся к его уху, шепча знаменательные слова:
Respice post te, hominem memento te[190].
За Веспасианом, цезарем-отцом, следовал Тит, цезарь-сын, на блестящей колеснице с изображением Иерусалимского храма, охваченного пламенем.
Подобно отцу, он был одет в
toga picta palmata — расшитую золотом тогу и тунику, окаймленную серебряными листьями. В правой руке он держал лавровую ветвь, а в левой — скипетр. За его спиной также стоял раб, державший над ним лавровый венок и нашептывавший те же слова.
За колесницей Тита, вернее, почти на одной линии с ней, в богатейшем наряде ехал верхом на великолепном коне Домициан, за ним трибуны и всадники, затем легионеры, числом около пяти тысяч, с копьями, увитыми лаврами.
Медленно продвигаясь вперед, процессия приближалась к храму Юпитера Капитолийского. Десятки тысяч людей толпились на пути шествия, окна и крыши домов были переполнены зрителями, громадные трибуны, наскоро воздвигнутые из досок, были сплошь заполнены народом. Куда ни падал взор, всюду волновалось нескончаемое море голов, так что в глазах начинало рябить. Вдали это море было спокойным и безмолвным, но едва приближалась процессия, как оно начинало волноваться, поднимался шум, подобный рокоту волн, постепенно переходивший в настоящую бурю и потрясавший воздух, словно раскаты грома.
Время от времени шествие останавливалось — либо кто-нибудь из пленных падал от изнеможения, либо другие участники чувствовали потребность подкрепить силы несколькими глотками вина. Тогда крики толпы смолкали, и зрители начинали обмениваться критическими замечаниями, едкими шутками и насмешками над виденным Мириам невольно уловила замечания относительно себя: почти все люди знали ее под именем "Жемчужины Востока" и без церемоний указывали друг другу на ее жемчужное ожерелье; многим была отчасти знакома ее печальная история, и они всматривались в изображение ворот Никанора на ее груди; большинство же цинично разбирали ее красоту, передавая из уст в уста слух о Домициане и его ссоре с цезарями, а также о выказанном им намерении купить ее на публичных торгах.
Близ бань Агриппы на улице дворцов шествие остановилось. Внимание Мириам было привлечено величественного вида дворцом, все окна которого были закрыты ставнями, а кровля и крыльцо безлюдны и ничем не украшены, в отличие от всех остальных зданий и домов на пути шествия.
— Чей это дворец? — спросил кто-то из толпы.
— Он принадлежит одному богатому патрицию, павшему в Иудее, и теперь заперт — неизвестно, кто будет его наследником!
Глухой стон и громкий смех отвлекли внимание Мириам от этого разговора. Оглянувшись, она увидела, что Симон, измученный и изможденный, лишился чувств и упал лицом на землю. Стражи, забавлявшиеся все время тем, что стегали его плетьми для увеселения толпы, теперь прибегнули к тому же средству, чтобы привести его в чувство. Мириам с болезненно сжавшимся сердцем отвернулась от этого возмутительного зрелища и увидела перед собой высокого человека в богатой одежде восточного купца, стоявшего к ней спиной и спрашивавшего у одного из церемониймейстеров: "Правда ли, что эта девушка, "Жемчужина", будет продаваться сегодня на публичных торгах на форуме?" Получив утвердительный ответ, незнакомец скрылся в толпе.
Теперь Мириам впервые за этот день почувствовала, что падает духом, что мужество покидает ее, и при мысли о той судьбе, которая ожидала ее сегодня вечером, у нее возникло желание упасть обессиленной, изнемогающей на землю и не подниматься до тех пор, пока плети погонщиков не добьют ее на месте. Но вдруг, как луч света во мраке, сладкое чувство надежды проникло в ее грудь, она стала искать среди окружающих ее лиц то, которое могло ей внушить вновь эту бодрость. Но не в толпе ей следовало искать этот источник внезапной светлой надежды. Вот взгляд ее случайно остановился на том мраморном дворце по левую ее руку, и ей показалось, что одно из окон этого дворца, которое раньше было закрыто ставнями, теперь открыто, но задернуто изнутри тяжелой голубой шелковой занавесью. Вдруг тонкие темные пальцы показались в складках этой занавеси, и сердце Мириам почему-то дрогнуло. Теперь она не спускала глаз с этого окна. Занавесь медленно разделилась, и в окне появилось лицо темнокожей старой женщины с седыми как лунь волосами, красивое и благородное, но скорбное. Мириам чуть не лишилась сознания — то было дорогое лицо Нехушты, которую она считала навсегда потерянной для себя.
Мириам не верила своим глазам, ей думалось, что это видение — игра ее расстроенного воображения. Но, нет! Вот Нехушта осенила ее крестом и, приложив палец к губам в знак молчания и осторожности, скрылась за голубой занавесью. У Мириам подкашивались ноги, и она чувствовала, что сейчас упадет, что не в силах сделать ни шагу, а между тем ликторы уже понукали идти вперед. В этот момент какая-то старая женщина из толпы поднесла к ее губам чашу с вином, грубо промолвив:
— Выпей, красавица! Твои бледные щеки порозовеют, и знатным людям веселее будет смотреть на тебя!
Готовая оттолкнуть чашу, Мириам взглянула на говорившую и узнала в ней христианку, часто молившуюся вместе с ней в катакомбах. Она послушно сделала несколько глотков и, с благодарностью взглянув на старуху, продолжала идти вперед.
За час до заката шествие, миновав бесконечное множество улиц, украшенных колоннами и статуями, поднялось на крутой холм, где возвышался великолепный храм Юпитера Капитолийского. При подъеме на холм стражи схватили Симона и, волоча за золоченую цепь, увели куда-то из рядов процессии.
— Куда и зачем они тебя уводят? — спросила Мириам.
— На смерть! — мрачно ответил он. — Я так желаю ее!
Цезари сошли со своих колесниц и встали на вершине лестницы у алтаря, на остальных ступенях позади них становились по порядку другие участники триумфа. Затем наступило продолжительное ожидание чего-то, но чего, Мириам не знала. Вдруг показались люди, бегущие по направлению от форума, для которых в толпе царедворцев была предусмотрительно оставлена свободная дорога. Один из людей, бежавший впереди всех, нес какой-то предмет, завернутый в материю.
Представ перед цезарями, он сбросил ткань и поднял перед ними вверх, так что мог видеть весь народ, отрубленную седую голову Симона, сына Гиора.
Этим всенародным убийством мужественного неприятельского полководца завершался триумф римлян. При виде этого кровавого доказательства трубы загудели, знамена стали развеваться высоко в воздухе, а из полумиллиона глоток вырвался громкий крик торжества, крик толпы, опьяненной своей славой, своей жестокой местью!
Затем перед алтарем всесильного божества цезари принесли жертвы благодарности за дарованную им и их оружию победу.
Так завершился триумф Веспасиана и Тита, а вместе с ним и печальная история борьбы иудейского народа против железного клюва и когтей римского орла.
XXIII. Невольничий рынок
Незадолго перед рассветом в самый день триумфа, в тот момент, когда паланкин, где находилась Мириам, в сопровождении Галла и стражи проходил мимо храма Исиды, в город въезжали на измученных конях двое всадников, одним из которых была женщина под густым покрывалом.
— Судьба благоприятствует нам, Нехушта! — произнес мужчина взволнованным голосом. — Мы, по крайней мере, не опоздали ко дню триумфа! Видишь, войска собираются у садов Октавиана!
— Да, да, господин, не опоздали, но скажи, куда мы теперь направимся и что станем делать? Быть может, ты пожелаешь явиться Титу?
— Нет, женщина! Я не знаю, какой прием ожидает меня, пленника иудеев!
— Но ведь ты был пленен в бессознательном состоянии, благородный Марк, и не виноват в этом!
— Конечно, но закон гласит, что ни одни римлянин не должен поддаваться врагу, а будучи пленен во время бесчувствия, должен заколоть себя, придя в сознание, как должен был сделать и я, и что я и сделал бы, увидя себя в руках иудеев. Но ты знаешь, что все сложилось иначе. Однако, если бы не Мириам, я не задумываясь наложил бы на себя руки. Теперь же постараемся добраться до моего дома близ бань Агриппы. Триумфальное шествие должно пройти перед окнами этого дома, и если Мириам будет в числе пленниц, то мы увидим ее, если же ее не будет, то или она умерла, или отдана цезарем в дар кому-нибудь из его друзей!
Здесь толпа была так велика, что они с трудом прокладывали себе путь, пока наконец Марк не остановился перед мрачного вида мраморным зданием на
Via Agrippa — Агрипповой дороге.
Дом этот казался совершенно вымершим. Посмотрев на запертые наглухо ставни и двери, Марк объехал кругом и постучался в боковую калитку дома. Долго никто не отзывался, но наконец сквозь узкую щель раздался дребезжащий старческий голос:
— Уходите! Здесь никто не живет. Это дом Марка, павшего на иудейской войне. Кто ты такой, что пришел тревожить меня?
— Отвори, Стефан! — повелительно произнес Марк. — Что ты за слуга, если не узнаешь своего господина?
Маленький сморщенный старичок в коричневой одежде писца глянул в щель на говорившего и, всплеснув рукам", в радостном удивлении воскликнул:
— Клянусь копьем Марса, да это сам благородный Марк! Добро пожаловать, господин мой, добро пожаловать!
Нехушта ввела коней во двор, затем вернулась к калитке и заперла ее на все засовы.
— Почему же ты думал, Стефан, что я убит?
— Потому, господин, что о тебе не было вестей, а так как я знал, что ты никогда не опозоришь ни чести своего славного имени, ни римских орлов, которым служишь, допустив, чтобы тебя взяли в плен, то решил, что ты с честью пал в бою!
— Слышишь, женщина, что говорит мой слуга и вольноотпущенный? — обратился Марк к Нехуште. — Тем не менее, Стефан, то, что и ты, и я считали невозможным, случилось: я был захвачен в плен, хотя не по своей вине!
— О, утаи это, господин, от всех, утаи! Двое таких же несчастных осуждены идти нынче в шествии триумфа со связанными за спиной руками и позорной доской на груди, надпись на которой гласит: "Я — римлянин, который предпочел позор смерти!" И тебе, господин, может грозить та же участь!
— Молчи, старик! — воскликнул Марк, весь бледный. — Молчи и прикажи рабам приготовить ванну и обед: мы нуждаемся и в омовении, и в питании!
— Рабов здесь нет: я отослал их на работы в поля, а лишних продал. Здесь остались только я да одна старая невольница, которая все приготовит!
— А деньги у нас есть?
— О, денег много, я даже не знаю, куда их девать!
— Они могут мне понадобиться сегодня! — сказал Марк. Старик поклонился и вышел.
Время было около полудня. Марк, выкупавшийся, натертый благовонными маслами, одетый во все новое, стоял теперь в одном из великолепных залов своего дома и смотрел сквозь просвет в ставне на двигавшееся мимо окон торжественное шествие триумфа.
К нему подошла Нехушта, переодетая в чистые белые одежды, омывшаяся и прибравшаяся после продолжительного пути.
— Узнала ты что-нибудь о ней, Нехушта? — спросил Марк.
— Кое-что, господин! Она должна следовать перед колесницей триумфатора, и затем ее продадут на торгах в форуме. Из-за нее, говорят, произошла страшная ссора между цезарями и Домицианом, который хотел получить ее себе в дар!
— Ссора из-за нее? Боги, вы восстали против меня, если дали мне в соперники Домициана! — воскликнул Марк.
— Почему, господин? Твои деньги не хуже его денег!
— Я отдам за нее все до последнего обола
[191], но это не спасет меня от ненависти и мести Домициана!
— К чему тревожиться раньше срока?! В свое время успеешь нагореваться! — сказала Нехушта.
Между тем мимо них тянулось бесконечною вереницей торжественное шествие: колесницы с изображением сцен взятия Иерусалима, фигуры Виктории, богини победы, драгоценные вавилонские гобелены, золотая утварь Иерусалимского храма, модели судов и кораблей, взятых у неприятеля, толпы пленных и те двое несчастных римских воинов, плененных иудеями, о которых говорил Стефан. Один из них грубый, суровый воин с громадной черной бородой, смотрел зверем и равнодушно относился к ругани толпы; другой же, голубоглазый, с тонкими благородными чертами лица, по-видимому, доходил до безумия от злобных издевательств народа. Он дико озирался, как бы ища выхода, лицо его выражало невыносимую муку. Вдруг какая-то женщина из толпы, подняв черепок, швырнула им в лицо несчастного со словами: "Трус! Собака, а еще римлянин!" Этого позора он не мог вынести, его блуждавшие глаза остановились, он обернулся и громко крикнул:
— Я не трус! Я своей рукой убил десятерых врагов, и пять из них — в бою один на один! Я не трус, на меня напали пятнадцать человек, когда я был ранен, и одолели, а когда я очутился в тюрьме безоружным, я хотел удавиться, но подумал о жене и детях и остался жить. А теперь я умру, и пусть кровь моя падет на ваши головы!
И прежде, чем кто-либо успел его упредить, он кинулся под колеса громадной колесницы, запряженной восемью белыми быками, и был раздавлен на месте.
— О-о! — застонал Марк и закрыл лицо руками. Нехушта, воздевая руки, молилась за душу несчастного и за эту дикую бесчеловечную толпу, которая теперь восхищалась подвигом, признавая его все же доблестным римлянином.
Пока убирали тело и приводили все в надлежащий порядок, процессию остановили. Против дома Марка за толпой пленных отдельно шла девушка в роскошном наряде, шитом золотом и серебром, с низко опущенной головой, вся залитая яркими лучами солнца, с дорогим жемчужным ожерельем на шее.
— Смотрите! Смотрите! — кричала толпа. — Это "Жемчужина Востока"!
— Видишь, господин?! — воскликнула Нехушта, схватив
Марка за плечо. — Это она!
Марк задрожал при виде той, которую любил больше всего на свете.
— Как она истомлена и измучена! Душа ее исстрадалась, а я должен стоять здесь и смотреть на нее, ничем не смея помочь, не смея показаться! — стонал он.
Нехушта оттолкнула его и, встав на его место и осторожно раздвинув ставни и голубые занавеси окна, на одно мгновение выглянула так, что ее можно было видеть с улицы.
— Она заметила меня и узнала! — проговорила Нехушта, задергивая занавеси и закрывая ставни. — Теперь она знает, что здесь, в Риме, у нее друзья!
— Я хочу, чтобы она видела и меня! — сказал Марк.
— Поздно! Шествие уже тронулось! Да она и не в силах была бы сдержать волнения при виде тебя!
Марк занял теперь свое прежнее место у просвета ставень и не спускал глаз с Мириам, пока та не скрылась вдали.
Солнце быстро клонилось к закату, окрашивая багровыми пятнами мраморные храмы и колонны форума. Теперь здесь было довольно безлюдно, так как многотысячная толпа, насладившаяся великолепным зрелищем триумфа, разошлась по домам подкреплять свои силы пищей; только подле публичного рынка невольниц толпилось несколько десятков покупателей и праздных зевак, привлеченных любопытством. Позади мраморной площадки, места торгов, обведенного канатом, ютилось низенькое строение, где помещались предназначенные для продажи невольницы. Некоторые счастливцы, пользуясь милостью сторожей, допускались осматривать невольниц прежде, чем тех выводили на каменный помост. В числе последних, благодаря золотому, сунутому в руки привратника, очутилась и старая поселянка с большой корзинкой фруктов за спиной. На этот раз выбор невольниц был невелик: всего пятнадцать самых красивых девушек, выбранных из нескольких тысяч плененных иудейских женщин. В помещении, где находились предназначенные для продажи пленницы, было уже темно, при свете факелов опытные и предусмотрительные покупатели заранее осматривали живой товар, не стесняясь ощупывать его и обсуждая достоинства и недостатки. Большинство девушек сидели неподвижно с выражением тупой покорности на красивых лицах. Перед старой крестьянкой обходил невольниц, соблюдая очередь, жирный самодовольный человек, в волосах которого уже пробивалась седина. Он имел вид восточного купца и всячески старался убедить смуглую красавицу-еврейку показать ему ступню. Но та, делая вид, что не понимает, оставалась неподвижна. Тогда он наклонился и поднял ее юбку. Но едва он успел коснуться' подола, как красавица наделила его такой звонкой пощечиной, что самодовольный нахал при общем смехе присутствующих покатился на землю и затем встал с окровавленным лбом.
— Хорошо, хорошо, красавица! Не пройдет и десяти часов, как ты мне заплатишь за это! — прошипел он злобно. Но девушка не шевельнулась.
Большинство публики толпились вокруг Мириам, однако стража воспрещала не только касаться ее, но даже заговаривать с ней. Покупатели подходили к ней один за другим; перед Нехуштой шел высокий мужчина в одежде восточного купца, и ливийке показалось, что этот человек ей знаком. Наклонившись к Мириам, он хотел что-то сказать ей, но страж воспретил ему.
— С "Жемчужиной Востока" никому не позволено вступать в разговор! — строго произнес он. — Проходи, очередь подходить и другим!
Высокий купец махнул рукой, и Нехушта заметила, что у него не хватает пальца на руке.
"А-а, и Халев в Риме! — подумала старуха. — У Домициана еще один соперник!"
— Разве сейчас время для торга! Теперь не красоток покупать, а собак, ведь совсем темно!
— Ба-а! — отозвался другой. — Домициан спешит заполучить свою красотку!
— Так он решил купить ее?
— Конечно, я слышал, что Сарториусу приказано дать за нее до миллиона сестерций, если будет нужно! Но кто же будет соперничать с принцем, кому своя голова надоела? Надо думать, что она ему дешево достанется!
И они пошли дальше. Теперь к Мириам подошла Нехушта.
— Вот тоже покупательница! — насмешливо заметил кто-то.
— Не суди об орехе по шелухе, господин! — ответила старуха, и при звуке ее голоса невольница "Жемчужина Востока" вздрогнула и подняла голову, но тотчас же снова ее опустила.
— Ничего себе девушка, только в мое время девушки бывали красивее! Подними-ка головку, красотка! — продолжала она, подбадривая ее движением руки, причем перед глазами девушки мелькнул знакомый ей перстень с изумрудом. И по этому перстню Мириам поняла, что Марк жив и что Нехушта пришла сюда от его имени.
В этот момент стража стала просить посетителей удалиться, а на площади аукционист, ласковый сладкоречивый человек, уже взошел на
rostrum — кафедру и произнес длинную витиеватую речь, приглашая покупателей не скупиться, так как деньги, вырученные от продажи пленниц, поступят в пользу бедных Рима и пострадавших на войне солдат.
Зажгли факелы и стали выводить пленниц на помост. Номером первым была девушка, почти ребенок, лет шестнадцати, с темными кудрями и глазами испуганной лани. За пятнадцать тысяч сестерций она была продана какому-то греку, который тут же увел ее, плачущую навзрыд. После нее было продано еще четыре девушки. Шестым номером шла смуглая красавица-еврейка, ударившая по лицу престарелого купца. Едва выступила она на помост, как он первым предложил за красавицу двадцать тысяч. Девушка была так величественна, горделива и красива, что цену стали быстро набивать, но в конце концов она все же пошла старому ловеласу за сумму в шестьдесят две тысячи сестерций, при общем смехе собравшейся толпы, среди которой уже разнесся слух о поступке красавицы с этим человеком.
— Ну, теперь пожалуй за мной в свое новое жилище, голубушка! Нам надо еще сегодня свести с тобой кое-какие счеты! — насмешливо проговорил старик и, схватив купленную рабыню за руку, потащил ее за собой.
Девушка шла гордой мерной поступью, не сопротивляясь, но в глазах ее горел огонь мрачной решимости. Минуту спустя и красавица, и купивший ее ловелас скрылись в тени зданий. На помост вызвали номер седьмой, "Жемчужину Востока". Аукционист начал было свою хвалебную речь ее красоте и совершенству, как вдруг страшный крик огласил воздух, он исходил оттуда, где скрылся новый владелец красавицы-еврейки со своей невольницей. Толпа хлынула туда, выхватив факелы из рук служителей торжища, и в испуге остановилась перед распростертым на земле трупом богатого купца, над которым стояла, гордо выпрямившись во весь рост, точно каменное изваяние, смуглая красавица с окровавленным кинжалом, который она выхватила из-за пояса своей жертвы.
— Хватайте ее! Держите убийцу! Запорите ее на смерть! — слышались голоса, и служители форума кинулись, чтобы схватить ее. Она подпустила их близко и вдруг, не произнеся ни слова, занесла высоко над головой сильную руку и вонзила кинжал себе в грудь. С минуту она стояла все так же гордо, затем широко раскинула руки и как подкошенная упала на землю подле того, кто оскорбил и купил ее.
Толпа, пораженная, стояла молча, даже крик ужаса замер на устах, только один молодой тщедушный, болезненного вида патриций воскликнул:
— О, теперь я не жалею, что пришел сюда! Какая девушка! Какая картина! Пусть боги благословят тебя, красавица, за то, что ты доставила Юлию такое наслаждение!
Спустя несколько минут аукционист уже снова взобрался на
rostrum и, упомянув в нескольких трогательных словах о "печальном случае", продолжал нахваливать достоинства представленного присутствующим бесценного сокровища — "Жемчужины Востока".
XXIV. Господин и рабыня
Толпа теснилась вокруг помоста, обступая его со всех сторон. Ближе всех выделялись фигуры Деметрия, александрийского купца, старухи под густым покрывалом и Сарториуса, дворецкого и поверенного Домициана, который, вопреки правилам, обходя кругом помоста, разглядывал девушку с видом строгого критика.
Аукционист между тем объявил о том, что в силу особого декрета императора Тита весьма значительное имущество и в Тире, и в других местностях Иудеи переходят вместе с пленницей, прозванной "Жемчужиной Востока", к ее новому владельцу, равно и ее жемчужное ожерелье, и в заключение сказал, что чем выше будут суммы, предлагаемые за эту девушку, тем больше останется доволен доблестный цезарь Тит, тем больше довольны будут бедняки Рима и раненые воины, тем больше довольна будет сама девушка, польщенная, что ее так высоко ценят.
— Тем больше буду доволен и я, — заключил аукционист, — ваш покорный слуга, так как я не получаю определенного вознаграждения, а только комиссионный процент, почтенные господа! Итак, для начала, скажем, миллион сестерций. Не правда ли, господа?
Кто-то предложил всего пятьдесят, затем сто, двести, пятьсот, шестьсот, восемьсот, наконец аукционист обратился к одному из присутствующих:
— Что же, благородный Сарториус, или ты заснул?
— Девятьсот тысяч! — промолвил как бы нехотя тот, кого называли этим именем.
— Я даю миллион! — сказал Деметрий, купец из Александрии подходя ближе к помосту.
Сарториус с негодованием взглянул на смельчака, осмелившегося идти против Домициана, и предложил один миллион сто тысяч, но тотчас же Деметрий перебил его.
— Один миллион двести тысяч, один миллион триста тысяч, один миллион четыреста тысяч! — сыпались цифры.
— Слышишь, благородный Сарториус, за красавицу дают один миллион четыреста тысяч. Не скупись, ведь у тебя бездонный кошелек, черпай из него, сколько угодно, все доходы Римской империи к твоим услугам! А-а, ты предлагаешь один миллион пятьсот тысяч! Ну, вот! Что ты на это скажешь, приятель?
Деметрий, к которому относились последние слова, только махнул рукой и, подавляя стон, отошел в сторону.
— Ну, кажется, твоя взяла, благородный Сарториус, и хотя сумма эта не слишком велика для такой ценной "Жемчужины", все же я, по-видимому, не могу ожидать…
Вдруг старая женщина с корзиной выступила вперед и спокойным, деловым тоном произнесла:
— Два миллиона сестерций.
Сдержанный смех покатился по рядам присутствующих.
— Почтенная госпожа, позволь спросить, не ослышался ли я, не ошиблась ли ты?
— Два миллиона сестерций! — повторила женщина деловитым тоном.
— Ты слышишь, благородный Сарториус, за невольницу дают два миллиона сестерций. Это больше того, что предлагаешь ты!.. Я должен принять это во внимание!
— Пусть так! — сердито пробормотал поверенный Домициана. — Видно, все государи мира зарятся на эту девушку! Я и так уже превысил назначенную сумму, больше я не решусь рискнуть. Пусть достается другому!
— Два миллиона сестерций, граждане! Кто больше? Никто! Так вот, госпожа, если деньги при тебе, бери ее!
— Деньги у меня с собой, и если никто не дает больше, то потрудись оставить ее за мной!
— Два миллиона сестерций за номер седьмой, пленницу императора Тита, прозванную "Жемчужиной Востока", никто больше? Ну, так идет… идет… пошла! Объявляю ее проданной этой уважаемой госпоже… Теперь попрошу тебя следовать за мной к приемщику, где ты уплатишь всю сумму полностью в моем присутствии — этого требует установленный порядок!
— Да, да, господин, только уж ты позволь увести мою собственность с собой: такую "Жемчужину" не годится оставлять без присмотра!
Согласно ее желанию Мириам была введена в помещение приемщика денег и здесь, при закрытых дверях, в присутствии аукциониста и его письмоводителя Нехушта отсчитала полностью всю сумму золотыми из корзин, висевших у нее и ее раба (переодетого Стефана) за спиной.
— Теперь, — обратилась Нехушта к присутствующим, — здесь у вас есть другая дверь помимо той, в которую мы вошли! Разрешите мне, прошу вас, выйти в эту дверь, чтобы моя невольница не привлекла к себе внимания толпы, и мы могли удалиться отсюда незамеченными. Да, вот еще что! Я вижу здесь чей-то темный плащ. Уступите его мне за пять золотых, надо чем-нибудь прикрыть эту девушку, ведь она совсем нагая. А теперь потрудитесь закрепить полагающееся мне, в силу указа цезаря Тита, имущество этой невольницы за Мириам, дочерью Демаса и Рахили, родившейся в год смерти Агриппы. Так, благодарю вас, теперь позвольте мне взять этот документ и примите в знак признательности эту горсть золотых… Да, у меня есть еще одна просьба к вам, не согласится ли этот господин проводить нас из форума, на улице я буду чувствовать себя в сравнительной безопасности!
Писец согласился, и несколько минут спустя две женщины, Стефан и письмоводитель, никем не замеченные, прошли по темным мраморным колоннадам форума и вверх по широкой мраморной лестнице на тихую, пустынную улицу. Здесь письмоводитель простился со странной старухой и ее свитой и еще долго стоял и смотрел им вслед.
Когда он обернулся, чтобы уйти, то очутился лицом к лицу с высоким мужчиной, в котором узнал александрийского купца.
— Друг, — сказал тот, — куда пошли эти женщины?
— Не знаю! — отвечал письмоводитель.
— Постарайся припомнить, — продолжал Деметрий, — быть может, это поможет твой памяти! — добавил купец, сунув ему в руку пять золотых.
— Нет, нет! И это не поможет, — прошептал письмоводитель, желая остаться верным своему обещанию.
— Безумец, вот что уж наверняка поможет! — воскликнул Александрийский купец, и в руке его сверкнул кинжал.
— Они пошли направо! — сказал оробевший помощник аукциониста. — Это правда, но покарай тебя боги за то, что ты угрожаешь ножом честному и мирному человеку, вынуждая его делать то, чего он не хочет!
Но Деметрий уже не слышал его, он был далеко и спешил, не оглядываясь, в том направлении, куда направились женщины.
Когда помощник аукциониста вернулся на свое место, там уже продавали номер тринадцатый, очень привлекательную и красивую девушку. Невольницу приобрел Сарториус, рассчитывая подсунуть ее Домициану вместо "Жемчужины Востока".
Тем временем Нехушта с Мириам и Стефаном спешили ко дворцу Марка на
Via Agrippa, держась за руки. Стефан всю дорогу ворчал и не мог успокоиться, что за одну невольницу отдали такую уйму денег, сбережение нескольких лет…
— Успокойся, — сказала ему наконец Нехушта, — имущество этой невольницы стоит больше того, что за нее заплачено!
— Да, да! Но какая от этого прибыль моему господину? Ведь ты же записала все на ее имя!
Теперь они были уже у ворот, и Нехушта торопила старика:
— Скорей, скорей! Я слышу чьи-то шаги!
Дверь отперлась, и едва успели они проскользнуть в нее, как Стефан тотчас же задвинул засов, затем долго еще возился с ее запорами-цепями и болтами. Женщины, пройдя небольшой перистиль
[192], вошли в слабо освещенную прихожую, где Нехушта порывистым движением сорвала с себя плащ и покрывало, с подавленным криком обвила шею Мириам своими длинными, сильными руками и принялась целовать ее бесчисленное множество раз, захлебываясь от счастья.
— Скажи мне, Ноу, что все это значит? — спросила Мириам.
— Это значит, что Господь внял моим молитвам и дал мне средства и возможность спасти тебя!
— Чьи средства? Где я, Ноу?
Нехушта, не отвечая, сняла с нее плащ и, взяв за руку, повела через ярко освещенный коридор в большой, великолепно убранный дорогими коврами и мраморными статуями зал, уставленный ценной мебелью. В дальнем конце его, у стола, освещенного двумя светильниками, сидел мужчина, опустивший голову на руки и казавшийся спящим. При виде его Мириам, вся дрожа, прижалась к Нехуште.
— Тише! — шепнула старуха и остановилась в неосвещенном конце зала. В этот момент мужчина, сидевший у стола, поднял голову, и свет упал ему прямо на лицо. Мириам чуть не вскрикнула: это был Марк, сильно постаревший, исстрадавшийся, с прядью седых волос на том месте, где удар Халева рассек ему голову, — но все тот же, прежний Марк.
— Нет, я больше не в силах терпеть! — произнес он, не замечая вошедших. — Уже три раза я выходил к воротам, и никого! Быть может, она теперь уже во дворце Домициана! Пусть будет, что будет. Пойду и постараюсь все разузнать! — И он направился к ложу в нише окна, где лежал темный плащ. Взяв его, Марк обернулся — и увидел Мириам, стоявшую в полосе света, нежную и прекрасную.
— Что это, сон? Я брежу!
— Нет, Марк! — сказала та. — То не сон, не бред, это я стою перед тобой!
В следующий момент он уже сжимал ее в объятиях, и она не сопротивлялась, объятия Марка казались ей родным кровом, надежным убежищем.
— Пусти меня, — сказала наконец девушка, — я чувствую, что силы изменяют мне, я не могу устоять на ногах!
Он осторожно опустил ее на подушки ближайшего ложа и присел подле.
— Ну, теперь расскажи мне все… все…
— Я не могу, спроси Нехушту! — прошептала Мириам, почти теряя сознание.
Нехушта подоспела к ней и осторожно принялась растирать ей виски и руки.
— Полно тебе расспрашивать, господин! Ты видишь, она здесь, и довольно с тебя. Лучше позаботься о том, чтобы дать ей поесть, ведь у бедняжки с утра ни крошки во рту!
Марк засуетился, придвигая стол, на котором стояли изысканно приготовленные рыба, мясо, плоды и доброе старое вино. Нехушта заставила девушку отпить несколько глотков вина и проглотить несколько кусочков дичи, после чего Мириам немного оправилась и ожила.
— Какого бога должен я благодарить за то, что он внушил моему старому Стефану скопить эти деньги! Они мне оказались нужнее самой жизни! — воскликнул Марк, выслушав рассказ Нехушты. — Как необходимы оказались теперь сбережения!
— Какие сбережения? Твои, Марк? Значит, ты купил меня? Значит, я теперь твоя раба?
— Нет, Мириам! Нет, не ты, а я твой раб, ты это знаешь! И я молю тебя только об одном, согласись стать моей женой!
— Ах, Марк! Ведь ты же знаешь, что этого не может быть! — почти стоном вырвалось у нее из груди.
Марк побледнел, как мертвец.
— И ты говоришь это после всего, что было? После того, как ты готова была отдать за меня жизнь? Хорошо, если уж это так необходимо, я готов стать христианином!
— Нет, Марк, этого недостаточно, — печально произнесла девушка. — Не в том дело, что ты будешь называться христианином, ты должен им стать по духу, по убеждениям. А если Господь не призовет тебя, этого никогда не случится!
— Что же в таком случае должен я сделать?
— Что? Ты должен отпустить меня… Но я — твоя невольница!
— Да! — воскликнул он, точно обрадовавшись последнему слову. — Да, ты моя невольница! Так почему мне не оставить тебя? Зачем мне отпускать тебя?.. Нет, я хочу, чтобы ты оставалась здесь!
— Ты можешь не отпустить меня, да, но этим погрешишь против своей чести, Марк!
— Где же тут грех? Ты не соглашаешься стать моей женой не потому, что этого не хочешь, а потому, что на тебя положен обет, любовь же твоя свободна. Мы так многим жертвовали друг для друга: ты жертвовала для меня своею жизнью, а я — даже больше, чем жизнью, своей честью, Мириам!
— Честью? Как честью? — спросила девушка с недоумением.
— Тот, кто имел несчастье быть взятым в плен, считается у римлян жалким трусом. Если узнают, что это случилось со мной и я не покончил счеты с жизнью, как должен был сделать, то меня ждет позор, хуже которого нет для римлянина! Но я остался жить ради тебя, ради тебя, Мириам, пошел навстречу позору!
— О, что же делать! Что делать! Горе мне! — воскликнула Мириам, ломая руки в порыве отчаяния
— Что делать? — повторила Нехушта. — Отпусти ее, Марк, не унижай себя в ее глазах положением господина, а любимую — положением невольницы, не оскверняй ни ее, ни свою душу! Не говори, что стать возлюбленной господина не грех! Возьми ее имущество в Тире в уплату за сегодняшний выкуп и отпусти ее, а сам посвяти себя изучению писания, и тогда, быть может, ты назовешь ее своей женой!
— Да, — произнес Марк, бледный как смерть, — Нехушта права. Мне не надо злоупотреблять настоящим положением Мириам. Я возвращаю ей свободу, никаких документов не нужно, никто не знает, что она принадлежит мне. Имущество же в Тире пусть остается на ее имя — мне неудобно переводить его на себя. Ну, а теперь прощайте! Нехушта отведет тебя в свою комнату, а на рассвете вы уйдете, куда захотите! — И он круто повернулся к ним спиной.
— О, Марк, что ты хочешь сделать? — воскликнула Мириам.
— Вероятно то, о чем тебе лучше не знать!.. Быть может, впрочем, я последую совету Нехушты и стану изучать писание. Прощайте!
XXV. Награда Сарториуса
Тем временем в одном из дворцов цезарей, вблизи Капитолия, происходила другая сцена. Речь идет о дворце Домициана, куда по окончании торжеств поспешил удалиться младший сын Веспасиана в весьма дурном настроении. В этот день случилось многое такое, что сильно уязвило его самолюбивый, завистливый нрав. Во-первых, как он ясно чувствовал, слава этого дня всецело принадлежала не ему и даже не отцу его, а брату Титу, который был ему всегда ненавистен. Этого Тита настолько все любили за добродетели, насколько ненавидели его, Домициана. И вот теперь Тит вернулся после блистательной, победоносной кампании и коронован цезарем, принят в соправители отца, и теперь был превозносим толпой, тогда как он, Домициан, должен был ехать за его колесницей почти незамеченный. Ведь восторженные крики толпы, поздравления сената и приветствия подвластных Риму правителей и иностранных царей — все это относилось к Титу, и зависть доводила Домициана до бешенства. Правда, предсказания говорили, что настанет и его час, но когда?
Кроме того, многие мелочи, как нарочно, сложились так, чтобы задеть его самолюбие. Во время великого жертвоприношения в храме Юпитера его место оказалось так далеко, что народ не мог даже видеть Домициана, а во время пира, последовавшего за жертвоприношением, главный распорядитель забыл налить чашу в его честь.
Затем, красавица "Жемчужина" явилась на триумфальном торжестве без пояса, посланного ей в дар. Наконец, различные вина, которые он пил из-за духоты и жары, вызвали сильную головную боль и тошноту, чему он вообще был очень подвержен.
Под предлогом нездоровья Домициан рано покинул пир, в сопровождении слуг и музыкантов вернулся во дворец и стал ожидать возвращения Сарториуса, который должен был привести прекрасную еврейку, завладевшую его воображением. Он приказал своему домоправителю купить ее на публичных торгах за какую угодно цену, хотя бы даже за миллион сестерций. Да и кто осмелился бы оспаривать невольницу, которую пожелал для себя Домициан?
Узнав, что Сарториус еще не возвратился с торгов, Домициан удалился в свои личные апартаменты, приказал призвать туда красивейших невольниц и заставил их танцевать перед ним, а сам в это время упивался вином из любимых им лоз. По мере того как он пьянел, головная боль начала проходить. Вскоре он сильно захмелел и, как всегда в этих случаях, совершенно озверел. Одна из танцовщиц споткнулась и сбилась с такта, за что повелитель приказал ее подругам избить бедную полуобнаженную девушку на его глазах. Но, к счастью для провинившейся, прежде чем повеление Домициана успели привести в исполнение, вошел раб с докладом, что Сарториус вернулся и ждет разрешения войти.
— Он один? — вскричал Домициан, вскакивая с места.
— Нет, господин, с ним женщина! — ответил раб.
При таком известии дурное расположение Домициана вмиг пропало.
— Отпустить ее на этот раз! — приказал он, говоря о танцовщице.
— Да чтобы впредь была осторожнее. Прочь, вы все, вся орава, я желаю остаться наедине! А ты, раб, иди и прикажи почтенному Сарториусу войти сюда вместе со спутницей!
Занавесь отдернулась, и вошел Сарториус, лукаво улыбаясь и нервно потирая руки, за ним шла женщина, окутанная длинным, темным плащом, под густым покрывалом. Согласно установленному порядку, домоправитель принялся отвешивать поклоны и бормотать хвалебные приветствия, но Домициан прервал его на полуслове:
— Перестань, старик! Все это прекрасно при свидетелях, а теперь не нужно! Так ты привел ее? — И он окинул жадным, сластолюбивым взглядом женскую фигуру, стоявшую в глубине комнаты. — Я не забуду твоей услуги, ты не останешься без награды. Сколько ты дал за нее? Пятьдесят тысяч сестерций? Кто смел перебивать ее у меня? Что за неслыханная наглость! Впрочем, за красивых рабынь давали и больше! — добавил он, затем, обращаясь к невольнице, продолжал: — Ты полагаю, утомилась, дорогая красавица, после этого безумного торжества?
Но красавица безмолвствовала, и Домициан продолжал:
— Скромность украшает девушку, но прошу тебя, забудь об этом на время! Скинь свое покрывало, красавица, и дай мне увидеть божественные черты, по которым истомилась моя душа. Впрочем, нет, я сам хочу снять твое покрывало! — И он нетвердой поступью приблизился к девушке.
Сарториус, убедившись, что его господин настолько пьян, что вряд ли поймет какие бы то ни было объяснения, думал воспользоваться удобным случаем и улизнуть, а потому сказал:
— Благороднейший и державный повелитель мой, позволь мне удалиться. Теперь, когда мое дело сделано, я более не нужен вашей милости!
— Нет, нет, — икая, произнес Домициан. — Я знаю, какой ты великий знаток женской красоты, твое суждение мне нужно сегодня. Ты знаешь, возлюбленный мой Сарториус, что я не эгоист, к тому же, говоря правду, — ты, конечно, не обидишься — кто может ревновать к такой старой обезьяне, как ты? Уж, конечно, не я, которого все считают первым красавцем в Риме, несравненно более красивым, чем Тит, хотя он и называется цезарем… Ну, где тут завязка? Сарториус, отыщи мне завязки ее покрывала. И зачем вы укутали бедную девушку, точно египетского покойника, так что господин не может увидеть ее?!
В это время один из рабов развязал покрывало, и девушка предстала с открытым лицом. Эта девушка была очень красива и лицом, и фигурой, но крайне утомлена и испугана.
— Как странно! — пробормотал Домициан. — Она как будто совершенно изменилась! Мне казалось, что у той были синие глаза, а волосы черные, вьющиеся, а теперь у нее темные глаза и гладкие волосы. А где ожерелье? Где ожерелье?.. Что ты сделала со своим ожерельем, "Жемчужина Востока"? Да и почему ты не надела сегодня того пояса, что я прислал тебе в подарок?
— Я, господин, никогда не имела ожерелья и не получала никакого пояса! — робко произнесла невольница.
— Господин мой, благороднейший Домициан, тут есть маленькое недоразумение, которое я должен разъяснить! — вмешался Сарториус с нервным смешком. — Девушка эта — не "Жемчужина Востока": та пошла за такую баснословную цену, что я не мог купить ее даже для тебя… — И он смолк, точно замер.
Лицо Домициана сделалось ужасным, весь хмель разом вылетел у него из головы. Выражение зверской жестокости исказило черты; это был наполовину дьявол, наполовину сатир.
— А-а, вот как! Недоразумение?! И ты посмел сказать мне это, сказать, что кто-то другой выхватил у меня, Домициана, из-под носа девушку, которую я приберегал для себя!.. — скрежеща зубами, с адским шипением, выкрикивал взбешенный тиран. — Ты осмелился привести мне эту шлюху вместо "Жемчужины Востока"! Эй, рабы! — крикнул он, ударив в ладоши.
Немедленно сбежались десятки рабов.
— Возьмите эту женщину и убейте ее сейчас же! — приказал он. — Впрочем, нет, это может вызвать неприятность: ведь она была одной из пленниц Тита. Не убивайте ее, а выгоните на улицу!
Девушку схватили и потащили вон из залы.
— Схватите его! — Тиран указал на бледного домоправителя. — Бейте, пока не выбьете дух… О, я знаю, что ты — римский гражданин, не раб, свободный. Но что из того, если ты через час станешь гражданином Гадеса!
[193]
И это приказание рабы не замедлили исполнить; среди полной тишины не слышно было теперь ничего, кроме тяжелых ударов длинных тростей и глухих, подавленных стонов несчастной жертвы.
— Негодяи! — завопил Домициан. — Да вы шутите, что ли? Погодите, я вам покажу, как надо бить, чтобы он чувствовал! — И, выхватив трость у одного из рабов, он кинулся к распростертому на полу домоправителю.
Сарториус понял, что взбешенный Домициан разом выбьет из него дух. Поднявшись на колени, он простер к нему руки с мольбой.
— Выслушай меня, господин, прежде чем ударить! Ты, конечно, можешь убить меня в своем праведном гневе, и я должен быть счастлив умереть от твоей руки, но, грозный господин, помни: убив меня, ты никогда не разыщешь "Жемчужины Востока", которую так страстно желаешь!
— А-а, — воскликнул Домициан, — "розга — мать благоразумия". Итак, ты можешь разыскать ее?
— Конечно, если у меня будет время. Человеку, который мог уплатить два миллиона сестерций за одну невольницу, нелегко укрыться!
— Два миллиона сестерций? Это любопытно! Расскажи мне об этом. Эй, рабы, отдайте ему одежды, да отойдите, только не слишком далеко!
Сарториус дрожащими руками накинул на свои окровавленные плечи и спину одежды и затем рассказал, как проходили торги.
— Что я мог сделать? — докончил он. — У тебя, господин, было слишком мало наличных денег!
— Что делать, дуралей?! Ты должен был купить ее в кредит и затем предоставить мне сговориться о цене. А Тита я бы обошел и перехитрил. Но теперь вопрос в том, как поправить дело. Как ты его поправишь?
— Это я увижу завтра, господин! Я постараюсь разузнать, куда девалась эта девушка, а там, тот, кто ее купил, может и умереть, тогда остальное уже не трудно!
— Умереть он, конечно, должен, раз осмелился похитить у Домициана его любимицу! — воскликнул царственный тиран. — На этот раз я пощажу тебя, Сарториус, но знай, если ты вторично не сумеешь исполнить моего желания, то и ты умрешь, и даже еще худшей смертью, чем полагаешь! О боги! Почему вы так немилостивы ко мне?! Душа моя уязвлена и нуждается в утешении поэзией. Эй, рабы, разбудите этого грека, вытащите его из кровати и приведите сюда, пусть он прочтет мне о гневе Ахиллеса, когда у него похитили его Бризеиду. Судьба этого героя сходна с моей судьбой!
И новый Ахиллес удалился в свою опочивальню, чтобы там уврачевать бессмертными стихами Гомера свою уязвленную душу: Домициан в те часы, когда не был просто зверем, мнил себя поэтом. Хорошо, что удаляясь, тиран не видел выражения лица Сарториуса, прикладывавшего какой-то целебный бальзам к своим исполосованным плечам и спине, и не слышал той клятвы, с которой его верный и услужливый клеврет ложился спать в эту ночь, ложился лицом вниз (от жестоких побоев он в течение многих дней не мог лечь на спину). Тогда, быть может, Домициан увидел бы себя лысым, тучным, на тонких поджарых ногах, в императорской мантии цезаря, катающимся по полу своей опочивальни в отчаянной борьбе за жизнь с неким Стефаном, между тем как этот самый Сарториус вонзал в его спину свой кинжал, приговаривая с дьявольской усмешкой:
— Ага, цезарь! Вот это тебе за те побои тростью! Помнишь, цезарь, "Жемчужину Востока"? Это тебе за те побои! И это, и это!..
Но сейчас Домициан еще и не помышлял о чьем-либо возмездии. Наплакавшись досыта над горестной судьбой богоподобного Ахиллеса, он заснул крепким сном.
* * *
На другой день после триумфальных торжеств Тита александрийский купец Деметрий, который раньше звался Халевом, сидел в конторе своего огромного склада товаров на одной из самых оживленных торговых улиц Рима. Он был красив, облик его, надменный и благородный, прекрасно шел к его осанке и положению, а между тем лицо его было озабочено и печально. С какими невероятными усилиями прокладывал он вчера себе дорогу на улицах Рима, чтобы пробраться поближе к Мириам, когда она шла позорным путем вслед за колесницей триумфатора. А затем вечером, на публичном торжище в форуме, куда явился Халев, обратив в деньги почти весь свой наличный товар, так как знал, что ему придется оспаривать Мириам у Домициана, он предлагал за нее все, что имел, все до последней монеты, но, несмотря на это, она попала в чьи-то другие руки. Даже и сам Домициан не мог угнаться за этим таинственным соперником, интересы которого представляла странного вида женщина в платье крестьянки, под густым покрывалом. Как ни невероятно это должно было казаться, но Халев был уверен, что эта женщина — не кто иная, как ненавистная Нехушта. Но как могла она располагать такой громадной суммой денег? Для кого, как не для Марка, могла она в таком случае покупать Мириам? Между тем Халев наводил справки, и по ним оказывалось, что Марка в Риме не было. Кроме того, есть полное основание думать, что его уже нет в живых и что его кости, подобно костям многих тысяч славных воинов, стали добычей голодных шакалов в развалинах священного города. Если же он жив, то почему не участвовал в триумфе Тита? Он один из выдающихся соратников цезаря и один из богатейших патрициев Рима!
С отчаянием наблюдал Халев, как таинственная женщина, нагруженная корзинами, увела с собой Мириам. Тщательно скрываясь, он успел проследить, как они скрылись в узенькой калитке в стене одного сада. На минуту у него явилась мысль постучать в эту калитку, но его обычная осторожность шепнула ему, что те, кто покупает невольницу за такую громадную сумму, как два миллиона сестерций, конечно, держат наготове добрый меч для таких посетителей. Он обошел вокруг дома и прилегающего к нему сада и убедился, что то был богатый мраморный дворец, по-видимому, никем не занятый, хотя однажды ему показалось, что за ставнями мелькнул огонь. Халев осмотрелся кругом и узнал это место. Поутру шествие тут было приостановлено: римский солдат, бывший в плену у иудеев, чтобы уйти от публичного позора и насмешек толпы, вздумал покончить с жизнью, бросившись под колеса колесницы триумфатора. Да, это было то самое место! У Халева мелькнула мысль, что подобная участь могла бы ждать и его соперника Марка, который также был захвачен в плен живым. Дьявольская усмешка исказила его черты. До сего времени две всепоглощающие страсти руководили жизнью Халева: беспредельное честолюбие и любовь к Мириам. Честолюбие его не было удовлетворено, он мечтал стать правителем, даже царем Иудеи, но Иудея пала и не могла подняться вновь. Однако судьба каким-то чудом пощадила его жизнь. Теперь одна только любовь к Мириам побуждала его заботиться о самосохранении, чтобы следовать за ней хоть на край света. У него были деньги, предусмотрительно зарытые перед началом войны, с помощью этих денег он сумел из предводителя военного отряда превратиться в зажиточного купца. Теперь он может, конечно, стать богачом, но будучи иудеем, никогда не займет высокого положения, не достигнет славы и власти, о которых так мечтал. Ну, а Мириам? Она никогда не любила его, и все из-за Марка, этого проклятого римлянина, которого он ненавидел всей душой. Но теперь у него было хоть то утешение, что если Мириам не досталась ему, Халеву, то не попала и Марку.
Всю ночь Халев бродил вокруг мрачного, видимо, безлюдного дома. Наконец стало светать, там и здесь на великолепной, широкой улице появлялись группы запоздалых пешеходов, возвращавшихся с пира, опьяненных вином мужчин и растрепанных женщин. Скромные труженики, ремесленники и мастеровые тоже вышли из домов, спеша приняться за свой дневной труд, в том числе и метельщики, ожидающие в это утро ценных находок после вчерашнего триумфального шествия. Двое подметали вблизи того места, где стоял Халев, и принялись подшучивать над ним, осведомляясь, найдет ли он дорогу домой. Халев сказал, что ждет, когда откроются двери этого дома.
— Ну, так тебе долго придется прождать! Владелец этого дома умер, убит на войне в Иудее, и никто еще не знает, кто будет его наследником.
— А как звали владельца? — спросил Халев.
— Его звали Марком. Это был любимец Нерона и потому был прозван здесь, в Риме, Фортунатом.
Халев повернулся и пошел домой.
XXVI. Суд Домициана
Прошло два часа, а Халев по-прежнему сидел в своей конторе в бессильном бешенстве против Марка, которого он теперь больше, чем когда-либо, хотел бы задушить своими руками. Теперь он был уверен, что Марк жив и находится в Риме, а Мириам — в его объятиях. "О, лучше бы уж она досталась Домициану, этому развратному негодяю, его она, по крайней мере, ненавидела бы, тогда как Марка любит!" — с завистью думал Халев. Конечно, он мог выследить Марка и убить его, мог купить наемных убийц, но тогда его собственная жизнь подверглась бы опасности. Он знал, какая участь ожидает всякого, кто осмелился бы поднять руку на римского патриция, а умереть Халев вовсе не желал — теперь жизнь казалась ему единственным оставшимся ему благом. Кроме того, пока он жив, есть надежда, что Мириам будет принадлежать ему. Нет, он не станет рисковать, а подождет…
Выжидать ему пришлось недолго: как всегда в такого рода моменты, дьявол является усердным помощником всем, замышляющим зло против своего ближнего.
Кто-то постучал в дверь, и Халев злобно воскликнул: "Войдите!", раздосадованный тем, что нарушили его уединение.
Вопреки неласковому приглашению хозяина, в комнату вошел низенький, коротко остриженный человек с юрким, проницательным взглядом маленьких бегающих глаз. Под одним глазом у него был большой синяк с кровоподтеком, а на виске виднелась рана, залепленная пластырем, он сильно хромал и поминутно передергивал плечами, как будто его что-то беспокоило. Это был домоправитель Домициана, и Халев тотчас же узнал его.
— Привет тебе, благородный Сарториус, садись, прошу тебя! Тебе, я вижу, трудно стоять!
— Да, да, со мной произошел весьма неприятный случай! — отвечал тот. — Но и вы, уважаемый Деметрий, тоже как будто провели бессонную ночь!
— Я действительно несколько взволнован другого рода неприятным случаем. Но чем могу я быть полезен тебе, благородный Сарториус? Я человек занятой и попросил бы тебя не откладывая приступить к делу!
— Да, да, конечно… Вчера на торгах ты был весьма заинтересован той красивой иудейской невольницей, которая теперь известна всему Риму под именем "Жемчужина Востока", а я был представителем одного очень знатного лица.
— Которое, по-видимому, не менее меня заинтересовалось этой невольницей! — добавил Халев. — Но, увы! Третье лицо оказалось счастливее нас всех!
— Вот именно, и та высокая личность, о которой я говорю, была до того огорчена этим обстоятельством, что разразилась слезами и даже упрекала меня, которого любит более, чем родного брата…
— И вот тогда-то с вами случился неприятный случай, благородный Сарториус?
— Да, горе моего августейшего господина так поразило меня, что я поспешил к нему, поскользнулся и упал…
— Подобные случаи нередки в домах великих мира сего, где полы так скользки. Но все это к делу не относится, я полагаю…
— Нет, дело заключается в том, что мне надо узнать имя человека, купившего "Жемчужину Востока". Быть может, тебе оно известно?
— А на что тебе имя, благороднейший Сарториус?
— Мне нужно его имя, так как Домициану нужна его голова! — прямо отвечал домоправитель, отбросив намеки.
В этот момент Халева озарила яркая мысль: вот он — случай отомстить Марку, случай избавиться от него навсегда.
— Ну, допустим, я мог бы представить Домициану, притом без всякого скандала, случай добраться до головы того человека. Согласится ли он за эту услугу уступить мне эту невольницу? Я знал ее еще ребенком и питаю к ней самые нежные братские чувства!
— Да, да, так же, как и Домициан! Я, право, не вижу, почему бы моему августейшему господину не согласиться на это, ведь ему нужна голова того человека, а не рука этой девушки!
— Но во всяком случае было бы лучше иметь полную уверенность в этом! Основываясь же на одних предположениях, я не особенно расположен вмешиваться в такое неприятное дело!
— Прекрасно, быть может, ты пожелаешь, уважаемый Деметрий, изложить свои условия письменно и получить на них письменные ответы?
Халев взял пергамент, перо и написал:
Полное помилование и неотъемлемое право свободно путешествовать и вести торговлю везде, в пределах всей Римской Империи, засвидетельствованное подписью всех надлежащих властей, пусть будет выдано некоему Халеву, сыну Гиллиэля, участвовавшему в иудейской войне против римлян; затем, письменное обязательство за собственноручной подписью того лица, которое в этом заинтересовано, что, если голова, которую он желает, будет предоставлена в его руки, то иудейская невольница, прозванная "Жемчужиной Востока", будет немедленно передана Деметрию, купцу из Александрии, и станет его неотъемлемой собственностью.
— Вот и все! — сказал Халев, передавая пергамент Сарториусу. — Халев, о котором я здесь упоминаю, мой ближайший друг, без его помощи я совершенно не могу обойтись в этом деле. А без помилования и гарантий, я знаю, он не тронется с места. Конечно, потребуется подпись самого цезаря Тита, должным образом засвидетельствованная. Но это только дань дружбе, я же собственно заинтересован тем, чтобы эта девушка была отдана мне.
— Да, да! Надеюсь вскоре возвратиться сюда с желаемым ответом, уважаемый Деметрий! — с двусмысленной гримасой проговорил Сарториус. — А что касается Халева, то пусть он не беспокоится. Кому охота связываться с грязным, жалким иудеем, отступником своей веры и народа?! Цезарь не воюет с подпольными крысами и летучими мышами… Прощай, высокочтимый Деметрий, жди меня вскоре обратно.
— Буду ждать, благородный Сарториус, и в интересах нас обоих прошу тебя не забывать, что во дворцах полы скользки, так что при вторичном падении ты, пожалуй, и головы не унесешь!
"Брошу еще раз кости, — думал Халев после ухода гостя, — посмотрим, не улыбнется ли мне на этот раз счастье!"
Спустя некоторое время склонившийся в низком поклоне Сарториус докладывал своему августейшему господину о результатах поисков и расследований.
Страдавший в это время от жестокого приступа болезни желчных камней Домициан, обложенный подушками, вдыхал розовую эссенцию и смачивал голову водой, смешанной с уксусом. Довольно равнодушно слушал он отчет своего верного слуги, но, вникнув в условия таинственного Александрийского купца, воскликнул с негодованием:
— В уме ли ты, старый дуралей? Он хочет взять себе "Жемчужину Востока", а мне предоставить только голову наглеца, осмелившегося перебить ее у меня! И ты смеешь передавать мне подобные условия!
— Божественный Домициан, позволю себе заметить, что рыба идет только на приманку! — ответил хитрый управитель. — Если не потешишь его приманкой, этот человек ничего не скажет нам. Думал я призвать его сюда и пыткой вымучить из него правду, но эти иудеи такой упорный народ. Не скоро у него вымучишь то, чего он не хочет сказать, а тем временем тот, другой, успеет скрыться с девушкой. Лучше уж обещать ему все, чего он просит.
— Ну, а затем?..
— А затем забыть о своих
обещаниях, чего проще?
— Но ведь он требует их в письменном виде!
— Пусть он получит их письменно, написанные моей рукой, которую твоя божественная светлость может отвергнуть. Но помилование этому Халеву, который, если не ошибаюсь, тот же Деметрий, надо выдать за подлинной подписью цезаря Тита. Для тебя же, божественный Домициан, безразлично, если еще один иудей будет иметь право пребывать в Риме и торговать в пределах империи!
— Ты не так глуп, Сарториус, как я думал, очевидно, вчерашняя расправа придала тебе ума! Но прошу, перестань передергивать плечами и замажь этот синяк под глазом, я не выношу черного цвета. Затем отправляйся и сделай все, что нужно, чтобы удовлетворить этого Деметрия, или Халева.
Тремя часами позже Сарториус вторично явился к александрийскому купцу.
— Высокочтимый Деметрий, — сказал он, — все, что ты хотел, исполнено! Вот помилование Халеву, подписанное самим цезарем Титом, хотя это было не так легко: цезарь сегодня отправляется в свой загородный дом на берегу моря, где, по предписанию врача, в течение трех месяцев не должен заниматься государственными делами, так как нуждается в полном отдыхе. Доволен ты, уважаемый Деметрий?
Халев внимательно вгляделся в подпись и печати и сказал:
— Мне кажется, этот документ в порядке!
— А вот и письмо от божественного или, вернее, полубожественного Домициана к александрийскому купцу Деметрию, засвидетельствованное мной, в котором мой августейший господин обязуется уступить тебе "Жемчужину Востока", если ты выдашь ему голову того человека!
Халев взял письмо и долго рассматривал его.
— Странно, — проговорил он, — подпись Домициана и твоя, благородный Сарториус, очень похожи!
— Весьма возможно, высокочтимый Деметрий, весьма возможно. При дворе высочайших особ принято, чтобы их приближенные, в том числе и домоправители, подражали руке своих августейших повелителей.
— А также и их нравственности! Впрочем, если тут есть какой-нибудь подлог, тем хуже для виновника, так как Домициану, вероятно, будет неприятно видеть это письмо предъявленным на суде!
— Конечно, конечно, — поспешил поддакнуть Сарториус. — Но теперь прошу назвать имя виновного.
— Его зовут Марк! Он был префектом всадников у Тита в походе на Иудею. С помощью старой ливийской женщины по имени Нехушта он купил невольницу на публичных торгах на Форуме, и старуха привела ее в дом на Via Agrippa, где она, вероятно, и сейчас находится.
— Марк? Но его считают умершим, и вопрос о его наследстве возбуждает теперь большие толки! Как наследник проконсула Кая он обладает громадным состоянием, кроме того, в последние годы он был любимцем божественного Нерона. Это — знатная особа, с которой даже Домициану не так-то легко справиться! Но каким образом это тебе известно?
— Через Халева, который выследил, куда старая карга увела девушку, и которому достоверно известно, что Марк еще в бытность свою в Иудее был ее возлюбленным!
— Все это прекрасно и, хотя, конечно, не вполне прилично соперничать с сыном и братом цезаря, но все же на публичных торгах это законно, он имел на то право…
— Ну, а если Марк совершил тяжкое преступление?..
— Преступление? Какое?
— Он был взят в плен живым при осаде Иерусалима и пленным брошен в старую башню, откуда успел бежать.
— Но кто может доказать это?
— Кто? Да тот же Халев! Он захватил его в плен и бросил в ту башню!
— Да, но где этот трижды проклятый Халев?
— Здесь, перед тобой, трижды благословенный Сарториус! — воскликнул мнимый Деметрий.
— Это великолепно, друг Деметрий, но что же нам следует делать теперь?
— Арестовать Марка, поставить его перед судом и осудить за упомянутое преступление, а мне передать "Жемчужину Востока", которую я тотчас же увезу из Рима!
— Прекрасно! Теперь, в отсутствие цезаря Тита, военные дела переданы Домициану, хотя ни одно из его решений не может быть приведено в исполнение без утверждения и подписи Тита. Но уж это там будет видно, а пока — счастливо оставаться.
— Благодарю, да позаботься, главное, о том, чтобы девушка была передана мне! Ты от этого не останешься в убытке, уважаемый Сарториус, на пятьдесят тысяч сестерций при получении невольницы можешь рассчитывать.
— О, как угодно, высокочтимый Деметрий, дары скрепляют дружбу, это несомненно… А я из этих денег задам тебе и той госпоже славный ужин! Еще раз, счастливо оставаться! — И старик удалился.
На следующий день поутру Халева потребовали во дворец Домициана для свидетельских показаний. Идя по улицам Рима, он торжествовал, что одолел наконец своего недруга. Но на душе было неспокойно — что-то подсказывало ему, что не так, не такими средствами следовало ему восторжествовать над ним, не доносом и клеветой, а в честной борьбе. Но что из того! Все же он вырвет Мириам из его объятий, и даже если она не забудет Марка, он займет его место. Девушка будет его рабыней, хотя он предоставит ей место жены в своем доме, и она при виде его нежности, быть может, и полюбит его.
Но вот и вход во дворец. В переднем зале Халева встретил Сарториус, и рабы, сопровождавшие свидетеля, отступили в сторону.
— Ну, что? Они теперь в ваших руках? — спросил Халев.
— Только он один, девушка исчезла.
— Исчезла? Тогда зачем я буду давать показания?
— Этого я тебе сказать не могу, но теперь поздно отказываться. Эй, рабы, введите свидетеля в зал суда!
Движением руки Халев отстранил рабов и добровольно последовал за Сарториусом.
Они вошли в небольшой, но высокий зал, светлый и красивый. В высоком кресле сидел Домициан, облаченный в пурпурную тогу, по обе стороны его стояли узкие столы, вокруг которых собрались пять— шесть римских офицеров из личной гвардии Домициана, в латах и доспехах, но без шлемов, два писца с табличками и человек в платье судьи, исполнявший, по-видимому, обязанности прокурора. В глубине зала стояли солдаты.
Домициан, несмотря на свой юный и цветущий вид, казался крайне не в духе.
Он сурово встретил Марка и полностью поверил наветам Халева, подтвержденным лжесвидетельством одного солдата, когда-то служившего под начальством Марка и неоднократно подвергавшегося от него наказаниям за разного рода проступки.
Тщетно Марк, возмущенный недобросовестным обвинением, протестовал, его не слушали. Тогда обвиняемый на правах римского патриция потребовал суда самого Веспасиана. Домициан не мог отказать ему в этом, а пока велел опять отвести в тюрьму.
XXVII. Епископ Кирилл
На другой день после триумфа, рано утром Юлия, жена Галла, сидела в своей комнате, задумчиво глядя на мутно-желтые волны Тибра. Вчера Галл, затерявшись в толпе, присутствовал на торгах на Форуме и, вернувшись домой, рассказал обо всем жене. И та возрадовалась в душе, что ее возлюбленная "Жемчужина" не досталась развратному Домициану, хотя, по словам мужа, купившая ее женщина была похожа на ведьму.
Теперь Галл снова отправился по городу разузнать что-нибудь о Мириам, Юлия же, оставшись одна, встала на колени и молилась. Вдруг чья-то тень упала на нее. Она подняла голову и увидела перед собой ту, о которой она молилась.
— Как ты пришла сюда? — спросила она шепотом.
— По милости Божией и благодаря содействию Нехушты, о которой я часто говорила тебе, мать Юлия, мне удалось избегнуть когтей Домициана!
— Расскажи мне все, как было!
Мириам исполнила ее желание. Когда же она окончила свой рассказ, старуха призвала благословение небес на Марка, и девушка сделала то же от всей души, добавив, что и сама желала бы вознаградить Марка за доброту и благородство.
— Ты бы и вознаградила его, если бы я тебя не остановила! — вмешалась Нехушта.
— Кто из нас не впадал в искушение? — заметила Юлия.
— Я первая никогда не впадала в такого рода искушения и молю Бога, чтобы Он охранил от них и эту девушку. Я также молю Бога, чтобы Он охранил благородного Марка от руки Домициана! — сказала старуха.
При последних словах Мириам вздрогнула и побледнела.
В это время вернулся Галл, и пришлось рассказать ему все сначала.
— Невероятное дело, непонятное для меня, — проговорил старый воин. — Чтобы двое любящих друг друга людей после стольких испытаний, когда судьба, наконец, соединила их, добровольно разошлись из-за каких-то вопросов веры! Даже менее того, в угоду давно умершей женщине, которая не могла всего предвидеть. Нет, на месте Марка я поступил бы иначе!
— Как же поступил бы ты, супруг? — спросила Юлия.
— Я бы как можно скорее, не теряя ни одной минуты, покинул Рим вместе с любимой девушкой и где-нибудь, очень далеко от Рима, предоставил бы ей потворствовать своим предрассудкам. Ведь Домициан не христианин, так же как и Марк, и между ними есть только та разница, что Домициана Мириам не любит, а Марка любит. Но дело сделано, и я того мнения, что теперь вы, христиане, можете прибавить к своим святым еще двух святых… Да, кстати, Мириам, видел вас кто-нибудь входящими в этот дом?
— Нет, калитка была только прикрыта, а служанки не было дома, она и сейчас еще не вернулась.
— Это хорошо. Когда она вернется, я сам отопру ей калитку и отошлю надолго!
— Зачем? — спросила жена.
— Чтобы никто не знал, что Мириам была нашей гостьей, и не видел, куда она пошла!
— Пошла? Куда же она пойдет? Разве ты отпустишь ее из своего дома, Галл?
— Да, ради ее безопасности и спасения! Куда прежде всего бросятся искать "Жемчужину Востока"? Сюда. И хотя она теперь, благодаря Марку, свободная женщина, но скажи мне, Юлия, какая женщина в Риме свободна, если Домициан пожелал иметь ее? А потому, Юлия, накинь плащ и разыщи нашего епископа Кирилла, который любит и жалеет эту девушку! Расскажи ему все и попроси укрыть где-нибудь Мириам до того времени, когда представится возможность посадить ее на корабль и отправить из Рима.
Это предложение было единогласно одобрено всеми тремя женщинами. Спустя какой-нибудь час Мириам с неразлучной Нехуштой очутились в одном из дальних, населенных ремесленным и рабочим людом кварталов Рима, в доме плотника Септима. Хозяин сидел в это время со своей семьей за скромной трапезой. В грубом плотнике никто не узнал бы епископа римской христианской церкви Кирилла, главу местной христианской общины.
Узнав Мириам, добрый старик ахнул от удивления, затем, выслушав все внимательно, призадумался.
— Знаешь ли ты какое-нибудь ремесло, Мириам? — спросил он.
Она отвечала, что занималась когда-то скульптурой и не безуспешно, даже римский император Нерон так высоко ценил ее работу, что приказал воздавать сделанному ее руками бюсту божеские почести. Оказалось, что Кирилл видел этот бюст. Он осведомился, согласится ли она лепить из глины сосуды и светильники. Получив утвердительный ответ, хозяин пообещал что-нибудь придумать.
В трех минутах ходьбы от мастерской плотника Септима помещалась мастерская художественных сосудов, светильников, чаш, амфор и тому подобного. Люди, посещавшие эту мастерскую, по большей части оптовые торговцы, видели, что в дальнем конце мастерской у окна работала девушка, насколько они могли судить, молодая и красивая, а подле нее стояла, помогая ей, сурового вида старая женщина.
То была Мириам, работавшая в мастерской с утра до вечера, а на ночь уходившая со своей неразлучной Нехуштой наверх, в небольшую комнатку на третьем этаже в доме, смежном с мастерской. Все ремесленники, трудившиеся здесь, были христиане, хотя никто вокруг этого не подозревал. Все их заработки поступали в общую казну, из которой они в равной мере наделялись всем необходимым, остальное же шло на нужды бедных и неимущих.
Никому не приходило в голову разыскивать блестящую красавицу "Жемчужину Востока" среди этих грубоватых, простых и бедных людей, и потому Мириам жилось тут спокойно.
Неделя проходила за неделей, временами в их скромное жилище доходили вести извне, потому что христиане обо всем знали, постоянно передавая все новости друг другу. Так, встречаясь по воскресеньям в катакомбах с другими христианами, Мириам и Нехушта узнали от Юлии, что едва только они успели покинуть дом Галла, туда явились — прежде чем Юлия успела вернуться — стражи Домициана и стали допытываться у Галла, не видел ли он иудейской пленницы "Жемчужины Востока", которую им поручено разыскать — она бежала от человека, который приобрел ее на публичном торгу на Форуме.
Галл, не будучи христианином, смело отвечал, что не видал девушки с самого дня триумфа и ничего о ней не знает, и стражи, не заподозрив его в обмане, удалились и уже более не беспокоили его.
Что касается Марка, то его из дворца отвели прямо в военную тюрьму близ храма Марса, где ему было отведено прекрасное помещение, приставили для услуг его же дворецкого, старого Стефана и, взяв честное слово, что он не попытается бежать, разрешили гулять в саду, расположенном между храмом и тюрьмой, и принимать друзей и посетителей.
Одним из этих посетителей был совершенно незнакомый арестованному человек. Он был одет в скромное платье мастерового, руки его были грубы и мозолисты, зато благородные черты лица сильно противоречили его внешнему облику, а разговор его и обхождение выдавали в нем человека воспитанного и образованного.
— Присядь, друг! — ласково сказал Марк, — и расскажи, какое у тебя дело и чем я могу служить тебе.
— Мое дело — утешать скорбящих и облегчать души страждущих! — отвечал странный посетитель.
— В таком случае, ты явился сюда в добрый час. Уж не христианин ли ты? Не бойся сознаться мне в этом, у меня есть близкие друзья среди христиан, и я никому не желаю зла, а тем более христианину!
— Я ничего не боюсь, благородный Марк! Да и теперь дни царствования Нерона миновали. Если ты хочешь знать, то я Кирилл, епископ христианского братства в Риме. Я пришел сюда с тем, чтобы преподать тебе утешения нашей веры, если ты пожелаешь меня выслушать.
— Прекрасно! — согласился Марк. — Но какую же плату хочешь ты получить за это преподавание мне новой религии?
— Откажись, господин, если предложение мое тебе не душе, но не обижай меня насмешками. Я не продаю за деньги учение Христа и Господа моего.
— Прости, — сказал Марк, — я не хотел оскорбить тебя, но я знавал немало священнослужителей, которые брали деньги за свои услуги! Правда, они были не вашей веры. Скажи, кто говорил тебе о Марке, кто направил тебя сюда?
— Некто, с кем ты был великодушен и благороден в своем поведении, — ответил Кирилл.
— Неужели?..
— Да, та, о которой ты думаешь… Не тревожься за нее, и она, и спутница ее теперь под моим покровительством и под защитой братьев во Христе, им не грозит никакая опасность. Утешься этим и не старайся узнать больше! Не благодари меня за нее, оказывать помощь и покровительство нуждающимся в них — наш долг и наша отрада!
— Ах, друг Кирилл! — воскликнул Марк. — Ей грозит страшная опасность! Я только что узнал, что соглядатаи и шпионы Домициана разыскивают ее по всему городу, подстерегая на всех перекрестках. Пусть она бежит из Рима в Тир, там у нее есть друзья и имущество!
Кирилл отрицательно покачал головой.
— Я уже сам думал об этом! Но должностным лицам в портах и гаванях отдано строжайшее предписание осматривать все пассажирские суда и при малейшем сходстве кого-нибудь с разосланными им приметами "Жемчужины Востока" задерживать и препровождать немедленно в Рим.
— Неужели нет никакой возможности увезти ее отсюда? — с тоской спросил Марк.
— Я знаю только одно такое средство, но оно стоит слишком дорого, а мы, христиане, недостаточно состоятельные люди, чтобы осуществить его. Надо купить на имя какого-нибудь известного купца небольшую галеру и, снарядив ее, нагрузить товаром, находящим сбыт в Сирии, а затем ночью посадить девушку на это судно!
— Подыщите-ка такую галеру и надежных людей, друг Кирилл, а деньги я достану! — воскликнул с жаром Марк.
— Постараюсь!
— Ну, а теперь научи меня вере, друг Кирилл. Расскажи о вашем Боге, столь далеком от нас, бедных смертных.
— Но, в сущности, столь близком к каждому из верующих, что мы почти ощущаем его присутствие!
И епископ Кирилл принялся толковать римлянину истины христианского учения и беседовал с ним, пока не настало время запирать тюремные ворота.
— Приходи ко мне еще, друг Кирилл! — проговорил, прощаясь с ним, Марк. — Мы снова побеседуем с тобой!
Четыре дня спустя епископ Кирилл опять навестил Марка, сообщив, что Мириам здорова и невредима и шлет ему привет, а также, что он, Кирилл, отыскал бывшего капитана, некоего грека по имени Гектор, который намеревается отплыть в Сирию с грузом товаров. Гектор этот христианин и вполне надежный человек, он брался набрать экипаж для судна из христиан и иудеев и, по наведенным справкам, мог указать на несколько небольших галер, которые можно приобрести за сравнительно скромную цену, особенно одну из них — "Луну".
Кроме того епископ Кирилл сообщил Марку, что Галл и его жена Юлия из любви к Мириам, которая стала им дорога, как родная дочь, решили покинуть Рим вместе с ней и поселиться где-нибудь в Сирии, обратив свое имущество в деньги.
Узнав от епископа, какая на все это потребуется сумма, Марк призвал своего верного Стефана и приказал вручить все требуемые деньги судовому плотнику Септиму, получив с него расписку. Старый слуга выразил полную готовность, полагая, что деньги пойдут на выкуп его господина.
XXVIII. Последнее свидание
В то время как Домициан наконец устал разыскивать и преследовать несчастную "Жемчужину Востока", Халев продолжал свои поиски страстно и неутомимо. Полагая, что если Мириам осталась в Риме, то, наверное, будет хоть изредка посещать своих друзей Галла и Юлию, он окружил их дом шпионами, которые денно и нощно сторожили всех входящих и выходящих из дома старого Галла. Но напрасно. Юлия и Мириам виделись только в катакомбах, в часы молитв, а туда Халев и его соглядатаи не могли проникнуть. Когда Галл и его жена покинули Рим и временно переселились в Остию в ожидании отплытия "Луны", Халев последовал за ними, но убедившись, что о Мириам не было даже помина, вернулся в Рим и здесь совершенно случайно открыл ее убежище.
Выбирая для себя светильник художественной работы у одного из лучших торговцев, Халев внезапно наткнулся на вещицу необычной красоты. Светильник этот был исполнен в виде двух сплетенных между собой финиковых пальм, вершины которых расходились врозь. Вглядываясь внимательно в эту вещь, Халев смутно почувствовал нечто родное и знакомое. Он разглядел, что у подножия пальм лежит большой плоский камень и тут же протекает река. Теперь в его мозгу разом воскресло воспоминание о далеких берегах Иордана, он узнал этот плоский камень, на котором мальчиком просиживал целые вечера, бок о бок с Мириам, занимаясь ловлей рыбы на удочку. Да, да… Вот подле камня лежит и рыба!
— Этот светильник нравится мне! — сказал он торговцу. — Я беру его, но скажи мне, друг, не знаешь ли ты, чьей он работы?
— Не могу сказать, господин! — отвечал купец. — Мы получаем эти вещи оптом от одного посредника. Ходят слухи, он епископ христиан и у него работает много его единоверцев в ремесленном квартале Рима.
Уплатив за купленную им вещь, Халев прямо от торговца направился в квартал ремесленников и здесь разыскал мастерскую художественных светильников и сосудов. Но увы! Он явился слишком поздно, рабочие уже разошлись, и мастерские запирались. Тем не менее от одной девушки, запиравшей двери какого-то рабочего помещения, он узнал, что художница, изготовившая светильник, который он держал в руках, живет в смежном доме, на третьем этаже, под самой крышей и что, вероятно, ее можно теперь застать дома.
Поблагодарив девушку, Халев поспешил подняться на третий этаж указанного дома и, остановившись на узкой темной площадке, увидел перед собой плохо притворенную дверь, из которой пробивалась узкая полоса света. Подкравшись к этой двери, Халев увидел Мириам, стоявшую у маленького низкого окошка в белой праздничной одежде, и Нехушту, которая, согнувшись над огнем очага, готовила ужин.
— Подумай только, Ноу! — радостно воскликнула девушка. — Ведь, это наша последняя ночь в этом ненавистном городе! Завтра, вместо душной мастерской, простор безбрежного моря… и палуба "Луны"…
— В уме ли ты, госпожа, что говоришь так громко о таких вещах? — окликнула ее старуха.
Вдруг Халев порывистым движением распахнул дверь и вошел в комнату.
— Кто мог думать, Мириам, что расставшись у врат Никанора в Иерусалиме, мы встретимся с тобою здесь, а с тобой, Нехушта, на торгах в Форуме?! — произнес он, обращаясь к испуганным женщинам.
— Халев, зачем ты пришел сюда? — спросила Мириам упавшим голосом, словно предчувствуя беду.
— Я пришел заказать второй экземпляр этого светильника, вышедшего из твоих рук! — начал было он.
— Не лукавь, злой коршун! — воскликнула Нехушта. — Ты пришел сюда, чтобы схватить свою добычу и повлечь ее на позор и унижение, от которых она ушла!
— Не всегда я был злым коршуном для нее! Вспомни осаду Тира, вспомни про врата Никанора. Теперь я пришел вырвать ее из когтей Домициана!
— И захватить ее в свои! — воскликнула Нехушта. — О, ты не думай обмануть меня! Я все знаю, знаю о твоем уговоре с Сарториусом, дворецким Домициана. У нас, христиан, везде есть глаза и уши… Знаю, что ценой жизни купившего ее ты хотел получить невольницу, знаю, как ты клятвой скрепил клевету, позорящую честь твоего соперника, и как ты, словно коршун, выслеживал свою добычу, чтобы в конце концов вцепиться в нее своими когтями!.. Она беспомощна и беззащитна, да, но за нею стоит Некто, Кто силен. Пусть гнев Его обрушится на тебя!
— Молчи, злая женщина! — воскликну Халев. — Если я много погрешил, то потому, что сильно любил…
— И еще сильнее ненавидел! — докончила Нехушта.
— О, Халев, если правда то, что ты говоришь, зачем же ты так жесток ко мне и так безжалостен? — умоляюще произнесла Мириам. — Ты знаешь, что я не люблю тебя той любовью, о какой ты мечтаешь, и не могу полюбить. Знаешь, что сердце мое уже не принадлежит мне! Неужели ты хочешь сделать жалкой невольницей меня, твою подругу юности! Оставь же меня в покое и не преследуй больше!..
— Оставить тебя, позволить уплыть на галере "Луна"?
— Да! — решительно подтвердила девушка, хотя внутренне содрогнулась при мысли, что ему все известно. — Ведь много лет тому назад ты клялся, что никогда не навяжешь себя мне насильно, против моей воли! Зачем же ты теперь хочешь нарушить эту клятву, Халев?
— Я клялся также, что плохо придется тому человеку, который встанет между тобой и мной, и не намерен нарушать этой клятвы! Отдайся мне добровольно, Мириам, и спаси этим своего возлюбленного Марка. Если же ты откажешься, то я предам его на смерть. Выбирай же между мной и его смертью!
— Разве ты подлец, Халев, что предлагаешь мне подобный выбор?
— Называй, как хочешь, но решай сейчас же!
Мириам в порыве отчаяния всплеснула руками и подняла глаза к небу, словно прося помощи свыше, затем глаза ее вспыхнули огнем внезапной решимости, и она твердо произнесла:
— Я решила, Халев! Делай, что хочешь, жизнь и судьба Марка и моя не в твоих руках, а в руках Господа моего. Без Его воли ни ты, ни Домициан не можете ничего сделать. Но честь моя принадлежит мне, и на мне лежит долг блюсти ее, за нее я должна дать ответ Богу и Марку, который отвернулся бы от меня, если бы я такою ценой согласилась купить его жизнь.
— И это твое последнее слово?
— Да, последнее! Делай что хочешь и с Марком, и со мной.
— Так пусть же так и будет! — воскликнул Халев с горьким смехом. — Пусть же на "Луне" недосчитаются одной прекрасной пассажирки!
Мириам опустилась на колени и закрыла лицо руками, а Халев дошел до дверей и остановился. Вдруг лицо его приняло совершенно иное выражение.
— Нет, Мириам! Я не могу этого сделать! — произнес он, медленно выговаривая слова. — Я погрешил и против тебя, и против того человека и теперь искуплю свою вину. Тайны твоей я никому не выдам, а так как ты ненавидишь меня, то даю тебе слово, что это наше последнее свидание и ты никогда больше меня не увидишь. Даю тебе обещание сделать все, что в моих силах, для освобождения римлянина, даже оказать ему содействие разыскать тебя в Тире. Прощай!
С этими словами он вышел из комнаты.
Халев сдержал свое слово, на другой день судно "Луна" благополучно и беспрепятственно вышло из порта Остии, увозя Мириам, Нехушту, Галла и Юлию.
Спустя неделю после этого цезарь Тит вернулся в Рим, и дело Марка было назначено к разбору. Внимательно выслушав обвинение, Тит высказал следующее решение.
— Я рад, что Марк, которого я долго оплакивал как мертвого, жив, и глубоко сожалею о том, что его подвергали допросу в мое отсутствие, чего бы, конечно, не случилось, если бы он тотчас же по прибытии в Рим явился ко мне. Я отрицаю всякого рода обвинения, касающиеся его чести и испытанной в боях храбрости. Но, несмотря на все это, я не могу обойти вниманием тот факт, что Марк был захвачен в плен и не лишил себя жизни, как это предписывалось каждому римскому воину в подобном случае, за что и был обвинен и признан виновным военным судом под председательством Домициана. Сделать для него исключение было бы несправедливым в глазах всего Рима и оскорбительным для Домициана. Все, что теперь возможно сделать для старого товарища и соратника — это подвергнуть его как можно более легкому наказанию.
Таким образом, Титом было объявлено, что Марк будет выпущен из тюрьмы и ночью, под охраной небольшой стражи, направится прямо в свой дом на
Via Agrippa, чтобы избежать стечения народа и всякого рода демонстраций. Здесь ему будет предоставлено необходимое для устройства его денежных и домашних дел время, а затем в десятидневный срок он покинет Рим и Италию на три года, если по каким-либо соображениям или причинам срок этот не будет сокращен особым приказом. По прошествии же назначенного срока Марку предоставлялось право вернуться в Рим и пользоваться всеми правами римского гражданина и префекта гвардии Тита.
Случилось так, что этот императорский декрет был сообщен Марку не кем иным, как коварным Сарториусом, который прямо из дворца прибежал к заключенному с этой вестью.
— Вообрази, благородный Марк! — говорил он. — Даже все имущество твое, вопреки всяким правилам и обычаю, не будет отобрано в казну, а останется неприкосновенным, так что ты будешь иметь возможность вознаградить твоих друзей и доброжелателей, хлопотавших за тебя о милостивом приговоре цезаря!
— Почему же Тит решил мою судьбу, даже не допросив и не повидав меня? — спросил Марк.
— Почему? Потому что Домициан заявил ему, что, если он уничтожит его допрос по этому делу, то это послужит поводом к явному разрыву между ним и цезарем. А так как Тит опасается брата и не желает окончательной ссоры с ним, то решил не видеть тебя, чтобы не поддаться влиянию старой дружбы и не изменить своего решения.
— Значит, Домициан и по сей час питает ко мне вражду?
— Да, тем более, что он нигде не может отыскать "Жемчужину Востока", а потому прими мой совет и покинь Рим как можно скорее, чтобы не приключилось с тобой чего-нибудь худшего!
— Об этом не беспокойся, а относительно девушки скажи своему господину, что пусть он ищет ее не здесь, а далеко за морем. Ну, а теперь убирайся отсюда, лиса, и оставь меня в покое!
— Так это вся моя награда?
— Нет! Если ты останешься здесь еще дольше, то получишь от меня такую награду, которой вовсе не желаешь и которую не скоро забудешь! — сказал Марк.
Сарториус поспешил уйти, но, выйдя за дверь, злобно погрозил Марку кулаком.
Дорога ко дворцу Домициана проходила мимо торгового помещения купца Деметрия. Взглянув на его вывеску, старый дворецкий приостановился и подумал: "Может быть этот окажется более щедрым", — и решил зайти к нему.
Халев сидел один у своей конторки, опустив голову на руки, в глубоком раздумье. Сарториус поместился в кресле против него и сообщил то, что было известно относительно решения Тита, а в заключение прибавил, что только благодаря его неусыпным стараниям удалось подвигнуть цезаря принять столь строгое решение по отношению к Марку, которого он любит и уважает.
— Надеюсь, — добавил Сарториус, — мои труды не останутся без вознаграждения!
— Не беспокойся! Тебе будет хорошо заплачено! — сказал Халев совершенно спокойно.
— Премного благодарен за это, друг Деметрий, — проговорил дворецкий, с довольным видом потирая руки. — Кроме этого приговора Тита, дерзкий безумец накликал на себя еще новую беду. Он проговорился, что девушка, из-за которой вышла вся эта история, переправлена им куда-то за море. Когда Домициан узнает об этом, то придет в такое бешенство, что наверняка пожелает примерно отомстить вырвавшему у него из рук "Жемчужину Востока". Марку она, во всяком случае, не достанется, так как Домициан прикажет преследовать ее везде и вернуть ее сюда, вам, достопочтенный Деметрий.
— В таком случае Домициану придется разыскивать эту девушку не за морем, а на дне моря. Мне известно, что она покинула Италию с месяц тому назад на галере "Луна", а сегодня я от капитана и людей экипажа галеры "Императрица" узнал, что во время страшной бури близ Регия на их глазах судно затонуло и пошло ко дну. Один из людей с погибшего судна был спасен, и от него узнали, что судно это — галера "Луна".
— Вот как! — произнес удивленный Сарториус. — Значит, женщина, обладать которой стремились многие, была предназначена Нептуну. Ну, так как Домициан не может отомстить этому богу, он отомстит тому, по чьей вине она очутилась в объятиях Нептуна. Я сейчас же поспешу к своему августейшему повелителю сообщить ему обо всем!
— После чего ты, конечно, вернешься сюда, друг Сарториус!
— О, без сомнения… Ведь наши счеты еще не сведены.
— Да, да, наши счеты еще не сведены…
Спустя два часа дворецкий Домициана снова появился в торговом помещении александрийского купца Деметрия.
— Ну, что? — спросил его Халев.
— Никогда в жизни я не видал своего августейшего господина в таком гневе. Когда он узнал, что "Жемчужина Востока" бежала из Рима и стала добычей волн, бешенство его не знало границ. Оставаться подле него было положительно опасно! Он проклинал всех и вся, плакал, рыдал и скрежетал зубами в бессильной злобе на Марка. Но мне удалось наконец успокоить его, указав надлежащий выход его гневу и, вместе с тем, угодить и тебе, высокочтимый Деметрий. Видишь ли, сегодня после заката солнца, то есть часа через два, Марк будет выпущен из тюрьмы и препровожден в свой дом, где в данное время нет никого, кроме его старого слуги Стефана и дряхлой старушки-невольницы. Так вот, прежде чем Марк явится в свой дом, несколько надежных людей, которым можно вполне довериться и которых Домициан всегда умеет находить, когда они ему нужны, проберутся в дом Марка и, связав и заперев Стефана и старую рабыню, будут подстерегать хозяина под сводами арок перистиля. Об остальном ты, конечно, догадываешься…
— Не возбудит ли этот поступок подозрения?
— Кто осмелится подозревать Домициана? Это будет простое частное преступление, ничего более… Марк так богат, а у богатых людей всегда много ненавистников!
Однако Сарториус забыл добавить, что Домициана никто не заподозрит в этом убийстве потому, что наемникам велено сказать Стефану и старой рабыне, что они подкуплены богатым александрийским купцом Деметрием или, иначе говоря, иудеем Халевом, у которого с Марком давние счеты!
— Ну, а теперь мне пора идти! Еще надо кое за чем приглядеть, а времени уже остается немного. Так не покончим ли мы теперь наши расчеты?
— Да, да, конечно! — И, достав сверток золотых монет, Халев подвинул его через конторку Сарториусу.
Тот печально покачал головой.
— Я рассчитывал на вдвое большую сумму! Подумай только, какое блестящее удовлетворение чувства мести я доставил тебе! Ведь большего невозможно желать.
— Верно, но ведь Марк еще жив, а пока он жив, нельзя считать дело свершившимся!
— Да, конечно, жив, но через несколько часов будет уже мертв!
— Тогда ты получишь и вторую половину той суммы, на которую рассчитывал, но не раньше, чем я увижу его труп!
Делать было нечего. Со вздохом Сарториус удалился, мысленно рассуждая о том, как бы ему получить остальные деньги, прежде чем этого иудея схватят по подозрению в убийстве римского гражданина.
После его ухода Халев взял перо и написал короткое письмо, затем, призвав одного из своих слуг, приказал отнести это письмо по назначению, но не раньше чем через два часа после заката.
Потом он обернул свое послание во вторую, наружную обертку, чтобы никто не мог прочесть на нем адреса, и после этого некоторое время оставался совершенно неподвижен, только губы его как будто шептали молитвы.
Но вот он взглянул в окно и увидел, что солнце садится. Встав, Халев завернулся в широкий темный плащ, подобный тем, какие носили римские воины, и вышел из дома.
XXIX. Как Марк стал христианином
Не один Халев узнал о крушении и гибели судна "Луна" близ Регия, слух об этом дошел и до епископа Кирилла. Убедившись в его справедливости из уст самого капитана галеры "Императрица", Кирилл прямо от него направился в военную тюрьму близ храма Марса. Когда он явился туда, привратник не хотел было пропустить его, так как Марк не желал никого видеть и приказал не допускать к себе посетителей. Но Кирилл, невзирая на запрещение, толкнул дверь и вошел в комнату заключенного. Марк стоял посредине с коротким римским мечом в руке. При виде вошедшего он с досадой бросил меч на стол, и тот упал рядом с письмом, адресованным на имя Марка в Тир.
— Мир тебе! — произнес обычным ласковым голосом епископ, глядя на Марка испытующим взглядом.
— Благодарю, друг! — с загадочной улыбкой ответил Марк. — Я нуждаюсь в мире и жажду примирения!
— Скажи, сын мой, что ты хотел сейчас сделать, когда я вошел и помешал тебе?
— Я собирался покончить с собой! Добрые люди принесли мне этот меч с плащом, спасибо им — они позаботились о моей чести…
Кирилл молча взял меч со стола и швырнул его в дальний угол.
— Благодарение Господу! Он привел меня сюда вовремя, чтобы удержать тебя от страшного греха. Разве ты вправе лишать себя жизни только потому, что Господь пожелал взять ее жизнь?
— Ее жизнь? Что значат эти страшные слова? Чью жизнь?!
— Жизнь Мириам! Я пришел сказать тебе, сын мой, что она утонула в море со всеми своими спутниками. Галера "Луна", застигнутая бурей, пошла ко дну.
С минуту Марк стоял раскачиваясь из стороны в сторону, точно пьяный. Затем схватился за голову и, упав лицом на стол, глухо застонал.
— Уйди, друг, оставь меня одного! Если ее не стало, на что мне эта жизнь? Я потерял свою честь и заклеймен позорным званием труса. Тит скрепил это своим решением и отсылает меня в изгнание.
— Полно, сын мой, как может пострадать твоя честь от декрета, основанного на ложных показаниях и вынесенного по политическим соображениям? Неужели ты утратил свою честь потому, что другие бесчестно поступили с тобой? Ты хочешь бежать с поля битвы и доказать, что ты действительно трус?
— Могу ли я жить с таким позором! Друзья поняли это, прислав мне меч!
— Нет, сам сатана прислал его тебе, чтобы под влиянием своего ложного самолюбия ты совершил греховный и малодушный поступок. Подумай, какими словами встретит тебя Мириам в загробной жизни, если ты явишься к ней с руками, обагренными собственной кровью! Нет, благородный Марк, вспомни Христа, который принял позор и понес крест свой. Поступи и ты так же и, верь мне, ты найдешь утешение в сознании своей чистоты и правоты. Неужели я тщетно убеждал тебя все время в высоких истинах учения Христа? Неужели дух твой не воспринял их, не постиг всем сердцем, как я было надеялся!..
Кирилл еще долго увещевал и наставлял Марка. Тот слушал его с благоговейным вниманием и наконец произнес:
— Все это я знал и раньше, эти высокие истины давно воспринял душой, полюбил и поверил, но не хотел принять Святого Крещения из опасения, что она подумает, и я сам порой стану сомневаться, не сделался ли я христианином только из желания обладать ею. Теперь же другое дело, я готов сейчас же креститься и стать членом христианской общины!
— Господь взыскал и вразумил тебя, хвала Ему за это! — радостно сказал Кирилл и тут же, взяв воды, совершил обряд Святого Крещения.
— Что же мне делать? — спросил Марк. — Некогда мной повелевал цезарь, теперь ты говоришь голосом цезаря, и я готов повиноваться тебе!
— Не мне, а голосу Божьему! Я же просто брат, а советник и наставник твой только потому, что старше и опытнее. Слушай же. Александрийская церковь призывает меня по делам веры в Египет, куда я отправляюсь на этих днях. Не хочешь ли и ты, так как тебе все равно нельзя оставаться в Риме, отправиться вместе со мной? Там я найду для тебя дело.
— Благодарю тебя, высокочтимый Кирилл! Видишь, солнце уже заходит. Теперь я свободен! Не откажись пойти со мной в мой дом, где меня ожидает немало серьезных дел, в которых мне необходим твой совет!
В следующий момент двери тюрьмы отворились, и они вышли в сопровождении нескольких стражников и направились, никем не замеченные, ко дворцу Марка на улицу Агриппы.
— Вот твои ворота, благородный Марк! — сказали солдаты. — Прощай, и дай тебе бог всего доброго!
Простившись с ними, Марк и его спутник вошли в ворота, которые почему-то стояли, распахнутые настежь, затем, заперев их за собой, перешли в перистиль.
— Для такого дома, где столько ценного, это непорядок! — заметил Кирилл. — В Риме у каждой открытой двери необходим привратник.
— Мой слуга Стефан должен был встретить меня! Удивляюсь, почему его не видно! — проговорил Марк и вдруг, впотьмах споткнувшись обо что-то, неловко упал.
— Что это? — спросил Кирилл.
— Если не ошибаюсь, пьяный или мертвый человек! — ответил Марк. — Вероятно, какой-нибудь нищий приютился здесь, чтобы проспаться от хмеля.
— Вон в том окне горит свет, проводи меня туда, Марк! Потом мы можем вернуться сюда со светильником!
Марк поднялся на ноги и пошел вперед через двор к флигелю, в котором помещалась прислуга. И здесь дверь была отперта; они вошли в комнату старого Стефана. На столе горел светильник, и при его свете вошедшим предстала странная картина. Окованный железом ларец, прикрепленный тяжелыми цепями к стене, был взломан, и все содержимое разграблено, мебель в комнате была частью опрокинута, частью поломана, что свидетельствовало о происходившей здесь борьбе, а в дальнем углу комнаты, под тяжелым мраморным столом, лежали две связанные по рукам и ногам человеческие фигуры.
— Это ты, Стефан? — спросил Марк.
Да, то были Стефан и старая невольница. Марк выхватил свой меч и перерезал им веревки. Бедный старик очнулся только теперь.
— Это ты, господин мой? — пролепетал он. — А я думал, что они убили тебя. Они сказали, что явились сюда убить тебя по приказанию иудея Халева, который обещал им хорошее вознаграждение.
— Они? Кто они? — спросил Марк.
— Не знаю, четверо мужчин, лица которых были скрыты под масками! Они связали меня и старуху и, награбив здесь всего, что могли найти, пошли подстерегать тебя под арками перистиля. Вскоре я услышал шум борьбы и чуть не умер от горя, так как был уверен, что ты погибаешь под ножами убийц, а я не могу ни защитить, ни предупредить тебя.
Марк, не дослушав его, схватил светильник и кинулся в перистиль. Здесь, наклонившись над человеком, лежащим лицом вниз, он приподнял его так, что свет упал на его лицо, и невольно отпрянул назад: то был Халев.
— Как видно, он попал в им же самим расставленную для меня ловушку! — сказал Марк, не отводя глаз от мертвого лица. — Я знаю, что он ненавидел меня и не раз пытался убить, но никогда я не думал, чтобы этот человек мог прибегнуть к убийству! Судьба хорошо отплатила ему, предателю!
— Не суди, да не судим будешь! — произнес Кирилл. — Разве ты можешь знать, каким образом смерть настигла этого человека? Быть может, он пришел сюда предупредить тебя об опасности!
— От нанятых им самим убийц! Едва ли!
Затем они молча внесли тело убитого в дом и стали обсуждать, что им делать.
В это время послышался стук в ворота.
— Я пойду отпереть! — сказал Стефан. — Чего мне боятся? Я стар и никому не нужен!
Через минуту он возвратился, передав Марку письмо.
— От кого? — спросил Марк.
— Посланный сказал, что от Деметрия, александрийского купца, у которого он служит.
— Под этим именем проживал здесь в Риме Халев! — произнес Марк и, вскрыв письмо, прочел:
Благородному Марку от Халева.
Раньше я желал твоей погибели и не раз пытался лишить тебя жизни, но теперь до сведения моего дошло, что Домициан, ненавидящий тебя еще больше, чем я, подговорил убийц заколоть тебя на пороге твоего дома. И вот, испытывая угрызения совести за то ложное свидетельство, которое я произнес против тебя, исказив истину и запятнав твою честь, я решил явиться в твой дом в плаще, подобном тому, какие носите вы, римские офицеры. Весьма возможно, что прежде чем ты прочтешь эти строки, все уже будет кончено для меня. Но не сожалей обо мне и не называй меня великодушным, мне было легко это сделать потому, что Мириам умерла, и я спешу последовать за ней в загробную жизнь, где надеюсь на более счастливую долю или хотя бы на забвение. Правда, я предпочел бы умереть в открытом бою и под твоим мечом, благородный Марк, но судьба решила иначе, и я паду под ножом наемных убийц, призванных лишить жизни другого человека. Пусть так. Ты остаешься здесь, я же спешу к Мириам. Мне ли роптать на пути, по которому я иду к ней?!
Писано в Риме в день моей смерти.
Халев.
— Смелый он был человек и несчастный! Теперь я завидую ему больше, чем кому бы то ни было, так как, не послушай я тебя, он нашел бы меня подле Мириам! — проговорил Марк, прочтя это послание.
— Ты рассуждаешь как язычник, — остановил его епископ, — в будущей жизни души не женятся и замуж не выходят. Там земные страсти молчат, а пока мы живы, надо позаботиться о твоих делах и покинуть Рим прежде, чем Домициан успеет узнать, что Халев пал вместо Марка.
* * *
Прошло около трех месяцев со времени только что описанных нами событий. Большая галера медленно вошла в гавань Александрии в тот момент, когда над морем зажглись огни Фароса. Плавание этой галеры было трудным и продолжительным. Когда она наконец пришла в Александрийскую гавань, вода и продовольствие на ней были на исходе. И теперь епископ Кирилл, римлянин Марк и некоторые
другие христиане воздавали благодарение Богу, стоя на вечерней молитве в своей каюте на баке. О том, чтобы еще в эту ночь съехать на берег, нечего было и думать, а потому, совершив молитву, все вышли на палубу. Так как ни есть, ни пить было нечего, они стали смотреть на море и на берег, где зажигались тысячи огней. На расстоянии выстрела от их галеры стояло на якоре другое судно, откуда доносились звуки тихого пения. Марк и Кирилл стали прислушиваться к этим звукам и вскоре различили слова христианского гимна.
— Там, на судне, должны быть христиане! — сказал Марк. — Они, наверное, не откажут нам в куске хлеба и глотке воды! Попросим капитана дать нам шлюпку и подъедем туда!
Спустя четверть часа шлюпка, в которой сидели Кирилл и Марк, пристала к судну, часовой на корме окликнул их. После обычных расспросов и переговоров они были приняты на незнакомое судно. Сам капитан встретил их и узнав, что они христиане, повел под холщовый навес, эта часть палубы под ним была ярко освещена фонарями. В середине стояла девушка, вся в белом, и, молитвенно сложив руки, пела тот гимн, который они слышали с палубы своей галеры. Звуки этого голоса показались как-то особенно знакомы Марку. Вдруг девушка обернулась на звук шагов вновь прибывших, и свет одного из фонарей ударил ей прямо в лицо, Марк не удержался и громко воскликнул:
— Это Мириам или ее дух!
Теперь и она узнала его и, слабо вскрикнув, упала без чувств.
Так встретились они на палубе незнакомого судна. Вскоре Марк и Кирилл узнали, что весть о гибели "Луны" была ошибочной. Спасенный экипажем "Императрицы" матрос погибшего судна или перепутал от страха название своего корабля, или же то была другая галера "Луна" — в то время это было весьма распространенное среди судов название.
Судно же, на котором находились Мириам и ее друзья, благополучно избежало всех опасностей и своевременно пришло в Александрию без всяких повреждений.
В тот же вечер Мириам узнала, как Халев сдержал данное ей обещание, как Кирилл удержал Марка от самоубийства и, наконец, как Марк был приобщен к христианской Церкви. Так как он принял крещение, считая Мириам умершей, то это исключало для нее всякие подозрения в том, что он принял христианство из желания стать мужем любимой девушки.
Таким образом, Бог неисповедимыми путями привел их к благу и счастью. На другой день после этой счастливой и неожиданной встречи Марк и Мириам были повенчаны тут же, на галере "Луна", в присутствии седой Нехушты, старого Галла и его супруги Юлии. Нехушта от имени усопшей матери невесты дала свое благословение Мириам, возблагодарив Творца за то, что завет покойной не был нарушен ее дочерью, несмотря ни на что.
КОНЕЦ
Генри Райдер Хаггард
Лейденская красавица
Книга первая. ПОСЕВ
ГЛАВА I. «Волк» и «барсук»
Описываемое нами относится к 1544 году или около того, когда император Карл V правил в Нидерландах, а место действия - город Лейден.
Посетивший этот город знает, что он лежит среди обширных ровных лугов и что его пересекает множество каналов, наполненных водой Рейна. Теперь же, зимой, около Рождества, луга и высокие остроконечные крыши городских строений были покрыты ослепительным снежным покровом; на каналах вместо лодок и барок скользили во всех направлениях конькобежцы по замерзшей поверхности, разметенной для их удобства. За городскими стенами, недалеко от Моршевых ворот, поверхность широкого рва, окружавшего город, представляла оживленное и красивое зрелище. Именно здесь один из рейнских рукавов впадал в ров и по нему съезжали катающиеся в санях, бежали конькобежцы и шли гуляющие. Большинство было одето в свои лучшие наряды, так как в этот день предполагалось устройство карнавала на льду с бегом на призы в санях и на коньках и другими играми.
Среди молодежи выделялась молодая особа лет двадцати трех в темно-зеленой суконной шубе, опушенной мехом и плотно обхватывавшей талию. Спереди шуба раскрывалась на вышитую шерстяную юбку, но на груди она была плотно застегнута и у шеи заканчивалась голубой плойкой из брюссельского кружева. На голове у молодой девушки была высокая войлочная шляпа с эгретом из страусовых перьев, прикрепленных пряжкой из драгоценных камней такой ценности, что ее одной было бы достаточно, чтобы указать на принадлежность молодой девушки к богатой семье. Действительно, Лизбета была единственною дочерью корабельного капитана и собственника Каролуса ван-Хаута, умершего в среднем возрасте год назад и оставившего своей наследнице очень значительное состояние. Это обстоятельство в соединении с хорошеньким личиком, оживленным парой глубоких задумчивых глаз и фигурой более грациозной, чем у большинства нидерландских женщин, приобрело Лизбете ван-Хаут много поклонников, особенно среди лейденской холостой молодежи.
На этот раз Лизбета отправилась кататься на коньках одна, взяв с собой только одну спутницу - свою служанку, намного старше ее, уроженку Брюсселя по имени Грета, привлекательную по наружности и крайне скромную по манерам.
Когда Лизбета скользила по каналу, направляясь ко рву, многие из известных лейденских бюргеров, особенно из молодежи, снимали перед ней шапки: некоторые из этих молодых людей надеялись, что она выберет их себе в кавалеры на сегодняшний праздник. Несколько бюргеров из числа более пожилых предложили ей присоединиться к их семьям, предполагая, что она как сирота, не имеющая близких родственников - мужчин, будет рада их покровительству в такие времена, когда благоразумие заставляло красивую молодую девушку искать чьего-нибудь покровительства. Но Лизбете удалось под разными предлогами отделаться ото всех: у нее был в голове собственный план.
В это время жил в Лейдене молодой человек двадцати четырех лет по имени Дирк ван-Гоорль, дальний родственник Лизбеты. Он происходил из небольшого городка Алькмаара и был вторым сыном одного из самых влиятельных местных горожан - меднолитейщика по профессии. Так как дело должно было перейти к старшему сыну, то отец поместил Дирка учеником в одну из лейденских фирм, в которой он после восьми или девяти лет прилежной работы сделался младшим компаньоном. Отец Лизбеты полюбил молодого человека, и последний скоро стал своим в доме, где был сначала принят как родственник. После смерти Каролуса ван-Хаута Дирк продолжал бывать по воскресеньям у его дочери, когда его с подобающими церемониями принимала тетка Лизбеты, бездетная вдова по имени Клара ван-Зиль, ее опекунша. Таким образом, благоприятные обстоятельства способствовали тому, что молодых людей связывала прочная привязанность, хотя до сих пор они еще не были женихом и невестой и даже слово «любовь» не было произнесено между ними.
Эта сдержанность может показаться странной, но объяснением ее отчасти служил характер Дирка. Он был очень терпелив, не сразу принимал решение, но, приняв его, уже выполнял наверняка. Точно так же, как другие люди, он чувствовал порывы страсти, но не поддавался им. Уже больше двух лет Дирк любил Лизбету, но, не умея быстро читать в женском сердце, он не был вполне уверен, отвечает ли она на его чувство, и больше всего на свете боялся отказа. К тому же он знал, что девушка богата, его же собственные средства невелики, а от отца ему нельзя ожидать многого, и поэтому он не решался сделать предложение прежде, чем приобретет более обеспеченное положение. Если бы капитан ван-Хаут был жив, то дело устроилось бы иначе, так как Дирк обратился бы прямо к нему; но он умер, и молодой человек при своей чувствительной, благородной натуре содрогался от одной мысли, чтобы могли сказать, что он воспользовался неопытностью родственницы для приобретения ее состояния. Кроме того, в глубине души у него таилась еще более серьезная причина к сдержанности, но об этом мы скажем ниже.
Таковы были отношения между молодыми людьми. В описываемый же нами день Дирк, после долгого колебания и ободряемый самой молодой девушкой, попросил у Лиз-беты позволения быть ее кавалером во время праздника на льду и, получив ее согласие, ждал ее у рва. Лизбета надеялась на несколько большее: она желала, чтобы он проводил ее по городу, но когда она намекнула на это, Дирк объяснил, что ему нельзя будет освободиться раньше трех часов, так как на заводе отливался большой колокол, и он должен был дождаться, пока сплав остынет.
Итак, сопровождаемая только Гретой, Лизбета, легкая, как птичка, скользила по льду рва, направляясь к замерзшему озеру, где должен был происходить праздник. Здесь представлялось красивое зрелище.
Позади виднелись остроконечные живописные покрытые слоем снега крыши Лейдена с возвышающимися над ними куполами двух больших церквей - святого Петра и святого Панкратия - и круглой башней «бургом», стоящей на холме и выстроенной, как предполагают, римлянами. Впереди простирались обширные луга, покрытые белым покровом, с возвышающимися на них ветряными мельницами, с узким корпусом и тонкими длинными крыльями, а вдали виднелись церковные башни других селений и городов.
В самой непосредственной близи, составляя резкий контраст с безжизненным пейзажем, расстилалось кишевшее народом озерко, окруженное по краям каймой высохших камышей, стоявших так неподвижно в морозном воздухе, что они казались нарисованными. На этом озерке собралась едва ли не половина всего населения Лейдена. Тысячи людей двигались взад и вперед с веселыми возгласами и смехом, напоминая своими яркими нарядами стаи пестрых птиц. Среди конькобежцев скользили плетевые и деревянные сани на железных полозьях с передками, вырезанными в форме собачьих, бычьих или тритоновых голов, запряженные лошадьми в сбруе, увешанной бубенчиками. Тут же сновали продавцы пирогов, сладостей и спиртных напитков, хорошо торговавшие в этот день. Немало нищих и в числе их уродов, которых в наше время призревали бы в приютах, сидели в деревянных ящиках, медленно их передвигая костылями. Многие конькобежцы запаслись стульями, предлагая их дамам на то время, пока они привяжут коньки к своим хорошеньким ножкам, и тут же сновали торговцы с коньками и ремнями для их укрепления. Картину завершал огненный шар солнца спускавшийся на запад, между тем как на противоположной стороне начинал обрисовываться бледный диск полного месяца.
Зрелище было так красиво и оживленно, что Лизбета, которая была молода и теперь, оправившись от своего горя по умершему отцу, весело смотрела на жизнь, невольно остановилась на минуту в своем беге, любуясь картиной. В ту минуту как она стояла несколько поодаль, от толпы отделилась женщина и подошла к ней, будто не нарочно, но скорее случайно, как игрушечный кораблик, вертящийся на поверхности пруда.
Это была замечательная по своей наружности женщина лет тридцати пяти, высокая и широкоплечая, с глубоко запавшими серыми глазами, временами вспыхивавшими, а затем снова потухавшими, как бы от большого страха. Из-под грубого шерстяного капора прядь седых волос спускалась на лоб, как челка у лошади, а выдающиеся скулы, все в шрамах, точно от ожогов, широкие ноздри и выдающиеся вперед белые зубы, странно выступавшие из-под губ, придавали всей ее физиономии удивительное сходство с лошадиной мордой. Костюм женщины состоял из черной шерстяной юбки, запачканной и разорванной, и деревянных башмаков с привязанными к ним непарными коньками, из которых один был гораздо длиннее другого. Поравнявшись с Лизбетой, странная личность остановилась, смотря на нее задумчиво. Вдруг, будто узнав девушку, она заговорила быстрым шепотом, как человек, живущий в постоянном страхе, что его подслушивают:
- Какая ты нарядная, дочь ван-Хаута! О, я знаю тебя: твой отец играл со мной, когда я была еще ребенком, и раз, на таком же празднике, как сегодня, он поцеловал меня. Подумай только! Поцеловал меня, Марту-Кобылу! - Она захохотала хриплым смехом и продолжала:
- Да, ты тепло одета и сыта и, конечно, ждешь возлюбленного, который поцелует тебя. - При этих словах она обернулась к толпе и указала на нее жестом: - И все они тепло одеты и сыты; у всех у них есть возлюбленные, и мужья, и дети, которых они целуют. Но я скажу тебе, дочь ван-Хаута, я отважилась вылезти из своей норы на большом озере, чтобы предупредить всех, кто захочет слушать, что если они не прогонят проклятых испанцев, то наступит день, когда жители Лейдена будут гибнуть тысячами от голода в стенах города. Да, если не прогонят проклятого испанца и его инквизицию! Да, я знаю его! Не они ли заставили меня нести мужа на своих плечах к костру? А слышала ли ты, дочь ван-Хаута, почему? Потому что все пытки, которые я перенесла, сделали мое красивое лицо похожим на лошадиную морду, и они объявили, что «лошадь создана для того, чтобы на ней ездили верхом».
В то время как бедная взволнованная женщина - одна из целого класса тех несчастных, что бродили в это печальное время по всем Нидерландам, подавленные своим горем и страданиями, не имея другой мысли, кроме мысли о мести, - говорила все это, Лизбета в ужасе пятилась от нее. Но женщина снова придвинулась к ней, и Лизбета увидала, что выражение ненависти и злобы вдруг сменилось на ее лице выражением ужаса, и в следующую минуту, пробормотав что-то о милостыне, которую она может прозевать, женщина повернулась и побежала прочь так скоро, как позволяли ей ее коньки.
Обернувшись, чтобы посмотреть, что испугало Марту, Лизбета увидела за оголенным кустом на берегу пруда, но так близко от себя, что каждое ее слово могло быть слышно, высокую женщину несимпатичной наружности, державшую в руках несколько шитых шапок, будто для продажи. Она начала медленно разбирать эти шапки и укладывать в мешок, висевший у нее за плечами. Во все это время она не спускала проницательного взгляда с Лизбеты, отводя его только, чтобы следить за быстро удалявшейся Мартой.
- Плохие у вас знакомства, сударыня, - заговорила торговка хриплым голосом.
- Это была вовсе не моя знакомая, - отвечала Лизбета, сама удивляясь, что вступает в разговор.
- Тем лучше, хотя, по-видимому, она знает вас и знает, что вы станете слушать ее песни. Если только мои глаза не обманывают меня - это бывает не часто, - эта женщина злодейка и колдунья, так же как и ее умерший муж, ван-Мейден, еретик, хулитель святой Церкви, изменник императору, и, насколько я знаю, она одна из тех, головы которых оценены, и скоро денежки попадут в мешок Черной Мег.
Сказав это, черноглазая торговка медленным твердым шагом направилась к толстяку, по-видимому, ожидавшему ее, и вместе с ним смешалась с толпой, где Лизбета потеряла их из виду.
Смотря им вслед, Лизбета содрогнулась. Насколько она помнила, она никогда не встречалась с этой женщиной прежде, но она настолько была знакома с временем, в котором жила, что сразу узнала в ней шпионку инквизиции. Подобные личности, которым платили за указание подозрительных еретиков, постоянно вмешивались в толпу и даже втирались в частные дома.
Что же касается другой женщины, прозванной Кобылой, то, без сомнения, она была одна из тех отверженных, проклятых Богом и людьми созданий, называемых еретиками, из тех, что говорят ужасные вещи про Церковь и ее служителей, введенные в заблуждение и подстрекаемые дьяволом в образе человеческом - неким Лютером. При этой мысли Лизбета содрогнулась и перекрестилась, так как в это время она была еще ревностной католичкой. Бродяга сказала ей, что знала ее отца, следовательно, она была такого же благородного происхождения, как сама Лизбета, - и вдруг такой ужас… Молодой девушке страшно было вспомнить об этом… Но, конечно, еретики заслуживают такого отношения к себе - в этом не могло быть сомнения; ведь сам ее духовник сказал ей, что только таким образом их души можно вырвать из когтей дьявола.
В этой мысли было много утешительного, однако Лизбета чувствовала себя расстроенной и немало обрадовалась, увидев Дирка ван-Гоорля, бежавшего ей навстречу вместе с другим молодым человеком - также ее родственником с материнской стороны - Питером ван-де Верфом, которому впоследствии суждено было стяжать себе бессмертную славу. Они поклонились, сняв шапки, при этом оказалось, что Дирк - блондин с густыми волосами, из-под которых светились голубые глаза на спокойном лице с немного грубоватыми чертами. Лизбета, всегда несколько несдержанная, была недовольна и высказала это.
- Мне казалось, что мы сговорились встретиться в три, а часы уже пробили половину четвертого, - сказала она, обращаясь к обоим молодым людям, но смотря - и не особенно нежно - на ван-Гоорля.
- Я не виноват, - отвечал ей Дирк своим медленным, тягучим говором, - у меня было дело. Я обещал дождаться, пока металл достаточно остынет, а горячей бронзе дела нет до катанья на коньках и санных бегов.
- Стало быть, вы остались, чтобы дуть на нее? Прекрасно, а результат тот, что мне пришлось идти одной и выслушивать такие вещи, каких я вовсе не желала бы.
- Что вы хотите сказать этим? - спросил Дирк, сразу оставив свой хладнокровный тон.
Лизбета сообщила, что ей сказала женщина по прозванию Кобыла, и прибавила:
- Вероятно, бедняга еретичка и заслужила все то, что произошло с ней, но все же это очень грустно, я же пришла сюда, чтобы веселиться, а не печалиться.
Молодые люди обменялись многозначительным взглядом, заговорил же Дирк, между тем как Питер, более осторожный, молчал.
- Почему вы говорите это, кузина Лизбета? Почему вы думаете, что она заслужила все, случившееся с ней? Я слыхал об этой несчастной Марте, хотя сам не видал ее. Она благородного происхождения - гораздо более знатного, чем все мы трое - и была очень красива, так что ее звали Лилией Брюсселя, когда она была фрау ван-Мейден. Она перенесла ужасные страдания только за то, что не молится Богу так, как молитесь Ему вы.
- Вы не зябнете, стоя на одном месте? - прервал Питер ван-де-Верф, не дав Лизбете ответить. - Смотрите, начинается бег в санях. Кузина, дайте руку, - и, взяв девушку под руку, он побежал с ней по рву. Дирк и Грета последовали на некотором расстоянии.
- Я занял не свое место, - шепотом заговорил Питер, не останавливаясь, - но прошу вас, если вы любите его… простите, - если вы жалеете преданного родственника, то не входите с ним в религиозные рассуждения здесь, в общественном месте, где даже у льда и неба есть уши. Надо быть осторожной, кузиночка! Уверяю вас, надо остерегаться.
В центре озера начиналось главное событие дня - бег в санях. Так как желающих принять участие было много, то они разделились на партии, и победители каждой партии становились на одну сторону, ожидая окончательного состязания. Этим победителям предоставлялось преимущество, похожее на то, которое иногда предоставляется некоторым танцорам в современном котильоне. Каждый управляющий санями должен был везти кого-нибудь на маленьком плетеном сиденье впереди себя, между тем как он сам стоял за запятках позади, откуда и управлял лошадьми посредством вожжей, проведенных через железную подставку так, что они приходились над головой сидящего в санях. В пассажиры себе победитель мог выбирать из числа дам, присутствовавших на бегах, если только сопровождавшие их кавалеры не выражали формального протеста.
Среди победителей был молодой испанский офицер, граф дон Жуан де Монтальво, исправлявший в настоящее время должность находившегося в отпуске начальника лейденского гарнизона. Это был еще молодой человек лет тридцати, знатный по происхождению, красивого кастильского типа, т.е. высокий, грациозный, с темными глазами, резкими чертами лица, имевшими несколько насмешливое выражение, и хорошими, хотя немного натянутыми, манерами. Он еще недавно приехал в Лейден, и потому там об этом привлекательном кавалере знали мало, кроме того, что духовенство отзывалось о нем хорошо и называло его любимцем императора. Все же дамы восхищались им.
Как и можно было ожидать от человека настолько же богатого, как и знатного, все принадлежавшее графу носило отпечаток такого же изящества, как и он сам.
Так, сани его по форме и окраске изображали черного волка, готового броситься на добычу. Деревянную голову покрывала волчья шкура, и украшали ее желтые стеклянные глаза и клыки из слоновой кости, между тем как на шее был надет золоченый ошейник с серебряной бляхой и изображением на ней герба владельца - рыцаря, снимающего цепи с пленного христианского святого, и девизом рода Монтальво: «Вверься Богу и мне». Вороной конь, вывезенный из Испании, лоснился под золоченой сбруей, а на голове его возвышался роскошный плюмаж из разноцветных перьев.
Лизбета стояла случайно около того места, где кавалер остановился после своей первой победы. Она была одна с Дирком ван-Гоорлем, так как Питера ван-де-Верфа, принимавшего участие в беге, отозвали в эту минуту. От нечего делать она подошла поближе и, весьма естественно, залюбовалась блестящей запряжкой, хотя, правда, ее интересовали гораздо больше сани и лошадь, чем управлявший санями. Графа она знала в лицо: он был представлен ей и танцевал с ней на балу у одного из городских вельмож. Граф тогда отнесся к ней с любезностью на испанский лад, по ее мнению, преувеличенной; но так как все кастильские кавалеры держали себя так с бюргерскими девушками, то она и оставила это без дальнейшего внимания.
Капитан Монтальво увидел Лизбету на льду и, узнав ее, приподнял шляпу, кланяясь с тем оттенком снисхождения, которое в те дни проявляли испанцы при встрече с людьми, которых считали ниже себя. В шестнадцатом столетии все, не имевшие счастья родиться в Испании, считались низшими; исключение делалось только для англичан, умевших заставить признавать свое достоинство.
Около часа спустя, когда окончился бег последней партии, распорядитель громко объявил оставшимся соперникам, чтобы они выбирали себе дам и готовились к последнему состязанию. Каждый из кавалеров, передав лошадь конюху, подходил к молодой особе, очевидно ожидавшей его, и, взяв ее за руку, подводил к саням. Лизбета с любопытством следила за этой церемонией, так как само собой разумелось, что выбор обусловливался предпочтением, оказываемым избирателем избираемой, как вдруг была удивлена, услыхав свое имя. Подняв голову, она увидела перед собой дон Жуана де Монтальво, который кланялся ей чуть не до самого льда.
- Сеньора, - сказал он на кастильском наречии, которое Лизбета понимала, хотя сама говорила на нем только в случаях крайней необходимости, - если мои уши не обманули меня, я слышал, как вы похвалили мою лошадь и сани. С разрешения вашего кавалера, - и он вежливо поклонился Дирку, - я приглашаю вас быть моей дамой в решительном беге, зная, что это принесет мне счастье. Вы разрешаете, сеньор?
Если и был народ, ненавистный Дирку, то это были испанцы, и если был кто-либо, с кем он не желал бы отпустить Лизбету на катанье вдвоем, то это был граф дон Жуан де Монтальво. Но Дирк обладал замечательною сдержанностью и так легко конфузился, что ловкому человеку ничего не стоило заставить его сказать то, чего он вовсе не намеревался. Так и теперь, видя, как этот знатный испанец раскланивается перед ним, скромным голландским купцом, он совершенно растерялся и пробормотал:
- Конечно, конечно.
Если бы взгляд мог уничтожить человека, то Дирк моментально превратился бы в ничто, так как сказать, что Лизбета рассердилась, было бы мало: она буквально была взбешена. Она не любила этого испанца, и ей невыносима была мысль о долгом пребывании с ним наедине. Кроме того, она знала, что ее сограждане вовсе не желают, чтобы в этом состязании, составлявшем годовое событие, победа осталась за графом, и ее появление в его санях могло быть истолковано как желание с ее стороны видеть его победителем. Наконец - и это причиняло ей больше всего досады, - хотя соревнователи и имели право приглашать в свои сани кого им вздумается, но обыкновенно их выбор останавливался на дамах, с которыми они были близко знакомы и которых заранее предупреждали о своем намерении.
В минуту эти мысли пронеслись в уме молодой девушки, но она только проговорила что-то о господине ван-Гоорле.
- Он совершенно бескорыстно дал свое согласие, - прервал ее капитан Жуан, предлагая ей руку.
Не делая сцены - что дамы считали неприличным тогда, как считают и теперь, - не было возможности отказать на глазах половины жителей Лейдена, собравшихся посмотреть на «выбор». Скрепя сердце Лизбета взяла предлагаемую руку и пошла к саням, уловив по дороге не один косой взгляд со стороны мужчин и не одно восклицание действительного или притворного удивления со стороны знакомых дам…
Эти выражения враждебности заставили ее овладеть собой. Решившись, по крайней мере, не казаться надутой и смешной, она сама мало-помалу начала входить в роль и милостиво улыбнулась, когда капитан Монтальво стал закутывать ей ноги великолепной медвежьей полостью.
Когда все было готово, Монтальво взял вожжи и сел на маленькое сиденье позади, а слуга-солдат вывел лошадь под уздцы на линию.
- Сеньор, где назначен бег? - спросила Лизбета, надеясь в душе, что дистанция назначена небольшая.
Но ей пришлось разочароваться, так как Монтальво отвечал:
- Сначала к Малому Кваркельскому озеру, кругом острова на нем, потом обратно сюда - всего около мили. А теперь, сеньора, прошу вас не говорить со мной; держитесь крепко и не бойтесь: я хорошо правлю, у моей же лошади нога твердая, и она подкована для льда. Я дал бы сотню золотых, чтобы выиграть на этот раз, так как ваши соотечественники клялись, что я проиграю, и, поверьте мне, борьба с этим серым рысаком будет не легкая.
Следуя направлению взгляда испанца, глаза Лизбеты остановились на санях, стоявших рядом. Это были маленькие саночки, по форме и окраске представлявшие серого барсука - это молчаливое, упрямое и при случае свирепое животное, не выпускающее свою добычу прежде, чем голова отделиться от туловища. Лошадь, подходившая по цвету к экипажу, была фламандской породы, широкая в кости, с широким задом и некрасивой головой, но известная в Лейдене своей смелостью и выносливостью. Особенный же интерес пробудило в Лизбете открытие, что возница был не кто иной, как Питер ван-де-Верф, и она теперь вспомнила, что он называл свои сани «барсуком». Не без улыбки она заметила также, что он выказал свой осторожный характер в выборе своей дамы, пренебрегая каким бы то ни было мимолетным успехом, пока не достигнута главная цель: в его санях сидела не изящная, нарядная дама, про которую можно бы предположить, что она смотрит на него нежными глазами, а белокурая девятилетняя девочка - его сестра. Как он объяснил после, правилами предписывалось, чтобы в санях сидела женщина, но ничего не упоминалось о ее возрасте и весе.
Все соперники, числом девять, выстроились в одну линию, и распорядитель бега, выйдя вперед, громким голосом провозгласил условия бега и награду - великолепный хрустальный кубок, украшенный гербом Лейдена. После этого, спросив, все ли готовы, он опустил маленький флаг, и лошади понеслись.
В первую минуту Лизбета, забыв все свои сомнения и свою досаду, вся предалась волнению минуты. Рассекая как птица холодный застывший воздух, они скользили по гладкому льду. Веселая толпа осталась позади, сухие камыши и оголенные кусты, казалось, убегали от них. Единственным звуком, отдававшимся в их ушах, был свист ветра, визг железных подрезов и глухой стук лошадиных копыт. Некоторые сани выдвинулись вперед, но «волка» и «барсука» не было между ними. Граф Монтальво сдерживал своего вороного, и серый фламандец бежал растянутой некрасивой рысью. Выехав из небольшого озерка на канал, сани обоих занимали четвертое и пятое место. Они ехали по пустынной снежной равнине, миновав село Алькемаде с его церковью. В полумиле впереди виднелось Кваркельское озеро, а посередине его остров, который надо было обогнуть. Они доехали до него, обогнули и, когда снова повернули к городу, Лизбета заметила, что «волк» и «барсук» заняли уже третье и четвертое место в беге, а прочие сани отстали. Еще через полмили они выдвинулись на второе и третье место, а когда до цели оставалась всего миля, они были уже первыми и вторыми. Тут началась борьба.
С каждой саженью быстрота увеличивалась, и все больше и больше выдвигался вперед вороной жеребец. Теперь соперникам предстояло перебежать пространство, покрытое неровным льдом и глыбами замерзшего снега, которые не были удалены, и сани прыгали и качались из стороны в сторону. Лизбета оглянулась.
- «Барсук» нагоняет нас, - сказала она. Монтальво слышал и в первый раз коснулся бичом коня; тот рванулся вперед, но «барсук» не отставал. Серый рысак был силен и напрягал свои силы. Его некрасивая голова пододвинулась вплотную к саням, в которых сидела Лизбета. Девушка чувствовала ее горячее дыхание и видела пар, выходивший из ноздрей.
В следующую минуту серый начал обгонять их, так как пар уже несся Лизбете в лицо, и она увидала широко раскрытые глаза девочки, сидевшей в серых санях. Когда кончилось неровное пространство, обе лошади шли шея в шею. До цели оставалось не более шестисот ярдов, и кругом за линией бега уже теснилась толпа конькобежцев, катавшихся так быстро и усердно, что наклоненные вперед головы не больше как на три фута не касались льда.
Ван-де-Верф крикнул на своего серого, и он начал забирать вперед. Монтальво снова ожег ударом бича вороного и снова обогнал «барсука». Но вороной, видимо, слабел, и это не укрылось от его хозяина, так как Лизбета услыхала, что он выругался по-испански. Затем вдруг, бросив искоса взгляд на своего противника, граф тронул левую вожжу, и в воздухе раздался резкий голос маленькой девочки из других саней:
- Братец, берегись! Он опрокинет нас.
Действительно, еще секунда, и вороной толкнул бы боком серого… Лизбета увидала, как ван-де-Верф поднялся со своего сиденья и, откинувшись назад, осадил свою лошадь. «Волк» пролетел мимо не больше как в нескольких дюймах, однако оглобля вороного задела за передок «барсука», и отскочивший кусок дерева порезал ему ноздрю.
- Сумасшедший! - раздался крик из толпы конькобежцев, но сани уже неслись дальше. Теперь вороной был ярдов на десять в выигрыше, так как серому пришлось потерять несколько секунд, чтобы выехать на прямую дорогу. Сотни глаз следили за бегом, и у всех присутствующих, как у одного человека, вырвался крик:
- Испанец побеждает!
Ответом ему был глухой ропот, прокатившийся по толпе:
- Нет, голландец! Голландец забирает вперед!
Среди этого крайнего возбуждения, а может быть, как следствие этого самого возбуждения в уме Лизбеты произошло нечто странное. Бег, его подробности, все окружающее исчезли, действительность сменилась сном, видением, может быть, навеянным всеми впечатлениями того времени, в которое Лизбета жила. Что она видела в эту минуту?
Она видела, что испанец и голландец борются из-за победы, но не из-за победы на бегах. Она видела, как черный испанский «волк» одолевает нидерландского «барсука», но «барсук», упрямый «барсук» еще держался.
Кто победит? Горячее или терпеливое животное?
Борьба ведется смертельная. Весь снег кругом покраснел, крыши Лейдена были красные, так же как небо; при густом свете заката все казалось залитым кровью, между тем как крики окружающей толпы превратились в яростные крики сражающихся. В этих криках слилось все: надежда, отчаяние, агония, но Лизбета не могла понять их значения. Что-то подсказывало ей, что объяснение и исход всего этого знал один Бог.
Быть может, она на минуту потеряла сознание под влиянием резкого ветра, свистевшего у нее в ушах, быть может, заснула и видела сон? Как бы то ни было, ее глаза сомкнулись, и она забылась. Когда она пришла в себя и оглянулась, сани их уже были близки к призовому столбу, но впереди их неслись другие сани, запряженные некрасивым серым рысаком, скакавшим так, что его брюхо, казалось, лежало на земле, а в санях стоял молодой человек с лицом, будто отлитым из стали, и плотно сжатыми губами.
«Неужели это лицо двоюродного брата Питера ван-де-Верфа, и если это он, то какая страсть наложила на него такую печать?»
Лизбета повернулась и взглянула на того, в чьих санях ехала.
Был ли это человек или дух, вырвавшийся из преисподней? Матерь Божия!.. Какое у него было лицо! Глаза остановились и выкатились из орбит, так что видны были одни белки; губы полуоткрылись, и между ними сверкали два ряда ослепительных зубов; приподнявшиеся концы усов касались выдавшихся скул. Нет, она не знала, что это, то был не дух, не человек, то было живое воплощение испанского «волка».
Ей показалось, что она опять готова лишиться чувств, когда в ее ушах раздались крики: «Голландец перегнал! Проклятый испанец побежден!»
Тут Лизбета поняла, что все кончено, и в третий раз потеряла сознание.
ГЛАВА II. Долг платежом красен
Когда Лизбета пришла в себя, она увидала, что все еще сидит в санях, отъехавших несколько от толпы, продолжавшей неистово приветствовать победителя. Рядом с «волком» другие простые сани, запряженные неуклюжей фламандской лошадью. За кучера в них был испанский солдат, а другой испанец, по-видимому сержант, сидел в санях. Кроме них никого не было поблизости: народ в Голландии уже научился держаться в почтительном отдалении от испанских солдат.
- Если вашему сиятельству угодно будет поехать туда теперь, то все можно уладить без дальнейших хлопот, - сказал сержант.
- Где она? - спросил Монтальво.
- Не дальше мили отсюда.
- Привяжите ее на снегу до завтрашнего утра. Лошадь моя устала, и мы не станем утомлять ее больше, - начал было граф, но, оглянувшись на толпу позади, а потом на Лизбету, прибавил, - впрочем, нет, я приеду.
Может быть, граф не желал слышать соболезнований по поводу постигшей его неудачи или желал продолжить tete-a-tete со своей красивой дамой. Как бы то ни было, он без малейшего колебания хлестнул свою лошадь бичом, и она пошла, хотя и не совсем свободно, но все же порядочной рысью.
- Сеньор, куда мы едем? - спросила Лизбета в испуге. - Бег кончен, я должна вернуться к своим.
- Ваши заняты поздравлением победителя, - отвечал Монтальво своим вкрадчивым голосом, - и я не могу оставить вас одну на льду. Не беспокойтесь, мне надо съездить по одному делу, которое займет у меня не больше четверти часа времени. - И он снова хлестнул коня, побуждая его идти скорее.
Лизбета собралась протестовать, даже думала было выпрыгнуть из саней, но, в конце концов, ничего не сделала. Она рассудила, что покажется гораздо естественней и менее странно, если она будет продолжать катанье со своим кавалером, чем если станет пытаться бежать от него. Лизбета была уверена, что Монтальво не выпустит ее по одной только ее просьбе: что-то в его манере подсказывало ей это; и хотя ей вовсе не хотелось оставаться в его обществе, все же это было лучше, чем стать смешной в глазах половины лейденского населения. К тому же она не была виновата, что попала в такое положение, виной всему был Дирк ван-Гоорль, который должен был бы подойти, чтобы высадить ее из саней.
Когда они поехали по замерзшему крепостному рву, Монтальво наклонился вперед и начал вспоминать о беге, выражая сожаление, что проиграл, но без заметного озлобления. «Неужели это тот самый человек, который пытался так хладнокровно опрокинуть противника, не рассуждая, что это нечестно, и не думая о том, что тут можно было человека убить? Неужели это тот самый человек, у которого лицо сейчас было, как у дьявола? И случилось ли все это в действительности, или, быть может, это только плод ее воображения, смущенного быстротой и возбуждением бега?» Без сомнения, она не все время была в полном сознании, так как никак не могла припомнить, чем действительно окончился бег и как они выехали из окружавшей их кричавшей толпы.
Между тем как она раздумывала обо всем этом, время от времени отвечая односложно Монтальво, сани, ехавшие впереди, завернув за один из восточных бастионов, остановились. Местность кругом была пустынная и унылая: по случаю мирного времени на крепостных стенах не было часовых, и на всей обширной снежной равнине за крепостным рвом не видно было ни одной живой души. Сначала Лизбета вообще не могла ничего разглядеть, так как солнце зашло, и ее глаза еще не привыкли к лунному свету. Но через несколько минут она увидела кучку людей на льду одного из выгибов рва, полускрытую рядом засохшего камыша.
Монтальво также увидел людей и остановил лошадь в трех шагах от них. Людей было всего пятеро - три испанских солдата и две женщины. Лизбета взглянула и с трудом сдержала крик ужаса, так как узнала женщин. Высокая темная фигура с пронзительными глазами была не кто иная, как торговка шапками, испанская шпионка Черная Мег. А в той, которая скорчившись, лежала на льду с руками, связанными назад, с седыми волосами, распущенными чьей-нибудь грубой рукой и разметавшимися по снегу, Лизбета узнала женщину, называвшую себя «Мартой-Кобылой», сказавшую ей ранее, что знала ее отца, и проклинавшую испанцев с их инквизицией. Зачем они здесь? Тотчас же в ее голове нашелся ответ: она вспомнила слова Черной Мег, что голова этой еретички оценена в известную сумму, которая еще сегодня будет у нее в кармане. Зачем это перед арестованной во льду прорубили четырехугольную прорубь? Неужели?.. Нет, это было бы слишком ужасно.
- Ну, в чем дело, объясните, - обратился Монтальво к сержанту спокойным утомленным голосом.
- Дело очень простое, ваше сиятельство, - отвечал сержант. - Эта женщина, - он указал на Черную Мег, - готова присягнуть, что эта тварь - уличенная еретичка, приговоренная к смерти святым судилищем. Муж ее, занимавшийся рисованием картин и наблюдениями над звездами, два года тому назад был обвинен в ереси и колдовстве и сожжен в Брюсселе. Ей же удалось избегнуть костра, и она с тех пор живет бродягой, скрываясь на островах Гаарлемского озера и, как подозревают, убивая и грабя всякого испанца, который ей попадется под руку. Теперь ее изловили и уличили, и так как приговор, произнесенный над нею, сохраняет свою силу, то он может быть приведен в исполнение тотчас же, если ваше сиятельство даст на это приказание. Правда, вас вовсе не пришлось бы беспокоить, если бы эта почтенная женщина, - он снова указал на Черную Мег, - которая выследила ее и задержала до нашего прихода, не пожелала иметь вашего удостоверения, чтобы получить награду от казначея святой инквизиции. Поэтому просим вас удостоверить, что это именно та самая еретичка, известная под прозвищем «Марта-Кобыла», фамилию ее я забыл. После же этого, если вам будет угодно удалиться, мы исполним остальное.
- То есть отправите ее в тюрьму и предадите святой инквизиции? - спросил Монтальво.
- Нет, не совсем так, ваше сиятельство, - возразил сержант со сдержанной улыбкой и покашливанием. - Тюрьма, как мне сказали, полна; однако мы можем повести ее в тюрьму, но дорогой еретичка может случайно провалиться в прорубь: ведь сатана направляет шаги таких тварей, или она может нарочно броситься в воду.
- Какие улики? - спросил Монтальво.
Тут выступила вперед Черная Мег и с быстротой и плавностью, свойственной шпионам, начала свой рассказ. Она подтвердила, что знает эту женщину и знает, что, будучи приговорена к смерти инквизицией, она бежала. В заключение Мег повторила разговор Марты с Лизбетой, подслушанный ею утром.
- Вы в счастливый час согласились сопровождать меня, сеньора ван-Хаут, - весело сказал Монтальво, - потому что теперь, для моего собственного удовлетворения, я хочу быть справедлив и не основываться исключительно свидетельством подобной продажной личности. Я попрошу вас поклясться перед Богом, подтверждаете ли вы рассказ этой женщины, и правда ли, что этот урод по прозвищу «Кобыла» проклинала мой народ и святое судилище? Отвечайте, и, прошу вас, поскорее, сеньора: становится холодно, и лошадь моя начинает дрожать.
Тут Марта в первый раз подняла голову, схватившись за волосы и стараясь оторвать их от льда, к которому они примерзли.
- Лизбета ван-Хаут! - закричала она, - неужели ради того, чтобы понравиться твоему возлюбленному испанцу, ты обречешь на смерть подругу детства твоего отца? Испанский конь озяб и не может дольше стоять на месте, а бедную нидерландскую кобылу собираются спустить под голубой лед и держать там, пока ее кости не примерзнут ко дну рва. Ты выбрала себе испанца, между тем как сама кровь твоя должна бы возмутиться против этого; но дорого тебе придется поплатиться! Если же ты произнесешь то слово, которого они от тебя добиваются, то погубишь себя и погубишь не одно только свое тело, но и душу. Горе тебе, Лизбета ван-Хаут, если ты станешь мне поперек дороги прежде, чем мое дело будет окончено. Смерть не страшна мне, я даже обрадуюсь ей, но, говорю тебе, я должна еще кончить дело до своей смерти.
Совершенно растерявшаяся Лизбета взглянула на Монтальво.
Граф был проницателен и тотчас понял все. Нагнувшись вперед, опираясь рукой о спинку саней, будто желая ближе взглянуть на арестованную, он шепнул Лизбете на ухо так тихо, что никто не мог слышать его слова:
- Сеньора, я в данном случае не имею никакого желания: я не добиваюсь смерти несчастной помешанной, но если вы подтвердите слова доносчицы, то ее, обвиняемую, придется утопить. Пока еще ничего не доказано и все зависит от вашего свидетельства. Я не знаю, что произошло между вами сегодня утром и мало интересуюсь этим, но только, если окажется, что вы не вполне ясно помните все случившееся, то мне придется поставить вам одно или два маленьких, пустячных условия: вы должны будете провести остальной вечер со мной, и, кроме того, ваша дверь должна быть открыта для меня, когда бы я ни вздумал постучаться в нее. При этом не могу не напомнить, что три раза являясь к вам, чтобы засвидетельствовать вам мое почтение, я нашел ее запертою.
Лизбета слышала и поняла. Если она захочет спасти жизнь этой женщины, ей придется выносить ухаживание этого испанца, чего она желала меньше всего на свете. Произнося же клятву перед Богом, ей, никогда в жизни не лгавшей, придется произнести ужасную ложь. Больше полминуты она раздумывала, обводя кругом взглядом, полным ужаса, и зрелище, представлявшееся ей, так глубоко запечатлелось в ее душе, что она до самой своей смерти не могла забыть его.
Марта не говорила больше ничего; она стояла на коленях, не сводя с лица Лизбеты отчаянного вопросительного взгляда. Несколько правее стояла Черная Мег, смотря на нее сумрачно, так как деньгам, которые она надеялась получить, грозила опасность. Позади арестованной стояли оба солдата, одни из них поднес руку к лицу, стараясь скрыть зевоту, а другой бил себя в грудь, чтобы согреться. Третий солдат, находившийся несколько впереди, расчищал рукояткой своей алебарды
поверхность проруби от затягивавшего ее тонкого льда, между тем как Монтальво, продолжавший наклоняться то вперед, то в сторону, не сводил с Лизбеты насмешливого и циничного взгляда. И на все - на бесконечную, снежную пелену, на остроконечные крыши города вдали, на красивые сани и сидевшую в них закутанную в меховую полость девушку падал спокойный свет месяца при полной тишине, нарушаемой только биением ее сердца и, время от времени шелестом морозного ветра в засохшем тростнике.
- Ну, что же, сеньора, - спросил Монтальво, - обдумали ли вы все, и должен ли я произнести обычную формулу клятвы?
- Говорите! - ответила она хриплым голосом.
Он вышел из саней, стал против Лизбеты и, сняв берет, произнес формулу клятвы - клятвы, способной смутить Лизбету, если в душе она сознавала, что говорит неправду.
- Во имя Отца и Сына и Его Блаженной Матери, вы клянетесь? - спросил граф.
- Клянусь, - отвечала Лизбета.
- Хорошо. Выслушайте же меня, сеньора. Встретились вы с этой женщиной сегодня после полудня?
- Да, я встретилась с ней на катке.
- Проклинала она при вас правительство и святую Церковь и уговаривала ли вас помочь изгнанию испанцев из страны, как свидетельствует доносчица по имени, если не ошибаюсь, Черная Мег?
- Нет, - отвечала Лизбета.
- Я боюсь, что этого заявления недостаточно, сеньора, может быть, я употребил не те выражения… Говорила ли женщина вообще что-нибудь в этом роде?
Одну секунду Лизбета колебалась. Но, увидев снова перед собой лицо жертвы, смотревшей на нее задумчивыми глазами, полными ожидания, вспомнив, что это грязное, искалеченное существо было некогда ребенком, подругой игр ее отца, которую он целовал и преступление которой заключается только в том, что она избегла костра, Лизбета приняла решение.
- Холодно умирать в воде! - сказала Марта тихо, будто думая вслух.
- Так зачем же ты, колдунья, еретичка, убежала от огня? - насмехалась Черная Мег.
Лизбета, не колеблясь, опять односложно отвечала на вопрос Монтальво:
- Нет.
- Что же она делала или говорила, сеньора?
- Она говорила, что знала моего отца, игравшего с ней, когда она была ребенком, и просила милостыню - вот и все. Тут подошла эта женщина, и она убежала, после чего женщина сказала, что ее голова оценена и что она получит деньги за указание ее.
- Это ложь! - яростно, пронзительным голосом закричала Мег.
- Если она не замолчит сама, заставьте ее замолчать, - приказал Монтальво, обращаясь к сержанту. - Я вижу, что против арестованной нет других улик, кроме показания доносчицы, утверждающей, что она преступница, еретичка, бежавшая от сожжения несколько лет тому назад из окрестностей Брюсселя, куда вряд ли стоит посылать за справками. Подобное обвинение может быть оставлено без внимания. Остается вопрос о том, произносила или нет эта женщина некоторые слова, за которые, если она произносила их, без сомнения, заслуживает казни, на которую я, как исполняющий должность коменданта этого города, имею власть осудить ее. Я предвидел этот вопрос и вот почему попросил сеньору, к которой женщина обратилась, как утверждают, со своими словами, сопровождать меня сюда, чтобы дать показание. Она исполнила мою просьбу, и ее клятвенное показание, опровергая не подтвержденное клятвой показание доносчицы, гласит, что обвиняемая не произносила подобных слов. Сеньора - усердная католичка, и не поверить ей я не имею причины, поэтому я приказываю отпустить арестованную, которую, со своей стороны, считаю за никому не опасную бродягу.
- По крайней мере, вы продержите ее в тюрьме, пока я не докажу, что она еретичка, бежавшая от костра в Брюсселе, - закричала Черная Мег.
- И не подумаю, тюрьмы и так полны. Развяжите ее и отпустите.
Несколько удивленные солдаты повиновались, и Марта с трудом поднялась на ноги. С минуту она стояла, смотря на свою избавительницу, затем, крикнув: «Лизбета ван-Хаут, мы еще увидимся!» - бросилась бежать с неимоверной быстротой. Через несколько секунд она виднелась вдали только черной точкой на белом ландшафте и скоро совсем исчезла.
- Скачи как хочешь, кобыла, - крикнула ей вдогонку Черная Мег, - а все же я поймаю тебя. И тебе не уйти от меня, красавица-лгунья, лишившая меня дюжины флоринов. Погоди, и тебе придется иметь дело со святой инквизицией: этим ты непременно кончишь! Не спасет тебя твой красивый любовник-испанец. Так ты перешла на сторону испанцев и отреклась от своих толсторожих бюргеров?! Ну, дадут тебе себя знать испанцы, помяни мое слово!
Два раза Монтальво тщетно пытался прервать поток ее яростной брани, которая задевала его и могла невыгодно отразиться на его планах, и, наконец, прибегнул к другому средству.
- Схватить ее! - приказал он двум солдатам. - А теперь окунуть ее в прорубь и держать, пока я не прикажу отпустить.
Они повиновались, но в выполнении приказания пришлось принять участие всем троим, так как Черная Мег отбивалась и кусалась, как дикая кошка, пока ее не бросили головой вниз в прорубь. Когда наконец ее вытащили оттуда, она, вся дрожавшая и мокрая, молча поплелась прочь, но взгляд, брошенный ею на Лизбету и на капитана, заставил последнего сделать замечание, что, быть может, следовало бы продержать ее под водой двумя минутами дольше.
- Холодно сегодня, да еще ради праздника вам пришлось провозиться с этой историей, так вот вам и вашим людям на что погреться, когда сменитесь, - обратился Монтальво к сержанту, подавая ему довольно значительную для тех времен сумму. - Кстати, быть может, вы захотите сделать мне одолжение - отвести моего вороного в конюшню, а на его место запрячь в мои сани этого серого скакуна: мне еще хочется прокатиться по крепостному рву, а моя лошадь устала.
Люди отдали честь и принялись перепрягать лошадей, между тем как Лизбета, предугадывая намерение своего кавалера, подумывала было бежать, воспользовавшись коньками, еще бывшими у нее на ногах. Но Монтальво не выпускал ее из виду.
- Сеньора, - сказал он спокойным тоном, - мне кажется, вы обещали провести в моем обществе остальной вечер, и я уверен, что ничто не может заставить вас сказать неправду, - добавил он с вежливым поклоном. - Если бы я не был уверен в этом, я вряд ли так легко принял бы ваше свидетельство несколько минут тому назад.
Лизбета, видимо, смутилась.
- Я думала, сеньор, что вы вернетесь на праздник.
- Мне что-то не помнится, чтобы я говорил это, мне надо осмотреть, в порядке ли караулы. Не бойтесь, прогулка будет прелестная при лунном свете, а потом вы, может быть, доведете свое гостеприимство до того, что позовете меня отужинать у себя.
Она все еще колебалась, и неудовольствие отражалось у нее на лице.
- Ювфроу Лизбета, - заговорил тогда Монтальво, изменив тон, - у меня на родине есть пословица: «Долг платежом красен»! Вы покупали и… получили товар. Понимаете вы меня?!. Позвольте мне потеплее укрыть вас полостью… Я знаю, что в душе вы намерены честно расплатиться, вы… только дразните меня… Если бы вы в самом деле хотели избавиться от меня, вы могли бы воспользоваться случаем и убежать. Поэтому я сам предоставил вам этот случай, не желая удерживать вас против воли.
Лизбета слушала и кипела досадой: этот человек перехитрил ее. На каждом шагу он старался показать ей ее несостоятельность, и еще больше ее сердило, что он был прав. Она покупала, она должна и платить. Зачем она покупала? Не ради собственной выгоды, но побуждаемая чувством человеческой жалости, ради спасения жизни себе подобного существа. Но почему она решилась на ложную клятву ради спасения этой жизни? Она была верующая католичка и не симпатизировала таким людям. По всей вероятности, эта женщина была анабаптистка, одна из членов этой отвратительной секты, не имеющих имени, позволявших себе безнравственные поступки и бегавших нагими по улицам, объявляя, что они «голая правда». Не подействовало ли на нее заявление этой женщины, что она в детстве знала ее отца? Может быть, отчасти, но не было ли еще другой причины? Не произвели ли на нее впечатления слова женщины об испанцах, смысл которых она уяснила себе во время катанья - именно в ту минуту, когда она увидала сатанинское выражение лица Монтальво. Ей казалось, что именно это и была причина, хотя тогда она и не сознавала этого, ей казалось также, что она действовала не по собственной воле, но будто побуждаемая какой-то непонятной силой, которой она не могла противостоять.
А главное - и самое худшее - было сознание, что ее самоотвержение не принесет пользы, или, если и принесет, то, во всяком случае, не ей и ее домашним. Она была теперь, как рыба в сетях, только она не могла понять, что побуждало этого блестящего испанца издеваться над нею, она забыла, что красива и богата. Ради спасения крови ближнего она решила вступить в торг, и расплачиваться, наверное, придется собственной кровью и кровью дорогих ей людей, как бы высока и несправедлива ни была требуемая цена.
Таковы были мысли, пронесшиеся в голове Лизбеты в то время, как сильный фламандский ломовик вез сани, не изменяя неторопливого шага и на гладком, и на неровном льду. И все это время Монтальво, сидя позади нее, продолжал занимать ее разговорами на разные темы: то рассказывал об апельсинных рощах Испании, то о дворе императора Карла, то о приключениях во время французской войны и о многих других вещах. На все это Лизбета отвечала не более того, чего требовала от нее вежливость. Она думала про себя: что скажут Дирк и Питер ван-де-Верф, мнением которых она дорожила, и все лейденские сплетники? Она только молила, чтобы ее отсутствие осталось незамеченным или чтобы подумали, что она уехала прямо домой.
Однако ей скоро пришлось отказаться от этой надежды: они повстречались с молодым человеком, шедшим по покрытому снегом полю и несшим коньки в руках, и Лизбета узнала в нем одного из товарищей Дирка. Он встал перед санями, так что лошадь остановилась сама собой.
- Ювфроу Лизбета ван-Хаут здесь? - спросил он озабоченным тоном.
- Да, - отвечала она; но прежде чем могла сказать что-нибудь дальше, Монтальво перебил ее, спросив, что случилось.
- Ничего, - отвечал молодой человек, - только ювфроу исчезла, и друг мой Дирк ван-Гоорль попросил меня поискать ее здесь, между тем как он сам ищет ее в другой стороне.
- В самом деле? В таком случае вы, милостивый государь, может быть, найдете господина ван-Гоорля и передадите ему, что сеньора, его кузина, просто поехала покататься и вернется домой через час здорова и невредима, а вместе с нею приеду и я, граф Жуан де Монтальво, которого сеньора почтила приглашением на ужин.
Прежде чем изумленный посланец собрался с ответом, а Лизбета могла дать какое-нибудь объяснение, Монтальво стегнул коня и промчался мимо молодого человека, стоявшего совершенно растерянно, с шапкой в руке, почесывая затылок.
После того они продолжали поездку, показавшуюся Лизбете бесконечной. Объехав всю крепость кругом, Монтальво остановился у одних из запертых ворот и, вызвав караул, приказал отпереть. Произошла некоторая заминка, так как сначала сержант, командовавший караулом, не поверил, что его действительно вызывает сам комендант.
- Простите, ваше сиятельство, - сказал он, осветив фонарем лицо графа, - но я никак не думал, что вы сделаете объезд с молодой дамой в санях.
Подняв фонарь, сержант пристально взглянул на Лизбету и, узнав ее, не скрыл насмешливой улыбки.
- Весельчак наш капитан, большой весельчак, и хорошенькую голландскую индюшку он учит теперь петь, - донеслось до Лизбеты его замечание, обращенное к товарищу, когда они вдвоем запирали тяжелые ворота.
Затем граф проверил еще несколько караульных постов, и везде были такие же объяснения. Во все это время граф Монтальво не произнес ни одного слова, кроме обычных комплиментов, и не позволил себе никакой фамильярности, сохраняя в разговоре и манерах полную вежливость и почтительность. Все пока, кажется, шло удовлетворительно, однако настала минута, когда Лизбета почувствовала, что она не в силах дольше переносить такое положение.
- Сеньор, - сказал он кротко, - отвезите меня домой: мне дурно…
- Вероятно от голода, - объяснил Монтальво. - И я страшно проголодался. Но, дорогая ювфроу, вы сами знаете, долг прежде всего, и, в конце концов, вы не без пользы сопровождали меня в моем вечернем объезде. Я знаю, ваши соотечественники дурно отзываются о нас, испанских солдатах, но я надеюсь, что теперь вы можете засвидетельствовать их дисциплину. Хотя сегодня день праздничный, однако вы сами убедились, мы нашли всех на своих местах и не видали ни одного выпившего.
- Эй, ты! - обратился он к одному из солдат, отдававшему ему честь. - Ступай за мной к дому ювфроу Лизбеты ван-Хаут, где я буду ужинать, и доставь сани ко мне на квартиру.
ГЛАВА III. Монтальво выигрывает
Повернув на Брее-страат - тогда, так же как теперь, самую красивую из лейденских улиц, - Монтальво остановил лошадь перед большим домом с тремя выступами под круглыми крышами, из которых средний, над главным входом, был украшен двумя окнами с балконами. Это был дом Лизбеты, оставленный ей отцом, где она должна была жить, пока ей не вздумается выйти замуж, со своей теткой Кларой ван-Зиль. Солдат взял лошадь под уздцы, а Монтальво, соскочив со своего места, направился помочь своей даме выйти из саней. В эту минуту Лизбета вся ушла в мысль, как бы ей убежать, но даже если б она решилась на это, являлось препятствие, на которое ее предусмотрительный кавалер обратил ее внимание.
- Ювфроу ван-Хаут, - обратился он к ней, - вы помните, что вы еще на коньках?
Действительно, в своем волнении она забыла об этом обстоятельстве, которое делало бегство невозможным. Не могла же она войти в дом, переваливаясь на вывернутых ногах, как ручной тюлень, которого рыбак Ганс привез с собой с Северного моря. Это было бы слишком смешно, и слуги рассказали бы всему городу. Лучше уж еще некоторое время переносить общество ненавистного испанца, чем сделаться смешной, пытаясь бежать. Кроме того, если бы даже ей удалось попасть в дом прежде него, разве она могла бы захлопнуть дверь перед его носом?
- Да, - отвечала она односложно, - я позову слугу…
Тут в первый раз граф выказал чисто испанскую, исполненную достоинства любезность:
- Не дозволяйте наемнику низкого происхождения держать в своих руках ножку, прикоснуться к которой - честь для испанского гидальго. Я ваш слуга. - сказал он и ждал, преклонив одно колено на покрытой снегом ступеньке.
Нечего было делать: Лизбете пришлось протянуть свою ножку, с которой Монтальво осторожно и ловко снял конек.
«Снявши голову, по волосам не плачут», - подумала Лизбета, протягивая другую ногу.
В эту самую минуту кто-то приотворил дверь за ними.
- Долг… - начал Монтальво, принимаясь за вторые ремни.
Дверь в это время совершенно отворилась, и послышался голос Дирка ван-Гоорля, говорившего довольным тоном:
- Конечно, тетя Клара, это она, и кто-то снимает с нее башмаки…
- Коньки, сеньор, коньки, - перебил его Монтальво, оглядываясь через плечо, и затем добавил шепотом, снова принимаясь за дело, - гм… «платежом красен». Вы представите меня, не правда ли? Мне кажется, так будет удобнее для вас.
Бегство было невозможно, так как граф держал ее за ногу, и кроме того, инстинкт подсказывал Лизбете, что единственный исход для нее - объяснить все, особенно ради любимого ею человека, и она сказала:
- Дирк, кузен Дирк, вы, кажется, знакомы: это… капитан, граф Жуан де Монтальво.
- А, сеньор ван-Гоорль! - произнес Монтальво, снимая коньки и поднимаясь с колен, которые от избытка вежливости оказались совершенно мокрыми. - Позвольте передать вам здоровой и невредимой прекрасную даму, которую я похитил у вас на минуту.
- На минуту, капитан? - пробормотал Дирк. - С начала бега прошло около четырех часов, и мы немало беспокоились о ней.
- Все объяснится, сеньор, за ужином, на который ювфроу была так любезна пригласить меня, - отвечал граф и вслед за тем тихо повторил напоминание: «Долг платежом красен».
- Вашей кузине своим присутствием удалось спасти жизнь себе подобной, - продолжал он опять вслух, - но, как я уже сказал вам, это длинная история. Позвольте, сеньора…
И через минуту Лизбета очутилась в зале собственного дома под руку с испанцем, между тем как Дирк, его тетка и несколько гостей покорно следовали за ними.
Теперь Монтальво знал, что затруднение, по крайней мере на этот вечер, устранено, раз он переступил порог дома как гость.
Наполовину бессознательно Лизбета направила своего кавалера к «sit-kamer» в виде балкона на первом этаже - комнате, соответствующей нашей гостиной. Здесь собралось еще несколько знакомых, так как было решено, что праздник на льду окончится самым роскошным ужином, какой только могла предложить хозяйка дома. Лизбета должна была представить всем своего кавалера, который вежливо раскланялся с каждым из гостей по очереди. После того ей удалось освободиться; но, проходя мимо него, она явственно видела, как его губы шептали: «Долг платежом красен».
Когда Лизбета пришла к себе в комнату, ее негодование и гнев были так велики, что она вся дрожала, но мало-помалу она овладела собой, и вместе с хладнокровием явилось желание выпутаться из всей этой истории как можно ловчее. Она приказала Грете подать себе лучшее платье и надеть себе на шею знаменитое жемчужное ожерелье, купленное ее отцом на востоке и составлявшее предмет зависти половины лейденских дам. На голову она надела красивый кружевной убор - свадебный подарок ее матери от бабушки, которая сама плела кружево для него. Дополнив свой наряд золотыми украшениями, какие были в употреблении у женщин ее класса, она спустилась в приемную.
Между тем Монтальво не терял времени понапрасну. Отведя Дирка в сторону, он под предлогом необходимости привести в порядок свой костюм, попросил указать ему комнату, где бы он мог заняться своим туалетом. Дирк, хотя и не совсем охотно, исполнил его просьбу, но Монтальво держал себя так мило в эти несколько минут, что прежде чем они вернулись к гостям, Дирк должен был сознаться себе, что не согласен с молвой, считавшей этого странного испанца «таким же черным, как его усы». Хотя граф еще не успел объясниться с ним, но Дирк уже почти уверился, что у Монтальво были какие-нибудь уважительные причины, заставившие его увезти с собой прелестную Лизбету на все послеобеденное время и часть вечера.
Правда, еще оставалась невыясненной попытка опрокинуть сани ван-де-Верфа во время бега, но, как знать, не найдется ли объяснения и этому? Это случилось - если вообще верить, что случилось, - на достаточно большом расстоянии от выигрышного столба, где было мало зрителей, которые видели бы все происходившее. Теперь, когда Дирк стал припоминать, единственной обвинительницей являлась маленькая девочка, сидевшая в санях, сам же ван-де-Верф ничего не заявлял.
Скоро после возвращения молодых людей к гостям, доложили, что ужин подан, и наступила минутная тишина. Ее нарушил Монтальво, выступивший вперед и во всеуслышание предложивший свою руку Лизбете.
- Ювфроу, моя спутница во время бега, окажите скромному представителю величайшего монарха в мире честь, которой, без сомнения, сам он воспользовался бы с радостью.
Таким образом все уладилось, так как ввиду указания коменданта лейденского гарнизона на его официальное положение его право первенства перед присутствующими, хотя также именитыми, но, в конце концов, все же не более как простыми лейденскими бюргерами недворянского происхождения, уже не подлежало сомнению.
У Лизбеты, однако, хватило смелости указать на несколько взволнованную седую даму, обмахивавшуюся веером, будто на дворе стоял июль, и всю поглощенную мыслью о том, окажется ли повар на высоте ожиданий благородного испанца, и проговорить:
- Моя тетушка!.. - но дальше ей не пришлось продолжать, так как Монтальво тотчас же прибавил тихо:
- Конечно, последует тотчас за нами, меня же воспитывали в тех правилах, что наследница дома идет впереди всех прочих, каков бы ни был их возраст.
В это время они уже прошли в дверь, и было бы бесполезно протестовать, и снова Лизбета почувствовала, что ей только остается покориться ловкому противнику. Еще через минуту они спустились с лестницы, вошли в столовую и очутились рядом во главе стола, на противоположном конце которого сели Дирк ван-Гоорль и тетка Лизбеты, также родственница Дирка, Клара ван-Зиль.
Пока слуги обносили кушаньями, царила тишина, и Монтальво воспользовался ею, чтобы окинуть взглядом комнату, сервировку и гостей. Столовой была красивая комната со стенами, выложенными германским дубом и если не блестяще, то все же достаточно освещенная двумя висячими медными люстрами знаменитой фламандской работы, в каждой из которых было вставлено по девятнадцати свечей лучшего сорта, между тем как на буфетах стояли такие же медные чеканные канделябры. Этот свет дополнялся светом торфа и корабельного леса, горевших в большом камине, выложенном голубыми изразцами. Отражение огня от камина играло и сверкало на многочисленных серебряных кувшинах и кубках искусной чеканки, украшавших столы и буфеты.
Общество носило такой же характер, как обстановка, все было красиво и солидно: все, и мужчины, и женщины, были люди богатые, получившие свое богатство от отцов или сами нажившие его честной и прибыльной торговлей, которая вся в то время сосредоточивалась в руках голландцев.
«Я не ошибся, - подумал Монтальво, рассматривая комнату и находившихся в ней. - Одно ожерелье моей маленькой соседки стоит больше, чем у меня когда-либо бывало в руках, и сервировка чего-нибудь да стоит. Ну, надеюсь, скоро получу возможность поближе познакомиться с их ценностью…»
После этого, набожно перекрестившись, граф с аппетитом принялся за ужин, вполне достойный его внимания даже в стране, известной роскошью яств и вин, а также аппетитом их потребителей.
Однако любезный капитан из-за еды не забыл разговора; напротив, увидав, что его соседка не в разговорчивом настроении, он обратился к другим гостям - мужчинам, касаясь различных подходящих тем. Среди гостей был также и Питер ван-де-Верф, победитель в беге, и против его подозрительной, осторожной сдержанности графу пришлось направить огонь всех своих батарей.
Прежде всего он поздравил Питера и очень серьезно пожалел себя, так как действительно бег стоил ему такой суммы, которую он едва ли мог выплатить. Затем он похвалил серого рысака и спросил, не продается ли он, предлагая как часть уплаты своего вороного.
- Добрый конь, - сказал он, - однако имеет кое-какие пороки, которых я не стал бы скрывать, если бы пришлось назначить ему цену. Например, мейнгерр ван-де-Верф, вы, может быть, заметили, в какое неловкое положение он поставил меня к концу бега? Есть вещи, которых он всегда пугается, и в том числе он боится красного плаща. Не знаю, видели ли вы, что на валу около рва вдруг показалась девушка в красной шубе. Лошадь сейчас же шарахнулась в сторону, и можете представить, что я испытал в эту минуту, когда того и ждал, что сани мои опрокинутся, а в них ведь сидела ваша прелестная родственница. Кроме того, я таким образом чуть не лишился всех своих шансов на выигрыш, потому что обыкновенно, испугавшись, вороной начинает упрямиться и не хочет идти дальше.
У Лизбеты захватило дух, когда она услыхала это объяснение. И действительно, ей вспомнилось, что возле них показалась девочка в красной шубе, и лошадь отшатнулась, как будто в самом деле испугалась. Неужели капитан и вправду не намеревался опрокинуть «барсука»?
Между тем ван-де-Верф отвечал, как всегда, не спеша. Он, по-видимому, принимал объяснение Монтальво; по крайней мере, он сказал, что также видел девушку в красном, и выразил удовольствие, что все обошлось благополучно. Что же касается предлагаемой сделки, то он с удовольствием принял бы ее, так как серый, хотя и хороший конь, но стареет, а вороной - одна из самых красивых лошадей, каких ему приходилось видеть. Но тут Монтальво в действительности не имевший ни малейшего желания расстаться со своим ценным бегуном, по крайней мере на таких условиях, переменил разговор.
Наконец, когда мужчины - а женщины уже и подавно - насытились, а прекрасные фламандские кубки уже не в первый раз искрились лучшими рейнскими и испанскими винами, Монтальво, воспользовавшись наступившей паузой, встал и заявил, что просит позволения воспользоваться привилегией иностранца между гостями, чтобы предложить тост за своего соперника в сегодняшнем беге, Питера ван-де-Верфа.
Все присутствовавшие с радостью приняли предложение, так как все очень, гордились успехом молодого человека, и многие выиграли, держа пари за него. Выражения одобрения еще усилились, когда испанец начал свою речь с предмета, в котором все присутствовавшие были компетентными судьями, - с красноречивой похвалы выдающимся качествам ужина. Редко ему приходилось, уверял он всех, и особенно почтенную вдову ван-Зиль, кулинарная слава которой, по его словам, достигла до самой Гааги (при этом комплименте вдова вспыхнула и принялась так усердно обмахиваться веером, что опрокинула кубок Дирка, облив его новый камзол брюссельского покроя), редко приходилось есть так вкусно приготовленные кушанья и пить такие изысканные вина даже при дворах королей и императоров, папы и его архиепископов.
Затем, переходя к главному предмету своего спича, ван-де-Верфу, он поднял бокал за него, за его сестру и лошадь, подбирая самые подходящие и изысканные обороты, не впадая в преувеличение; он откровенно признавался, что поражение было для него горько, так как все солдаты гарнизона надеялись видеть его победителем и, как он опасается, держали за него пари выше своих средств. Также он во всеуслышание повторил историю девушки в красном плаще. Затем, понизив голос и более спокойным тоном, он обратился к «тетушке Кларе» и «дорогому герру Дирку», говоря, что должен извиниться перед ними обоими, что так безрассудно долго задержал ювфроу Лизбету после бега. Когда они узнают, в чем дело, они, он уверен, не станут больше порицать его, особенно, если он скажет им, что это отступление от общепринятых правил было вызвано желанием спасти человеческую жизнь.
Он рассказал, как тотчас после гонки один из его сержантов разыскал его, чтобы сообщить, что задержана одна женщина, предполагаемая колдунья и еретичка, заподозренная в покушении на убийство и воровство, и просил его, по причинам, которыми он не хочет утомлять своих слушателей, немедленно заняться этим делом. Кроме того, - так говорил сержант, - эта женщина, по свидетельству некоей Черной Мег, в тот день после обеда обратилась с самыми богохульными и предательскими речами к ювфроу Лизбете ван-Хаут.
Конечно, каждый из присутствующих разделит его отвращение к еретикам и предателям, - продолжал Монтальво, и тут большинство из гостей, особенно тайные приверженцы новой религии, перекрестилось. - Но и еретики имеют право на беспристрастное рассмотрение своего дела, по крайней мере, он лично того мнения, и хотя солдат по профессии, но от души ненавидит бесполезное пролитие крови.
Долгая опытность научила его также относиться недоверчиво к свидетельству доносчиков, имеющих денежные выгоды от уличения обвиняемого. Наконец, ему казалось неудобным, чтобы имя молодой девушки хорошего происхождения было замешано в подобную историю. Как известно из последних эдиктов, ему в таких случаях дана неограниченная власть, и он получил приказание всех подозреваемых в принадлежности к секте анабаптистов или другой форме ереси немедленно отправлять в надлежащие суды, а в случае поимки бежавших еретиков и удостоверения их личности немедленно казнить их без дальнейшего допроса. При подобных обстоятельствах, боясь, что молодая девушка испугается, если узнает его намерение, а с другой стороны, желая и ради ее самой и ввиду соблюдения приличий иметь ее свидетельство, он решился прибегнуть к хитрости. Он попросил ее сопровождать его в поездке по небольшому делу, и она любезно согласилась.
- Друзья, - продолжал он все более и более торжественным тоном, - конец моего рассказа короток. Я должен поздравить себя с принятым мною решением, так как при очной ставке с задержанной наша любезная хозяйка клятвенно опровергла выдумку доносчицы, и я, следовательно, мог спасти несчастное, как мне кажется, полоумное существо от неминуемой ужасной смерти. Не правда ли, ювфроу?
Лизбете, опутанной сетями обстоятельств, совершенно не знавшей, что предпринять, оставалось только утвердительно кивнуть головой.
- Мне кажется, что после моего объяснения нарушение общепринятых правил может найти себе извинение, - заключил Монтальво, - и мне остается прибавить только одно слово; мое положение здесь совершенно особенно - я здесь официальное лицо, но между тем смело говорю среди друзей, подвергая себя опасности, что кто-нибудь из присутствующих может направить мои же слова против меня, чего я, впрочем, не думаю. Хотя нет в Нидерландах более ревностного католика и более преданного своей родине испанца, чем я, меня обвиняли в том, что я выказываю слишком большую симпатию к вашему народу и поступаю слишком мягко с теми, кто навлек на себя неудовольствие святой Церкви. Что касается применения моих прав и правосудия, я согласен сносить подобные обвинения, но на свете не всегда правда берет верх. Поэтому, хотя я рассказал вам только истину, я должен указать, что в интересах нашей хозяйки, в моих собственных интересах, которых дело может коснуться, и в интересах всех сидящих за этим столом лучше было бы не распространяться особенно о подробностях только что сообщенного мною происшествия: пусть оно умрет в этих стенах. Согласны ли вы, друзья?
Побуждаемые одним общим порывом, а также общим, хотя и бессознательным страхом, все присутствующие, даже осторожный и дальновидный ван-де-Верф, отвечали в один голос:
- Согласны!
- Друзья, - сказал Монтальво, - это простое слово дает мне такую же глубокую уверенность, как какая-нибудь торжественная клятва, такую же уверенность, какую дала клятва нашей хозяйки, на основании которой я счел себя вправе отпустить несчастную, хотя в ней подозревали бежавшую еретичку.
Монтальво закончил свою речь вежливым общим поклоном и сел.
- Что за добрый, что за восхитительный человек, - проговорила тетушка Клара, обращаясь к Дирку среди шума поднявшихся разговоров.
- Да, только…
- Какая наблюдательность и какой вкус! Ты слышал, что он сказал о нашем ужине?..
- Слышал что-то мельком.
- Правда, все говорят, что мой тушенный в молоке каплун, какой у нас был сегодня… Что это с твоим камзолом? Ты раздражаешь меня, не переставая тереть его…
- Ты облила его красным вином, вот и все, - недовольным тоном отвечал Дирк. - Он испорчен.
- Не велика потеря, говоря правду. Дирк, я не видела камзола, хуже сшитого. Вам, молодым людям, следовало бы поучиться одеваться у испанских дворян. Взгляни, например, на его сиятельство, графа Монтальво…
- Мне кажется, тетушка, я уже довольно слышал на сегодня об испанцах и капитане Монтальво, - перебил свою родственницу Дирк, едва сдерживая себя. - Сначала он увозит Лизбету и пропадает с ней целых четыре часа, затем сам набивается на ужин и садится с ней на почетный конец стола, предоставляя мне скучать, как никогда, на противоположном конце…
- Ты сердишься и становишься невежлив, - сказала тетка Клара. - Не только умению одеваться, но и умению держать себя тебе не мешало бы поучиться у испанского гидальго и коменданта.
Почтенная дама при этих словах поднялась, обращаясь к Лизбете:
- Если ты кончила, Лизбета, пойдем, а наши гости еще займутся вином.
Когда дамы удалились, в столовой стало еще оживленнее.
В те времена почти все пили очень много спиртных напитков, по крайней мере на праздниках, и этот вечер не составлял исключения. Даже Монтальво, чувствовавший, что выиграл игру и поэтому несколько успокоившийся, не отставал от других и по мере того как кубок осушался за кубком, становился все разговорчивее. Но он был настолько хитер, что даже тут остался верен своему плану и в разговоре высказал такое сочувствие к невзгодам, переживаемым Нидерландами, и такую религиозную терпимость, какие редко можно было встретить в испанце.
Затем разговор перешел к военным вопросам, и Монтальво, подстрекаемый ван-де-Верфом, который, не в пример прочим, пил немного, стал объяснять, как бы он, если бы был главнокомандующим, стал защищать Лейден от нападения войск, превосходящих численностью его гарнизон. Скоро ван-де-Верф заметил, что граф был искусный офицер, изучивший свое дело, и, будучи сам любознательным штатским, начал предлагать своему собеседнику вопрос за вопросом.
- Предположите, - спросил он наконец, - что город погибает от голода, а все еще не взят, так что жителям предстоит или попасть в руки неприятеля, или сжечь самим свои жилища. Что бы вы сделали в таком случае?
- Тогда, мейнгерр, если бы я был обыкновенный человек, я внял бы голосу умирающего от голода населения и сдался.
- А если бы вы были великим человеком?
- Если б я был великим человеком?.. Тогда я перерезал бы плотины и снова допустил бы морские волны биться о стены Лейдена. Армия не может жить в соленой воде, мейнгерр.
- Но при этом вы потопили бы фермеров и разорили бы страну на двадцать лет.
- Совершенно верно, но когда надо спасти зерно, кто думает о спасении соломы?
- Слушаю вас, сеньор. Ваша пословица хороша, хотя мне никогда не приходилось слышать ее.
- Немало хороших вещей идет из Испании, мейнгерр, в том числе и это красное вино. Позвольте выпить еще стакан с вами, и если позволите мне сказать вам это, вы - человек, с которым приятно встретиться и со стаканом в руке, и с мечом.
- Надеюсь, что вы навсегда сохраните обо мне такое мнение, - отвечал ван-де-Верф, осушая свой кубок, - встретимся ли мы с вами за столом, или на поле битвы.
После этого Питер отправился домой и, прежде чем лечь спать, тщательно записал все, что слышал от испанца о военных диспозициях, как атакующих, так и осажденных, а под своими заметками написал пословицу о зерне и соломе. Не было видимой причины, почему ван-де-Верфу, простому гражданину, занятому торговлей, пришло в голову сделать это, но он оказался предусмотрительным молодым человеком и знал, что многое может произойти, чего никак нельзя предвидеть в данную минуту. Случилось так, что через много лет ему пришлось воспользоваться советом Монтальво. Все, знакомые с историей Нидерландов, знают, как бургомистр Питер ван-де-Верф спас Лейден от испанцев.
Что касается Дирка ван-Гоорля, он добрел до своей квартиры, опираясь на руку не кого иного, как графа дон Жуана де Монтальво.
ГЛАВА IV. Три пробуждения
На другое утро после санного бега в Лейдене было три лица, с мыслями которых при их пробуждении небезынтересно познакомиться для читателя, следящего за их судьбой. Первое из этих лиц был Дирк ван-Гоорль, которому всегда приходилось рано вставать по своим обязанностям и которого в это утро отчаянная головная боль разбудила как раз в ту минуту, как часы на городской башне пробили половину пятого. Ничто не оказывает такого неприятного влияния на расположение духа, как пробуждение от сильной головной боли в половине пятого, среди холодного мрака зимнего утра. Однако, лежа и раздумывая, Дирк пришел к убеждению, что его дурное расположение духа происходит не только от головной боли или холода.
Одно за другим ему вспомнились события предыдущего дня. Прежде всего он опоздал ко времени, назначенному для встречи с Лизбетой, что, очевидно, рассердило ее. Затем появился капитан Монтальво и увез ее, как коршун уносит цыпленка из-под надзора наседки, между тем как он сам, Дирк, осел этакий, даже не нашел слова протеста. После этого, считая себя обязанным держать пари за сани, в которых сидела Лизбета, несмотря на то, что ими правил испанец, он проиграл десять флоринов, и это вовсе не было по душе такому расчетливому молодому человеку, как он. Остальное время праздника на льду он провел в поисках Лизбеты, таинственно исчезнувшей с испанцем, причем не только скучал, но еще и беспокоился. Наконец, настал ужин, где опять граф выхватил у него из-под носа Лизбету, предоставив ему стать кавалером тети Клары, которую он не любил, считая за старую дуру, и которая, испортив его новый камзол, в конце концов еще объявила, что он не умеет одеваться. И это еще не все: Дирк чувствовал, что выпил больше, чем следовало, так как об этом ему докладывала его голова. А в довершение всего он вернулся домой под руку с этим самым испанцем и, ей-богу, на пороге своего дома клялся ему в верной дружбе.
Без сомнения, граф оказался необычайно добрым малым для испанца. Что касается своего поступка на бегах, он дал ему вполне удовлетворительное объяснение и принял свое поражение, как джентльмен. Что могло быть любезнее и тактичнее его упоминания о Питере в его застольной речи? Также и в своем отношении к несчастной Марте, историю которой Дирк знал хорошо - и это было важнее всего остального, - Монтальво выказал себя терпимым и добрым человеком.
Надо сказать сразу, что в действительности Дирк был лютеранин: он был принят в эту секту два года тому назад. Быть лютеранином в эти дни в Нидерландах - значило жить, вечно чувствуя у себя на шее железный ошейник и имея перед глазами колесо или костер, - обстоятельство, заставлявшее смотреть на религию более серьезно, чем большинство смотрит на нее в нашем столетии. Однако и в то время страшные казни, которыми каралось вероотступничество, не удерживали многих бюргеров и людей низшего класса от поклонения Богу по-своему. В действительности же из всех присутствовавших на ужине у Лизбеты большая половина, в том числе и Питер ван-де-Верф, были тайными приверженцами новой веры.
Но, оставляя в стороне религиозные соображения, Дирк не мог не пожалеть в душе, что добродушный испанец так красив и что он так умеет ценить красоту лейденских дам, особенно Лизбеты, которая, как ему признался сам Монтальво, произвела на него сильное впечатление. Больше всего опасался Дирк, что подобное восхищение могло быть обоюдным. В конце концов, испанский гидальго и комендант крепости - лицо незаурядное, и, к несчастью, Лизбета также была католичка. Дирк любил Лизбету: он любил ее с терпеливой искренностью, характерной для его национальности и его собственного темперамента, но, кроме уже упомянутых выше причин, разница религий воздвигала стену между ними Лизбета, конечно, и не подозревала ничего подобного. Она даже не знала, что Дирк принадлежит к новой вере, а без разрешения старейших в своей секте он не мог открыться ей, не решаясь легкомысленно вверить скромности молодой девушки жизнь многих людей и их семей.
В этом заключалась причина, почему он, при всей своей преданности Лизбете, даже думая, что она неравнодушна к нему, ни одним словом не намекнул ей на свое чувство и не сватался к ней. Как мог он, лютеранин, предлагать католичке стать его женой, не сказав ей всей правды? А если бы он открыл ей все и она решилась бы рисковать собой, какое право имел он завлекать ее в эти ужасные сети? Предположив даже, что она не изменила бы своей вере, имея на то полное право, он, в свою очередь, обязан был бы стараться обратить ее, а детей их, если б они были у них, пришлось бы воспитать в вере отца. Рано или поздно явился бы доносчик - один из тех ужасных доносчиков, тень которых тяготела над тысячами нидерландских семей, а за ним офицер, потом монах, судья и, наконец, палач и костер.
Что сталось бы в таком случае с Лизбетой? Она могла бы доказать свою невинность в ереси, если бы к тому времени еще действительно не была виновна в ней, но какова стала бы жизнь любящей женщины, муж и дети которой томились бы в тюрьмах папской инквизиции? В этом заключалась первая причина, почему Дирк молчал даже в те минуты, когда испытывал сильнейшее искушение заговорить, хотя внутреннее чувство и подсказывало ему, что его молчание перетолковывалось иначе - приписывалось избытку осторожности, равнодушию или излишней щепетильности.
Вторым лицом, проснувшимся в это утро, была Лизбета, у которой, если и не болела голова (а этим и в ее время часто страдали женщины ее класса), были другие огорчения, с которыми ей предстояло справиться.
Когда она стала разбираться в них и раздумывать, все они разрешились чувством негодования на Дирка ван-Гоорля. Дирк опоздал на свидание, приводя смешное оправдание, что должен был дождаться, пока не остынет колокол, как будто ей было до этого дело; результатом была встреча с этой ужасной женщиной, Мартой-Кобылой, затем с Черной Мег и, наконец, с испанцем. Здесь опять Дирк выказал непростительное равнодушие и недогадливость, допустив Лизбету принять против воли приглашение поместиться в санях испанца. Дирк даже высказал сам свое согласие на это. Затем одно за другим следовали таковые события этого злополучного карнавала: бег, покушение на соперника, ужасный кошмар, который в продолжение вечера ей постоянно напоминал лицо Монтальво; допрос Марты; ее собственная не преднамеренная, но несомненная ложь; катанье наедине с человеком, принудившим ее произнести ложную клятву; появление перед всеми с ним как с добровольно выбранным ею спутником; наконец, ужин, во время которого испанец явился ее кавалером, между тем как простодушная компания гостей ухаживала за ним, как за существом высшего порядка, случайно попавшим в ее среду.
Какие были намерения у Монтальво? Без сомнения, в этом она была уверена, он намеревался показать, что ухаживает за ней, иначе нельзя было истолковать всех его поступков. И теперь - это было самое ужасное - она, в сущности, была у него в руках, потому что, если бы он захотел, ему ничего бы не стоило доказать, что она произнесла ложную клятву. Сама ложь также тяготила Лизбету, хотя и была произнесена с добрым намерением, если только было действительно хорошо спасать фанатичку от участи, которая, наверное, постигла бы ее, если бы ее преступление стало известно.
Без сомнения, испанец был дурной человек, хотя и привлекательный, и поступил дурно, при все своем умении держать себя и при всех своих блестящих манерах; но чего можно было ожидать от испанца, преследовавшего свои собственные цели? Дирк один… один он во всем виноват… и не столько своей вчерашней ненаходивостью, сколько всем своим поведением вообще. Почему он не предупредил и не устроил так, чтобы она была гарантирована от подобных случаев, на которые всегда рискует наткнуться женщина ее красоты и положения? Святым известно, что со своей стороны она сделала все, чтобы дать ему случай высказаться. Она дошла до пределов того, что может
позволить себе девушка, и ради каких бы то ни было Дирков на свете не сделает ни одного шагу дальше. И что ей так понравилось его глупое лицо? Почему она отказала такому-то и такому-то, всем приличным женихам, и попала в такое положение, что молодые люди уже не подходят к ней, как бы подозревая, что она дала уже слово своему родственнику? Прежде она уверяла себя, что ее привлекает в Дирке что-то, что она чувствует, но не видит: скрытое благородство характера, слабо проявляющееся снаружи. Но где же это «что-то», это благородство? Без сомнения, настоящий мужчина должен бы был вступиться и не ставить ее в такое ложное положение. Средства к жизни не могли служить препятствием: она не пришла бы к нему с пустыми руками и даже, напротив, принесла бы за собой кое-что. О, если б не несчастье, что она, к своей досаде, продолжала любить его, она никогда, никогда не сказала бы с ним больше ни одного слова.
Последним из наших друзей, проснувшимся в это знаменательное утро между девятью и десятью часами, когда Дирк уже два часа успел просидеть у себя в конторе, а Лизбета побывать на рынке, был блестящий офицер, граф дон Жуан де Монтальво. Открыв свои темные глаза, он несколько секунд смотрел в потолок, собираясь с мыслями. Затем, сев в постели, он залился хохотом. Вся эта история была слишком потешна, чтоб веселому человеку не посмеяться ей. Этот простофиля Дирк ван-Гоорль; взбешенная, но беспомощная Лизбета; надутые крепкоголовые нидерландцы, которых он всех заставил петь в своем тоне, как струны на скрипке, - да, все это было восхитительно!
Как читатель мог уже догадаться, Монтальво не был типичным испанцем - героем романа или историческим лицом. Он не был ни мрачен или сосредоточен, ни особенно мстителен или кровожаден. Напротив, он был веселого характера, безо всяких правил, остроумный и добрый малый, за что пользовался всеобщим расположением. Кроме того, он был храбрый, хороший солдат, симпатичный в некотором смысле, и, странно сказать, не ханжа. Правду сказать, в те времена это было редкостью: его религиозные взгляды так расширились, что в конце концов у него их вовсе не осталось. Поэтому он только изредка поддавался какому-нибудь мимолетному суеверию, вообще же не питал никаких духовных надежд или страхов, что, по его мнению, доставляло ему много преимуществ в жизни. В действительности, если бы того требовали его планы, Монтальво готов был стать кальвинистом, лютеранином, магометанином или даже анабаптистом - смотря по требованиям минуты; он объяснил бы это тем, что художнику удобно нарисовать какую угодно картину на чистом полотне.
И между тем эта способность применяться к обстоятельствам, это отсутствие убеждений и нравственного чувства, которые должны бы были так облегчать графу житейские отношения, были главной причиной его слабости. Судьба сделала его солдатом, и он нес эту службу, как нес бы всякую другую. Но по природе он был актер, и изо дня в день он играл в жизни то одну, то другую роль, но никогда не был самим собой, потому что не имел определенного характера. Однако где-то глубоко в душе Монтальво скрывалось что-то постоянное и самостоятельное, и это «что-то» было не доброе и не злое. Оно очень редко проявлялось наружу; рука обстоятельств должна была глубоко погрузиться в душу графа, чтобы извлечь это нечто, но, несомненно, непреклонный, жестокий испанский дух, готовый всем пожертвовать ради того, чтобы спастись или даже выдвинуться, жил в нем. Лизбета видела именно этот дух в глазах Монтальво накануне, когда, не надеясь больше на победу, граф пытался убить своего противника, рискуя сам быть убитым. И не в последний раз она видела эту скрытую черту характера Монтальво: еще два раза ей суждено было натолкнуться на нее и дрожать перед ней.
Хотя Монтальво вообще не любил жестокости, однако при случае мог сам быть жесток до последней степени: хотя он ценил друзей и желал иметь их, однако мог сделаться самым низким предателем. Хотя без причины он не тронул бы живое существо, однако, найдя причину достаточной, он мог спокойно обречь на смерть целый город. И при этом ему было бы нелегко: он стал бы сожалеть об обреченных и впоследствии вспоминать бы о них с грустью и даже с участием. Этим он отличался от большинства своих соотечественников и современников, которые сделали бы то же, но гораздо жестче, руководствуясь честными принципами, и впоследствии радовались бы всю свою жизнь при воспоминании о своем деле.
У Монтальво была одна господствующая страсть - не война и не женщины, но деньги. Однако он любил не сами деньги, так как не был скуп, и, будучи игроком, никогда не мог отложить ни гроша; но он любил тратить деньги и сорить ими.
В отличие от многих из своих соотечественников, он мало обращал внимания на женщин, даже не любил их общества и увлечение считал обузой, но он любил вызывать их восхищение, так что, за неимением лучшего, был бы способен выбиваться из сил, чтобы приобрести себе поклонницу в лице какой-нибудь служанки или рыбной торговки.
Все его усилия были направлены к тому, чтобы всюду, где бы он ни показался, затмить в глазах городских красавиц всех остальных, и ради этого он поддерживал многочисленные любовные интриги, в сущности, вовсе не забавлявшие его. Удовлетворение тщеславия, само собой, влекло за собой расходы, так как красавицы требовали денег и подарков; ему самому необходимы были наряды, лошади и вся обстановка самого утонченного вкуса. Знакомых надо было принимать у себя, и притом так, чтобы у них являлось чувство, что их угощал испанский гранд.
Считаться грандом никогда не обходится дешево; не один обедневший пэр знает в наше время, какая обуза титул без состояния. Монтальво носил титул - он был дворянин, но единственным имением его была башня, выстроенная одним из его воинственных предков в местности, прекрасно приспособленной к планам этого предка - ограблению проезжих во время их пути по узкому ущелью. Когда же путешественники не стали ездить этим ущельем или по другим причинам разбойничество перестало составлять прибыльный промысел, доходы семьи Монтальво уменьшились и наконец совсем иссякли. Таким образом случилось, что последний представитель древнего рода оказался в положении заурядного военного, но, к несчастью для себя, обладающего широкими наклонностями, роковой страстью к игре и неимоверной гордостью своим происхождением.
Быть может, Жуан де Монтальво сам не отдавал себе ясного отчета в этом; но у него было две цели в жизни: во-первых, удовлетворять в широкой степени все свои капризы и прихоти, а во-вторых - и эта цель была второстепенной и несколько туманной, - восстановить свое родовое богатство. Обе цели сами по себе были вполне законные, и в те времена, когда можно было с успехом ловить рыбу в мутной воде, а человеку способному и настойчивому было нетрудно добиться блестящего положения, не представлялось причины сомневаться в том, чтобы Монтальво не добился осуществления своих планов. Однако пока, несмотря на несколько представлявшихся случаев, ему еще ничего не удалось, хотя ему уже было за тридцать. Причины неудач были различные, но в основании их лежал недостаток постоянства и изобретательности.
Человек, постоянно играющий роль, занимает многих, но не убеждает никого. Монтальво не мог убедить никого. Когда он разговаривал с монахами о тайнах религии, то даже монахи, в это время большею частью люди недалекие, чувствовали, что присутствуют только при умственном упражнении. Когда он говорил о войне, его слушателям казалось, что в душе он только и думает, что о любви. Когда он пел о любви, то особа, к которой он обращал свои речи, инстинктивно чувствовала, что он любит только самого себя, а не ее. И в этом женщины подходили ближе всего к истине: Монтальво любил только самого себя. Ради самого себя он нуждался в больших деньгах, и целью его жизни стало так или иначе добыть эти деньги.
Но и в шестнадцатом столетии богатство не давалось само собой в руки всякому искателю приключений. Жалованье военные получали маленькое и не всегда аккуратно; посторонний заработок был редок и быстро тратился; даже выкуп за одного или двух богатых пленных скоро исчерпывался уплатой таких долгов чести, от которых нельзя было увернуться. Оставалась, конечно, возможность богатой женитьбы, что в такой стране, как Нидерланды, где было много богатых невест, не представлялось затруднительным для знатного, красивого, любезного испанца. И действительно, настало время, когда Монтальво предстояло или жениться или разориться: его долги, особенно карточные, возросли до громадной суммы, и он не мог ступить шагу, не встретив кредитора. К несчастью для него, многие из этих кредиторов имели доступ к властям, и таким образом произошло, что Монтальво получил извещение о необходимости предотвратить скандал вместе с угрозой, что в противном случае ему придется вернуться в Испанию, страну, куда, правду сказать, его вовсе не тянуло. Одним словом, роковой час расплаты, который он всеми силами старался отдалить, настал, и женитьба, богатая женитьба являлась единственным исходом. Это был грустный исход для человека, имевшего свои причины, чтобы не желать вступать в брак, но приходилось покориться.
Таким образом случилось, что граф Монтальво, остановив свое внимание на красивой и богатой Лизбет ван-Хаут как на единственной подходящей ему партии в Лейдене, пригласил молодую девушку в свои сани во время бега и так старался быть приятным гостем в ее доме.
Пока все шло удачно, и, что еще больше, начало охоты было даже занимательно. Местное же общество после того, как Лизбета приняла приглашение быть его дамой во время бега и потом так долго каталась с ним наедине в лунную ночь, что, без сомнения, составляло теперь предмет бесконечных сплетен, было вполне подготовлено ко всякого рода вниманию, какое графу вздумалось бы оказать ей. И почему ему не поухаживать за девушкой свободной, по происхождению стоявшей ниже, хотя по богатству выше его? Правда, он знал, что ее имя соединялось с именем Дирка ван-Гоорля. Он знал также, что молодые люди привязаны друг к другу, так как на обратном пути прошлой ночью Дирк, может быть, имея на то свои причины, почтил его конфиденциальным полупризнанием. Но какое ему до этого дело, если они еще не помолвлены? А если б даже были помолвлены, то и тогда разве не все равно? Но все же Дирк ван-Гоорль являлся препятствием и, несмотря на то, что он казался добрым малым и Монтальво было жаль его, его необходимо было убрать с дороги, так как граф был убежден, что Лизбета - одно из тех упорных созданий, которые отказались бы от брака с ним, пока молодой лейденец не исчезнет с горизонта. А между тем Монтальво не желал впутываться в дуэль уж по одному тому, что в дуэли всегда можно ждать какой-нибудь неожиданности, а это был бы плохой исход. Точно так же не желал он быть замешанным в убийстве; во-первых, потому что ему чрезвычайно неприятна была сама мысль об убийстве кого-либо без крайней на то необходимости для самозащиты, а во-вторых, потому, что убийство - некрасивый путь, чтобы выпутаться. Кроме того, нельзя было заранее предсказать, как взглянут власти на исчезновение молодого нидерландца почтенной фамилии.
Надо было подумать о другом средстве. Если этот молодой человек умрет, нельзя заранее сказать, как Лизбета отнесется к его смерти. Ей может вдруг прийти в голову отказаться от замужества или оплакивать своего жениха лет пять; оба решения оказались бы одинаково невыгодными для планов Монтальво. А между тем пока Дирк жив, есть ли возможность заставить Лизбету перенести на другого ее расположение? Таким образом, казалось, что Дирку необходимо умереть. С четверть часа Монтальво раздумывал по поводу этого вопроса, и наконец, когда он уже готов был предоставить все дело случаю, вдруг в его уме блеснула блестящая, гениальная мысль.
Дирк не умрет, он будет жить, но его жизнь будет куплена ценою руки Лизбеты ван-Хаут. Если она любит Дирка только наполовину так, как предполагает Монтальво, то, вероятно, согласится выйти замуж за кого угодно ради спасения дорогой головы: ведь девять десятых женщин способны на такой сентиментальный идиотизм. Кроме того, этот план имел и другие хорошие стороны: он был выгоден для всех. Дирк спасется от смерти, за что должен быть благодарен; Лизбета, кроме чести союза, хотя, быть может, только временного, с ним, графом, будет жить, окруженная небесным сиянием добродетели, происходящим из сознания, что она сделала нечто весьма прекрасное и трагическое, между тем как он сам, Монтальво, благодаря которому все получат такие выгоды, также попользуется кое-чем.
Затруднение было в одном: как создать такое состояние вещей? Как поставить интересного Дирка в такое безвыходное положение, чтобы заставить Лизбету проявить свое благородство ради его спасения? Вот если бы Дирк был еретиком! А не окажется ли он им и в самом деле? Мудрено себе представить фигуру, более подходящую еретику: плосколицый, с манерами святоши и носящий темные чулки; Монтальво заметил, что все еретики, мужчины и женщины, носили чулки темного цвета, может быть, имея в виду умерщвление плоти. Одно только несколько противоречило предположению Монтальво: молодой человек пил слишком много за ужином накануне. Впрочем, и между еретиками попадались такие, которые не прочь были выпить. И лучшие люди иногда спотыкаются; еще старый монах-кастелян, учивший графа латыни, говорил: «Errare humanum est».
Таким образом, размышления Монтальво сводились к следующему, для того чтобы выпутаться из затруднительного положения, необходимо, во-первых, чтобы Лизбета ван-Хаут через три месяца была его женой; во-вторых, если окажется невозможным устранить с дороги Дирка ван-Гоорля, отбив у него привязанность молодой девушки или возбудить ее ревность (вопрос: возможно ли заставить женщину так приревновать этого пентюха, чтобы она с досады решилась выйти за другого?), надо принять более суровые меры, в-третьих, эти более суровые меры должны состоять в том, чтобы принудить Лизбету спасти ее возлюбленного от костра, соединившись браком с человеком, ради нее вошедшим в сделку со своею совестью и подстроившим все; в-четвертых, самый лучший способ приведения всего этого в исполнение - доказать, что возлюбленный - еретик, а если, к несчастью, этого нельзя будет доказать, то все же выставить его еретиком, и, в-пятых, пока как можно чаще видеться с мейнгерром ван-Гоорлем, потому что вообще при существующих обстоятельствах сближение необходимо, а кроме того, у него при случае можно и денег перехватить.
Розыски еретиков также стоят денег, так как придется прибегнуть к услугам шпионов; само собой разумеется, что друг Дирк, голландский каплун, должен сам доставить масло, в котором его станут жарить. И Монтальво закончил свое размышление так же, как начал его, - громким раскатом смеха, после чего он встал и принялся за вкусный завтрак.
Был уже шестой час пополудни этого дня, когда капитан и исполнявший должность коменданта Монтальво вернулся со службы домой: надо сказать, что он был усердный и дельный служака. При возвращении его встретил солдат-денщик, выбранный им за молчаливость и скрытность и, отдав честь, ждал приказания.
- Женщина здесь? - спросил Монтальво.
- Здесь, ваше сиятельство, хоть и нелегко ее было доставить сюда: я застал ее в постели, больной.
- Какое мне дело, что было трудно! Где она?
- В вашей комнате, ваше сиятельство!
- Хорошо. Смотри, чтоб никто не помешал нам, а когда она выйдет отсюда, следи за ней, пока она не дойдет до дома.
Солдат снова взял под козырек, а Монтальво вошел в комнату, тщательно заперев дверь за собою. Комната была не освещена, но через большое сводчатое окно лился яркий лунный свет, и при нем Монтальво увидел сидящую на стуле с прямой спинкой темную закутанную фигуру. Было что-то странное, почти сверхъестественное в этой фигуре, сидевшей в молчаливом ожидании. Она напомнила ему - иногда фантазия его разыгрывалась совершенно некстати - хищную птицу, сидящую на обрубке высохшего дерева в ожидании рассвета, когда она собирается лететь на ожидающую ее добычу.
- Это ты, тетушка Мег? - спросил он совершенно серьезно. - Совсем как в старое время, в Гале, не правда ли?
Освещенная луной фигура повернула голову. Монтальво увидел, как свет отразился на белках ее глаз.
- Кто же, как не я, ваше сиятельство, - отвечал охрипший от простуды голос, напоминавший карканье ворона, - хотя, правду сказать, не вашими молитвами жива. Крепкое надо иметь здоровье, чтобы не захворать, выкупавшись в проруби.
- Не ворчи: мне некогда слушать твою воркотню. Что тебя выкупали вчера, так поделом, за твою проклятую недогадливость. Разве ты не видала, что я веду свою линию, а ты портишь мне все. Я сделался бы посмешищем своих людей, если б стал слушать, как ты предостерегаешь против меня девицу, расположение которой я желаю сохранить.
- У вас всегда ведется какая-нибудь игра, ваше сиятельство, только если она кончается тем, что тетку Мег сначала ограбили, а потом чуть не потопили подо льдом, то тетка Мег этого не забывает.
- Ш-ш! Не у тебя одной есть память. Какая тебе была назначена награда? Двенадцать флоринов? Получишь их, и еще пять вдобавок: это хорошая плата за нырок в холодную воду. Будет с тебя?
- Нет, ваше сиятельство, мне нужна была жизнь, жизнь этой еретички. Мне надо было видеть, как она будет жариться на костре или топтать ее ногами, когда бы ее стали зарывать в землю. Я гонюсь за этой женщиной, зная - в ее голосе слышалась ярость, - что если я не убью ее, она постарается убить меня. Ее мужа и сына сожгли в основном потому, что я донесла на них, а она уж третий раз уходит от меня.
- Потерпи, потерпи, в конце концов все устроится. Ты словила двух: самого папеньку и его наследника, нечего ворчать, что маменька не сразу дается тебе в руки и недолюбливает тебя. Теперь слушай. Ты знаешь девицу, которой мне надо было угодить вчера. Она богата?
- Да, я знаю ее и знала ее отца. Он оставил ей полный дом, много бриллиантов и тридцать тысяч крон, помещенных на хорошие проценты. Хорошее приданное. Только получит его Дирк ван-Гоорль, а не вы.
- Вот в том-то и дело. Что ты знаешь о Дирке ван-Гоорле?
- Почтенный, работящий бюргер, сын зажиточных родителей, медников из Алькмаара. Он честен, только не особенно умен, он из таких людей, что богатеют, становятся бургомистрами, основывают приюты для бедных, а после смерти им ставят памятники.
- Ты отупела от холодной ванны. Когда я спрашиваю тебя о человеке, я хочу знать, что тебе известно против него.
- Понимаю, ваше сиятельство, только про этого ничего не скажешь. Ни любовных дел за ним нет, не играет он, не пьет, разве стаканчик после обеда. Весь день он работает у себя в конторе, ложится рано, встает рано, а в воскресенье ходит к ювфроу ван-Хаут. Вот и все.
- В какой церкви он бывает?
- Раз в неделю в соборе, но не причащается и не ходит к исповеди.
- Это плохо, очень плохо. Ведь ты не хочешь сказать этим, что он еретик?
- Очень вероятно, здесь их развелось много.
- Ужасно! Знаешь ли, мне бы не хотелось, чтобы эта прекрасная девушка, хорошая католичка, как мы с тобой, сблизилась с еретиком, который может подвергнуть ее разным опасностям. Кто может дотронуться до смолы и не запачкаться?
- Вы тратите попусту время, ваше сиятельство, - отвечала посетительница с усмешкой. - Что вам от меня надо?
- В интересах этой молодой девицы мне надо доказать, что этот человек еретик, и мне пришло на мысль, что ты, как особа привычная к таким делам, можешь найти подходящие улики.
- Да, ваше сиятельство. А не приходило вам в голову, на что будет похоже мое лицо, если я всуну ради вашей забавы свою голову в осиное гнездо? Знаете ли, что ждет меня, если я стану подглядывать за лейденскими еретиками? Они убьют меня. Их много, и все люди решительные; пока их не трогаешь, они тебя тоже не тронут; но только коснись их, так прощай. Мне хорошо известны законы о Церкви и императоре, но император не может сжечь целый народ, и как я ни ненавижу их, все же я должна сказать… - она вскочила и продолжала страстным, убежденным голосом, - что в конце концов и законам, и монахам придется уступить. Да, эти голландцы перебьют всех священников и перережут вас, испанцев; тех же, которые останутся в живых, вытолкают в шею. Они станут плевать при воспоминании о вас и будут служить Богу по-своему; они сделаются гордым, свободным народом, а вы, как собаки, станете глодать кости, оставшиеся от вашего прежнего величия; вас загонят в вашу конуру, и вы околеете в ней!.. Вот что я скажу вам, - закончила Мег изменившимся голосом, опускаясь на стул. - Я слышала, как этот дьявол, Марта-Кобыла, говорила так на катке, и мне кажется, ее слова сбудутся: вот почему я так запомнила их.
- Кажется, действительно госпожа Кобыла более интересная особа, чем я думал, и если она говорит такие речи, то следовало бы утопить ее. А пока оставим пророчества: пусть наши потомки выпутываются, как хотят, мы же приступим к делу. Сколько тебе надо за показания, которых было бы достаточно, чтобы уличить ван-Гоорля?
- Пятьсот флоринов, ни одного стивера меньше, ваше сиятельство; и не тратьте время попусту, торгуясь со мною: вам нужны веские улики - улики, которые могли бы удовлетворить Совет или того, кому будет поручено рассмотрение дела, а это значит, что надо доставить двух надежных свидетелей. Говорю вам, дело нелегкое подобраться к этим еретикам; для честного человека, который возьмется за это дело, в нем много опасного: еретики - народ отчаянный, и если они заметят, что за ними кто подсматривает, когда они справляют свою дьявольскую службу на одной из своих сходок, так не задумаются убить того человека.
- Все это я знаю, тетушка. Чего ты разглагольствуешь! Ведь для тебя это дело привычное. Вот тебе сказ: получишь деньги, когда добудешь улики. А теперь, если мы с тобой будем оставаться здесь долго, пойдут толки… Кто тут спрячется от сплетников? Так прощай же, тетушка, спокойной ночи!
Он повернулся, собираясь выйти из комнаты.
- Нет, ваше сиятельство, как же так, без задатка, - закаркала она с негодованием. - Я не могу работать только под ваше слово.
- Сколько? - спросил он.
- Сто флоринов чистоганом.
Несколько минут они ожесточенно торговались, близко нагнувшись друг к другу в полосе лунных лучей, и лица их имели такое противное выражение, так ясно был написан на них их злодейский замысел, что при этом слабом свете их можно было принять за выходцев преисподней, торгующихся из-за человеческой души. Наконец они сошлись на пятидесяти флоринах, и, получив задаток на руки, Черная Мег удалилась.
- Всего шестьдесят семь, - ворчала Мег, выходя на улицу. - Нечего было требовать больше, ведь у него нет денег, он беден, как Лазарь, а жить желает богачом, к тому же, как говорили в Гааге, еще играет. Да и в его прошлом не все чисто, я кое-что слыхала про это. Надо разнюхать, быть может, удастся узнать кое-что из пачки бумаг, которую я стянула из его письменного стола, пока дожидалась (она ощупала, действительно ли бумаги у нее за пазухой), хотя очень может оказаться, что это только неоплаченные счета. Ну, мой любезный капитан, прежде чем ты развяжешься с Черной Мег, она покажет тебе, как платят горячей ванной за холодную.
ГЛАВА V. Сон Дирка
На следующий день после свидания Монтальво с Черной Мег Дирк получил послание, принесенное денщиком, с напоминанием об обещании обедать с графом в этот вечер. Дирк не помнил, чтобы он давал подобное обещание, но, вспомнив со стыдом, что многое из случившегося за ужином весьма неясно у него в памяти, он решил, что и обещание относится к числу этих вещей.
И, таким образом, Дирку против воли пришлось отвечать, что в условленный час он будет у графа.
Это было уже третье, что раздосадовало Дирка в этот день. Во-первых, он встретил Питера ван-де-Верфа, который сообщил ему, что весь Лейден толкует о Лизбете и капитане Монтальво, который, говорят, ей очень нравится. Потом - когда Дирк отправился к Лизбете ван-Хаут и ему сказали, что она поехала кататься в санях с теткой, чему он не поверил, так как наступила оттепель и испортила дорогу. Однако он мог бы еще усомниться в своем предположении, если бы, переходя через дорогу, не увидел красивого лица тетушки Клары, выглядывавшего из-за гардин гостиной верхнего этажа. Он так и сказал Грете, отворившей ему дверь, чего она обыкновенно не делала.
- Очень жаль, если мейнгерру чудятся вещи, которых нет, - невозмутимо заявила служанка. - Я уже сказала мейнгерру, что барышня и тетушка уехали кататься.
- Знаю, Грета, только что им за охота кататься в такую слякоть?
- Не знаю, мейнгерр. Они делают, что им вздумается. Не мое дело спрашивать, почему им так угодно.
Дирк посмотрел на Грету и убедился, что она лжет. Опустив руку в карман, он, к своей досаде, заметил, что забыл кошелек, тогда ему пришла было мысль поцеловать девушку и таким образом вытянуть у нее правду, но, подумав, что она может рассказать это Лизбете и испортить так все дело, он покорился своей участи и, ограничившись тем, что сказал: «В самом деле!» - ушел.
- Глупый! - рассуждала про себя Грета, смотря ему вслед. - Он знал, что я лгу, почему же он прямо не вошел, отстранив меня? Ах, мейнгерр Дирк, смотрите, как бы этот испанец не выхватил у вас дичь из-под носа. Конечно, он гораздо интереснее вас. Надоели мне эти лапчатые лейденцы, которые не решаются даже осла позвать, боясь как бы он не закричал. Между такими святыми приятно ради разнообразия увидеть человека позлее.
После этого Грета, в жилах которой, как уроженки Брюсселя, текла французская кровь, пошла наверх доложить своей госпоже о происшедшем.
- Я не просила тебя говорить неправду, будто я уехала кататься. Я приказала только ответить, что меня нет дома, и прошу передать то же капитану Монтальво, если он придет, - сказала Лизбета с некоторым раздражением, отпуская Грету.
В действительности ей было грустно, досадно и совестно перед собой за это. Все так не ладится, а несноснее Дирка нет человека на свете. Благодаря его недогадливости и неповоротливости теперь ее имя произносится вместе с именем Монтальво за всеми столами Лейдена. И вдруг еще ко всему она узнает из записки, присланной Монтальво с извинением, что он не сделал ей визита после вчерашнего ужина, будто Дирк обедает с ним сегодня. Отлично, пускай себе! Она сумеет отплатить ему и готова действовать сообразно его поступкам.
Так думала Лизбета, в досаде топая ножкой, на душе же у нее все время было тяжело. Она очень хорошо сознавала, что любит Дирка, и, как ни странна была его сдержанность, видела, что он любит ее. А между тем она чувствовала, как будто их разделяет широкая река. Сначала это был ручеек, но теперь он превратился в поток. А что хуже всего, что испанец был на одном берегу с ней.
Несколько победив свою досаду и застенчивость, Дирк заметил, что ему очень приятно обедать у Монтальво. Кроме него было еще трое гостей: два испанских офицера и один голландец, сверстник Дирка по годам и положению, по фамилии Брант. Он был сын почтенного и богатого золотых дел мастера из Гааги, отправившего сына в Лейден, чтобы изучить некоторые секреты у одного из ювелиров, знаменитого изяществом своих произведений. Обед и сервировка были безукоризненны; но лучше всего оказалась беседа, ведшаяся в таком тоне, какого Дирк никогда не слыхал за столом у людей своего класса. Нельзя сказать, как того можно было ожидать, чтобы разговор был особенно свободный, нет, это был разговор очень образованных людей, много путешествовавших, видевших многое и лично принимавших участие во многих трагических событиях времени, - людей, не зараженных религиозными предрассудками и старавшихся прежде всего сделать свое общество приятным и полезным для гостя. Герр Брант, еще недавно приехавший из Гааги, оказался также умным и воспитанным человеком, получившим более тщательное образование, чем большинство людей его круга, и привыкшим встречаться за столом своего отца, гаагского бургомистра, с людьми самых различных классов и состояний. Там же он познакомился и с Монтальво, который, встретив его на улице и узнав, пригласил к обеду.
Когда убрали со стола, один из испанских офицеров поднялся, прося извинить его, так как ему необходимо было уйти по делам службы.
После его ухода Монтальво предложил сыграть партию в кости. Дирку хотелось бы отказаться, но он не решился, боясь показаться смешным в глазах блестящих светских людей.
Игра началась, и так как она была очень незамысловатая, то Дирк скоро усвоил себе все ее приемы и даже стал находить в ней удовольствие. Сначала ставки были невысокие, но они постепенно удваивались, и наконец Дирк заметил с удивлением, что он ставит значительные суммы и выигрывает. Потом счастье несколько изменило ему, но когда игра кончилась, он оказался в выигрыше на триста пятьдесят флоринов.
- Что мне с ними делать? - спросил он, видя, как проигравшие с весьма понятными вздохами подвигают ему деньги.
- Что делать? - со смехом переспросил Монтальво. - Вот так младенец! Ну, купите вашей или чужой даме сердца подарок. Нет, я вам посоветую лучшее употребление: угостите нас завтра у себя самым изысканным обедом, какой можно изготовить в Лейдене, а потом дайте случай вернуть часть нашего проигрыша. Идет?
- Если вам будет угодно, господа, - скромно согласился Дирк, - хотя моя квартира не достойна такого общества.
- Конечно, угодно! - в один голос заявили все трое, и, назначив час встречи, собеседники разошлись. Брант дошел с Дирком до дверей его квартиры.
- Я собирался к вам завтра, - сказал он, - с рекомендательным письмом от отца, хотя вряд ли в нем была нужда - ведь мы троюродные братья: наши матери были двоюродными сестрами.
- Да, правда. Мать часто говорила о Бранте из Гааги, которым очень гордилась, хотя почти не знала его. Очень рад, надеюсь, мы подружимся.
- Уверен, что так, - отвечал Брант, и, взяв Дирка под руку, пожал ее особенным образом, так, что Дирк вздрогнул и оглянулся. - Ш-ш! - продолжал Брант, - не здесь! - и они продолжали разговор о знакомых, с которыми только что расстались, и об игре сегодняшнего вечера, причем Дирк высказал сомнение о пригодности подобного развлечения.
Молодой Брант пожал плечами.
- Мы живем в мире, - сказал он, - поэтому должны научиться понимать мирское. Если, рискуя несколькими золотыми, потеря которых не разорит нас, мы получаем возможность лучше познакомиться со светом, то я готов пожертвовать деньгами, особенно, если это поможет нам стать в хорошие отношения с теми, с кем при существующих обстоятельствах благоразумие велит вести дружбу. Только, если вы позволите мне сказать вам это, не пейте больше, чем можете переносить. Лучше проиграть тысячу флоринов, чем выронить одно слово, которое не в состоянии будешь потом припомнить.
- Знаю, знаю, - отвечал Дирк, вспомнив об ужине у Лизбеты, и простился с Брантом у дверей своей квартиры.
Подобно большинству голландцев, Дирк, задумав сделать что-нибудь, старался сделать это как можно лучше. Теперь, обещав дать обед, он желал дать вполне хороший обед. При обыкновенных условиях он, конечно, прежде всего посоветовался бы с кузиной Лизбетой и тетушкой Кларой, но после истории с катаньем, чистейшей выдумкой, как удостоверился Дирк, расспросив кучера, которого встретил случайно, самолюбивому молодому человеку не хотелось идти к своим родственницам. Поэтому он сначала обратился к своей квартирной хозяйке, почтенной даме, а потом, по ее совету, к содержателю первой гостиницы в Лейдене, человеку находчивому и опытному. Содержатель гостиницы, зная, что такой заказчик заплатит хорошо, охотно взялся за дело, и к пяти часам следующего дня целый отряд поваров и других слуг взбирался на лестницу квартиры Дирка, неся всевозможные кушанья, способные, как предполагалось, возбудить своим видом аппетит высокопоставленных гостей.
Квартира Дирка состояла из двух комнат на втором этаже старого дома на улице, переставшей считаться аристократической. Некогда это был красивый дом и, по понятиям того времени, комнаты были красивы, особенно гостиная - низкая, большая, обитая дубом, с изящным камином, украшенным гербом строителя. Прямо из нее дверь вела в спальню, не имевшую другого выхода, также обитую дубом, с высокими стенными шкафами и великолепной резной кроватью, по виду несколько напоминавшей катафалк.
В назначенный час явились гости. Празднество началось, повара засуетились, ставя перемены кушаний, изготовленных в гостинице. Над столом спускалась люстра с шестью подсвечниками, в каждом из которых оплывала сальная свеча, освещая сидевших за столом, но оставляя прочую часть комнат в большей или меньшей темноте. К концу ужина часть обгоревшей светильни одной из этих свеч упала в медный соусник, стоявший под люстрой, и жир загорелся. При свете внезапно вспыхнувшего пламени Монтальво, сидевшему напротив двери и случайно поднявшему глаза, показалось, будто вдоль стены в спальню скользнула высокая темная фигура. Одну только секунду капитан видел ее, затем она исчезла.
- Caramba, друг мой, - обратился он к Дирку, сидевшему к фигуре спиной, - в вашей мрачной квартире, кажется, водятся приведения! Мне почудилось, будто сейчас одно скользнуло мимо нас.
- Привидения? - отвечал Дирк. - Не слыхал; я не верю в привидения. Не угодно ли еще паштета?
Монтальво взял еще паштета и запил стаканом вина. Он не продолжал разговора о привидениях: быть может, ему пришло в голову объяснение виденного, как бы то ни было, он не сказал ничего больше.
После обеда стали играть, и на этот раз ставки начались с той суммы, на какой остановились накануне. Сначала Дирк проигрывал, но потом счастье вернулось к нему, и он стал выигрывать крупные суммы главным образом от Монтальво.
- Друг мой, - воскликнул наконец капитан, бросая кости, - вы, без сомнения, обречены на несчастье в супружеской жизни, потому что дьявол сидит в вашем игорном стакане, а его высочество всего не даст одному человеку. Я - пас! - И он встал.
- И я также, - заявил Дирк, следуя за ним к окну и не желая брать больше денег. - Вам очень не везло, граф, - сказал он.
- Да, - отвечал Монтальво, зевая, - мне теперь целых шесть месяцев придется жить… воспоминанием о вашем прекрасном обеде.
- Все это очень досадно, - сконфуженно проговорил Дирк, - мне не хотелось бы брать ваших денег; проклятые кости сыграли со мной такую штуку. Не станем больше говорить об этом.
- Офицер и дворянин не может так отнестись к долгу чести, - сказал Монтальво, вдруг став серьезным, но, - прибавил он с коротким внезапным смехом, - если другой дворянин будет настолько добр, что согласится покрыть долг чести другим долгом чести, то дело другое. Если бы, например, вы могли одолжить мне четыреста флоринов, которые вместе с проигранными мною шестьюстами составят тысячу, то это было бы очень кстати для меня; только прошу вас, если это почему-нибудь неудобно для вас, забудьте о моих словах.
- Я здесь, за своим собственным столом, выиграл такую сумму, - отвечал Дирк, - и прошу вас взять ее.
Собрав стопку золота, он пересчитал ее на ладони с ловкостью купца и протянул деньги Монтальво.
Монтальво заколебался, но затем взял золотые и небрежно опустил их в карман.
- Вы не сочли, - заметил Дирк.
- Совершенно излишнее, - отвечал его гость, - ваше слово - лучшее ручательство, - и он снова зевнул, сказав, что уже поздно.
Дирк подождал несколько секунд, думая в своей простоте делового человека, что благородный испанец упомянет о каком-нибудь письменном обязательстве, но видя, что это и в голову не приходит его гостю, он направился к столу, где двое других его гостей показывали различные фокусы с картами.
Несколько минут спустя испанцы попрощались, и Дирк остался наедине с Брантом.
- Очень удачный вечер, - сказал Брант, - и вы много выиграли.
- Да, - отвечал Дирк, - и тем не менее я беднее, чем был вчера.
Брант засмеялся и спросил:
- Он занял у вас? Я так и знал, и скажу вам: не рассчитывайте на эти деньги. Монтальво по-своему добрый малый, но он взбалмошен и отчаянный игрок; прошлое его, как мне кажется, тоже не безупречно: по крайней мере, никто не знает о нем ничего, даже его сослуживцы - офицеры. На ваш вопрос они пожимают плечами и говорят, что Испания - большой котел, в котором довольно всякой рыбы. Одно я только знаю достоверно - что он по уши в долгах, в Гааге у него по этому поводу возникли затруднения. Советую вам больше не играть с ним, а на эти тысячу флоринов не рассчитывать. Для меня тайна, как он перебивается, но мне говорили, что какая-то старая дура из Амстердама снабжала его деньгами, пока не узнала… однако, я начинаю сплетничать. А теперь скажите, - спросил он, изменяя голос, - здесь никого нет, кроме нас?
- Посмотрим, - отвечал Дирк, - со стола убрали, и старая экономка уже приготовила мне постель. Никто не заходит сюда после десяти часов. В чем дело?
Брант дотронулся до его руки, и, поняв прикосновение, Дирк отошел к нише у окна. Здесь, обратившись спиной к комнате и сложив руки на груди особенным образом, он произнес слово: «Иисус» - и остановился. Брант так же сложил руки и отвечал или, скорее, докончил: «плакал». Это был пароль последователей новой религии.
- Вы один из наших? - спросил Дирк.
- Я и вся моя семья: отец, мать, сестра и девушка, на которой я женюсь. Мне сказали в Гааге, что от вас или молодого Питера ван-де-Верфа я получу те сведения, которые нужны нам, последователям веры: кому мы можем и кому не должны доверять, где удобно собираться для молитвы и где мы можем причаститься.
Дирк взял руку родственника и пожал ее. Брант отвечал пожатием, и с этой минуты между молодыми людьми установилось полное доверие, как между родными братьями, так как их теперь связывали узы общей горячей веры.
И теперь подобная связь существует между девятью десятками людей из сотни, но она не порождает уже такого взаимного доверия. Это зависит от изменившихся обстоятельств. Благодаря в значительной степени Дирку ван-Гоорлю и его современникам - последователям, особенно же одному из них - Вильгельму Оранскому, набожные и богобоязненные люди уже не принуждены теперь для поклонения Всемогущему в чистом и простом служении прятаться по углам и дырам, подобно скрывающимся от закона злодеям, зная, что если их застанут, то всех вместе с женами и детьми ожидает костер. Теперь тиски для пальцев и всякие орудия пытки, служившие к уличению еретиков, валяются по пыльным шкафам музеев, но несколькими поколениями раньше было совсем иное дело: тогда с человеком, осмеливавшимся не согласиться с некоторыми учениями, обращались гораздо бесчеловечнее, чем с собакой на столе вивисектора.
Не удивительно после этого, что те, над которыми тяготело такое проклятие, которые постоянно должны были жить в ожидании подобного исхода, сплачивались теснее, сильнее любили и поддерживали друг друга до последней минуты, часто переходя рука об руку через огненные ворота в ту страну, где нет больше страданий. Быть приверженцем новой религии в Нидерландах в ужасное царствование императора Карла и Филиппа, значило принадлежать к одной обширной семье. Не существовало обращения «мейнгерр» или «мефроу», но только «батюшка» и «матушка», «сестра» или «брат» даже между людьми, стоявшими на весьма различных ступенях и совершенно чужими между собой - чужими по плоти, но родными по духу.
Понятно, что при подобных обстоятельствах Брант и Дирк, и без того уже почувствовавшие взаимную симпатию, скоро вполне сошлись и сдружились.
Они сидели в нише окна, рассказывая друг другу о своих семьях, сообщая свои надежды и опасения и даже открываясь в своей любви. В последнем Гендрику Бранту улыбнулось счастье. Он был женихом единственной дочери богатого гаагского виноторговца, по его рассказам, красавицы, такой же доброй, как и богатой; и свадьба их должна была состояться весной. Когда же Дирк сообщил ему о своем деле, Брант покачал своей благоразумной головой.
- Ты говоришь, что и она, и ее тетка католички? - спросил он.
- Да, в этом-то и беда. Мне кажется, я нравлюсь ей, или, по крайней мере, нравился несколько дней тому назад, - прибавил Дирк грустно. - Но как я, еретик, могу сделать ей предложение, не открывшись? А это, ты сам знаешь, не согласно с правилами, и я не смею нарушить их.
- Не лучше ли тебе посоветоваться с кем-нибудь из старших, кто молитвой и словами мог бы тронуть ее сердце, чтобы свет истины засиял для нее? - спросил Брант.
- Я уже пытался, но тут мешает эта красноносая тетушка Клара, ярая католичка, да еще служанка Грета, которую я считаю прямо за шпионку. Стоя между ними, Лизбета вряд ли до замужества познает истину. И как я осмелюсь жениться на ней? Смею ли я женитьбой навлечь на нее ту ужасную судьбу, какая, быть может, ожидает нас с тобой? А кроме того, с тех пор как этот Монтальво перешел мне дорогу, между мною и Лизбетой все как-то не ладится. Не далее как вчера она не велела пускать меня к себе.
- У женщин бывают свои фантазии, - медленно отвечал Брант, - может быть, она капризничает и, может быть, сердится на тебя, что ты до сих пор не объяснился, но зная, каков ты, как ей читать у тебя в сердце?
- Может быть, может быть, - сказал Дирк, - но я не знаю, что делать. - И в отчаянии он ударил себя рукой по лбу.
- Что же мешает нам, брат, в таком случае обратиться к тому, кто может научить нас? - спокойно предложил Брант.
Дирк сразу понял, что он хотел сказать.
- Это умная мысль, хорошая мысль! - одобрил он. - У меня есть святая книга, сначала помолимся, а затем поищем в ней мудрости.
- Какой ты богач! - воскликнул Брант. - Ты скажешь мне как-нибудь, каким образом ты достал ее?
- Здесь, в Лейдене, такие книги не трудно достать, если имеешь, чем заплатить, - отвечал Дирк, - а вот что трудно, так это сохранить их в тайне, потому что попасться с Библией в кармане - значит нести в кармане свой смертный приговор.
Брант кивнул утвердительно головой.
- Ты можешь показать мне ее сейчас? - спросил он.
- Могу; здесь мы, по-видимому, в безопасности: ставни закрыты, дверь мы запрем, если она еще не заперта; однако кто может считать себя в безопасности в стране, где крысы и мыши разносят новости, а ветер служит свидетелем? Пойдем, я покажу тебе, где я храню ее.
Подойдя к камину, Дирк снял один из подсвечников из простой меди с массивной овальной подставкой, украшенной двумя массивными медными змеями, и зажег свечу.
- Нравится тебе эта вещь? Она исполнена по рисунку, который я набросал в свободное время, - спросил он, смотря на подсвечник с любовью художника. Затем, не ожидая ответа, он направился к двери в спальню и остановился.
- Что такое? - спросил Брант.
- Мне показалось, что я слышу шум: вероятно, хозяйка ходит у себя наверху.
Они вошли в спальню, где, обойдя комнату, чтобы
убедиться, что никого нет, Дирк подошел к изголовью массивной дубовой постели, украшенному таким же гербом великолепной резной работы, как камин в гостиной, и, отодвинув одну из досок, из потайного шкафчика, скрывавшегося в спинке постели, вынул книгу в кожаном переплете. Снова задвинув дверцу тайника, молодые люди вернулись в гостиную и положили книгу на дубовый стол рядом с подсвечником.
- Прежде всего помолимся, - предложил Брант.
Не странно ли, что этим двум молодым людям, имевшим, без сомнения, каждый свои слабости - один, как мы видели, мог, например, при случае выпить лишнее, да и другой, вероятно, имел общечеловеческие недостатки, - после веселого обеда и крупной игры, пришла мысль помолиться, стоя рядом на коленях, перед тем, как приступить к чтению Священного писания? Но в те тяжелые времена, молитва, теперь столь обычная и столь часто забываемая, была настоящей роскошью. Для этих несчастных гонимых людей было истинной радостью молить и благодарить Господа тогда, когда они думали, что им не грозит меч тех, кто поклонялся Богу иначе. Религия, исповедовать которую запрещалось, стала для ее последователей жизненным вопросом, отрадой, которой они старались пользоваться при каждом случае, совершая молитву торжественно и с благодарностью в сердце. Так и теперь, при свете оплывающих свечей друзья опустились на колени, и Брант произнес вслух за обоих молитву - трогательное и прекрасное обращение к Богу.
Подлинные слова молитвы имеют мало значения, но важен их смысл: Брант молился о своей Церкви и об освобождении и укреплении своей родины, молился даже об императоре, этом чувственном, жадном, эгоистичном, обезображенном заячьей губой отпрыске Габсбургов. Потом он стал молиться о себе и своем товарище, обо всех, кто был дорог им и наконец о том, чтобы Господь просветил Дирка в его теперешнем затруднении. Молитву заключило прошение о прощении всех врагов, даже мучивших и сжигавших последователей другой веры на кострах, ибо они не знают, что творят. Невозможно представить себе людскую молитву, более проникнутую истинным христианским духом.
Когда, наконец, Брант замолк и оба молящихся поднялись с колен, Дирк предложил:
- Не раскрыть ли нам Библию и не прочесть ли то место, которое первое бросится в глаза?
- Нет, - отвечал Брант, - это будет похоже на суеверие: так поступали древние с сочинениями поэта Виргилия, и нам, носителям светоча, неприлично следовать примеру этих слепых язычников. Какую книгу Библии ты изучаешь теперь, брат?
- Первое письмо апостола Павла к коринфянам, которое я прежде никогда не читал, - отвечал Дирк.
- Начни же с того места, где остановился, и дочитай главу до конца. Быть может, мы найдем в ней совет, если нет, то, значит, нам не суждено получить ответ сегодня.
Дирк начал читать седьмую главу, в которой великий апостол как раз касается вопроса о браке. Он читал спокойным, ровным голосом, пока не дошел до двенадцатого и четырех последующих стихов, из которых в последнем говорится: «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?..»
Голос Дирка задрожал, и он остановился.
- Читай до конца главы, - сказал Брант, и чтец продолжал.
Позади них послышался какой-то звук. Они не заметили, как дверь из спальни чуть-чуть приотворилась, и не видали, как в отверстии мелькнуло что-то белое: женское лицо, обрамленное черными волосами над парой неподвижных злых глаз. Сатана, впервые поднявший голову в раю, наверное, имел такое выражение. Вытянув длинную шею, фигура подалась вперед, но вдруг шорох или движение испугали ее, и она поспешно отодвинулась назад, как испуганная змея, извивающая свой хребет. Дверь снова затворилась.
Глава окончена, молитва прочтена, но долго, может быть, придется ждать на нее ответа этим нетерпеливым людям, не знающим, что подобно тому, как много времени нужно лучу, чтобы достигнуть до нас от отдаленной звезды, так же и ответ на молитву, обращенную к Божеству, может прийти не скоро - не сегодня и не завтра. Его может узнать не настоящее поколение и не текущее столетие: молитва может исполниться тогда, когда дети детей тех, чьи уста произносили эту молитву, в свою очередь уже превратятся в прах. Однако никогда подобная молитва не остается без ответа; так и нашей теперешней свободой мы, может быть, обязаны тем, кто уже умер в то время, когда жили Дирк ван-Гоорль и Гендрик Брант; так и отмщение, постигшее теперь Испанию, может быть возмездием за те позорные поступки, которые позволяли себе испанцы с давно ушедшими поколениями. Божество - всегда Божество, подобно тому, как звезда - всегда звезда; от первого изливается правосудие, как от второй - свет, и для них время и пространство - ничто.
Дирк дочитал главу до конца и закрыл Библию.
- Брат, ты, кажется, получил ответ, - спокойно сказал Брант.
- Да, - отвечал Дирк, - он ясен: «Неверующий муж освящается женою… Почему ты знаешь, муж, не спасешь ли ты жену?» Если бы апостол предвидел случай со мной, он не мог бы дать более определенного ответа.
- Он или Дух, говорящий через него, знал все случаи и писал для всех людей, когда бы они ни родились, - отвечал Брант. - Это урок для нас. Если бы ты заглянул сюда раньше, то раньше бы и получил ответ и, может быть, не испытал бы многих огорчений. Теперь, без сомнения, ты должен поспешить переговорить с ней, предоставив все остальное Богу.
- Да, - отвечал Дирк, - как можно скорее. Но есть еще один вопрос: должен я сказать ей всю правду?
- Я бы не стал скрывать ее, друг, а теперь - спокойной ночи. Не провожай меня до дверей. Кто знает, может быть, на улице кто-нибудь и подсматривает; не следует, чтобы нас видели вместе так поздно.
После ухода своего родственника и нового друга Дирк еще сидел, пока оплывавшие сальные свечи в люстре не догорели до самого конца. Затем, вынув свечу из подсвечника, украшенного змеей, он зажег эту свечу, загасив люстру, и, войдя в спальню, стал раздеваться. Библию он снова спрятал в потайной шкафчик и задвинул его дверцу. После этого Дирк погасил свечу и взобрался на свою высокую постель.
Обыкновенно Дирк спал превосходно: как только голова его касалась подушки, глаза его смыкались и раскрывались только в привычное время утром. Но в эту ночь он не мог заснуть: было ли то последствием обеда и вина или игры, или молитвы и отыскивания текста в писании, только сон бежал, и это раздражало Дирка. Он лежал, не смыкая глаз, и думал, смотря, как лунный свет широкими снопами врывался в окно и заливал комнату.
Вдруг Дирку стало страшно: ему показалось, будто в комнате был еще кто-то, кроме него, кто-то злой и недоброжелательный. Никогда прежде он не думал о духах и не боялся их, но теперь ему вспомнился вопрос Монтальво о привидении, и ему положительно казалось, что оно возле него. В этой странной новой тревоге он искал себе опоры и не находил иной, кроме той, к которой старый, простой священник советовал ему прибегать в минуты затруднения и смятения, а именно: взять Библию и, прижав ее к себе, помолиться.
Это было нетрудно исполнить. Приподнявшись на постели, Дирк достал Библию из шкафчика и задвинул дверку. Затем, положив книгу между собой и периной, он снова лег, и чары как будто подействовали: он скоро уснул.
Но тут Дирку приснился страшный сон. Ему снилось, что над ним наклонилась какая-то высокая темная фигура и длинная белая рука что-то шарила у его изголовья, пока он не услыхал, как дверца потайного шкафчика со скрипом затворилась.
Тогда ему показалось, что он проснулся и что его глаза встретились с двумя другими глазами, смотревшими на него так пристально, будто желали прочесть его самые сокровенные мысли. Он не встал и не мог пошевелиться, но тут он увидал во сне, как фигура выпрямилась и стала скользить прочь, то появляясь, то снова исчезая, по мере того как она проходила через полосы лунного света, пока окончательно не скрылась за дверью.
Через секунду после этого Дирк проснулся и почувствовал, что, несмотря на довольно холодную ночь, пот крупными каплями выступил у него на лбу и на всем теле. Но, странно, страх его теперь совершенно рассеялся; зная, что ему приснился не более как сон, он перевернулся, дотронулся до Библии на груди и заснул, как дитя, чтобы проснуться только утром, когда луч восходящего зимнего солнца упал ему прямо в лицо.
Дирк припомнил тогда сон прошедшей ночи, и у него на душе стало тяжело: ему казалось, что это привидение черной женщины, впившейся в его лицо своими страшными глазами, было предзнаменованием какой-то близкой беды.
ГЛАВА VI. Лизбета выходит замуж
На следующее утро, когда Монтальво вошел к себе в кабинет после завтрака, он нашел там ожидавшую его даму, в которой, несмотря на длинный плащ и вуаль, закутывавшие ее, без труда узнал Черную Мег. Действительно, Мег ждала его уже некоторое время и по свойственной ей любознательности не потеряла его даром.
Читатель, вероятно, помнит, что в свое предыдущее посещение капитана Монтальво она успела захватить бумаги, которые нашла в незапертом столе. При ближайшем рассмотрении эти бумаги оказались, как она того опасалась, не имеющими никакого значения - неоплаченными счетами, военными рапортами, записками от дам и т.д. Однако, раздумывая, Черная Мег припомнила, что в ящике был еще внутренний ящик, который, казалось, был заперт; и поэтому она на всякий случай захватила с собой связку ключей вместе с двумя маленькими стальными инструментиками и явилась к капитану в такое время, когда знала наверняка, что Монтальво завтракает в другой комнате. Все шло хорошо: Монтальво завтракал, а Мег осталась одна в комнате, где стоял стол. Об остальном можно догадаться. Положив принесенную с собой пачку в ящик, Мег с помощью своих ключей и инструментиков отперла внутренний ящик. Здесь действительно оказались письма и в маленьком футляре, оправленном в золото, две миниатюры: одна - портрет молодой красивой женщины с темными глазами, другая - двух детей, мальчика и девочки пяти и шести лет. Также тут лежал локон волос в бумажке с надписью рукою Монтальво: «Волосы Жуаниты, данные мне на память».
Это была драгоценная находка, и Мег поспешила завладеть ею. Спрятав все за пазуху, чтобы рассмотреть на досуге, она имела предосторожность сделать из разных бумажек пакетик наподобие взятого, который положила в ящик, прежде чем запереть его.
Устроив все по своему желанию, Мег вышла на крыльцо, где проболтала с часовым, пока снова не вернулась в кабинет как раз в ту самую минуту, как туда через противоположную дверь входил Монтальво.
- Ну, любезнейшая, - обратился он к Мег, - достала доказательство?
- Кое-что добыла, ваше сиятельство, - отвечала она. - Я была в доме во время обеда, который вам давали, хотя никто не видал меня, и оставалась еще после вас.
- В самом деле? Мне показалось, что ты проскользнула мимо, и я похвалил тебя за догадливость: ты прекрасно придумала пробраться туда, пока народ двигался взад и вперед. Отправляясь домой, я, кажется, узнал также одного человека, которого ты почтила своей дружбой, - лысого низенького толстяка, в Гааге его, кажется, звали Мясником. Ну, не гримасничай, я не намерен допытываться женских тайн; но мое положение здесь обязывает меня знать некоторые вещи. Что же ты видела?
- Ваше сиятельство, я видела, как молодой человек, за которым я должна была наблюдать, и Гендрик Брант, сын богатого гаагского золотых дел мастера, стоя на коленях молились.
- Это дурно, - сказал Монтальво, - покачивая головой, - но…
- Я видела, - продолжала она своим хриплым голосом, - как они вместе читали Библию.
- Возмутительно! - произнес Монтальво с притворным содроганием. - Действительно возмутительно, если только я могу верить тебе, моей набожной приятельнице, что два человека, считавшихся до сих пор почтенными людьми, попались в том, что читали книгу, на которой основывается наша вера. Действительно, люди, способные углубляться в такую скуку, «недостойны жизни», говоря словами эдикта. Ну, а доказательство есть? Книга, конечно, у тебя?
Тут Черная Мег рассказала все по порядку: как она подсматривала и увидала кое-что, как подслушивала, но слышала мало, как открыла потайной шкафчик, нагнувшись над спящим, и не нашла ничего.
- Плохой же ты шпион, тетушка, - заметил капитан, когда она замолкла, - и, клянусь, я не думаю, чтобы папский инквизитор мог повесить молодого человека, только основываясь на твоем свидетельстве. Вернись и добывай новые доказательства.
- Нет, - решительно заявила Мег, - если хотите добывать улики, добывайте их сами. Так как я намереваюсь продолжать жить здесь, то не хочу впутываться в такие дела. Я доказала вам, что этот молодой человек еретик; давайте же следуемое мне вознаграждение.
- Твое вознаграждение?.. За что? Вознаграждение дается за услугу, а я не вижу таковой с твоей стороны.
Черная Мег вышла из себя.
- Молчи, - сказал Монтальво, оставляя шутливый тон. - Я стану говорить с тобой откровенно. Я не желаю жечь кого бы то ни было. Мне надоела вся эта бессмыслица из-за религии, и по-моему, пусть себе лейденцы читают Библию до одурения. Я хочу жениться на ювфроу Лизбете ван-Хаут, и для этого должен доказать, что человек, которого она любит, Дирк ван-Гоорль, еретик. Того, что ты сказала мне, может быть достаточно или недостаточно для моих целей. Если окажется достаточно, я тебе щедро заплачу после свадьбы, если нет, так с тебя будет и того, что ты уже получила.
Сказав это, Монтальво позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и прежде, чем Мег собралась ответить, в дверях показался солдат.
- Проводи эту женщину, - приказал капитан и затем прибавил: - Я постараюсь передать вашу просьбу куда следует, а пока возьмите от меня, - и он сунул Мег в руку флорин. - А теперь скорей веди сюда арестованных: мне некогда терять время… - приказал он солдату. - Да слушай, чтоб мне не мешали всякие нищие, а не то, смотри у меня…
В этот же день после обеда Дирк, одетый в свое лучшее платье, отправился в дом Лизбеты, где дверь ему опять отворила Грета и в ожидании смотрела на него.
- Дома барышня? - запинаясь, спросил он. - Мне надо видеть ее.
- Какое несчастье, мейнгерр, - отвечала девушка, - вы опять опоздали. Барышня и фроу Клара уехали на неделю или дней на десять: здоровье фроу Клары требовало перемены климата.
- В самом деле? - спросил совершенно растерявшийся Дирк. - Куда же они уехали?
- Не знаю, мейнгерр, они не сказали мне.
Больше ничего Дирк не мог добиться от служанки. Так он и ушел, совершенно сконфуженный и не зная, что думать.
Час спустя явился с визитом Монтальво и - удивительно - оказался счастливее.
Он добился того, что узнал адрес хозяек, уехавших в приморское селение на расстоянии одного переезда. По странной случайности в тот же самый вечер Монтальво, также ища покоя и перемены климата, появился в гостинице этого селения, где заявил, что намеревается прожить здесь некоторое время.
Гуляя на следующее утро по взморью, кого он мог встретить, как не фроу Клару ван-Зиль, и никогда еще почтенной даме не приходилось проводить более приятного утра. Так, по крайней мере, она заявила Лизбете, вернувшись со своим кавалером к обеду.
Читатель может догадаться об остальном. Монтальво сделал предложение и получил отказ. Он перенес удар с покорностью судьбе.
- Сознайтесь, - сказал он вкрадчиво, - что есть другой, кто счастливее меня.
Лизбета не созналась, но и не отрицала.
- Если он даст вам счастье, я буду рад, - проговорил граф, - но при моей любви к вам я не желал бы видеть вас замужем за еретиком.
- Что вы хотите сказать этим, сеньор? - спросила Лизбета, вспыхнув.
- Я хочу сказать, что, к несчастью, опасаюсь, как бы почтенный герр Дирк ван-Гоорль, один из моих друзей, которого я очень уважаю, хотя он и одержал победу надо мной в ваших глазах, не попал в эти злые сети.
- Подобного обвинения нельзя возводить на человека, пока оно не доказано, - серьезно сказала Лизбета. - Даже и тогда… - она запнулась.
- Я буду наводить дальнейшие справки, - отвечал капитан. - Пока же, то есть пока мне не удастся приобрести вашего расположения, я покоряюсь своей участи. А до тех пор прошу вас смотреть на меня как на друга, на преданного друга, готового пожертвовать жизнью, чтобы услужить вам.
С тяжелым вздохом Монтальво сел на своего вороного и вернулся в Лейден, но перед тем он имел маленький разговор наедине с фроу Кларой.
- Вот если б дело шло о старушке, то не трудно было бы все устроить, - рассуждал он на обратном пути, - а для меня, клянусь всеми святыми, было бы все одно, но, к несчастью, все деньги у этой упорной свиньи - голландки. Чего не заставляет делать необходимость поддержать свое достоинство и положение человека, по своим наклонностям расположенного только к покою и миру! Ну, мой новый друг Лизбета, если ты мне не заплатишь за все мои беспокойства еще раньше двух месяцев, то я не буду Жуан де Монтальво.
Три дня спустя тетка и племянница вернулись в Лейден. Через час после их приезда явился граф и был принят.
- Останьтесь со мной, - обратилась Лизбета к тетушке Кларе, когда доложили о посетителе; и тетка некоторое время пробыла с ними, но затем под каким-то предлогом исчезла, и Лизбета осталась с глазу на глаз со своим мучителем.
- Зачем вы пришли сюда? - спросила она. - Я ведь уже ответила вам.
- Я пришел в ваших собственных интересах, - отвечал Монтальво, - и этим объясняется мое поведение, которое вы находите странным. Вы помните наш разговор?
- Отлично, - прервала его Лизбета.
- Мне кажется, вы слегка ошибаетесь, ювфроу Лизбета: я говорю о разговоре, касавшемся одного из ваших друзей, которым вы, кажется, интересуетесь в религиозном отношении…
- И что же, сеньор?
- Я навел справки, и…
Лизбета подняла глаза, не будучи в состоянии скрыть своего беспокойства.
- О, ювфроу, позвольте мне посоветовать вам научиться несколько больше владеть собой; открытое детское выражение лица так опасно в наши дни.
- Он мне двоюродный брат…
- Знаю; будь он вам чем-либо большим, я бы очень огорчился; но большинство из нас довольно равнодушно относится к судьбе своих двоюродных братьев…
- Перестанете ли вы шутить, сеньор?..
- И заговорю о деле? Сию минуту. Итак, наведенные мною справки убедили меня, что этот почтенный господин - еретик, и самый завзятый. Я сказал «справки», но их мне даже не было надобности наводить… На него…
- Донесли? - прервала Лизбета.
- Ах, ювфроу, опять это волнение, из которого можно вывести всевозможные заключения. Да, на него донесли, как на отступника, но, к счастью, донесли только мне одному. Моя обязанность, к моему сожалению, арестовать его сегодня вечером… вы хотите сесть, позвольте предложить вам стул, но я не сделаю этого лично. Я предполагаю передать его почтенному Рюарду Тапперу, папскому инквизитору; вы, вероятно, слыхали о нем: его все знают. Он приедет в Лейден на будущей неделе и, вероятно, не станет долго возиться с этим делом.
- Что сделал Дирк? - спросила Лизбета тихо, опустив голову, чтобы скрыть волнение, отразившееся на ее лице.
- Что сделал? Мне просто страшно выговорить: несчастный заблуждающийся молодой человек с одним товарищем, личность которого свидетель не мог удостоверить, в полночь читал Библию…
- Что же в этом дурного?
- Ш-ш! Разве и вы еретичка? Разве вы не знаете, что вся ересь проистекает из чтения Библии? Видите ли, Библия очень странная книга. Непосвященные люди не всегда правильно понимают ее. Совсем другое, когда ее читают духовные. Точно так же есть много церковных учений, которых светский не найдет в Библии и которые для посвященного ясны как солнце…
- Вы, кажется, хотите убедить меня… - начала было с горечью Лизбета.
- Ш-ш! Хочу убедить вас быть ангелом…
Наступила пауза.
- Что с ним будет? - спросила Лизбета.
- После мучительного предварительного следствия с целью открытия его сообщников, я думаю, его сожгут на костре, а может быть, как пользующийся привилегиями города Лейдена, он отделается только тем, что его повесят.
- И нет спасения?
Монтальво отошел к окну и, взглянув на улицу, заметил, что, кажется, будет снег. Затем вдруг он круто повернулся и, смотря в упор в лицо Лизбеты, спросил:
- Вы в самом деле принимаете участие в этом еретике и желаете спасти его?
Лизбета сразу поняла, что теперь Монтальво не шутит. Шутливый, насмешливый тон исчез. Голос ее мучителя звучал серьезно и холодно: это был голос человека, делающего большую ставку и намеревающегося выиграть ее.
Она тоже оставила всякие уловки.
- Да, я принимаю в нем участие и желаю спасти его, - отвечала она.
- Это можно сделать… но заплатить надо…
- Чем? Сколько…
- Вашим замужеством со мною через три недели.
Лизбета слегка вздрогнула, затем затихла.
- Не достаточно ли было бы одного моего состояния? - спросила она.
- Какое бедное вознаграждение вы предлагаете мне, - сказал Монтальво, возвращаясь к своему насмешливому тону, и прибавил: - Я мог бы принять во внимание это предложение, если бы не существовало бессмысленного закона вашей страны, по которому для вас почти невозможно передать крупную сумму, заключающуюся главным образом в недвижимом имуществе, иначе как вашему мужу. Вследствие этого мне, к моему сожалению, приходится настаивать на вашем замужестве со мной.
Лизбета молчала. Монтальво, наблюдавший за ней, снова видел признаки возмущения и отчаяния. Он видел, что нравственное и физическое отвращение к нему готово взять верх над ее страхом за Дирка. Если он сильно не ошибался, Лизбета была готова отвергнуть его, что, само собой разумеется, было бы ему крайне неприятно, так как его денежные ресурсы совершенно иссякли. На основании же тех недостаточных улик, которые имелись у него, он не осмелился бы действовать против Дирка, опасаясь создать себе тысячу влиятельных врагов.
- Какая странная ирония обстоятельств, что мне приходится являться ходатаем соперника, - сказал капитан. - Но, Лизбета ван-Хаут, прежде чем отвечать мне, прошу вас подумать. От следующего движения ваших губ будет зависеть, придется ли этим глазам, которые вам так нравятся, слепнуть в ужасном мраке темницы; придется ли этому телу, которое вы так любите, быть поднятым на дыбу или жариться и трещать на костре, или, наоборот, ничего подобного не случится, и молодой человек уедет отсюда свободным, унося в сердце на месяц или на два горечь и некоторое озлобление на женское непостоянство, что не помешает ему впоследствии жениться на какой-нибудь богатой и почтенной еретичке. Вряд ли вы можете колебаться в своем выборе. Где же после того тот дух женского самоотречения, о котором мы так много слышим? Выбирайте же…
Ответа все еще не было. Монтальво решился пустить в ход свой козырь и вынул из бокового кармана, по-видимому, официальный документ, скрепленный подписью и печатью.
- Это сообщение неподкупному Рюарду Тапперу. Смотрите, здесь написано имя вашего кузена. Мой слуга ждет моего приказания у вас на кухне. Если вы станете еще дольше колебаться, я позову его и в вашем присутствии поручу ему передать эту бумагу курьеру, отправляющемуся сегодня вечером в Брюссель. Раз отдав приказание, я уже не могу вернуть его, и приговор Дирку будет подписан.
Лизбета начала колебаться.
- Что мне делать? - сказала она. - До сих пор я еще не невеста Дирка, и причина этому может быть именно та, которую я сейчас узнала. Но он любит меня и знает, что я люблю его. Неужели же, потеряв его, я, кроме того, должна помириться с мыслью, что он будет считать меня не более как легкомысленной ветреницей, которую ослепили ваши ухищрения и наружный блеск? Нет, я скорее убью себя!
Снова Монтальво направился к окну, так как этот намек на самоубийство не был ему по вкусу. Жениться на мертвой нельзя, да вряд ли и Лизбета вздумает оставить завещание в его пользу. Казалось, что больше всего ее беспокоило опасение, как бы молодой человек не нашел ее поведение легкомысленным. Почему бы ей не объяснить Дирку причину ее отказа ему, которую он первый должен был бы признать вполне уважительной? Может ли она, католичка, выйти замуж за еретика, и нельзя ли довести Дирка до того, чтобы он сам сказал Лизбете, что он еретик?
И вдруг сам собой явился ответ на этот вопрос. Сами святые, желая сохранить драгоценную жемчужину в лоне истинной Церкви, решили помочь Монтальво: на улице показался Дирк ван-Гоорль, направлявшийся к дому Лизбеты. Он шел одетый в свое лучшее бюргерское платье, задумчивый, несмелыми шагами - олицетворение робкого, нерешительного ухажера.
- Лизбета ван-Хаут, - обратился Монтальво к хозяйке, - случайно Дирк ван-Гоорль в настоящую минуту у вашей двери. Вы примете его и так или иначе уладите дело. Я хочу указать вам, что напрасно было бы оставлять молодого человека в убеждении, что вы дурно поступили с ним. Необходимо лишь спросить его - вашей ли он веры или нет. Насколько я знаю, он не станет лгать перед вами. Тогда вам останется только сказать ему, что как вам это ни прискорбно, но вы не можете выйти за еретика. Вы понимаете меня?
Лизбета наклонила голову.
- В таком случае, слушайте. Вы примете вашего поклонника, выслушаете его предложение - он, несомненно, направляется сюда, чтобы сделать его, - и, прежде чем дать ему ответ, спросите его о вере. Если он сознается, что еретик, вы откажете ему в такой мягкой форме, в какой только вам угодно. Если же он ответит, что он верный слуга Церкви, вы скажете, что до вас дошли иные слухи и что вы должны навести справки. Помните также, что если вы хоть на йоту отступите от моих предписаний, то вы в последний раз видели Дирка - разве что вам вздумается присутствовать при его казни. Если же вы послушаетесь и окончательно откажете ему, то, как только дверь затворится за ним, я брошу эту бумагу в огонь и пообещаю вам, что свидетельство, на котором она основывается, навеки лишилось значения, и все дело кончено.
Лизбета вопросительно взглянула на него.
- Я вижу, вы недоумеваете, как я буду знать, что вы сделаете или чего не сделаете. Но я буду безгласным, хотя внимательным свидетелем вашего свидания. Эта дверь закрыта портьерой; вы разрешите мне - будущий муж может воспользоваться этим небольшим снисхождением с вашей стороны - постоять за ней.
- Никогда! - воскликнула Лизбета. - Я не могу поступить так низко. Я запрещаю вам делать это.
В эту минуту послышался стук у двери на улицу. Взглянув на Монтальво, Лизбета во второй раз увидела тот же взгляд, как в решительную минуту санного бега. Вся веселость капитана, все беззаботное добродушие исчезли. На их место выступило отражение самых сокровенных сторон характера этого человека - основание, на котором зиждилось ложное, изукрашенное здание, которое он показывал свету. Лизбета снова увидала сверкающие глаза и оскаленные зубы испанского волка - дикого зверя, готового грызть и терзать, если только представится случай насытиться мясом, которого жаждала его душа.
- Не вздумайте играть со мной шутки или торговаться, - сказал он, - теперь некогда. Делайте, как я вам сказал, иначе на ваших руках будет кровь этого псалмопевца. И не вздумайте натравить его на меня: у меня есть шпага, а он безоружен. В случае необходимости еретик, как вам известно, может быть убит на глазах у всех должностным лицом. Когда доложат о нем, подойдите к двери и прикажите принять его.
С этими словами, взяв свою шляпу с плюмажем, которая могла выдать его, Монтальво скрылся за портьерой.
С минуту Лизбета простояла, раздумывая. Но, увы! Она не видела исхода: она была в тисках, с веревкой на шее. Ей предстояло или повиноваться, или обречь любимого человека на ужасную смерть. Она решилась ради него уступить, прося у Бога прощения и отмщения за себя и Дирка.
Раздался стук у двери. Лизбета отворила.
- Герр ван-Гоорль внизу и желает видеть вас, барышня, - послышался голос Греты.
- Просите, - отвечала Лизбета и, отойдя к стулу, почти на середине комнаты, села.
Вскоре на лестнице раздались шаги Дирка, эти знакомые, дорогие шаги, к которым она часто так жадно прислушивалась. Дверь снова отворилась, и Грета доложила:
- Герр ван-Гоорль!
Исчезновение капитана Монтальво, во-видимому, удивило служанку, потому что она изумленно обводила комнату глазами, но выдержка или хороший подарок со стороны испанца заставили ее удержаться от выражения своих чувств. Грета знала, что господа, подобные графу, имеют способность исчезать при случае.
Таким образом Дирк вошел в роковую комнату, как ничего не подозревающее создание, идущее в западню. Ему и в голову не могло прийти, чтобы девушка, которую он любил и к которой пришел теперь свататься, могла служить приманкой, чтобы погубить его.
- Садитесь, кузен, - сказала Лизбета таким странным и натянутым тоном, что Дирк невольно взглянул на нее.
Но он ничего не увидел, так как она сидела, отвернувшись в другую сторону, да и сам он был слишком занят своими мыслями, чтобы быть зорким наблюдателем. Очень много потребовалось бы, чтобы пробудить в простодушном и открытом по своему характеру Дирке подозрение в доме и в присутствии любимой им девушки.
- Здравствуйте, Лизбета, - проговорил он застенчиво. - Отчего ваша рука так холодна?.. Я уже несколько раз заходил к вам, но вы уехали, не оставив адреса.
- Мы с тетушкой Кларой ездили к морю, - прозвучало в ответ.
На некоторое время, минут на пять или даже больше, завязался натянутый, отрывистый разговор.
«Неужели этот хомяк никогда не доберется до главного? - рассуждал Монтальво, наблюдая за Дирком через щель. - Боже мой, какой у него глупый вид!»
- Лизбета, - сказал наконец Дирк, - мне надо переговорить с вами.
- Говорите, кузен, - отвечала Лизбета.
- Лизбета! Я… я люблю вас давно и пришел теперь просить вас выйти за меня. Я откладывал это предложение в продолжение года или больше по причинам, которые вы узнаете впоследствии, но я не могу молчать дольше, особенно теперь, когда я вижу, что вашу благосклонность старается приобрести гораздо более изящный господин, чем я, - я говорю об испанском графе Монтальво, - добавил он с ударением.
Лизбета ничего не отвечала, и Дирк продолжал изливать свою страсть в словах, становившихся все убедительнее и сильнее и, наконец, дошедших до настоящего красноречия. Он говорил, как с самой первой встречи полюбил ее одну, и теперь имеет одно только желание в жизни: сделать ее счастливой и быть самому счастливым с ней. Далее он начал было развивать свои планы на будущее, но Лизбета остановила его.
- Простите, Дирк, но я должна задать вам один вопрос, - начала она.
Голос ее прерывался от сдерживаемых рыданий, однако, сделав усилие, она продолжала:
- До меня дошли слухи, которые нуждаются в разъяснении. Я слышала, Дирк, что вы по своей вере принадлежите к так называемым еретикам. Правда это?
Он колебался, прежде чем ответить, сознавая, как много зависит от этого его ответа; но колебание продолжалось всего минуту, так как Дирк был слишком честен, чтобы солгать.
- Лизбета, - сказал он, - я скажу вам то, чего не сказал бы ни одному живому существу на свете, даже брату; но примете ли вы мое предложение, или отвергнете его, говоря с вами, я уверен, что нахожусь в такой же безопасности, как тогда, когда, преклонив колени, беседую с Господом, которому служу. Да, я действительно, как вы называете, еретик. Я последователь этой истинной веры, в которую надеюсь обратить и вас, но которую насильно никогда не стану навязывать вам. Именно это обстоятельство так долго удерживало меня от объяснения с вами: я не знал, имею ли я право просить вас связать при настоящем положении вещей вашу судьбу с моею и могу ли я жениться на вас, если вы будете согласны, сохранив свою тайну про себя. Только вчера вечером мне дали совет - кто, это все равно, - и мы помолились вместе, вместе стали искать ответа на мой вопрос в слове Божием. По неисповедимому милосердию Господа я нашел этот ответ и разрешение всех моих сомнений: великий св. Павел предвидел подобный случай - в его писаниях все случаи предвидены, - и я прочел, как неверующая жена освящается мужем, а неверующий муж - женою. После того все стало для меня ясно, и я решился говорить с вами. Теперь, дорогая, я высказался и ваша очередь ответить мне.
- Дирк, дорогой Дирк! - вырвалось у Лизбеты почти с криком. - ужасен ответ, который я должна дать вам. Откажитесь от свое) о заблуждения, покайтесь, примиритесь с Церковью, и я выйду за вас. Иначе это невозможно, хотя я люблю вас и никого другого всем своим сердцем и телом…
Тут в ее голосе зазвучала страстная энергия.
- Но иначе я не могу, не могу быть вашей.
Дирк слушал и побледнел как полотно.
- Вы требуете от меня единственного, чего я не могу дать, - сказал он. - Даже ради вас я не могу отречься от своего обета и поклонения Богу по моему разумению. Хотя прощание с вами убивает меня, но я отвечаю вам вашими же словами: «Не могу, не могу!»
Лизбета взглянула на него и была поражена: до чего преобразились, приобретя почти сверхчеловеческое просветленное выражение, его честные грубые черты и коренастая массивная фигура при этом страстном отречении. В эту минуту этот некрасивый голландец, по крайней мере на ее взгляд, походил на ангела. Она заскрежетала зубами и прижала руки к сердцу. «Ради него, ради его спасения», - прошептала она и потом сказала вслух:
- Я вас уважаю и люблю за это признание еще больше, но, Дирк, между нами все кончено. Когда-нибудь, здесь на земле или в другой жизни, вы поймете все и простите.
- Пусть будет так, - глухо проговорил Дирк, отыскивая рукой шляпу, так как не видел ничего. - Странный ответ на мою просьбу, очень странный ответ, но, конечно, вы имеете полное право следовать своим убеждениям так же, как я имею право следовать моим. Мы оба должны нести свой крест, дорогая Лизбета, вы сами видите, что должны. Об одном только я попрошу вас: я говорю не как человек, ревнующий вас, потому что во мне затронуто нечто высшее, чем ревность, но как друг, каким, что бы ни случилось в жизни, я всегда останусь для вас: остерегайтесь этого испанца Монтальво. Я знаю, он хочет жениться на вас. Он человек злой, хотя вначале и очаровал меня. Я чувствую это: его присутствие как бы отравляет воздух, которым я дышу. Но я был бы рад, если б он услыхал это, так как убежден, что все это дело его рук, но и его час настанет: за все ему отплатится в здешней жизни или в будущей. А теперь прощайте, да благословит и защитит вас Бог, дорогая Лизбета. Если вы считаете замужество со мной грехом, то вы правы, отказывая мне, и я убежден, что вы никому не выдадите мою тайну. Еще раз: прощайте!
Взяв руку Лизбеты, Дирк поцеловал ее и шатаясь вышел из комнаты.
Лизбета же бросилась плашмя на пол и в отчаянии билась о него головою.
Когда дверь затворилась за Дирком, Монтальво вышел из-за занавеси и остановился над лежащей на полу Лизбетой. Он пытался принять свой прежний легкий саркастический тон, но подслушанная им сцена потрясла его и даже несколько испугала, так как он чувствовал, что вызвал к жизни страсти, силу и последствия которых нельзя было заранее предвидеть.
- Браво, моя актрисочка, - начал было он, но тотчас же перешел в другой тон и заговорил естественным голосом. - Теперь лучше встаньте и посмотрите, как я сожгу эту бумагу.
Лизбета с трудом приподнялась на колени и видела, как он бросил документ в пылающий камин.
- Я исполнил свое обещание, - сказал Монтальво, - это показание уничтожено, но на тот случай, если б вы вздумали провести меня и не сдержать своего слова, помните, что у меня есть новые и более веские доказательства, ради получения которых мне, правда, пришлось прибегнуть к способу, не вполне согласному с моим обыкновенным поведением. Я собственными ушами слышал, как этот господин, имеющий такое дурное мнение обо мне, признался, что он еретик. Этого достаточно, чтобы сжечь его когда угодно, и я клянусь, если через три недели вы не будете моей женой, он умрет на костре.
В то время как он говорил, Лизбета медленно поднялась на ноги. Теперь она смотрела на Монтальво, но это была уже не прежняя Лизбета, а совершенно новое существо - как чаша, до краев переполненная злобой, тем более ужасной, что она была совершенно спокойна.
- Жуан де Монтальво, - заговорила Лизбета тихим голосом, - ваша злость победила, и ради Дирка я должна пожертвовать собою и своим состоянием. Пусть будет так, если суждено. Но слушайте: я не предсказываю вам, не говорю, что с вами случится то-то или то-то, но я призываю на вас проклятие Божие и презрение людское.
Подняв руки, она начала молиться.
- Господи, Тебе угодно было наложить на меня судьбу, худшую, чем смерть, но помрачи душу и разум этого чудовища. Пусть он отныне не знает ни одного мирного часа, пусть я и все мое принесет ему несчастье; пусть во сне его преследует страх; пусть он живет в тяжелой работе и умрет в нищете кровавой смертью также через меня. А если я рожу ему детей, пусть и они будут прокляты!
Она замолкла. Монтальво смотрел на нее и пытался говорить, но не мог произнести ни слова. И вдруг он почувствовал страх перед Лизбетой ван-Хаут, тот страх, который уже не покидал его всю последующую жизнь. Он обернулся и крадучись вышел из комнаты; лицо его вдруг постарело, и, несмотря на весь успех, он никогда не чувствовал такой тяжести на сердце, будто Лизбета была ангелом, посланным свыше, чтобы возвестить ему его проклятие.
ГЛАВА VII. К Гендрику Бранту приходит гостья
Прошло девять месяцев, и уже больше восьми из них с тех пор, как Лизбета ван-Хаут стала именоваться графиней Жуан де Монтальво. В ее титуле не могло быть сомнения, так как она была обвенчала с некоторой пышностью в присутствии многочисленных зрителей епископом в Грооте-кирке. Все очень дивились этой поспешной свадьбе, хотя некоторые из наиболее недоброжелательных пожимали плечами, говоря, что для девушки, скомпрометировавшей себя прогулками наедине с испанцем и брошенной женихом, самым лучшим было поспешить выйти замуж.
Таким образом, эта пара, составившая довольно красивую группу перед алтарем, была обвенчана и наслаждалась выпавшим ей на долю супружеским счастьем в роскошном доме Лизбеты на Брее-страат. Здесь молодые жили почти одни, потому что соотечественники и соотечественницы Лизбеты выказали свое неодобрение ее поведению, сторонясь ее, а Монтальво, по своим соображениям, не особенно радушно приглашал к себе испанцев. Слуги были переменены, тетушка Клара и Грета также исчезли. Убедившись в их коварном поведении по отношению к ней, Лизбета еще до замужества попросила их обеих оставить ее дом.
Понятно, что после событий, повлекших за собой этот брак, Лизбета не находила особенного удовольствия в обществе своего мужа. Она не была из тех женщин, которые покорившись браку, заключенному насильно или обманом, даже способны полюбить руку, лишившую ее свободы. С Монтальво она говорила редко, даже после первых недель замужества редко виделась с ним. Он скоро понял, что его присутствие ненавистно жене, и со своей обычной находчивостью сумел извлечь из этого для себя выгоду. Другими словами, Лизбета ценою своего богатства покупала себе свободу; даже была установлена правильная такса: столько-то за неделю свободы, столько-то за месяц.
Монтальво был доволен подобным соглашением, потому что в душе он боялся этой женщины, красивое лицо которой застыло в одном выражении вечной ненависти. Он не мог забыть того ужасного проклятия, которое глубоко запечатлелось в его суеверном уме и жило там, так как действительно он со времени произнесения проклятия не знал ни одного часа покоя: день и ночь его преследовал страх, что его убьет жена.
И действительно, если когда-либо смерть смотрела из глаз женщины, то она смотрела из глаз Лизбеты, и Монтальво казалось, что ее совесть не смутится подобным делом, что она увидит в нем возмездие, а не убийство. Ему становилось страшно при этой мысли. Каково будет в один прекрасный день, выпив вина, почувствовать, что огненная рука терзает твою внутренность, потому что в кубке был яд, или, еще хуже того, проснуться ночью и ощутить стилет, вонзившийся тебе в хребет. Не удивительно после того, что Монтальво спал один и всегда тщательно запирал дверь.
Однако он напрасно принимал подобные предосторожности: что бы ни говорили глаза Лизбеты, она не имела намерения убивать этого человека. В своей молитве она передала это дело в руки Высшей власти и намеревалась оставить его в них, вполне уверенная, что возмездие может быть отсрочено, но в конце концов постигнет виновного. Что же касается денег, то она беспрепятственно отдавала их. С самого начала она инстинктивно чувствовала, что ее мужем руководила не любовь, но исключительно коммерческий расчет, в чем скоро вполне убедилась, и ее надеждой, величайшей надеждой стало, что раз ее богатство иссякнет, муж не станет дольше удерживать ее.
«Речной бобр не любит жить в сухой норе», - говорит голландская пословица.
Но какие то были месяцы, какие ужасные месяцы! Время от времени Лизбета видела мужа, когда ему бывали нужны деньги, и каждую ночь слышала, как он возвращался домой, иногда нетвердыми шагами. Два или три раза в неделю она также получала приказание приготовить роскошный обед для мужа и человек шести или восьми его товарищей, а затем начиналась крупная игра. После таких вечеров в доме появлялись странные люди, между которыми часто бывали евреи, и ждали, пока Монтальво не встанет, а иногда ловили его, когда он пытался проскользнуть из дома черным ходом. Лизбета узнала, что то были ростовщики, желавшие получить уплату по старым долгам. При таких обстоятельствах ее значительное, но не такое большое состояние быстро таяло. Скоро денег уже не стало, затем были проданы паи в некоторых кораблях, наконец, имение и дом заложены.
Время между тем шло.
Почти тотчас после отказа Лизбеты Дирк ван-Гоорль уехал из Лейдена и вернулся в Алькмаар, где жил его отец. Двоюродный же брат его и друг, Гендрик Брант, остался в Лейдене для изучения золотых дел мастерства под руководством знаменитого мастера по филигранным работам, известного под именем Петруся.
Однажды утром Гендрик сидел у себя в комнате, когда ему сказали, что его спрашивает женщина, не желающая сказать своего имени. Побуждаемый более любопытством, чем другими мотивами, он приказал впустить посетительницу. Когда она вошла, он, к своему огорчению, узнал в этой костлявой черноглазой женщине одну из тех, против которых его предостерегали старшие его
единоверцы как против шпионки, употребляемой папскими инквизиторами для добывания улик против еретиков и известной под именем Черный Мег.
- Что вам нужно от меня? - мрачно спросил Брант.
- Ничего, что могло бы повредить вам, почтенный господин. О, я знаю, какие сказки рассказывают про меня, хотя я честным образом зарабатываю пропитание себе и своему несчастному полоумному мужу. Он имел несчастье последовать однажды за этим сумасшедшим анабаптистом, Иоанном лейденским, провозглашенным королем и проповедовавшим, что человек может иметь столько жен, сколько ему вздумается. Вот на этом-то и помешался мой муж, но, благодарение святым, он потом раскаялся в своих заблуждениях и примирился с Церковью и христианским браком, а я, от природы незлопамятная, должна поддерживать его.
- Зачем вы пришли? - снова спросил Брант.
- Мейнгерр, - заговорила она, понизив свой хриплый голос, - вы друг графини Монтальво, прежней Лизбеты ван-Хаут?
- Нет, я только знаком с ней, не больше.
- По крайней мере вы были другом герра Дирка ван-Гоорля, уехавшего из этого города в Алькмаар, ее бывшего любовника.
- Да, я ему двоюродный брат, но он не был любовником ни одной замужней женщины.
- Нет, конечно, а разве любовь не может проглядывать через подвенечную вуаль? Ну, одним словом, вы его друг, стало быть, вероятно, и ее, а она несчастлива.
- В самом деле? Я не знаю ничего о ее теперешней жизни, она пожинает то, что посеяла. Тут уж нечего больше делать.
- Может быть, еще и найдется кое-что. Я думала, что Дирка ван-Гоорля может это интересовать.
- Почему? Торговцам сельдями нет дела до сгнивших сельдей: они списывают убытки и посылают за свежим запасом.
- Первая рыба, которую мы поймаем, для нас всегда самая лучшая, мейнгерр, а если нам не удалось вполне изловить ее, то какой чудной она нам кажется!
- Мне некогда отгадывать ваши загадки. Что вам от меня надо? Говорите или убирайтесь, только поскорее.
Черная Мег наклонилась вперед и зашептала:
- Что бы вы мне дали, если бы я вам доказала, что капитан Монтальво вовсе не женат на Лизбет ван-Хаут?
- Для вас не интересно, что бы я дал вам, так как я сам видел, как ее венчали.
- То, что как будто делается на наших глазах, не всегда происходит на самом деле.
- Довольно с меня. Убирайтесь!
Брант показал на дверь.
Черная Мег не шевельнулась, а только вынула из-за пазухи небольшой сверток и положила его на стол.
- Может иметь человек двух живых жен зараз? - спросила она.
- По закону - нет.
- Сколько дадите, если я докажу, что у капитана Монтальво две жены?
Брант начал интересоваться словами Мег. Он ненавидел Монтальво, догадываясь, даже кое-что зная о его роли в этой постыдной истории, и знал также, что окажет Лизбет истинную услугу, освободив ее от мужа.
- Положим, двести флоринов, если вы докажете это.
- Мало, мейнгерр.
- Больше я не могу дать, но помните: раз обещаю, я плачу.
- Да, правда, другие обещают и не платят, мошенники! - прибавила Мег, ударяя костлявым кулаком по столу. - Хорошо, я согласна и не прошу задатка, потому что вы, купцы, не то, что дворяне, ваше слово - все равно что расписка. Ну, прочтите это.
Она развернула сверток и подала его содержимое Бранту.
За исключением двух миниатюр, которые Гендрик отложил в сторону, это были письма, написанные по-испански очень изящным почерком. Брант хорошо знал испанский язык и в двадцать минут прочел все. Письма оказались посланиями женщины, подписывавшейся «Жуанита де Монтальво», к мужу. Это были грустные документы, повествовавшие тяжелую историю бессердечно покинутой женщины, полные мольбы со стороны писавшей их и ее детей о возвращении мужа и отца или, по крайней мере, о доставлении им средств к жизни, так как семья находилась в крайней бедности.
- Все это очень печально, - сказал Брант, с грустью смотря на портрет женщины и детей, - но еще ничего не доказывает, каким образом мы можем узнать, что она жена этого человека?
Черная Мег снова сунула руку за пазуху и вынула письмо, помеченное не более чем тремя месяцами тому назад. Оно было написано священником того села, где жила графиня, и адресовано графу дон Жуану де Монтальво, капитану в Лейдене. Это письмо заключало в себе серьезное обращение к благородному графу от человека, имеющего право говорить, потому что он крестил, учил и, наконец, венчал графа; священник просил выслать вспомоществование графине на его имя.
«До нас здесь, в Испании, достиг возмутительный слух, - заканчивал он свое письмо, - будто вы женились на нидерландке из Лейдена по фамилии ван-Хаут; но я не верю этому: никогда бы вы не решились на такое преступление перед Богом и людьми. Напишите же скорее, сын мой, и рассейте черное облако сплетен, собирающееся над вашим почтенным, древним именем».
- Откуда у вас эти бумаги? - спросил Брант.
- Последнее письмо я получила от священника, привезшего его из Испании. Я встретилась с ним в Гааге и предложила ему передать письмо, так как у него не было надежного средства переслать его в Лейден. Другие бумаги я украла из комнаты Монтальво.
- В самом деле? Честная работница! А как вы попали в комнату его сиятельства?
- Я скажу вам это, - отвечала она, - ведь он не заплатил мне, стало быть, мой язык развязан. Он желал иметь доказательства, что герр Дирк ван-Гоорль еретик, и поручил мне добыть их.
Лицо Бранта приняло жесткое выражение, и он насторожился.
- Зачем ему были эти доказательства?
- Чтобы, воспользовавшись ими, помешать ювфроу Лизбет ван-Хаут выйти за Дирка ван-Гоорля.
- Каким образом?
Мег пожала плечами.
- Должно быть, он надеялся, что Лизбета, узнав секрет ван-Гоорля, откажет ему, или, что еще вероятнее, намеревался пустить в ход угрозу предать ее возлюбленного в руки инквизиции, если девица станет упорствовать.
- Понимаю. Что же, вы добыли доказательства?
- Я однажды ночью спряталась в спальне Дирка и через щель в двери подсмотрела, как он и еще другой молодой человек, которого я не знаю, вместе читали Библию и молились.
- Вот как! Немалому риску вы подвергали себя: ведь если бы Дирк или его товарищ увидали вас, вам вряд ли удалось бы живой уйти из дома. Вы знаете, еретики считают себя вправе убить шпиона, попавшегося на месте преступления, и, правду говоря, я не осуждаю их. Будь я в таком положении… - он нагнулся вперед и пристально взглянул ей в глаза, - я не задумался бы размозжить вам голову, как какой-нибудь крысе.
Черная Мег отшатнулась, и губы ее посинели.
- Правда, мейнгерр, рискованное это дело, и бедные слуги Божии подвергаются большим опасностям. Другому-то молодому человеку нечего было бояться: мне не платили, чтобы я следила за ним, и, как я уже сказала, я даже не знаю, кто он, и не интересуюсь узнать.
- Кто знает, может быть, это счастье для вас, особенно, если бы ему вдруг пришлось в голову узнать, кто вы. Но это ведь нас не касается теперь! Давайте бумаги. Вы хотите получить прежде деньги? Хорошо!
Брант подошел к шкафу и, вынув маленький стальной ящичек, отпер его. Взяв из него условленную сумму, он снова запер его.
- Напрасно вы так всматриваетесь в этот ящичек, - сказал он, - его уже завтра не будет здесь и вообще в этом доме. Насколько я мог понять, Монтальво не заплатил вам.
- Ни одного стивера! - отвечала она с внезапным приступом бешенства. - Низкий вор, обещался заплатить мне после женитьбы, но вместо того чтобы наградить ту, которая помогла ему сесть в теплое гнездо, он теперь уже промотал все состояние жены до последнего флорина, играя и уплачивая неотложные долги, так что в настоящее время она, я думаю, почти нищая.
- Хорошо, - отвечал Брант, - а теперь прощайте, а если мы встретимся в городе, то заметьте себе, я вас не знаю. Понимаете?
- Понимаю, мейнгерр, - отвечала Черная Мег с усмешкой и исчезла.
Когда она ушла, Брант встал и отворил окно.
- Отравила весь воздух, - проговорил он. - Но, кажется, я напугал ее, и мне нечего бояться. Впрочем, кто знает? Она видела, как я читал Библию, и Монтальво знает это. Но с тех пор прошло уже довольно времени; я должен воспользоваться тем, что у меня в руках.
Действительно, кто знает?..
Взяв с собой портреты и документы, Брант отправился к своему другу и единоверцу, Питеру ван-де-Верфу, также другу Дирка и двоюродному брату Лизбеты, молодому человеку, об уме и способностях которого Гендрик был очень высокого мнения. Следствием этого свидания было то, что в тот же вечер молодые люди уехали в Брюссель, резиденцию правительства, где у них были очень влиятельные друзья.
Достаточно вкратце сообщить результат их путешествия. Как раз в это время нидерландское правительство по особым причинам желало жить в мире с горожанами, и власти, узнав о возмутительном обмане, жертвой которого сделалась знатная девица, известная как хорошая католичка, причем целью было завладеть ее состоянием, воспылали негодованием. Немедленно был отдан приказ, подписанный рукой, которой никто не мог противиться - так глубоко несчастье одной женщины потрясло другую, - приказ об аресте и о строгом допросе графа Монтальво, как если б он был простой преступник-нидерландец. Так как у капитана было много врагов, то и не нашлось никого, кто бы стал хлопотать об отмене королевского указа.
Три дня спустя после этих событий Монтальво велел сказать жене, что он будет ужинать один дома и желает, чтобы она присутствовала за ужином. Лизбета повиновалась и встретила мужа, сидя на противоположном конце стола, откуда время от времени поднималась, сама прислуживая ему. Наблюдая за ним своими спокойными глазами, она заметила, что ему не по себе.
- Чего же ты все молчишь? - спросил он наконец раздраженно. - Ты, вероятно, воображаешь, что чрезвычайно весело ужинать с женой, у которой вид, как у трупа в гробу? Невольно пожелаешь, чтобы это сталось на самом деле.
- Я уже давно желаю, - отвечала Лизбета.
И снова водворилось молчание. Однако его нарушила Лизбета, спросив:
- Чего тебе надо, денег?
- Конечно, денег, - ответил он яростно.
- Денег больше нет: все истрачены, и нотариус говорит, что никто не дает больше ни одного стивера под дом. Все мои бриллианты также проданы.
Он взглянул на ее руку и сказал:
- У тебя есть еще это кольцо.
Лизбета также взглянула на кольцо. То был золотой перстень, украшенный довольно ценными бриллиантами, подаренный ей мужем перед свадьбой. Монтальво постоянно настаивал, чтобы она носила его. В действительности же кольцо было куплено на деньги, занятые графом у Дирка.
- Возьми его, - отвечала Лизбета, улыбаясь в первый раз, и, сняв перстень с пальца, подала его мужу.
Протянув руку, чтобы взять его, Монтальво отвернулся, желая скрыть отразившийся на его лице стыд, который даже он не мог не почувствовать.
- Если у тебя родится сын, - заговорил он, - то скажи ему, что отец его ничего не мог оставить ему, кроме совета никогда не прикасаться к игральным костям.
- Ты уезжаешь? - спросила она.
- Да, надо уехать недели на две. Меня предупредили, что против меня возбуждено обвинение, которым я не хочу беспокоить тебя. Ты, вероятно, скоро услышишь о нем, и хотя оно несправедливо, но я должен уехать из Лейдена, пока все не уляжется… Я действительно уезжаю.
- Ты собираешься бросить меня, - сказала она, - промотав все мои деньги; собираешься бросить меня в таком положении. Я вижу по твоему лицу.
Монтальво сидел отвернувшись, делая вид, что не слышит.
- Я благодарю Бога за это, - продолжала Лизбета, - и желала бы только, чтобы ты мог унести с собой саму память о себе вместе со всем, что твое.
Она договаривала эти горькие слова, как вдруг дверь отворилась, и вошел один из субалтерн-офицеров в сопровождении нескольких солдат и человека в костюме нотариуса.
- Что такое? - в бешенстве закричал Монтальво.
Субалтерн-офицер, входя, отдал честь.
- Капитан, простите, но я действую по приказанию: мне предписано арестовать вас живого или мертвого, - добавил он с ударением.
- По какому обвинению? - спросил Монтальво.
- Г-н нотариус прочтет обвинение, - сказал офицер, - но, может быть, графине угодно будет удалиться? - спросил он, конфузясь.
- Нет, - сказала Лизбета, - дело может касаться меня.
- К несчастью, я боюсь, что да, сеньора, - заговорил нотариус.
Затем он приступил к чтению документа, длинного и написанного канцелярским слогом. Но Лизбета быстро все поняла. Ей с самого начала стало ясно, что она незаконная жена графа Жуана де Монтальво и что против него возбуждено преследование за обман ее и за преступление против Церкви. Следовательно, она свободна, свободна! Она зашаталась и без чувств упала на пол.
Когда ее глаза снова открылись, Монтальво, офицер, нотариус, солдаты - все исчезли.
ГЛАВА VIII. Стойло Кобылы
Когда Лизбета очнулась в этой пустой комнате, ее первым чувством было чувство необузданной радости. Она свободна, она уже не жена Монтальво, никогда больше она не будет принуждена сносить его прикосновение. Таковы были ее первые мысли. Она не сомневалась, что все слышанное ею правда: иначе, что могло бы побудить власти к преследованию Монтальво? Теперь Лизбета получила ключ к объяснению тысячи вещей, которые были незначительны сами по себе, но во всей своей массе образовывали несомненную улику виновности капитана. Не упоминал ли он сам об обязательствах, существующих у него в Испании, и о детях? Не случалось ли ему во сне… Впрочем, бесполезно припоминать все это. Она свободна, вот еще до сих пор лежит на столе символ их союза: изумрудное кольцо, которое должно было доставить Монтальво возможность бежать, скрыться от преследования, грозившего ему, как он знал. Лизбета схватила перстень, бросила его на пол и топтала ногами. После того, упав на колени, она молилась и благодарила Бога и наконец, совершенно изнеможенная, легла отдохнуть.
Настало утро: чудное, тихое осеннее утро, но теперь, когда вчерашнее возбуждение улеглось, у Лизбеты было тяжело на сердце. Она встала и помогла единственной оставшейся в доме служанке приготовить завтрак, не обращая внимания на взгляды, которые девушка искоса бросала на нее. После того она пошла на рынок, чтобы истратить на необходимое несколько из последних оставшихся у нее флоринов.
На улице она заметила, что служит предметом внимания, так как встречавшиеся с ней толкали друг друга, указывая на нее. Когда, смущенная, она поспешила домой, до ее тонкого слуха долетел разговор двух простых женщин, шедших за ней.
- Попалась, - говорила одна из женщин.
- Поделом ей, - отвечала другая, - зачем гонялась за испанским доном и женила его на себе.
- Еще хорошо, что удалось. Ей ничего больше не оставалось делать, - перебила первая, - концы надо хоронить скорее.
Оглянувшись, Лизбета увидала, как они пальцами зажимали носы, будто стараясь предохранить себя от дурного запаха.
Тут Лизбета уже не могла дольше выдержать и обратилась к женщинам.
- Злые сплетницы, - бросила она им в лицо и быстро пошла вперед, преследуемая их громким, обидным смехом.
Дома ей сказали, что ее ожидают двое мужчин. Они оказались кредиторами, требовавшими больших денежных сумм, которых Лизбета не была в состоянии заплатить. Она сказала им, что ничего не знает обо всех этих делах. Тогда они показали ей ее собственную подпись на заемных письмах, и она вспомнила, что была принуждена подписывать много подобных документов - все, что ей подавал человек, называвшийся ее мужем, ради приобретения хотя бы кратковременного освобождения от его присутствия. Наконец ростовщики ушли, заявив, что получат свои деньги, хотя бы для этого им пришлось вытащить постель из-под Лизбеты.
После того наступило одиночество и тишина. Ни один друг не пришел утешить бедную женщину. Правда, у нее уже не оставалось друзей, так как по приказанию мужа она прервала знакомство даже с теми, кто после странных обстоятельств, сопровождавших ее замужество, все еще не чуждался ее. Монтальво говорил, что не желает терпеть в своем доме сплетниц-голландок, а последние думали, что Лизбета из гордости прервала всякие сношения с соотечественниками своего круга.
Наступил полдень, но Лизбета не могла проглотить ни куска: уже целые сутки она ничего не ела, судорога сжимала ей горло, а между тем в ее положении ей необходимо было есть. Теперь она начинала чувствовать позор, обрушившийся на нее. Она была замужем и не имела мужа; скоро ей предстояло сделаться матерью, но каков будет этот ребенок? И что станется с ней самой? Что подумает о ней Дирк, Дирк, ради которого она сделала и перенесла все это? Такие мысли роились в ее голове, когда она весь долгий вечер пролежала в постели, пока у нее не закружилась голова и сознание не покинуло ее. В мозгу ее водворился полный хаос, целый ад беспорядочных грез.
Наконец из всей массы неясных представлений выступило одно видение, одно желание: желание успокоения и полного мира. Но где она могла найти себе успокоение, кроме смерти? Что же, почему и не умереть: Бог простит ей, Матерь Божия будет заступницей за опозоренную несчастную, не способную дольше жить. Даже Дирк отнесется к ней с добротой, когда она умрет, хотя теперь, встреться он с ней, он, без сомнения, закрыл бы глаза рукой. Ей было страшно жарко, ее мучила жажда. Как прохладна должна быть теперь вода! Что может быть лучше, чем медленно спуститься в нее и предоставить ей сомкнуться над бедной больной головой. Лизбета решила выйти из дому и взглянуть на воду: в этом, во всяком случае, не могло быть ничего дурного.
Она закуталась в длинный плащ, надев его капюшон на голову, и вышла тихонько из дому, скользя, как привидение в темнеющих улицах, по направлению к порту, куда стража пропустила ее, приняв за крестьянку, возвращающуюся к себе в деревню. Взошла луна, и при ее свете Лизбета узнала местность. Это было то самое место, где она стояла в день карнавала, когда с ней заговорила женщина, прозванная Мартой-Кобылой, и сказала ей, что знала ее отца. По этому льду она неслась в санях Монтальво во время бега. Лизбета пошла вдоль крепостного вала, вспомнив о заросших тростниковых островках, лежавших в нескольких милях отсюда и только изредка посещаемых рыбаками и охотниками, о большом Гаарлемском озере-море, занимавшем многие тысячи акров пространства. Как прохладно и красиво оно должно быть в такую ночь, и как нежно шелестит ветер в камышах, которым поросли берега озера.
Лизбета шла все дальше и дальше, до озера было не близко, но наконец она достигла его, и как хорошо, просторно и тихо было там! Насколько мог охватывать глаз, не было видно ничего, кроме сверкающей воды с чернеющим тростником островками. Только лягушки квакали в тростнике да кричала выпь. А на озере плавали дикие утки, оставляя за собой длинные серебряные полосы.
На одном из островков, на расстоянии не дальше выстрела из лука, Лизбета увидала кусты похожих на гвоздику белых болотных цветов, которые ей бывало случалось собирать в детстве. Ей захотелось сорвать их теперь: место было неглубокое, она думала, что может перейти вброд на островок, а если и нет, то что за беда! Она в таком случае или вернется на берег, или, может быть, навеки уснет под водой. Не все ли равно? Лизбета ступила в воду. Как прохладно и приятно было прикосновение влаги к ногам. Но вот вода дошла до колен, вот уже легкая рябь разбивается о грудь Лизбеты, но она не думала возвращаться: перед ней лежал остров, и белые цветы были уже так близко, что она могла пересчитать их - восемь на одном кусте и двенадцать на другом. Еще шаг, и вода, смочив ей лицо, сомкнулась над ее головой. Она приподнялась, и у нее вырвался легкий крик.
Затем, будто во сне, Лизбета увидала, как из тростника рядом с ней выскользнул челнок. Она увидела также, как странное, обезображенное лицо, которое она смутно помнила, нагнулось над бортом челнока, и загорелая рука схватила ее, между тем как хриплый голос уговаривал не отбиваться и ничего не бояться.
Когда Лизбета опомнилась, она увидела себя лежащей на земле, или, скорее, на толстой подстилке из сухого тростника и пахучих трав. Оглядевшись, она увидела, что находится в избушке, слепленной из грязи и крытой соломой. Один угол избушки занимал очаг с навесом, искусно слепленный из глины, и на огне кипел глиняный котелок. С потолка на веревке, свитой из травы, свисала свежепойманная рыба, чудный лосось, а рядом с ним связка копченых угрей. Одеялом Лизбете служил великолепный мех из речных бобров. Из всего этого она заключила, что находится, вероятно, в жилище какого-нибудь рыбака.
Мало-помалу прошедшее встало в памяти Лизбеты, и она вспомнила, как рассталась с человеком, называвшимся ее мужем, она вспомнила также свое бегство в лунный вечер, и свою попытку перейти вброд на остров за белыми цветами, и загорелую руку, протянувшуюся, чтобы спасти ее. Лизбета вспомнила все это, и воспоминание вызвало у нее вздох. Звук этого вздоха, по-видимому, привлек внимание кого-то, кто прислушивался извне: дверь отворилась, и кто-то вошел в комнату.
- Вы проснулись, мифроу? - спросил хриплый голос.
- Да, - отвечала Лизбета. - Скажите мне, как я попала сюда и кто вы?
Вошедшая отступила, так что свет из двери упал прямо на нее.
- Смотри, дочь ван-Хаута и жена Монтальво, тот, кто раз видел меня, уже не забудет.
Лизбета приподнялась и взглянула на высокую, могучую фигуру, запавшие серые глаза, широко раскрытые ноздри, покрытые шрамами выпирающие скулы, зубы, выдвинутые каким-то дьявольским насилием вперед из-под губ, и седеющие пряди волос, спускающиеся на лоб. Сразу она узнала, кто перед ней.
- Вы Марта-Кобыла? - спросила Лизбета.
- Да, не кто иная, - отвечала Марта, - и вы в стойле Кобылы. Что сделал с вами этот испанский пес, что вы пришли к морю, чтобы оно скрыло вас и ваш позор?
Лизбета не отвечала: ей тяжело было начать рассказывать свою историю этой странной женщине. Марта между тем продолжала:
- Что я говорила вам, Лизбета ван-Хаут? Разве я не предупреждала вас, что ваша кровь должна предостеречь вас против испанца? Ну вот, вы спасли меня из воды, и я вытащила вас из воды. И почему мне вздумалось объехать именно этот остров вчерашней ночью, когда мне не спалось? Но не все ли равно! На то была воля Божия, и вот вы теперь в стойле Кобылы. Не отвечайте мне, прежде поешьте.
Подойдя к очагу, она сняла котелок и вылила его содержимое в глиняную чашку. При распространившемся запахе Лизбета в первый раз почувствовала, что голодна. Из чего состояло поданное ей кушанье она никогда не узнала, но она съела его до последней ложки и была благодарна за него, между тем как Марта, сидя на полу возле нее, с удовольствием следила за ней, время от времени вытягивая длинную худую руку, чтобы дотронуться до каштановых кудрей, спускавшихся на плечи Лизбеты. Когда последняя кончила есть, Марта сказала ей:
- Пойдемте и посмотрим.
Она вывела свою гостью за дверь мазанки.
Лизбета взглянула кругом, но из-за зарослей тростника ничего не было видно. Саму мазанку скрывала небольшая группа болотного кустарника, росшего на кочках среди болотистой равнины вперемежку с камышом и тростником.
Пройдя шагов сто или около того, Марта и Лизбета подошли к густым камышовым зарослям, в которых оказалась спрятана лодка. Марта пригласила Лизбету сесть в лодку и повезла ее сначала к ближайшему островку, потом, обогнув его, ко второму, затем к третьему.
- Ну, теперь скажите, - спросила она, - на котором из этих островов мое стойло?
Лизбета покачала головой, не зная, куда указать.
- Ни вы, ни один человек не в состоянии сказать мне этого, никто не может найти моего дома, кроме меня самой, я же найду туда дорогу и днем и ночью. Посмотрите, - и она указала на обширную водную поверхность. - На этом озере тысячи таких островков, и прежде чем найти меня, испанцам пришлось бы обшарить их все, потому что здесь ни шпионы, ни собаки не могли бы помочь им.
Она снова начала грести, даже не смотря по сторонам, и через несколько минут они опять очутились в том месте зарослей, откуда отчалили.
- Мне пора домой, - слабо проговорила Лизбета.
- Нет, - отвечала Марта, - уже слишком поздно. Вы долго проспали, посмотрите: солнце быстро садится. Эту ночь вы должны провести у меня. Не пугайтесь! Пища у меня грубая, но свежая, вкусная и в изобилии: кто умеет лучше меня ловить рыбу в этом озере? Водяную птицу я тоже ловлю в силки, а яйца ее собираю, вяленую же говядину и ветчину мне доставляют друзья, с которыми я иногда вижусь по ночам.
Лизбета уступила, так как тишина, господствовавшая на озере, нравилась ей. После всего пережитого она чувствовала себя как на небе, следя за солнцем, скрывавшимся в тихой воде, слушая крик дикой водяной птицы, видя плещущуюся рыбу, а главное - зная, что ничто не нарушит этого мира, кроме голоса природы, и что не раздастся возле нее ненавистный голос человека, погубившего и обманувшего ее. Она чувствовала, что страшно устала, и ею овладела непривычная, странная слабость; она решила отдохнуть здесь еще ночь.
Марта вернулась с ней в дом, и они вместе принялись за приготовление ужина; и поджаривая рыбу на огне, Лизбета уже смеялась, как бывало в дни своего девичества. Они поужинали с аппетитом, и, убрав все, Марта громко прочла молитву, а после того достала свое сокровище - Библию и, не боясь ничего, хотя знала, что Лизбета католичка, приготовилась читать из нее, присев на корточки перед горящим очагом.
- Видите, мифроу, какое здесь удобное место для житья еретички. Где еще женщина могла бы читать Библию, не боясь ни шпионов, ни монахов?
Вспомнив историю Марты, Лизбета содрогнулась…
- Ну, теперь, - снова заговорила Марта, окончив чтение, - скажите мне, прежде чем лечь спать, что привело вас на Гаарлемское озеро и что с вами сделал этот испанец. Не бойтесь: хотя я и полоумная - так, по крайней мере, они называют меня, - но я могу подать совет, нас же с вами, дочь ван-Хаута, связывает многое: кое-что вы знаете и видите, а кое-что не можете знать и видеть, но Бог все взвесит в свое время.
Лизбета смотрела на истощенную, обезображенную почти до потери человеческого образа долгой физической и нравственной мукой женщину и проникалась все большим доверием к Марте. Чувствуя, что к ней относятся с участием, в чем она очень нуждалась, она рассказала свою историю с начала до конца.
Марта слушала молча; ее, по-видимому, не могло уже удивить ничто со стороны испанца, и только когда Лизбета кончила, сказала:
- Ах, дитя, если б вы знали обо мне и умели меня найти, вы бы попросили меня о помощи.
- Что бы вы могли сделать, матушка? - спросила Лизбета.
- Сделать? Я бы стала следить за ним день и ночь, пока не подкараулила бы его в каком-нибудь уединенном месте и там… - она протянула руку, и Лизбета увидала, что при красном свете огня в руке сверкнул нож.
Она в страхе отшатнулась.
- Чего же вы испугались, моя красавица? - спросила Марта. - Я говорю вам, что живу теперь только для одного - чтобы убивать испанцев, да прежде всего монахов, а потом - всех прочих. За мной еще много в долгу: за каждую пытку мужа - жизнь; за каждый его стон на костре - жизнь, да, столько жизней за отца и половину их за сына. Я буду долго жить, я это знаю, и долг будет уплачен… до последнего стивера.
Говоря это, она встала, и свет от огня осветил ее всю. Ужасное лицо увидела перед собой Лизбета, страстное и энергичное, лицо вдохновенной мстительницы, сухое и нечеловеческое, но не отталкивающее. Испуганная и пораженная, молодая женщина молчала.
- Я пугаю вас, - продолжала Марта, - вы, несмотря на все свои страдания, еще питаетесь молоком человеческой доброты. Подождите, подождите, когда они умертвят любимого вами человека, тогда ваше сердце станет таким же, как мое, и тогда вы станете жить не ради любви, не ради самой жизни, но чтобы быть мечом - мечом в руках Господа.
- Перестаньте, прошу вас, - проговорила Лизбета слабым голосом, - мне дурно, я нездорова.
Действительно, она почувствовала себя дурно, и к утру в этом логовище, на пустынном острове озера, у нее родился сын.
Когда она несколько оправилась, ее сиделка сказала ей:
- Хотите вы сохранить мальчишку или убить его?
- Как я могла бы убить своего ребенка? - отвечала Лизбета.
- Он сын испанца, вспомните проклятие, о котором вы рассказали мне, - проклятие, произнесенное вами еще до вашего замужества. Если он останется в живых, проклятие будет тяготеть над ним и через него падет и на вас. Лучше поручите мне убить его - и всему конец.
- Разве я могу убить собственного ребенка? Не трогайте его! - сказала Лизбета.
Таким образом черноглазый мальчик остался в живых и вырос.
Хотя медленно, но все-таки наконец силы вернулись к Лизбете, лежавшей в мазанке на острове.
Кобыла, или «матушка Марта», как теперь звала ее Лизбета, ходила за больной лучше всякой сиделки.
В пище недостатка не было, так как Марта ловила сетями дичь и рыбу, а иногда ходила на берег и приносила оттуда молоко, яйца и мясо, которых, по ее словам, местные буры давали ей сколько угодно. Для сокращения времени Марта вслух читала Лизбете Библию, и из этого чтения Лизбета узнала многое, что до тех пор было ей неизвестно.
Действительно, все еще будучи католичкой, она теперь начала спрашивать себя, в чем, собственно, вина этих еретиков и за что их осуждают на мучения и смерть, если в этой книге она не могла найти ничего такого, что нарушалось бы их учением и жизнью.
Таким образом Марта, озлобленная, полусумасшедшая обитательница озера, посеяла в сердце Лизбеты семя, которое должно было принести плод в свое время.
Когда по прошествии трех недель Лизбета встала, но еще не была достаточно сильна, чтобы идти домой, Марта сказала однажды, что ей надо отлучиться из дому на целые сутки, но не объяснила, по какому делу. Оставив хорошие запасы всего, она однажды после обеда уехала в своем челноке и вернулась только к вечеру следующего дня. Лизбета начала говорить, что ей пора уехать с острова, но Марта не позволяла ей это, говоря, что ей для этого придется пуститься вплавь; и действительно, выйдя посмотреть, Лизбета не нашла челнока. Нечего делать, ей пришлось остаться, и на свежем осеннем воздухе прежняя сила и красота вернулись к ней. Она снова стала такой, какой была в день своего катанья с Жуаном Монтальво.
В одно ноябрьское утро, оставив ребенка на попечение Марты, поклявшейся на Библии, что она не тронет его, Лизбета пошла на берег острова. Ночью был первый осенний заморозок, и поверхность озера покрылась тонким, прозрачным слоем льда, быстро таявшим при лучах поднимавшегося все выше солнца.
Воздух был чист и прозрачен, в тростнике, верхушки которого пожелтели, перелетали зяблики, чирикая и забывая, что зима на носу. Все было так мирно и красиво, что Лизбета, также забыв многое, залюбовалась ландшафтом. Она сама не знала почему, но чувствовала себя счастливой в это утро: будто темное облако сбежало с ее жизни, будто над ней снова расстилалось мирное, радостное небо.
Конечно, другие облака могли появиться на горизонте, они, вероятно, и явятся в свое время, но Лизбета чувствовала, что пока этот горизонт очень удален и над ее головой лишь нежное, чистое, радостное небо.
Вдруг она услыхала позади себя на сухой траве шаги - не знакомые, не осторожные, медленные шаги Марты, а чьи-то чужие. Лизбета обернулась.
Боже! Что это такое? Перед ней, если она только не грезила, стоял Дирк ван-Гоорль, не кто иной, как Дирк, со своим добрым, улыбавшимся лицом, и протягивал ей руки.
Лизбета не сказала ничего: она не могла говорить и только стояла, смотря на него, пока он не подошел и не обнял ее. Тогда она отскочила назад.
- Не прикасайтесь ко мне! - закричала она. - Вспомните, кто я и почему я здесь.
- Я хорошо знаю, кто вы, Лизбета, - медленно отвечал он, - вы самая чистая и святая женщина, когда-либо жившая на земле, вы ангел во плоти, вы женщина, пожертвовавшая честью ради спасения любимого человека. Не противоречьте! Я слышал всю историю, я знаю все подробности и преклоняю колени перед вами, я молюсь на вас!
- А ребенок? - спросила Лизбета. - Он жив. Он мой сын и сын того человека.
Лицо Дирка приняло несколько более суровое выражение, но он ограничился тем, что сказал:
- Мы должны нести свой крест; вы свой несли, теперь я должен нести свой.
Он схватил ее руки и целовал их, схватил полу ее одежды и также целовал.
Так состоялось их обручение.
Впоследствии Лизбета услыхала всю историю. Монтальво был привлечен к допросу, и случилось, что обстоятельства сложились не в его пользу. Среди судей один был важный нидерландский вельможа, желавший поддержать право своих соотечественников, другой - высокопоставленное духовное лицо; их возмущал обман, в который была введена Церковь совершением противозаконного брака; третий же судья, испанский гранд, случайно был знаком с семьей покинутой первой жены Монтальво.
Таким образом, к несчастному капитану, вина которого была вполне доказана свидетельством монаха, принесшего письмо, самими письмами и злопамятной Черной Мег, обещавшей отплатить «горячей водой за холодную», отнеслись без всякого снисхождения. Репутация у него была плохая, и кроме того, говорили, что его жестокость и позор Лизбеты ван-Хаут, виной которого был он, побудили ее к самоубийству.
Всем было известно, что она ночью бежала в направлении Гаарлемского озера, и после этого все усилия ее друзей отыскать ее не привели ни к чему: она исчезла.
И вот, несмотря на все усилия графа Жуана Монтальво оправдаться письменно и устно, благородного капитана ради спасительности примера присудили, как простого раба, к четырнадцати годам каторжных работ на галерах. И там пока он и находился.
Так окончился трагический роман Дирка ван-Гоорля и Лизбеты ван-Хаут. Через полгода они отпраздновали свою свадьбу и, по желанию Дирка, взяли к себе сына Лизбеты, нареченного при крещении Адрианом. Несколько месяцев спустя, Лизбета вступила в общину последователей новой веры, а около двух лет после свадьбы у нее родился еще сын, герой нашего рассказа, по имени Фой.
Больше детей у Лизбеты не было.
Книга вторая. ЖАТВА ЗРЕЕТ
Глава IX. Адриан, Фой и Красный Мартин
Много лет прошло после того, как Лизбета встретилась с любимым человеком на берегах Гаарлемского озера. Сын, родившийся у нее там, так же как и второй ее сын, уже вырос, а ее волосы поседели под оборками чепца.
Быстро ткал Божий челнок в эти роковые годы, и вытканная ткань была историей народа, замученного до смерти, и окрашена она была его кровью.
Эдикт следовал за эдиктом, преступление за преступлением. Альба, как воплощение бесчеловечной мести, двинул свою армию спокойно и беззаботно, как тигр, выслеживающий свою добычу, через равнины Франции. Теперь он подошел к Брюсселю, и головы графов Эгмонта и Хорна уже пали, уже учреждено было Кровавое Судилище и начало свое дело. Закон перестал существовать в Голландии, и всякие несправедливости и жестокости стали там возможны. Одним эдиктом Кровавого Судилища все голландцы, числом до трех миллионов, были осуждены на смерть. Все были объяты ужасом, потому что со всех сторон возвышались костры, виселицы, орудия пыток. Извне велась война, внутри господствовал страх, и никто не знал, кому доверять, так как сегодняшний друг мог завтра превратиться в доносчика или судью. И все это за то, что голландцы решились поклоняться Богу, не признавая обрядов и монахов.
Хотя прошло уже много времени, но те личности, с которыми мы познакомились в начале этого рассказа, еще были живы. Начнем же наше повествование с двух из них: одного - уже хорошо знакомого нам Дирка ван-Гоорля, а другого, про которого еще надо сказать несколько слов, - его сына Фоя.
Место действия - небольшая комната с узкими окнами над товарным складом, выходящим на лейденский рынок. Ход в комнату по двум лестницам. Время - летние сумерки. При слабом свете, проникавшем через незанавешенные окна (завесить их значило бы возбудить подозрение), можно было видеть, что в комнате собралось человек двадцать, между ними одна или две женщины. Большей частью это были люди, принадлежавшие к высшему классу, - средних лет почтенные бюргеры; они стояли группами или сидели на стульях и скамьях. На одном конце комнаты обращался к присутствующим с речью мужчина средних лет, с седеющими волосами и бородой, невысокий и некрасивый, но весь до такой степени проникнутый добротой, что она, казалось, светилась через его неказистую наружность, как свет, изливающийся сквозь грубые роговые стенки фонаря. Это был Ян Арентц, знаменитый проповедник, корзиночник по ремеслу, доказавший свою непоколебимую приверженность новой религии и одаренный способностью не смущаться среди всех ужасов самого страшного из преследований, которые христианам пришлось перенести со времен римских императоров. Он теперь проповедовал, и присутствовавшие составляли его паству.
«Я принес не мир, но меч» был взятый им текст, и, без сомнения, он как нельзя больше подходил ко времени, и его можно было легко развить, так как в эту самую минуту на площади под окнами дома, где они собрались, охраняемые солдатами, два члена его стада, еще две недели тому назад молившиеся в этой комнате, на глазах собравшейся городской черни претерпевали мученическую смерть на костре!
Арентц проповедовал терпение и стойкость. Он возвращался к событиям недавно прошедших дней и рассказывал своим слушателям, как сам подвергался сотне опасностей; как его травили, точно волка, как пытали, как он бежал из тюрьмы и от мечей солдат, подобно святому Павлу, и как остался в живых, чтобы поучать их в сегодняшний вечер. Он говорил, что они не должны бояться, что они должны быть совершенно счастливы, спокойно принимая то, что Богу будет угодно послать им, в уверенности что все будет к лучшему, что даже самое худшее поведет к лучшему. Что может быть самым худшим? Несколько часов мучений и смерть. А что следует за смертью? Пусть они вспомнят об этом. Вся жизнь - только мрачная, скоропреходящая тень, не все ли равно, как и когда мы выйдем из этой тени на полный свет. Небо темно, но за тучами светит солнце. Надо смотреть вперед глазами веры, быть может, страдания теперешнего поколения - часть общего плана; быть может, из земли, орошенной кровью, произрастет цветок свободы, чудной свободы, при которой все люди получат возможность поклоняться своему Создателю, сообразуясь только с предписаниями Библии и своей совести… Между тем как он говорил это красноречиво, мягко, вдохновенно, сумерки сгустились и отблеск от пламени костров осветил окна, а до ушей собравшихся в комнате донесся гул толпы с площади. Проповедник с минуту помолчал, смотря вниз на ужасную сцену под окнами: с того места, где он стоял, он мог все видеть.
- Марк умер, - сказал он, - и наш другой возлюбленный брат, Андрей Янсен, умирает; палачи придвигают к нему связки хвороста. Вы думаете, что это жестокая, ужасная смерть, а я вам говорю, что нет. Я говорю, что мы свидетели святого, славного зрелища: мы видим переход души в вечное блаженство. Братья, помолимся за покидающего нас и за нас, остающихся. Помолимся и за убивающих его, ибо не ведают, что творят. Мы видим их страдания, но говорю вам, что их также видит и Господь Иисус Христос, также страдавший на кресте и бывший жертвой таких же людей, как эти. Он стоит при нашем брате в огне, Его рука указывает ему путь, Его голос ободряет его. Братья, давайте молиться.
По этому приглашению все члены собрания опустились на колени, молясь за отлетающую душу Андрея Янсена.
Снова Арентц взглянул в окно.
- Он умирает! - воскликнул он. - Солдат проткнул его из сострадания пикой, голова его поникла. О Господи, если будет на то воля Твоя, даруй нам знамение.
По комнате пронеслось какое-то странное дуновение: холодное дыхание коснулось лбов молящихся и подняло их волосы, принося с собой чувство присутствия Андрея Янсена, мученика. И вдруг на стене, противоположной окнам, на том самом месте, где обыкновенно стоял Андрей, появилось знамение или то, что присутствующие признали знамение. Быть может, то было отражение огня с улицы, только на стене в потемневшей комнате явственно проступило изображение огненного креста. С секунду оно оставалось видимо, затем исчезло, но в душу каждого из присутствующих оно внесло особое настроение: всем оно послужило наставлением, как жить и умереть. Крест исчез, и в комнате господствовало молчание.
- Братья, - раздался голос Арентца, говорившего в темноте, - вы видели. Через мрак и огонь идите за крестом и не бойтесь.
Собеседование кончилось; внизу на опустевшей площади палачи собирали обгоревшие останки мучеников, чтобы бросить их с обычными грубыми шутками в темнеющие воды реки.
Участники собеседования по одному и по два стали уходить через потайную дверь, ведшую в узкий проход. Взглянем на некоторых из них в то время, как они крадучись направляются по боковым улицам к одному дому на Брее-страат, уже знакомому нам: двое идут впереди, а один позади.
Двое передовых были Дирк ван-Гоорль и его сын Фой, в родстве которых не могло быть сомнений. Дирк был тот же Дирк, что и двадцать пять лет тому назад: коренастый, сероглазый, бородатый мужчина, красивый по голландским понятиям, только несколько пополневший и более задумчивый, чем прежде. Вся массивная фигура носила отпечаток его добродушного, несколько тяжеловесного характера. Сын его, Фой, очень походил на него, только глаза у него были голубые, а волосы светлые. Хотя в настоящую минуту они смотрели и грустно, но вообще это были веселые, ласковые глаза, так же как и все несколько детское лицо - лицо человека, склонного видеть в вещах лишь хорошую сторону.
В наружности Фоя не было ничего особенного, но на всякого встречающегося с ним в первый раз он производил впечатление человека энергичного, честного и доброго. Он походил на моряка, вернувшегося из долгого плавания, во время которого он пришел к убеждению, что жить на этом свете приятно и что жить вообще стоит. Когда Фой шел теперь по улице слегка покачивающейся походкой моряка, ясно было, что даже ужасная сцена, только что происходившая на его глазах, не могла вполне изменить его веселого, жизнерадостного настроения.
Из всех слушателей Арентца ни один не принял так к сердцу увещевания проповедника об уповании и беззаботном отношении к будущему, как Фой ван-Гоорль.
По своему характеру Фой не мог долго горевать. «Dum spiro, spero» - могло бы быть его девизом, если бы он знал латынь, и он не собирался горевать, хотя бы даже ему предстояло в будущем сожжение на костре. Эта веселость в такое тяжелое, грустное время была причиной того, что Фой стал всеобщим любимцем.
Позади отца с сыном шла гораздо более замечательная личность - Фриц Мартин Роос, или
Мартин Красный, названный так по цвету своих огненно-красных волос и бороды, спускавшейся ему на грудь. Ни у кого во всем Лейдене не было второй такой бороды, и уличные мальчишки, пользуясь добродушием Мартина, пробегая мимо него, спрашивали, правда ли, что аисты каждую весну вьют в ней себе гнезда. Этот человек, которому на вид можно было дать лет сорок, уже десять лет был верным слугой Дирка ван-Гоорля, в дом которого он поступил при обстоятельствах, о которых мы скажем в свое время.
Взглянув на Мартина, его нельзя было назвать великаном; между тем он был очень высокого роста, выше шести футов и трех дюймов. Его рост умалялся большим животом и привычкой горбиться именно с целью скрыть свой высокий рост. По размеру груди и членов Мартин был действительно примечателен, так что человек с обыкновенными руками, стоя перед ним, не мог бы обхватить его. Цвет лица его был нежен, как у молодой девушки, и лицо у него было почти плоское, как полная луна, нос же пуговкой. От природы в его сложении не было ничего особенного, но вследствие некоторых событий в своей жизни, когда он являлся, что мы называем теперь, атлетом по профессии, он приобрел оригинальную манеру держать себя. Брови у него были нависшие, но из-под них смотрели большие, круглые, кроткие голубые глаза под толстыми белыми веками, совершенно лишенными ресниц. Однако, когда обладатель этих глаз сердился, они начинали дико сверкать: они вспыхивали и горели, как фонари на носу лодки в темную ночь, и это производило тем большее впечатление, что вся его остальная фигура оставалась при этом совершенно безучастной.
Вдруг, в то время как эти трое шли по улице, послышался шум бегущих людей. Тотчас же все трое скрылись под воротами одного из домов и притаились. Мартин стал прислушиваться.
- Их трое, - шепнул он, - впереди бежит женщина, и ее преследуют двое.
В эту минуту неподалеку распахнулась дверь и показалась рука с факелом. Он осветил бледное лицо бежавшей женщины и преследовавших ее двух испанских солдат.
Рука с факелом скрылась, и дверь захлопнулась. В эти дни спокойные бюргеры избегали вмешиваться в уличные беспорядки, особенно же, если в них принимали участие испанские солдаты. Снова улица опустела, и слышался только звук бегущих ног.
Как раз когда женщина поравнялась с воротами, ее нагнали.
- Пустите меня! - с рыданием молила она. - Пустите! Не довольно того, что вы убили мужа? За что вы преследуете меня?
- За, то что вы такая хорошенькая, моя милочка, - отвечал один из негодяев, - и такая богатая. Держи ее, друг. Господи, как она брыкается!
Фой сделал движение, будто собираясь броситься из-под ворот, но Мартин ладонью своей руки удержал его, не делая ни малейшего усилия, но так крепко, что молодой человек не мог пошевелиться.
- Это мое дело, мейнгерр, - проговорил он, - вы нашумели бы.
В темноте было только слышно его прерывистое дыхание. Двигаясь с замечательной осторожностью для такой туши, Мартин вышел из-под ворот. При свете летней звездной ночи оставшиеся в засаде могли видеть, как он, не замеченный и не услышанный солдатами, людьми высокого роста, подобно большинству испанцев, схватил обоих их сзади за шиворот и столкнул лицами. Об этом можно было судить по движению его широких плеч и бряцанию солдатских лат, когда они соприкоснулись. Но солдаты не издали ни одного звука. После того Мартин, по-видимому, схватил их поперек тела, и в следующую минуту оба солдата полетели головами вниз в канал, протекавший по середине улицы.
- Боже мой, он убил их! - проговорил Дирк.
- И как ловко! Жалею только, что дело обошлось без меня, - сказал Фой.
Большая фигура Мартина обрисовалась в воротах.
- Фроу Янсен убежала, - сказал он, - на улице никого нет; я думаю, и нам надо поспешить, пока нас еще никто не видел.
Несколько дней спустя тела этих испанцев были найдены с расплющенными лицами.
Это объяснили тем, что они, вероятно напившись, затеяли между собой драку и, свалившись с моста, разбились о каменные быки. Все приняли это объяснение, как вполне согласное с репутацией этих людей. Не было произведено никакого дознания.
- Пришлось покончить с собаками, - сказал Мартин, как бы извиняясь, - прости меня Иисус, я боялся как бы они не узнали меня по бороде.
- Да, в тяжелые времена нам приходится жить, - со вздохом проговорил Дирк. - Фой, не говори ничего обо всем этом матери и Адриану.
Фой же подталкивал Мартина, шепча:
- Молодец! Молодец!
После этого приключения, не представлявшего из себя, как то должен помнить читатель, ничего особенного в эти ужасные времена, когда ни жизнь человеческая, особенно протестантов, ни женская честь никогда не были в безопасности, все трое благополучно, никем не замеченные добрались до дому. Они вошли через заднюю дверь, ведущую в конюшню. Им отворила женщина и ввела их в маленькую освещенную комнату. Здесь женщина обернулась и поцеловала сперва Дирка, потом Фоя.
- Слава Богу, вы вернулись благополучно! - сказала она. - Каждый раз, как вы идете на собрание, я дрожу, пока не услышу ваших шагов за дверью.
- Какая от этого польза, матушка? - заметил Фой. - Оттого что ты мучаешь себя, ничто не изменится.
- Это делается помимо моей воли, дорогой, - отвечала она мягко. - Знаешь, нельзя быть всегда молодым и беззаботным.
- Правда, жена, правда, - вмешался Дири, - хотя желал бы, чтобы это было возможно: легче было бы жить, - он взглянул на нее и вздохнул.
Лизбета ван-Гоорль давно уже утратила красоту, которой блистала, когда мы впервые увидали ее; но все еще она была миловидная, представительная женщина, почти такая же стройная, как в молодости. Серые глаза также сохранили свою глубину и огонь, только лицо постарело, больше от пережитого и забот, чем от лет. Тяжела была действительно судьба любящей жены и матери в то время, когда Филипп правил в Испании, а Альба был его наместником в Нидерландах.
- Все кончено? - спросила Лизбета.
- Да, - наши братья теперь святые, в раю, радуйся.
- Это дурно, - отвечала она с рыданием, - но я не могу. О, если Бог справедлив и добр, зачем же он допускает, что его слуг так избивают? - добавила она с внезапной вспышкой негодования.
- Может быть, наши внуки будут в состоянии ответить на этот вопрос, - сказал Дирк.
- Бедная фроу Янсен, - перебила Лизбета, - так еще недавно замужем, такая молоденькая и хорошенькая! Что будет с ней?
Дирк и Фой переглянулись, а Мартин, остановившийся у двери, виновато скользнул в проход, будто это он пытался оскорбить фроу Янсен.
- Завтра навестим ее, а теперь дай нам поесть, мне даже дурно от голода.
Через десять минут они сидели за ужином.
Читатель, может быть, еще помнит комнату - ту самую, где бывший граф и капитан Монтальво произнес речь, очаровавшую его слушателей, вечером после того, как он был побежден в беге на льду. Та же люстра спускалась над столом, часть той же посуды, выкупленной Дирком, стояла на столе, но какая разница между сидевшими за столом теперь и тогда! Тетушки Клары давно уже не стало, а вместе с ней и многих из гостей: некоторые умерли естественной смертью, другие от руки палача, некоторые же бежали из своего отечества. Питер ван-де-Верф был еще жив, и хотя власти смотрели на него подозрительно, однако он занимал почетное и влиятельное положение в городе. Сегодня его за столом не было. Пища была обильная, но простая, однако не по бедности, так как дела искусного и трудолюбивого Дирка шли хорошо, и он стоял теперь во главе того медного дела, где прежде был учеником, но потому, что вообще в те времена люди мало думали об изысканности пищи.
Когда жизни грозит постоянная опасность, то все удовольствия и развлечения теряют свою цену. Прислуживали теперь за столом вместо прежних слуг и Греты, давно исчезнувших неизвестно куда, Мартин и старая служанка: так как всегда можно было опасаться шпионства, то и самые богатые люди держали как можно меньше слуг. Одним словом все удобства были доведены до минимума.
- Где Адриан? - спросил Дирк.
- Не знаю, - отвечала Лизбета. - Я думала, он, может быть…
- Нет, - быстро возразил муж, - он не был там, он редко ходит с нами.
- Брат Адриан любит посмотреть на нижнюю сторону ложки, прежде чем облизать ее, - сказал Фой с полным ртом.
Замечание было загадочное, но родители, по-видимому, поняли, что хотел сказать Фой, по крайней мере, за его словами последовало тяжелое, натянутое молчание. Как раз в это время вошел Адриан, и так как мы не видели его уже двадцать четыре года, со времени его появления на свет на одном из скрытых островов Гаарлемского озера, то мы должны описать теперь его наружность.
Он был красивый молодой человек, но совершенно иного типа, чем его сводный брат Фой. Свой высокий рост и статную фигуру Адриан унаследовал от матери, лицом же он так мало походил на нее, что никто бы не угадал в нем сына Лизбеты. Тип у него был чисто испанский, ни одной нидерландской черты не было в этом красавце-брюнете. Испанскими были темные бархатные глаза, близко расположенные по обе стороны чисто испанского тонкого носа, с тонкими широко раскрытыми ноздрями; испанским был холодный, несколько чувствительный рот, скорее способный саркастически усмехаться, чем улыбаться; при этом прямые черные волосы, гладкая оливковая кожа и равнодушный, полускучающий вид, очень шедший Адриану, но показавшийся бы неестественным и натянутым в нидерландце его лет, - все в нем указывало испанца.
Адриан сел, не говоря ни слова, и никто не заговорил с ним, пока его отчим Дирк не сказал:
- Ты сегодня не был на работе, хотя мог бы быть нам очень полезен при отливке пушки.
- Нет, батюшка, - отвечал молодой человек ровным, мелодичным голосом. - Вы знаете, что еще достоверно не известно, кто заплатит за эту пушку. По крайней мере, мне не известно, потому что от меня все держат в тайне, и если заказчиком окажется побежденная сторона, то этого было бы достаточно, чтобы повесить меня.
Дирк вспыхнул, но не ответил, а Фой заметил:
- Ты прав, Адриан, береги свою шкуру.
- Именно теперь я нахожу гораздо целесообразнее изучать тех, в кого может стрелять пушка, чем пушку, которая предназначается для этого, - продолжал Адриан невозмутимо, не обращая внимания на замечание брата.
- Будем надеяться, что ты не принадлежишь к их числу, - снова перебил Фой.
- Где ты был сегодня вечером, сын мой? - поспешно спросила Лизбета, боясь ссоры.
- Вместе с толпой смотрел на то, что происходило на рыночной площади.
- Неужели на мучения нашего друга Янсена?
- Почему же нет? Это ужасно, это преступление, без сомнения, но наблюдающему жизнь следует изучать такие вещи. Ничто не привлекает так философа, как игра людских страстей. Волнение грубой толпы, тупое равнодушие стражи, горе сочувствующих, стоическое терпение жертв, одушевленных религиозным порывом…
- И великолепные логические выводы философа, который стоит, подняв нос кверху, и смотрит, как его друга и брата по вере сжигают на медленном огне! - запальчиво перебил Фой.
- Шш! Шш! - вмешался Дирк, ударяя кулаком по столу с такой силой, что стаканы зазвенели. - О таких вещах не спорят. Адриан, тебе следовало бы быть с нами, даже если бы тебе грозила опасность, вместо того чтобы ходить на эту бойню! - добавил он многозначительно. - Но я никого не хочу подвергать опасности, и ты уже в таких годах, что можешь сам решать за себя. Прошу тебя только избавить нас от твоих рассуждений по поводу зрелища, которое мы находим ужасным, каким бы интересным оно ни показалось тебе…
Адриан пожал плечами и приказал Мартину подать себе еще мяса. Когда великан подошел к молодому человеку, он расширил свои тонкие ноздри и втянул воздух.
- Что это так от тебя пахнет, Мартин? - сказал он. - Впрочем, неудивительно: твоя куртка в крови. Ты бил свиней и забыл переодеться?
Круглые голубые глаза Мартина вспыхнули, но тотчас снова потускнели и померкли.
- Да, мейнгерр, - отвечал он басом, - я бил свиней. Но и от вас пахнет дымом и кровью, вы, вероятно, подходили к костру.
В эту минуту Дирк, чтобы положить конец разговору, встал и начал читать молитву. Затем он вышел из комнаты в сопровождении жены и Фоя, между тем как Адриан задумчиво и не спеша доканчивал свой обед.
Выйдя из столовой, Фой последовал за Мартином через двор в конюшню, а оттуда по лестнице в комнату наверху, где спал слуга. Комната представляла из себя странную картину - она была вся набита всевозможным хламом и рухлядью: здесь были бобровые и волчьи меха, птичьи кожи, различное оружие, среди которого и огромный меч старинного образца и простой работы, но сделанный из превосходной стали, обрывки сбруи и тому подобное.
Постели не было, так как Мартин не признавал ее и спал на кожах, положенных прямо на пол. В одеяле он также не нуждался: он был так закален, что за исключением самой холодной погоды довольствовался своей шерстяной курткой. Ему случалось спать в ней на дворе в такой мороз, что утром у него волосы на голове и борода оказывались в сосульках.
Мартин затворил дверь и зажег три фонаря, которые повесил на крючья на стене.
- Хотите пофехтовать? - спросил он Фоя.
Фой кивнул утвердительно, говоря:
- Мне хочется прогнать вкус всего этого, поэтому не щади меня. Нападай, пока я не разозлюсь, я тогда забуду… - Он снял с гвоздя кожаный шлем и надел на голову.
- Забудете? Что? - спросил Мартин.
- Молитву, сожжение, фроу Янсен и рассуждения Адриана.
- Да, это самое худшее из всего, - великан нагнулся и продолжал шепотом: - Не спускайте его с глаз, герр Фой.
- Что ты хочешь сказать этим? - спросил Фой резко, вспыхнув.
- То, что говорю.
- Ты забываешь, что говоришь о моем брате, родном сыне моей матери. Я не хочу слышать ничего дурного об Адриане, он смотрит на многое иначе, чем мы, но в душе он добр. Понимаешь?
- Он не сын вашего отца, мейнгерр. Яблоко недалеко падает от яблони. Порода сказывается. Мне приходилось разводить лошадей, и я знаю.
Фой смотрел на него и колебался.
- Нет, - сказал Мартин, отвечая на вопрос, который прочел в его глазах, - я не имею ничего против него, но он на все смотрит не так, и к тому же он испанец…
- А ты не любишь испанцев, - перебил его Фой. - Ты несправедливая, упрямая свинья.
Мартин улыбнулся.
- Я не люблю испанцев, мейнгерр, да и вы скоро перестанете любить их. Ну, долг платежом красен - и они не любят меня.
- Как это тебе удалось так тихо обделать это дело? - спросил Фой, вспомнив о недавнем происшествии. - Отчего ты не позволил мне помочь тебе?
- Вы бы нашумели, мейнгерр, а зачем привлекать к себе внимание? Они к тому же были вооружены и могли ранить вас.
- Ты прав. А как ты это сделал? Мне не было видно.
- Я выучился этой штуке в Фрисландии, мне показали матросы. На шее у человека - здесь, позади - есть такое место, что если схватить за него, то человек сию секунду лишается чувств. Вот так, мейнгерр… - Он схватил молодого человека за шею, и тот почувствовал, что лишается сознания.
- Пусти! - прохрипел он, отбиваясь ногами.
- Я только хотел показать вам, - отвечал Мартин, подняв веки. Вот, а когда они лишились чувств, было уже не трудно столкнуть их головами так, чтоб они уже больше не приходили в себя. Если б я не убил их, - прибавил он, - так… Ну, все равно они умерли, а мы с вами поужинали, и теперь я жду. Как мы станем фехтовать: на голландский или испанский манер?
- Сначала по-голландски, а потом по-испански, - отвечал Фой.
- Хорошо, стало быть, обе понадобятся. Он снял со стены две рапиры, вделанные в старые рукояти от мечей, чтобы защитить руки фехтующих.
Оба встали в позицию, и тут при свете фонарей Мартин предстал во весь свой гигантский рост. Фой, тоже высокий и статный, крепко сложенный, как все его соотечественники, казался мальчиком перед своим противником.
Излишне было бы следить за их упражнениями, которые окончились так, как того можно было ожидать. Фой прыгал то в одну, то в другую сторону, то коля, то режа, между тем как Мартин едва шевелил своей рапирой. Потом он вдруг парировал, и рапира вылетала из рук Фоя, падая позади него и поднимая пыль из его кожаного колета.
- Все равно, какая польза становиться в позицию против тебя, большой скотины, - сказал наконец Фой, - когда ты просто рубишь сплеча. Это не искусство.
- Нет, мейнгерр, но так бывает на деле. Если бы мы фехтовали на мечах, то я изрубил бы вас уже давно в куски. И для вас тут особого позора нет, и для меня нет особенной заслуги: мои руки длиннее и удар тяжелее - вот и все.
- Как-никак, я побежден, - сказал Фой, - ну, возьми рапиру и дай мне случай поправиться.
Они начали фехтовать на легких рапирах, снабженных для безопасности на концах оловянными кружками, и тут счастье переменилось. Фой был проворен, как кошка, и имел глаз сокола, и два раза ему удалось тронуть Мартина.
- Убит, старик! - сказал он после второго раза.
- Верно, - отвечал Мартин, - только помните, что я-то убил вас прежде, так что вы только привидение и больше ничего. Хоть я и научился обращаться с этой вилкой, чтобы сделать вам удовольствие, но не намерен употреблять ее. Вот мое оружие!
Схватив большой меч, стоявший в углу, он стал вертеть им в воздухе.
Фой взял меч из рук Мартина и стал рассматривать. Это было длинное, прямое стальное лезвие, оправленное в простую рукоять, и с одним словом, вырезанным на нем: «Silentium» - «Молчание».
- Почему его зовут «Молчание», Мартин?
- Думаю, потому, что он заставляет людей молчать.
- Откуда он у тебя? - спросил Фой шутливо. Он знал, что этот вопрос задевал за живое фриса.
Мартин сделался красен, как его борода.
- Мне кажется, он когда-то служил мечом Правосудия в небольшом городке Фрисландии. А как он попал ко мне, я забыл.
- И ты еще называешь себя хорошим христианином, - сказал Фой тоном упрека. - Я слышал, что этот меч должен был отсечь твою голову, а ты как-то ухитрился стянуть его и удрать.
- Было что-то в этом роде, - пробормотал Мартин. - Только все это было так давно, что я уж позабыл. Я так редко бывал трезв в то время - прости меня, Господи, - что не могу всего ясно припомнить. А теперь позвольте мне лечь спать.
- Старый ты лгун, - сказал Фой, покачивая головой, - ты убил этого несчастного слугу правосудия и удрал с его мечом. Ты сам знаешь, что дело было так, и теперь тебе стыдно признаться.
- Может быть, может быть, - уклончиво отвечал Мартин, - на свете случается так много вещей, что всего и не запомнишь. Мне хочется спать.
- Мартин, - сказал Фой, садясь на стул и снимая колет, - что ты делал, прежде чем записался в святые? Ты мне никогда не рассказывал всей своей истории. Ну расскажи, я не перескажу Адриану.
- Нечего и рассказывать…
- Ну, говори скорей.
- Если вам интересно знать, я сын крестьянина из Фрисландии.
- И англичанки из Ярмута, это я знаю.
- Да, - повторил Мартин, - англичанки из Ярмута. Мать моя была очень сильная женщина, она могла одна поднимать телегу, когда отец смазывал колеса; это случалось иногда, большею же частью отец поддерживал телегу, между тем как она мазала колеса. Люди сходились смотреть на нее, когда она проделывала такую штуку. Когда я подрос, я поднимал телегу, а они оба мазали колеса. Наконец, они оба умерли от чумы, упокой, Господи, их души! Я получил ферму в наследство.
- Ну и…? - спросил Фой, пристально смотря на него.
- Ну, и поддался дурной привычке, - неохотно докончил Мартин.
- Стал пить? - допрашивал безжалостный Фой.
Мартин вздохнул и опустил свою большую голову. Совесть у него была чувствительная.
- Вот ты и начал выступать борцом, - продолжал его мучитель, - ты не можешь отречься от этого, взгляни на свой нос.
- Да, я был борцом, Господь еще не коснулся моего сердца в то время, и, правду сказать, ничего в этом не было дурного, - добавил он. - Никто не побеждал меня, только один раз, когда я был выпивши, меня побил один брюсселец. Он переломил мне переносицу, когда же я перестал пить… - он запнулся.
- Ты убил испанца-борца здесь, в Лейдене? - докончил Фой.
- Да, - согласился Мартин, - я убил его, это верно, но ведь славная была борьба, и он сам виноват. Этот испанец был молодец, да, видно, уж суждено мне было покончить с ним. Я думаю, мне его смерть зачтется на небе.
- Расскажи-ка мне подробнее про это, я в то время был в Гааге и хорошенько не помню всего. Я, конечно, не сочувствую таким вещам, - шутник сложил руки и принял набожный вид, - но раз все это кончено, можно послушать рассказ о борьбе. Ведь ты не станешь хуже оттого, что расскажешь.
Вдруг беспамятный Мартин обнаружил необыкновенную памятливость и в мельчайших подробностях рассказал про эту достопамятную борьбу.
- И вот после того как он дал мне пинка в живот, - закончил он, - чего, как вы знаете, не имел права делать, я вышел из себя и изо всей силы набросился на него, левой рукой ударив что было мочи по его правой, которой он защищался…
- И что же потом? - спросил Фой, начиная возбуждаться, так как Мартин рассказывал действительно хорошо.
- Голова его ушла в плечи, и когда его подняли, оказалось, что у него сломана шея. Мне было жаль его, но помочь ему я не мог - видит Бог, не мог. Зачем он назвал меня «поганым фрисландским быком» и ударил в живот?
- Конечно, это он сделал напрасно. Но ведь тебя арестовали, Мартин?
- Да, во второй раз приговорили к смерти за убийство. Видите ли, опять всплыло это фрисландское дело, и здешние власти держали пари за испанца. Тут спас меня ваш отец. Он в этот год был бургомистром и выкупил меня, заплатив знатные деньги. Потом он научил меня быть трезвым и думать о своей душе. Теперь вы знаете, почему старый Мартин будет служить ему, пока есть хоть капля крови в его жилах. А теперь, мейнгерр Фой, я пойду спать, и дай мне Бог не видеть во сне этих собак-испанцев.
- Не бойся, - сказал Фой уходя, - «отпускаю их» тебе. Господь через твою силу поразил тех, кто не постыдился оскорбить и ограбить молодую женщину, убив ее мужа. Можешь быть спокоен: ты сделал доброе дело! Я боюсь только одного - как бы нас не проследили, впрочем, улица, кажется, была совершенно пуста.
- Совсем пуста, - кивая, подтвердил Мартин, - никто не видал меня, кроме солдат и фроу Янсен. Они не могут сказать, и она не скажет. Покойной ночи, мейнгерр!
ГЛАВА X. Адриан отправляется на соколиную охоту
В доме на одной из боковых улиц Лейдена, неподалеку от тюрьмы, на другой день после сожжения Янсена и еще другого мученика сидели за завтраком мужчина и женщина. Мы уже встречались с ними: то были не кто иной, как достоуважаемая Черная Мег и ее сожитель, прозванный Мясником. Время, не уничтожившее их сил и деятельности, не способствовало украшению их наружности.
Черная Мег осталась почти такой, какой была, только волосы поседели и черты лица, будто обтянутого желтым пергаментом, еще больше обострились, между тем как глаза продолжали гореть прежним огнем. Мужчина, Гаг Симон по прозвищу Мясник, от природы негодяй, а по профессии шпион и вор - порождение века насилия и жестокостей - своей фигурой и лицом вполне оправдывал данное ему прозвище.
Толстое, расплывшееся лицо с маленькими свиными глазками обрамляли редкие, песочного цвета бакенбарды, поднимавшиеся от шеи до висков, где они исчезали, оставляя голову совершенно лысой. Фигура была тяжелая, пузатая, на кривых, но крепких ногах.
Но хотя молодость прошла, унеся с собой всякий намек на благообразность, зато годы принесли им другое вознаграждение. Время было такое, когда шпионы и тому подобные негодяи процветали, так как помимо случайных доходов особым узаконением доказчику выдавалась как награда известная доля проданного имущества еретиков. Конечно, мелкая сошка, вроде Мясника и его жены, не получала значительной доли шерсти остриженной овцы, так как тотчас после ее убийства являлись посредники всевозможных степеней, требовавшие удовлетворения - начиная от судьи и кончая палачом, - а кроме того, еще многие другие, никогда не показывавшие своего лица; но все же, так как пытки и костры не прекращались, общий доход был порядочный. И вот, сидя сегодня за завтраком, чета занялась подсчетом того, что они могли рассчитывать получить с имущества умершего Янсена, и Черная Мег для этого вооружилась куском мела, которым писала на столе. Наконец она сообщила результат, оказавшийся удовлетворительным. Симон всплеснул руками от восторга.
- Горлинка моя, - сказал он, - тебе бы быть женой адвоката! Какая ты умница… Да, теперь близко, близко…
- Что близко, старый дурень? - спросила Мег своим низким, мужским голосом.
- Эта ферма с корчмой при ней, о которой я мечтал, ферма посреди богатых пастбищ, с леском позади, а в лесочке церковь. Ферма не велика - мне многого не надо - всего акров сто: как раз достаточно, чтобы держать штук тридцать - сорок коров, которых ты станешь доить, я же буду продавать на рынке сыр и масло…
- И резать приезжих, - перебила его Мег.
Симон возмутился.
- Нет, ты напрасно этакого мнения обо мне. Жить трудно, и приходится с бою брать свое, но раз мне удастся достигнуть чего-нибудь, я намерен стать почтенным человеком и иметь свое место в Церкви, конечно, католической. Я знаю, что ты из крестьянок и вкусы у тебя крестьянские; сам же я никогда не могу забыть, что мой дед был джентльмен. - Симон запыхтел и устремил взгляд в потолок.
- Вот как! - с насмешкой отвечала Мег. - А кто была твоя бабушка? Да деда-то своего ты знал ли еще? Захотел иметь ферму! Кажется, никогда не владеть тебе ничем, кроме старой красной мельницы, где ты прячешь добычу в болоте! Место в деревенской церкви! Скорей получишь место на деревенской виселице. Не гляди на меня с угрозой, не бывать этому, старый лгунишка. Я знаю, на моей душе есть многое, но все же я не сожгла свою родную тетку как анабаптистку, чтобы получить после нее наследство - двадцать флоринов.
Симон побагровел от бешенства: история с теткой сильнее всего задевала его.
- Ах ты, гадина!.. - начал было он.
Мег вскочила и схватилась за горлышко бутылки. Симон тотчас переменил тон.
- Ох, эти женщины, - заговорил он, отворачиваясь и вытирая свою лысину, - вечно бы им шутить. Слушай, кто-то стучит у двери.
- Смотри, будь осторожен, отпирая, - сказала Мег, встревожившись, - помни, у нас много врагов, а острие пики можно просунуть во всякую щель.
- Разве можно жить с мудрецом и оставаться дураком? Доверься мне. - И обняв жену за талию, Симон, поднявшись на цыпочки, поцеловал Мег в знак примирения, так как он знал, что она злопамятна. Потом он поспешил к двери, насколько ему позволяли его кривые ноги.
Произошел продолжительный разговор через замочную скважину, но в конце концов, посетитель был принят. Он оказался парнем с нависшими бровями, вообще по наружности похожим на хозяина дома.
- Как хорошо с вашей стороны относиться так подозрительно к старому знакомому, особенно, когда он пришел по делу, - заговорил он.
- Не сердись, милый Ганс, - прервал Симон, извиняясь. - Ты знаешь, мало ли тут бродит всякого люда в наши времена; кто мог знать, что за дверью не стоит один из этих отчаянных лютеран, который того гляди пырнет чем-нибудь. Ну, какое дело?
- Ну да, лютеран! - с насмешкой передразнил Ганс. - Если у них есть крошка ума, они проколют твое жирное брюхо, между прочим, я приехал из Гааги по делу лютеран.
- Кто послал тебя? - спросила Мег.
- Испанец Рамиро, недавно появившийся там, травленый пес, знакомый с инквизицией; он, кажется, знает всех, а его не знает никто. Деньги у него есть и, по-видимому, есть связи. Он говорит, что вы его старые знакомые.
- Рамиро… Рамиро… - задумчиво повторяла Мег. - В переводе значит «гребец»; должно быть, выдуманное имя. Немало знакомых у нас на галерах, быть может, он из них. Что ему надо и какие условия?
Ганс перегнулся вперед и долго что-то говорил шепотом, между тем как муж и жена слушали его, изредка кивая головами.
- Маловато, - сказал Симон, когда Ганс кончил.
- Легкое и верное дело, друг: толстосум-купец, жена его и дочь. Ведь убивать не надо, если только можно будет обойтись без этого, а если нельзя, то Святое Судилище прикроет нас. Благородному Рамиро нужно только письмо, которое, как он думает, молодая женщина носит на себе. Вероятно, оно касается священных дел Церкви. Если при этом найдутся какие-нибудь ценности, мы можем удержать их как задаток.
Симон колебался, но Мег заявила решительно.
- Хорошо, у этих купчих часто за корсетом бывают спрятаны дорогие вещи.
- Душа моя… - начал было Симон.
- Молчи, - яростно крикнула Мег, - я решила, и баста! Мы встретимся у Бойсхайзена в пять часов около высокого дуба и там все обсудим.
Симон уже не возражал более, он обладал столь полезной в домашнем быту добродетелью - умением уступать.
В то же самое утро Адриан встал поздно. Разговор за ужином, особенно же грубые насмешки Фоя рассердили его, а в тех случаях, когда Адриан сердился, он обыкновенно заваливался спать и спал, пока дурное расположение духа не рассеивалось.
Состоя только бухгалтером в заведении своего отца - Дирку никогда не удавалось привлечь пасынка к более активному участию в литейном деле, так как молодой человек считал в душе подобное занятие ниже своего достоинства, - Адриану следовало бы быть на месте уже к девяти часам, но это было невозможно, раз он встал около десяти, а пока позавтракал, пробило и все одиннадцать. Тут же он вспомнил, что следовало бы кончить сонет, последние строчки которого вертелись у него в голове. Адриан был немного поэт и, подобно многим поэтам, считал тишину необходимой для творчества. Разговоры и пение Фоя, тяжелая топотня Мартина по всему дому раздражали Адриана. И вот теперь, когда и мать ушла из дому - на рынок, по ее словам, вероятнее же всего, исполняя какое-нибудь рискованное дело благотворительности, имевшее отношение к тем, кого она называла мучениками, - Адриан решился воспользоваться случаем и окончить свой сонет.
Это потребовало некоторого времени. Во-первых, как известно, всем поэтам музу следует вызывать, и она редко является раньше того, чем поэт потратит значительное время на размышление обо всем вообще на свете. Затем, особенно в сонетах, рифма часто бывает капризна и не дается сразу. Предметом сонета была известная испанская красавица Изабелла д'Ованда. Она была женой дряхлого, но очень знатного испанца, годившегося ей в деды и посланного в Нидерланды королем Филиппом II по каким-то финансовым делам.
Этот гранд, оказавшийся добросовестным и дельным человеком, посетил в числе других городов и Лейден для определения имперских налогов и податей. Выполнение задач отняло у него не много времени, так как бюргеры прямо и решительно объявили, что в силу древних привилегий они свободны от каких бы то ни было имперских податей и налогов, и благородному маркизу не удалось склонить их к перемене взглядов. Переговоры, однако, длились неделю, и в это время его жена, красавица Изабелла, ослепляла местных женщин своими туалетами, а мужчин - своей красотой.
Особенно увлекался ею романтический Адриан и поэтому начал писать стихи. Вообще рифма давалась ему довольно легко, хотя и встречались затруднения, однако он преодолевал их. Наконец сонет - высокопарное, довольно нелепое произведение - был окончен.
Тут наступило время еды, редко что возбуждает аппетит в такой степени, как поэтические упражнения, и Адриан принялся за еду. Во время обеда вернулась его мать, бледная и озабоченная, так как она ходила хлопотать о помещении в безопасное место обнищавшей вдовы замученного Янсена - трудная и опасная задача. Адриан по-своему любил мать, но по эгоистичности своего характера мало обращал внимания на ее заботы и расположение духа. И теперь, пользуясь случаем иметь слушательницу, он пожелал прочесть ей свой сонет и не один раз, а несколько.
- Очень мило, очень мило, - проговорила Лизбета, - в озабоченном уме которой пустые слова сонета отдавались, как жужжание пчел в пустом улье, - хотя я и не понимаю, каким образом у тебя хватает духу писать в такое время сонеты молодым женщинам, которых ты не знаешь.
- Поэзия - великая утешительница, матушка, - наставительно заявил Адриан, - она возвышает ум, отрывая его от мелочных повседневных забот.
- Мелких повседневных забот! - повторила Лизбета с горечью и невольно воскликнула: - Ах, Адриан, неужели в тебе нет сердца, что ты можешь смотреть на сожжение святого и, вернувшись домой, философствовать о его мучениях?! Неужели в тебе никогда не проснется чувство! Если б ты видел сегодня утром эту несчастную, всего три месяца назад бывшую счастливой невестой! - Заливаясь слезами, Лизбета отвернулась и выбежала из комнаты, вспомнив, что судьба фроу Янсен могла завтра стать и ее судьбой.
Это проявление волнения окончательно расстроило слабонервного Адриана, искренно любившего мать, слез которой он не мог выносить.
- Проклятая история, - думал он, - отчего нам нельзя уехать в какую-нибудь страну, где не было бы никакой религии, кроме разве поклонения Венере. Да, в такую страну, где в апельсинных рощах журчат ручьи, а прекрасные женщины с гитарами в руках охотно слушают написанные для них сонеты, в страну…
В эту минуту отворилась дверь, и в проеме появилось круглое, багровое лицо Мартина.
- Хозяин приказал узнать, придете ли вы на работу, герр Адриан? Если же не придете, то потрудитесь дать мне ключ от кассы, ему нужна книга чеков.
Адриан поднялся было со вздохом, чтобы идти, но передумал. После мечтаний о зеленых рощах и красивых дамах ему казалось невозможным вернуться в прозаическую, душную литейную.
- Передай, что я не могу прийти, - сказал он, вынимая ключ.
- Слушаю, - отвечал Мартин, - отчего не можете прийти?
- Потому что пишу.
- Что пишете? - допрашивал Мартин.
- Сонет.
- Что такое сонет? - наивно спросил Мартин.
- Невежда-клоун! - проворчал Адриан и вдруг, вдохновившись, объявил: - Я покажу тебе, что такое сонет, я прочту тебе его. Войди и запри дверь.
Мартин повиновался и был награжден чтением сонета, из которого не понял ничего, кроме имени дамы - Изабеллы д'Ованда. Но Мартин не был лишен ехидства.
- Великолепно! - проговорил он. - Великолепно! Ну-ка, прочтите еще раз, мейнгерр.
Адриан с удовольствием исполнил его желание, помня рассказ о том, как песни Орфея очаровывали даже зверей…
- А, так это любовное письмо? - догадался наконец Мартин. - Письмо к черноглазой красавице-маркизе, которая, я видел, смотрела на вас?
- Нет, не совсем так, - отвечал Адриан, очень довольный, хотя и не мог припомнить, когда красавица-маркиза удостоила его благосклонного взгляда. - Пожалуй, можно назвать и так: идеализированное любовное послание, послание, в котором страстное и нежное поклонение окутано покрывалом стихов.
- Точно так… Вы хотите послать ей его?
- Как ты думаешь, она не обидится? - спросил Адриан.
- Обидится! - сказал Мартин. - Если обидится, то, значит, я не знаю женщин! (Он и в самом деле не знал их). Нет, ей будет очень приятно, она будет перечитывать ваше письмо, выучит его наизусть, положит его себе под подушку и, думаю, пригласит вас к себе. Ну, мне пора, благодарю вас за чудное письмо в стихах, герр Адриан.
- Правда, как обманчива бывает иногда наружность, - рассуждал Адриан, когда дверь затворилась. - Я всегда смотрел на Мартина как на грубую, глупую скотину, а между тем в груди его, при всем его невежестве, тлеет священная искра. - И он решил, что при первом удобном случае прочтет Мартину еще несколько своих произведений.
Если бы Адриан только мог быть свидетелем сцены, происходившей в это время на заводе! Отдав ключ от кассы, Мартин отыскал Фоя и рассказал ему все происшедшее. Мало того, коварный предатель передал ему черновик сонета, поднятый им с полу, и Фой, в кожаном фартуке, сидя на краю формы, прочел его.
- Я посоветовал ему послать его, - продолжал Мартин, - и, клянусь святым Петром, я думаю, он это сделал; и не будь я Красный Мартин, если после этого дон Диас не станет преследовать его с пистолетом в одной руке и стилетом в другой.
- Вероятно, так и будет, - захлебываясь от смеха и болтая в воздухе ногами от удовольствия, подтвердил Фой. - Старика называют «ревнивой обезьяной». Он, вероятно, распечатывает все письма своей супруги.
Таким образом, поэтические старания сентиментально-возвышенно чувствовавшего Адриана вызвали только насмешку со стороны прозаического, практического Фоя.
Между тем Адриан, почувствовал необходимость в свежем воздухе после своих поэтических упражнений, снял своего кречета с нашеста - он был любитель соколиной охоты - и, взяв его на руку, отправился поискать дичи в болотах за городом.
Не пройдя и до половины улицы, он уже забыл и Изабеллу, и сонет. Это был странный характер, не исчерпывающийся исключительно сентиментальностью - порождением праздных часов и тщеславия. В настоящее время его назвали бы фатом. Обладая способностью своего отца Монтальво красиво выражаться, он не унаследовал вместе с тем его юмора. Как упомянул Мартин, кровь отца преобладала в нем: он был испанцем и по наружности, и по духу.
Например, внезапные необузданные вспышки страсти, которым он был подвержен, представляли чисто испанскую черту, в этом отношении в нем не было ни капли нидерландской флегматичности и терпения. И именно эта черта его характера больше, чем его взгляды и стремления, делала его опасным, так как, несмотря на то, что в сердце он часто имел хорошие намерения, последние сплошь и рядом уничтожались внезапным порывом ярости.
Со своего рождения Адриан редко встречался с испанцами, и влияние, под которым он вырос, особенно со стороны матери - существа, более всех на свете любимого им, - было антииспанское, а между тем, будь он гидальго, выросший при дворе в Эскуриале, он не мог бы быть более чистым испанцем. Он вырос в республиканской атмосфере, а между тем в нем не было привязанности к свободе, воодушевлявшей нидерландцев. Непреклонная независимость голландцев, их всегдашнее критическое отношение к королевской власти и издаваемым ею законам, их неслыханное притязание, что не одни только высокопоставленные лица, в жилах которых течет голубая кровь, но вообще, все усердно работающие граждане имеют право на все, что есть хорошего на свете, - все это было несимпатично Адриану. Точно так же с детства он был членом диссидентской Церкви - принадлежал к исповедникам новой религии, в душе же он отвергал эту веру с ее скромными проповедниками и пастырями, с ее простым богослужением, с ее длинными, серьезными молитвами, приносимыми Всемогущему в полумраке подвала или на сеновале коровника.
Подобно большинству политичных нидерландцев, Адриан время от времени появлялся на католическом богослужении, и он не тяготился этими посещениями: пышность обрядов и церемоний, торжественность обеда среди облаков фимиама, звук органа и чудное пение скрытого хора - все это находило отголосок в его груди, часто вызывало слезы на глазах. Само учение католической Церкви было ему симпатично, и он понимал, что оно приносит радость и успокоение. Здесь можно было найти прощение грехов, и не там, далеко на небе, но здесь, близко, на земле - прощение для всякого, кто преклонял голову и платил пеню. Это учение давало ему массу готовых доказательств, что после смерти, которой он боялся, его душа, как бы она ни была отягощена грехами, не попадет в когти сатаны. Не была ли это более практичная и удобная вера, чем вера этих громогласных, грубых лютеран, среди которых он жил, - людей, предпочитавших отбросить эту готовую броню и искать защиты за щитом, скованным их собственной верой и молитвами, и ради этого подавлявших свои дурные наклонности и желания.
Таковы были тайные мысли Адриана, но до сих пор он никогда не действовал согласно им, хотя ему хотелось бы этого, но он боялся разрыва со всеми окружающими его. И как он ненавидел их всех! Ему стыдно было жить, ничего не делая, среди вечно занятого народа, поэтому он служил счетоводом у отчима, кое-как вел книги литейного завода и писал письма иногородним заказчикам, так как обладал способностью придавать округленную форму сырому материалу. Но эти занятия надоели ему: в нем жило присущее всем испанцам презрение к торговле и отвращение от нее. В душе он признавал единственное занятие, достойное человека, - выгодную войну с врагами, которых стоит грабить, - войну, подобную той, какую Кортес и Писарро вели с несчастными индейцами Нового Света.
Адриан читал хронику о похождениях этих героев и горько сожалел, что родился на свет слишком поздно, чтобы принимать в них участие. Рассказ об избиении тысяч туземных воинов и о несметных золотых сокровищах, которые делились между победителями, воспламеняли его воображение. Ему случалось видеть эти сокровища во сне - корзины, полные драгоценных камней, груды золота и толпы красивых рабынь, отданных Церковью во власть верному воину, которому поручено было обратить неверующих в христианство, хотя бы путем убийства и грабежей.
Как страстно он желал такого богатства и власти, которую оно принесло бы с собой! Теперь же он зависел от других, смотревших на него сверху вниз, как на ленивого мечтателя, никогда он не имел в кармане ни гроша, а за душой были одни только долги, которых старался не считать. Достигнуть же богатства работой, честным ремеслом или торговлей, как многие из его соседей, - это ему не приходило в голову. На это он смотрел как на унизительное дело, годное только для презренных голландцев, среди которых ему суждено было жить.
Такова в главных чертах характеристика Адриана, носившего фамилию ван-Гоорль, суеверного мечтателя, пустого сибарита, скучного писателя стихов, изобретателя фальшивых выводов, слабохарактерного и страстного себялюбца, лучшие чувства которого, как, например, его любовь к матери и еще другая привязанность, о которой будет сказано ниже, были не более как проявлением того же эгоизма - его собственного тщеславия и погони за удовольствиями. Его нельзя было назвать дурным человеком, в нем были и некоторые порядочные черты: так, например, он был способен иметь хорошие намерения и горько раскаиваться в своих поступках, даже временами мог иметь горячие порывы. Но вырасти в душе Адриана эти зародыши добрых задатков могли только, если бы крепкие стены защищали их от внешних искушений, Адриан не был никогда в состоянии устоять против соблазнов. От природы он был предназначен служить игрушкой других людей, а также своих собственных желаний.
Можно спросить: что он унаследовал от матери? Нашлась ли бы в его слабом, неблагородном характере хотя одна ее чистая, благородная черта? Вряд ли. Может быть, это было следствием его появления на свет, вовсе не желанного ею, причем она передала ему часть своего тела, но не дала ничего, чем могла распоряжаться сама, - своей души? Кто знает? Одно достоверно, что от матери он не унаследовал ничего, кроме доли
голландского упрямства в исполнении своих замыслов, что в соединении с его прочими свойствами делало его очень опасным - превращало в человека, которого приходилось бояться и от которого следовало бежать.
Адриан дошел до Витте-Поорт (Белых ворот) и, остановившись у городского рва, задумался. Подобно многим своим молодым соотечественникам-современникам, он имел военные наклонности и был убежден, что при случае мог бы сделаться выдающимся полководцем. Теперь он рисовал себе картину осады Лейдена большой армией, состоящей под его начальством, и располагал ее так, чтобы вызвать скорейшее падение города. Не мог он знать тогда, что через несколько лет такой же задачей будет занят ум Вальдеца и других великих испанских полководцев.
Вдруг его мечты нарушились грубым голосом, крикнувшим:
- Проснись, испанец! - и какой-то твердый предмет - зеленое яблоко - чуть не сбил перья с его плоского берета. Адриан оглянулся с бранью и увидал двух парней лет пятнадцати, высунувших языки и строивших ему рожи из-за угла караулки. Лейденская молодежь не любила Адриана, и он знал это. Сочтя за лучшее не обращать внимания на оскорбление, он собирался было идти дальше, как один из парней, ободренный безнаказанностью, вышел из-за угла и начал раскланиваться перед ним так, что его вытертая шапка свалилась с головы в пыль, говоря насмешливо товарищу:
- Ганс, как ты смел потревожить благородного гидальго? Разве ты не видишь, что благородный гидальго идет прогуляться, отыскивая своего благородного батюшку, герцога Золотого Руна, которому несет в подарок ручную птичку?
Адриан слышал, и оскорбление подействовало на него, как удар бича на благородного коня. Ярость вскипела в нем, как огненный фонтан, и, выхватив кинжал из-за пояса, он бросился на мальчишек, сбросив сокола в колпачке. Птица полетела за ним. В эту минуту Адриан был бы способен убить обоих оскорбителей, но, к счастью для него и для них, они вовремя успели скрыться в одной из узких улиц. Он остановился и, еще весь дрожа от бешенства, подманив к себе сокола, пошел по мосту.
- Заплатят они мне, - ворчал он про себя. - Не забуду я им этого!
Надо пояснить, что Адриан знал кое-что из истории своего рождения, но не все. Он знал, например, что фамилия его отца была Монтальво, что брак его матери по каким-то причинам был объявлен незаконным, и отец таинственно исчез из Нидерландов, отправившись, как ему сказали, искать смерти в чужие края. Больше ничего он не знал достоверно, так как все отвечали на его вопросы об этом предмете с удивительной сдержанностью. Два раза он, собравшись с духом, начинал расспрашивать мать, но каждый раз лицо ее принимало холодное выражение, и она отвечала почти одними и теми же словами:
- Сын мой, прошу тебя, не расспрашивай. Когда я умру, ты найдешь всю историю твоего рождения, записанную мною, но если ты будешь благоразумен, то не станешь читать ее.
Однажды он предложил тот же вопрос своему отчиму Дирку ван-Гоорлю, но Дирк смутился и отвечал:
- Советую тебе довольствоваться тем, что ты живешь у друзей, которые заботятся о тебе. Помни, что кто станет копать землю на кладбище, тот найдет кости.
- В самом деле? - высокомерно ответил Адриан. - Надеюсь, по крайней мере, что тут нет ничего такого, что касалось бы репутации моей матери?
При этих словах Дирк, к удивлению своего пасынка, побледнел и подступил к нему, будто намереваясь схватить его за горло.
- Ты смеешь сомневаться в своей матери, этом ангеле, посланном с неба?.. - начал было он, но тотчас замолчал и прибавил: - Ну извини меня, мне следовало помнить, что ты-то ни в чем не виноват и что этот вопрос, естественно, тяготит тебя.
Адриан ушел; пословица о кладбище и костях так сильно врезалась в его память, что он уже не копался больше в земле, - другими словами, перестал задавать вопросы и довольствовался убеждением, что хотя его отец, может быть, и поступил дурно с его матерью, но все же был древнего, благородного происхождения, и древняя, благородная кровь течет, стало быть, и в его жилах. Все остальное забудется, хотя теперь ему довольно часто приходилось выносить оскорбления, вроде сегодняшнего, а когда все забудется, то кровь, драгоценная, голубая кровь испанского гидальго все же останется его наследием.
ГЛАВА XI. Адриан выручает красавицу из опасности
Весь долгий вечер Адриан пробродил по тропинкам, перерезывавшим луга и болота, раздумывая о случившемся и представляя себя достигшим сана испанского гранда, а быть может, даже - кто знает - сана рыцаря Золотого Руна с правом не снимать шляпы в присутствии самого государя.
Не один вальдшнеп и другая дичь, охотиться за которыми он пришел, взлетали у него из-под ног, но он был так поглощен своими мыслями, что птицы скрывались из виду прежде, чем он успевал снять колпачок со своего сокола. Наконец, когда он, миновав церковь Веддинфлита и идя по берегу Старого Флита, поравнялся с лесом Босхайзен, называемым так по развалинам находившегося среди него замка, он увидал цаплю, летевшую к своему гнезду, и спустил сокола. Сокол увидал добычу и бросился за ней; цапля же, заметив преследование, начала дразнить преследователя, поднимаясь спиралью все выше и выше. Сокол стал также быстро подниматься более широкими кругами, пока не очутился гораздо выше нее. Тогда он бросился на цаплю, но промахнулся: цапля быстрым поворотом крыльев уклонилась от него и прежде, чем сокол опять успел прицелиться, исчезла за верхушками деревьев.
Опять хищник поднялся и спустился так же неудачно, как в первый раз. В третий раз цапля взлетела широкими кругами, и в третий раз сокол бросился на нее и, наконец, вцепился в нее.
Адриан, следуя за ними и насколько возможно перепрыгивая через попадавшиеся лужи или шлепая по ним, видел победу сокола и остановился в ожидании. С минуту сокол и цапля висели на высоте двухсот футов над самыми высокими деревьями леса, но затем цапля, представлявшая из себя трепещущую черную точку на небе, озаренном ярким закатом, начала спускаться, ища спасения в кустах. Сокол и цапля летели стремглав вниз головами - крылья уже не поддерживали их - и исчезли в лесу.
«Теперь моему соколу придет смерть в кустах! Какой я был дурак, что спустил его так близко к лесу», - думал Адриан, снова бросаясь вперед.
Скоро он очутился в лесу и, направляясь к тому месту, где, по его мнению, должны были упасть птицы, звал сокола и искал его глазами. Но здесь, в густом лесу, уже стояли сумерки, так что Адриану в конце концов, пришлось отказаться от поисков и в отчаянии вернуться на дорогу в Лейден. Однако, сделав несколько шагов, он вдруг наткнулся на сокола и цаплю. Цапля была мертва, а сокол так изранен, что, по-видимому, было невозможно спасти его: как того и опасался Адриан, падая вниз, птицы наткнулись на древесные ветви. Адриан печально смотрел на сокола; он любил его и сам выучил его. Между ним и этой хищной птицей всегда существовала странная симпатия, и сокол был его всегдашним спутником, как у других людей собака. Даже теперь он с удовольствием заметил, что, несмотря на сломанные крылья и пробитую голову, сокол не выпускал когтей из спины цапли и не вытащил клюва из ее шеи.
Он погладил сокола по голове, сокол, узнав его, выпустил цаплю из когтей и попытался было взлететь на руку хозяину, но не мог и упал на землю, смотря на Адриана блестящими глазами. Видя, что помочь ему нельзя, Адриан, весь трясясь от горя, ударил его палкой по голове и убил сразу.
- Прощай, друг, - проговорил он. - По крайней мере, хорошо умирать так, держа под собой убитого врага. - Подняв мертвого сокола, он нежно пригладил его растрепавшиеся перья и уложил в ягдташ.
В эту минуту, поднимаясь на ноги в тени большого дуба, у подножия которого упали птицы, Адриан услыхал со стороны дороги, отделенной от него небольшой зарослью кустарника, голоса: мужской, сердитый и угрожающий, и женский, громко звавший на помощь. В другое время Адриан поколебался бы и, быть может, просто ушел бы, потому что знал, как опасно было в те времена вмешиваться в ссоры бродяг, но потеря сокола возбудила его нервы, и всякое волнение или приключение были приятны ему. Поэтому, не раздумывая, Адриан бросился вперед через кусты и увидал перед собой странную сцену.
Перед ним расстилалась поросшая травой лесная дорога, посередине ее лежал на спине сброшенный с лошади толстый бюргер, карманы которого обшаривал какой-то человек, грозивший ему время от времени ножом, вероятно, чтобы заставить его лежать смирно. На крупе здорового фламандского коня, принадлежавшего бюргеру, сидела средних лет женщина, по-видимому, онемевшая от страха, между тем как в нескольких шагах оттуда другой негодяй и высокая, костлявая женщина пытались стащить с мула молодую девушку.
Действуя под впечатлением минуты, Адриан закричал:
- Друзья, сюда! Воры здесь!
Женщина-грабительница бросилась бежать прочь, а мужчина обернулся, выхватив нож из-за пояса. Но, прежде чем он успел пустить его в дело, Адриан ударил его тяжелой палкой по плечу и заставил со стоном выронить оружие. Палка снова поднялась и опустилась, на этот раз на голову; шапка слетела, и при слабом свете сумерек показалось одутловатое лицо, обрамленное от горла до висков песочного цвета бакенбардами, и лысая голова, по которым Адриан сразу узнал Гага Симона, или Мясника. К счастью для него, Мясник был слишком удивлен или ошеломлен полученным ударом, чтобы узнать нападавшего. Выронив нож и, вероятно, вообразив, что Адриан только первый из целой толпы, он уже не думал продолжать борьбу и, крикнув товарищу, чтобы он следовал за ним, бросился бежать вслед за женщиной с быстротой, почти невероятной для человека его сложения, и скоро все разбойники скрылись в чаще.
Адриан опустил палку и огляделся: все произошло так быстро и поражение неприятеля было такое полное, что он сомневался, не во сне ли он все это видит. Несколько секунд тому назад он клал убитого сокола в сумку и вдруг превратился в храброго рыцаря, без оружия - так как и кинжал он забыл вынуть - победившего двух здоровенных негодяев и их спутницу, вооруженных с головы до ног, и освободившего из их когтей красавицу (девушка, без сомнения, должна быть красавицей) и ее богатых родственников… Но вот девушка, которую стащили с седла, приподнялась на колени и подняла голову, причем капюшон ее плаща спустился назад.
Таким образом, при смягчающем бледном свете летнего вечера Адриан в первый раз увидал лицо Эльзы Брант, женщины, которой ему было суждено во имя любви принести столько горя.
Герой Адриан, победитель разбойников, смотрел на коленопреклоненную Эльзу и любовался ее красотой, а освобожденная Эльза, смотря на героя Адриана, решила, что он недурен, что его появление было как нельзя более кстати и что он послан самим Провидением.
Эльзе Брант, единственной дочери уже знакомого нам Гендрика Бранта, друга и родственника Дирка ван-Гоорля, только что исполнилось девятнадцать лет. Глаза ее были карие, а вьющиеся волосы каштанового цвета, бледный цвет ее лица указывал на нежное сложение, а маленький ротик по складу губ изобличал наклонность к насмешке, между тем как довольно большой подбородок заставлял предполагать твердость характера. Она была среднего роста, даже немного ниже, очень хорошо сложена и имела замечательно красивые руки. В Эльзе не было стройности испанских красавиц, но также не было грубой полноты, всегда считавшейся красотой в Нидерландах, и она, несомненно, могла считаться очень красивой женщиной, хотя мудрено было решить, насколько ее привлекательность зависела от ее физических качеств или от живости характера и от печати одухотворенности, лежавшей на ее лице в спокойные минуты и светившейся в ее глазах, когда она бывала задумчива. Во всяком случае, ее красота произвела такое сильное впечатление на Адриана, что он, позабыв маркизу д'Ованда, вдохновлявшую его писать сонеты, сразу влюбился в Эльзу, частью восхищаясь ею самой, а частью потому, что так полагалось для освободителя.
Про Эльзу же нельзя сказать, чтобы она, несмотря на всю свою благодарность Адриану, сразу воспылала к нему нежным чувством. Она, без сомнения, рассмотрела, что он красив, и его ловкость и сила возбудили ее удивление, но случайно тень от его лица легла на траву возле того места, где она сидела; эта тень была легкая, так как света было уже мало, но Эльзу поразила жестокость и мрачность этих красивых черт, а его вежливая улыбка, как ей казалось, превратилась в неприятную усмешку. Это была, без сомнения, просто случайная игра света, и со стороны Эльзы было ребячеством обращать на это внимание, но все же это бросилось ей в глаза и - что еще больше - возбудило в ее легко колеблющемся женском уме, часто делающем самые нелогичные выводы из случайного совпадения, предубеждение против Адриана.
- О, сеньор! - воскликнула Эльза, всплеснув руками, - как мне благодарить Вас?
Обращение было короткое и неоригинальное, но в нем заключались две вещи, которые Адриан заметил с удовольствием: первое - что оно было произнесено мягким, мелодичным голосом, а второе - что девушка приняла его за испанца благородного происхождения.
- Не благодарите меня вовсе, сударыня, - отвечал он с самым низким поклоном. - Не особенный подвиг обратить в бегство двух разбойников и женщину. Хотя у меня и не было другого оружия, кроме этой палки… - добавил он, может быть, желая обратить внимание молодой девушки на то обстоятельство, что нападавшие на нее были вооружены, а он, ее освободитель, безоружен.
- Может быть, такому храброму кавалеру, как вы, кажется нетрудным сразу справиться с несколькими людьми, но когда этот негодяй с плоским лицом схватил меня своими огромными руками, я думала, что умру на месте. Я и всегда-то ужасная трусиха… нет, благодарю вас, сеньор, я могу уже стоять без помощи, а вот идет и герр ван-Брекховен, с которым я путешествую. Смотрите, он ранен! Вы ранены, друг мой?
- Нет… так, пустяки, - проговорил, еще задыхаясь от борьбы и волнения, герр Брекховен, - этот негодяй, вставая, чтобы бежать, пырнул меня ножом в плечо. А найти ему ничего не удалось: я умею путешествовать; в шляпу ко мне ему, конечно, не пришло в голову заглянуть.
- Какая цель была у них нападать на нас? - сказала Эльза.
Герр Брекховен задумчиво чесал затылок.
- Я думаю, бродяги намеревались ограбить нас, только странно, что они поджидали нас, я слышал, как женщина сказала: «Вот они. Мясник, ищи письма на девчонке».
Лицо Эльзы при этих словах приняло серьезное выражение, Адриан видел, как она взглянула на мула, на котором ехала, и взялась за поводья.
- Позвольте узнать, кого мы должны благодарить? - обратился герр Брекховен к Адриану.
- Я Адриан ван-Гоорль, - отвечал Адриан с достоинством.
- Ван-Гоорль? - повторил Брекховен. - Какое странное совпадение! Провидение устроило все как нельзя лучше. Послушай, жена, - обратился он к полной даме, продолжавшей сидеть на лошади и все еще бывшей не в состоянии говорить от испуга, - вот сын Дирка ван-Гоорля, которому мы должны передать Эльзу.
- В самом деле! - воскликнула дама, несколько приходя в себя. - Я по наружности приняла его за испанского дворянина, но кто бы он ни был, мы, конечно, очень обязаны ему, и я еще больше была бы благодарна ему, если бы он мог указать нам выход из этого леса, где, вероятно, на каждом шагу разбойники, и проводить нас к нашим родственникам, лейденским Брекховенам.
- Сударыня, если вам будет угодно принять мои услуги, то я уверен, что вам уже не придется бояться разбойников. Могу я, со своей стороны, спросить имя молодой девицы?
- Конечно. Она Эльза Брант, единственная дочь Гендрика Бранта, знаменитого гаагского золотых дел мастера, но теперь, зная ее имя, вы, вероятно, уже знаете все остальное - она вам родственница. Помоги Эльзе сесть на мула, - обратилась она к мужу.
- Позвольте мне, - предложил Адриан и, подбежав к Эльзе, поднял ее и ловко посадил в седло. Затем, взяв мула под уздцы, он пошел по лесу, молясь в душе, чтобы Мясник и его товарищи не осмелились вторично напасть на них, пока они еще не вышли из чащи.
- Скажите, вы Фой? - спросила Эльза, как бы колеблясь.
- Нет, - коротко отвечал Адриан, - я его брат.
- А! Этим объясняется все. Видите ли, я была очень удивлена, потому что помню Фоя, еще когда была совсем маленькая; он был красивый белокурый мальчик с голубыми глазами и относился ко мне всегда хорошо. Он один раз останавливался с отцом у нас в Гааге.
- Мне очень приятно слышать, что Фой был когда-нибудь красив, - сказал Адриан. - Я помню только, что он был очень глуп, так как мне приходилось учить его. Во всяком случае, боюсь, что теперь вы не найдете его красивым, если только вы не поклонница людей, которых в ширину и в высоту можно мерить одной меркой.
- Ах, герр Адриан, - отвечала Эльза, смеясь, - к несчастью, этим недостатком страдает большинство из нас, голландцев, в том числе и я сама… Очень немногие из нас высоки и стройны, как благородные испанцы. Я не хочу сказать этим, что желала бы походить на испанку, как бы красива она ни была, - прибавила Эльза, причем голос ее и выражение лица сделались жестче. - Но, - поспешно продолжала она, будто раскаиваясь, что проговорилась, - никто не скажет, что вы с Фоем братья.
- Мы сводные братья, - сказал Адриан, смотря перед собой, - братья по матери; но прошу вас, называйте меня двоюродным братом.
- Нет, я не могу исполнить вашего желания, - весело отвечала она. - Мать Фоя не родственница мне. Мне кажется, я должна называть вас «мой принц» - вы ведь явились, как сказочный принц.
Адриан воспользовался удобным случаем, чтобы сказать нежным голосом, взглянув на Эльзу своими темными глазами:
- Приятное название. Я не желал бы ничего больше, как стать вашим принцем, теперь и всегда обязанным защищать вас от всякой опасности (Здесь мы должны пояснить, что, несмотря на напыщенность своих выражений, Адриан действительно думал то, что говорил, так как был убежден, что для молодого человека в его положении было бы весьма недурно стать мужем красивой наследницы одного из самых богатых людей во всех Нидерландах).
- О, г-н принц, - быстро перебила Эльза, которую несколько смущало увлечение ее кавалера, - вы не так доканчиваете сказку. Разве вы не помните? Герой освободил даму и препроводил ее… к отцу.
- У которого потом просил ее руки, - докончил Адриан, снова сопровождая свои слова нежным взглядом и улыбкой, вызванной убеждением в удачности своего ответа.
Их взгляды встретились, и вдруг Адриан заметил, что в лице Эльзы произошла резкая перемена. Смеющееся, игривое выражение исчезло и заменилось суровостью и натянутостью, в глазах отражался страх.
- О, теперь я понимаю тень; как это странно, - проговорила она совершенно изменившимся голосом.
- В чем дело? Что странно? - спросил Адриан.
- Странно: ваше лицо напомнило мне лицо человека, которого я боялась… Нет, ничего, я глупа. Эти бродяги напугали меня. Поскорее бы выбраться из этого ужасного леса! Посмотрите, герр Брекховен, вот уже и Лейден виден! Как красивы при вечернем освещении красные крыши и какие большие церкви. Смотрите, вокруг стен ров с водой; должно быть, Лейден - очень сильная крепость. Мне думается, даже испанцам не взять бы его, а хорошо бы в самом деле найти такой город, про который можно было бы сказать с уверенностью, что испанцам никогда не взять его, - закончила она с тяжелым вздохом.
- Если бы я был испанский генерал, командующий соответствующей армией, я скоро бы справился с Лейденом, - хвастливо заметил Адриан. - Не далее как сегодня я изучал его слабые места и составлял план атаки, который вряд ли мог бы оказаться неудачным, так как защитниками города была бы толпа необученных, полувооруженных бюргеров.
Снова в глазах Эльзы мелькнуло странное выражение.
- Если бы вы были испанским генералом? - медленно переспросила она. - Как вы можете шутить подобными вещами, вроде грабежа города испанцами! Знаете ли вы, что это значит?.. Я слыхала, как они говорят об этом. - Она содрогнулась и продолжала: - Разве вы испанец, что рассуждаете так? - Не ожидая ответа, она заставила своего мула прибавить шагу, так что Адриан немного отстал.
Однако, когда путешественники въехали в городские ворота, Адриан снова был около Эльзы и болтал с ней; но хотя она отвечала вежливо, чувствовалось, будто между ними воздвиглась невидимая преграда. Эльза прочла его сокровенные мысли, будто угадала, что он думал, стоя на мосту и строя планы взятия Лейдена, причем в нем смутно шевелилось желание принять участие в разграблении города. Эльза не доверяла Адриану, несколько боясь его, и Адриан чувствовал это.
Через десять минут езды по тихому городу - в эти дни ужаса и шпионства люди старались как можно меньше выходить на улицу после заката, если их к тому не принуждала крайняя необходимость, - путешественники прибыли к дому ван-Гоорля на Брее-страат. Адриан попытался отворить ворота, но они оказались запертыми на засов. Уже и так выведенный из равновесия различными событиями дня, а особенно переменой в обращении Эльзы, он окончательно вышел из себя и стал стучаться с совершенно излишней энергией. Наконец после долгого бряцания ключами и стучания засовом ворота отворились, и в них со свечой в руке показался Дирк, а за ним, будто готовый ежеминутно выступить на его защиту, гигант Мартин.
- Это ты, Адриан? - спросил Дирк голосом, в котором вместе с неудовольствием слышалось облегчение. - Отчего ты не прошел боковой калиткой?
- Потому что привел вам гостей, - отвечал Адриан, указывая на Эльзу и ее спутников. - Мне не пришло в голову, что вы могли пожелать, чтобы гости пробрались к вам тайком через задний ход, точно… точно служители нашей новой религии.
Стрела была пущена наудачу, но попала в цель. Дирк вздрогнул и проговорил шепотом:
- Молчи, сумасшедший! - Затем он прибавил громко: - Гостей, говоришь ты? Каких гостей?
- Это я, кузен Дирк, я, Эльза, дочь Гендрика Бранта, - отвечала Эльза, соскользнув со своего мула.
- Эльза Брант! - воскликнул Дирк. - Как ты попала сюда?
- Сейчас расскажу, - отвечала она, - нельзя разговаривать на улице, - она дотронулась пальчиком до губ. - Вот мои друзья, гер ван-Брекховен и его жена, проводившие меня из Гааги. Они отправятся к своим родным, здешним Брекховенам, если кто-нибудь укажет им дорогу.
Поцеловав свою молоденькую родственницу, Дирк повел ее, неся седло, в комнату, где жена его и Фой сидели за ужином вместе с пастором Арентцем, тем самым священником, который говорил проповедь накануне вечером. Лизбета, с беспокойством ожидавшая возвращения мужа, встала со своего места. Такое то было ужасное время, что стука у ворот в необычный час было достаточно, чтобы напугать всех, особенно если в ту минуту дом случайно служил приютом пастору новой веры, что считалось преступлением, за которое полагалась смертная казнь. Стук этот мог возвещать не более как посещение соседа, но он мог также быть трубою смерти для всех живущих в доме, сообщая о прибытии членов инквизиции, которые несли с собой мученический венец. Поэтому Лизбета вздохнула с облегчением, когда появился ее муж в сопровождении молодой девушки.
- Жена, - обратился к ней Дирк, - это наша родственница Эльза Брант, приехавшая погостить к нам из Гааги, хотя я еще не знаю, по какому случаю. Ты помнишь Эльзу, маленькую Эльзу, с которой мы бывало играли так часто много лет тому назад?
- Конечно, помню, - отвечала Лизбета, обнимая и целуя девушку, и добавила: - Добро пожаловать, дитя мое, хотя, правду сказать, уже нельзя называть девочкой такую взрослую, милую девицу. А вот пастор Арентц, о котором вы, вероятно, уже слыхали, так как он друг вашего отца и всех нас.
- Да, слыхала, - сказала Эльза, приседая, на что Арентц отвечал поклоном, говоря серьезно:
- Приветствую тебя, дочь моя, во имя Господа нашего, приведшего тебя благополучно в сей дом, за что мы должны возблагодарить Его.
- Да, правда, г-н пастор, я должна сделать это… - она запнулась, встретившись взглядом с глазами Фоя, на открытом лице которого выражались такой восторг и изумление, что Эльза покраснела, заметив это. Но, овладев собой, она протянула руку, говоря: - Вы, без сомнения, мой двоюродный брат Фой, я бы узнала вас везде по волосам и глазам.
- Очень рад, - отвечал он просто, польщенный тем, что такая красивая девушка помнит товарища своих игр, с которым не виделась уже одиннадцать лет, - но, - прибавил он, - я должен признаться, что не узнал бы вас.
- Почему? - спросила она. - Разве я так изменилась?
- Да, - прямо отвечал Фой, - вы были девочкой с красными руками, а теперь превратились в такую красавицу, какой я еще никогда не видал.
При этих словах все засмеялись, не исключая пастора, а Эльза, покраснев еще больше, проговорила:
- Я помню, что вы бывали не очень вежливы, но теперь вы научились льстить, и это хуже. Нет, пожалуйста, пощадите меня, - закончила она, заметив, что Фой намеревается вступить с ней в спор. Отвернувшись от него, она спустила плащ и села на стул, придвинутый для нее Дирком к столу, думая про себя, что было бы гораздо приятней, если бы ее освободил от разбойников Фой вместо Адриана с его более изящными манерами.
Во время ужина Эльза стала рассказывать о своем приключении. В эту минуту вошел Адриан. Первое бросившееся ему в глаза было то, что Эльза и Фой сидели рядом, оживленно разговаривая, а второе - что для него не было поставлено прибора.
- Ты позволишь сесть мне, матушка? - спросил он громко, так как никто не видал, как он вошел.
- Конечно, почему ты спрашиваешь? - ласково отвечала Лизбета, замечая по тону Адриана, что он чем-то раздражен.
- Потому, что для меня нет места; без сомнения, пастор Арентц более почетный гость, однако после того, как человеку пришлось рисковать жизнью в борьбе с вооруженными бродягами, и он не прочь был бы присесть к столу и съесть кусочек.
- Рисковать жизнью? - с удивлением спросила Лизбета. - Из того, что сейчас рассказала Эльза, я поняла, что негодяи убежали, как только ты ударил одного из них.
- Само собой разумеется, если наша гостья сказала, что было так, то это правда. Я не обратил особенного внимания; во всяком случае, они убежали, а она освободилась; конечно, о таком пустяке нечего и говорить.
- Адриан, садись на мое место, - предложил Фой, вставая, - и не хвастайся очень своей победой над двумя бродягами и старой бабой. Ведь, я думаю, ты не претендуешь, чтобы мы считали тебя героем за то, что ты не показал хвоста и не оставил Эльзу со спутниками в руках негодяев.
- Мне решительно все равно, что ты думаешь или чего не думаешь обо мне, - отвечал Адриан, садясь с обиженным видом.
- Что бы ни думал Фой, герр Адриан, но я благодарю Бога, пославшего нам на помощь такого храброго человека, - поспешно вмешалась Эльза. - Я говорю это серьезно: мне становится дурно при одной мысли, что бы случилось, если бы вы не бросились на этих злодеев, как… как…
- Как Давид на филистимлян, - подсказал ей Фой.
- Плохо ты знаешь Библию, брат, - заметил Адриан серьезно, не улыбаясь, - филистимлян избил Самсон, Давид же победил великана Голиафа, хотя, правда, и он был филистимлянин.
- Да, как Самсон… то есть как Давид… на Голиафа, - продолжала Эльза, спутавшись. - Ах, Фой, пожалуйста, не смейся, ты, вероятно, оставил бы меня в руках этого ужасного человека с плоским лицом и лысой головой, пытавшегося украсть письмо моего отца. Кстати, Дирк, я еще не отдала его вам; но отец крепко зашил его в седле и велел сказать вам, чтобы вы его читали по старому ключу.
- Человек с плоским лицом? - озабоченно спросил Дирк, распарывая седло, чтобы достать письмо. - Опиши мне его подробнее. Почему ты думаешь, что он искал именно письмо?
Эльза описала наружность черноглазой старухи и ее спутников и повторила слова, сказанные ими, как слыхал герр Брекховен перед нападением.
- Это что-то похожее на шпиона Гага Симона по прозвищу Мясник и его жену, Черную Мег. Адриан, ты видел этих людей? Это были они?
С минуту Адриан размышлял, следует ли сказать правду, и, по своим соображениям, решил, что не следует. Надо сказать, что между прочими, более серьезными делами Черная Мег была не прочь служить посредницей в любовных делах. Короче говоря, она устраивала свидания, и Адриан пользовался ее услугами. Вот почему ему не хотелось выдавать ее.
- Как я могу узнать их? - ответил он наконец. - В лесу было темно, и я видел Гага Симона и его жену не более двух раз в своей жизни…
- Ну, говори правду, - перебил его Фой. - Как бы ни было темно в лесу, ты достаточно хорошо знаешь старуху: я не раз видел… - Он вдруг запнулся, будто досадуя, что эти слова сорвались у него с языка.
- Правда это, Адриан? - спросил Дирк среди наступившей тишины.
- Нет, отец, - ответил Адриан.
- Слышишь? - обратился Дирк к сыну. - Вперед будь осторожнее со словами. Нельзя бездоказательно обвинять человека в том, что его видели в обществе самых отъявленных лейденских негодяев, в обществе женщины, руки которой обагрены кровью невинных жен и детей, твари, чуть не погубившей меня, как известно твоей матери.
Веселое, улыбающееся лицо Фоя сделалось вдруг серьезным.
- Мне досадно за мои слова, - сказал он, - но старая Мег кроме шпионства занимается еще кое-чем другим, и у Адриана были с ней дела, которые меня не касаются. Но раз я сказал, я не могу взять своих слов обратно, решите сами, кому из нас можно верить…
- Нет, Фой, не ставь вопроса так, - вступился Арентц, - тут, без сомнения, ошибка, я уже раньше говорил тебе, что ты слишком скор на язык.
- Да, и еще многое другое, - отвечал Фой, - и все это правда: я несчастный грешник. Согласен, я ошибся; и должен сознаться, что сказал это только для того, чтобы подразнить Адриана, - добавил он совершенно чистосердечно. - Я никогда не видал, чтобы он разговаривал с Черной Мег. Теперь вы довольны?
Тут Эльза, наблюдавшая за лицом Адриана в то время, как он слушал безыскусное, но несколько небрежное объяснение Фоя, увидала, что теперь буря готова разразиться.
- Против меня, очевидно, заговор, - сказал Адриан, побледнев от бешенства. - Все сегодня сговорились против меня. Сначала уличные мальчишки подняли меня на смех, потом мой сокол убился. Затем мне пришлось освободить эту девицу от бродяг. Но разве меня кто-нибудь поблагодарил за это? Никто и не подумал. Вернувшись домой, я увидел, что обо мне настолько забыли, что даже не поставили мне прибора за столом и, кроме того, еще подняли на смех оказанную мною услугу. Наконец, меня обвиняют во лжи, и кто же? Мой родной брат. Ну, не будь он им, он ответил бы мне с оружием в руке…
- Ах, Адриан, - перебил его Фой, - не глупи. Подумай, прежде чем скажешь что-нибудь, в чем можешь раскаяться.
- Это еще не все, - продолжал Адриан, не обращая внимания на его слова. - Кого я нахожу за этим столом? Достопочтенного герра Арентца, служителя новой веры. Я протестую. Я сам принадлежу к этой вере, потому что воспитан в ней, но всем известно, что присутствие такого лица в доме подвергает жизнь всех живущих в нем опасности. Отчим и Фой могут, если им угодно, рисковать собой, но они не имеют права подвергать опасности мать, которой я старший сын, а также меня.
Тут Дирк поднялся с места и, потрепав Адриана по плечу, сказал холодно, но с блестящими глазами:
- Выслушай меня. Риск, которому я, мой сын Фой и моя жена - твоя мать - подвергаемся, мы берем на себя сознательно. Тебя это не касается - это наше дело. Но раз ты поднял вопрос, то я скажу тебе, что не имею права подвергать тебя опасности, если твоя вера не достаточно сильна, чтобы поддержать тебя. Видишь ли, ты не сын мне, ты для меня чужой, но, несмотря на это, я растил и поддерживал тебя с самого дня твоего несчастного рождения. Ты делил с моим сыном все, что я давал вам, не оказывая предпочтения ни одному из вас, и после моей смерти также получил бы свою долю. Теперь же, после высказанного тобой, мне остается сообщить тебе, что мир велик и что вместо того, чтобы жить здесь за мой счет, ты сделаешь лучше, если постараешься пробиться собственными силами вдали от Лейдена.
- Вы бросаете мне в лицо ваши благодеяния и упрекаете меня моим рождением, - прервал его Адриан, не помня себя от бешенства. - Будто я виноват в том, что в моих жилах не течет кровь голландского купца; если это преступление, то, во всяком случае, оно совершено не мною, а матерью, которая согласилась…
- Адриан! Адриан! - закричал Фой, пытаясь остановить его, но обезумевший юноша продолжал:
- Которая согласилась быть подругой какого-то благородного испанца - женой его, насколько мне известно, она никогда не была, - прежде чем стать женой лейденского ремесленника.
У Лизбеты вырвался в эту минуту такой отчаянный стон, что, несмотря на все свое безумное бешенство, Адриан замолчал.
- Стыдно тебе говорить так о матери, родившей тебя, - проговорила мать.
- Да, стыдно тебе! - проговорил Дирк среди наступившей тишины. - Один раз я предупреждал тебя, но теперь уже не стану больше разговаривать.
Он подошел к двери, отворил ее и позвал:
- Мартин, поди сюда!
ГЛАВА XII. Предупреждение
Среди тяжелого молчания, прерываемого лишь быстрым дыханием Адриана, дышавшего, как дикий зверь в клетке, послышались тяжелые шаги в коридоре, и Мартин, войдя в комнату, остановился, оглядываясь кругом своими большими голубыми глазами, похожими на глаза изумленного ребенка.
- Что прикажете? - спросил он наконец.
- Мартин Роос, - начал Дирк, знаком отклоняя вмешательство Арентца, приподнявшегося со своего места, - возьми этого молодого человека, моего пасынка, герра Адриана, и выведи его, если возможно без насилия, из моего дома. Впредь я запрещаю ему переступать порог его. Поручаю тебе наблюдать, чтобы он не ослушался. Ступай, Адриан, завтра ты получишь свои вещи и столько денег, сколько тебе нужно будет, чтобы стать на ноги.
Не рассуждая и не выражая удивления, великан Мартин подступил к Адриану, вытянув руку, как бы намереваясь взять его за плечо.
- Что?! - воскликнул Адриан, когда Мартин стал подходить к нему. - Вы вздумали натравить на меня своего бульдога? Так я покажу вам, как дворянин обходится с собаками!..
В его руке сверкнул обнаженный кинжал, и он бросился на фриса. Нападение было так быстро и неожиданно, что в исходе его, казалось, не представлялось сомнения. Эльза вскрикнула и закрыла глаза, боясь, что она увидит, как кинжал вонзится в горло Мартина. Фой подбежал к последнему. Однако в то же самое мгновение кинжал вылетел из руки Адриана; движением, которое по его быстроте даже невозможно было уловить, Мартин нанес такой удар по руке нападавшего, что он выпустил оружие, которое, сверкая, пролетело через комнату и упало на колени Лизбете. Еще минута, и железная рука схватила Адриана за плечо, и он, несмотря на всю свою силу и отчаянное сопротивление, не мог вырваться.
- Перестаньте отбиваться, мейнгерр Адриан, это совершенно бесполезно, - обратился Мартин к своему пленнику таким спокойным голосом, будто не произошло нечего особенного, и направился с ним к двери.
На пороге Мартин остановился и сказал, смотря через плечо:
- Мейнгерр, кажется, герр Адриан умер. Прикажете все-таки отнести его на улицу?
Все собрались вокруг Мартина. Казалось, что Адриан действительно умер, - по крайней мере, его лицо было бледно, как у покойника, а из угла рта текла тонкая струйка крови.
- Негодяй! - закричала Лизбета, ломая руки и с содроганием сбрасывая, будто змею, кинжал с колен. - Ты убил моего сына!
- Извините, мефроу, - спокойно возразил Мартин. - Это неверно. Мейнгерр приказал мне вывести герра Адриана, и герр Адриан хотел заколоть меня. Я с молодости привычен к таким вещам. - Он недоверчиво покосился в сторону пастора Арентца. - Я подтолкнул герра Адриана под локоть, отчего кинжал вылетел у него из рук; не сделай я этого, не остаться бы мне в живых, и тогда я не мог бы исполнить приказание моего господина. Вот я и взял герра Адриана на плечо как можно деликатнее и понес его, а умер он от злости; мне очень жаль его, но я не виноват.
- Ты прав, - сказала Лизбета, - а во всем виноват ты, Дирк, это ты убил моего сына. Как можно было обращать внимание на его слова; он всегда был горяч, и кто же слушает человека, когда он сам себя не помнит.
- Как ты мог допустить такое обращение со своим братом, Фой? - вмешалась Эльза, вся дрожа от негодования. - С твоей стороны было трусостью стоять и смотреть, как этот рыжий задушил твоего брата; ты ведь хорошо знал, что твои насмешки вывели из себя Адриана, и он сказал то, чего не думал: так бывает иногда и со мною. Я никогда больше не стану говорить с тобой. Адриан сегодня спас меня от разбойников!
Она залилась слезами.
- Тише, тише! Теперь не время для упреков, - сказал пастор Арентц, проталкиваясь мимо испуганных мужчин и обезумевших женщин. - Вряд ли он умер. Дайте мне взглянуть на него, я кое-что смыслю в докторском искусстве.
Пастор опустился на колени возле бесчувственного Адриана и стал выслушивать его.
- Успокойтесь, фроу ван-Гоорль, ваш сын жив, - сказал он через минуту, - сердце бьется. Друг Мартин ни чуточки не повредил ему, дав ему почувствовать свою силу; я думаю, что у него от возбуждения лопнул кровеносный сосуд, и оттого у него идет так сильно кровь. Мой совет - уложить его в постель и класть на голову холодные компрессы, пока не придет доктор. Возьми его, Мартин.
Таким образом, Мартин отнес Адриана не на улицу, а в постель. Фой же, радуясь предлогу избегнуть незаслуженных упреков Эльзы и тяжелого вида материнской печали, поспешил за доктором. Скоро он вернулся с ним, и, к великому облегчению всех, ученый муж возвестил, что, несмотря на потерю крови, Адриан, вероятно, не умрет. Однако он советовал ему пролежать в постели несколько недель и предписал тщательный уход вместе с полным покоем.
Между тем как Лизбета с Эльзой хлопотали около Адриана, Дирк с Фоем - пастор Арентц ушел - сидели в комнате наверху, в той самой комнате с балконом, где много лет тому назад Дирк получил отказ от Лизбеты, между тем как Монтальво стоял, спрятавшись за занавесью. Дирк был очень расстроен: когда вспышки его гнева успокаивались, он опять становился добрым человеком, и болезнь пасынка глубоко огорчала его. Теперь он оправдывался перед Фоем или, скорее, перед собственной совестью.
- Человек, осмелившийся так говорить о родной матери, недостоин жить в одном доме с ней, - говорил Дирк, - кроме того, ты слышал, что он сказал о пасторе. Говорю тебе, я боюсь этого Адриана.
- Если кровотечение сейчас же не уймется, то вам уже не придется больше выслушивать его, - мрачно заявил Фой, - но если вам угодно знать мое мнение об этом деле, то мне кажется, что вы придали слишком много значения пустякам, Адриан всегда останется Адрианом; он не из нашей семьи, и мы не должны судить его по нашей мерке. Вы себе не можете представить, чтобы я вышел из себя из-за того, что служанка забыла поставить прибор за столом, или чтобы я вздумал заколоть Мартина, или чтобы у меня мог лопнуть сосуд из-за того, что вы приказали бы вывести меня. Я и не подумал бы сопротивляться: разве может человек обыкновенной силы бороться с Мартином? Это значило бы то же, что рассуждать с инквизиторами. Но я - я, а Адриан - Адриан.
- Но что он говорил! Ты помнишь его слова?
- Да, и если бы я сказал их, они имели бы большое значение, но сказанные Адрианом, они не важнее, как если бы были сказаны рассерженной женщиной. Он постоянно дуется, обижается и выходит из себя по всякому поводу, и тогда все, что он говорит, не имеет другой цели, как желание сказать несколько громких фраз и выказать свое превосходство испанского дворянина над нами. Он в действительности не хотел уличать меня во лжи, отрицая, что я видел его с Черной Мег, ему хотелось только противоречить, а может быть, скрыть кое-что. Если вы желаете знать правду, то я скажу вам, что, по моему мнению, старая ведьма передавала его записки какой-нибудь молодой даме, а Гаг Симон снабжал его крысами для его соколов.
- Все это, может быть, и так, но что ты скажешь о его словах относительно пастора? Они возбуждают мое подозрение. Ты знаешь, в какое мы живем время, и если он пойдет такой дорогой - помни, это у него в крови, - то жизнь всех нас будет у него в руках. Отец некогда собирался сжечь меня, и я не желаю, чтобы сын исполнил его намерение.
- Я вырос с Адрианом и знаю, что он такое. Он тщеславен и пусть, несмотря на меня с вами, ежеминутно благодарит Бога, что не похож на нас. У него много пороков и недостатков: он ленив, считает унизительным для себя работать, как простой фламандский бюргер, и тому подобное, но сердце у него доброе; и скажи мне кто-нибудь посторонний, что Адриан способен стать предателем и довести собственную семью до эшафота, так я заставил бы этого человека проглотить свои слова. Что же касается его слов о первом замужестве нашей матери, - Фой опустил голову, - то, конечно, это предмет, о котором я не имею права рассуждать; но, говоря между нами, он не виновен во всем этом, а положение его крайне неприятное, и, понятно, он сердится.
В эту минуту дверь отворилась и вошла Лизбета.
- Что Адриан? - спросил Дирк.
- Ему, слава Богу, лучше, хотя доктор пробудет при нем всю ночь. Он потерял много крови и, в лучшем случае, должен будет долго пролежать в постели; главное - никто не должен противоречить ему или грубо обращаться с ним… - она многозначительно взглянула на мужа.
- Довольно, - с раздражением перебил ее Дирк. - Фой только что читал мне наставление о моем обращении с твоим сыном, и я не желаю выслушивать еще нотаций от тебя. Я обошелся с ним, как он того заслуживал, и если ему угодно было взбеситься до того, что его стало рвать кровью, то это не моя вина. Тебе следовало бы воспитать его построже.
- Адриан не такой человек, как другие, и его нельзя судить по общей мерке, - сказала Лизбета, почти повторяя слова Фоя.
- Это я уже слышал, хотя сам не могу согласиться с вами, так как у меня для измерения добра и зла существует одна мерка. Ну, пусть будет так. Без сомнения, на Адриана надо смотреть как на ангела-испанца и не судить его, как судят нас, голландцев, делающих свое дело, платящих свои долги и не нападающих с ножом на безоружных.
- Ты прочел письмо Бранта? - спросила Лизбета, переменяя разговор.
- Нет еще, я даже забыл о нем со всеми этими кинжалами, обмороками и бранью, - отвечал он и, взяв письмо, разрезал шелк и сломал печати. - Это наш условный шрифт, сказала мне Эльза, - продолжал он, всматриваясь в строки, перемешанные с ничего не значащими изображениями. - Фой, принеси-ка ключ из моего письменного стола и примемся за дело, письмо не скоро разберешь.
Фой повиновался и тотчас же вернулся с Библией маленького формата. С помощью этой книжки и приложенного ключа отец с сыном мало-помалу разобрали длинное послание. Фой слово за словом записывал разобранное, и когда,
наконец, около полуночи все письмо было восстановлено, Дирк прочел его жене и сыну.
«Любезный двоюродный брат и старый друг!
Ты изумишься, увидав мою дорогую дочь Эльзу, которая привезет тебе это письмо зашитым в своем седле, где, я надеюсь, никто не станет искать его. Тебя удивит также, что я не предупредил тебя о ее приезде. Я объясню все.
Тебе известно, что у нас костры не угасают и топор не знает отдыха; в Гааге господствует дьявол, не зная удержу. Хотя беда еще не обрушилась на меня, потому что доносчики подкуплены мною, однако каждую минуту меч висит у меня над головой, и в конце концов мне не уйти от него. Мое преступление не в том, что меня подозревают в принадлежности к новой вере. Ты можешь догадаться об этом: они стремятся захватить мое состояние. Я же поклялся, что оно не достанется ни одному испанцу; лучше я брошу все свое добро в море, чтобы спасти его: не для того я копил его. Они же ожесточенно гонятся за ним, и я окружен шпионами. Худший из них и притом стоящий во главе их - некто Рамиро, одноглазый испанец, недавно прибывший сюда, как говорят, агент инквизиции. Его манеры указывают в нем бывшего дворянина, и он, по-видимому, хорошо знает страну. Этот негодяй предложил мне за уступку двух третей моего состояния дать мне возможность бежать, и я ответил ему, что подумаю. Таким образом, мне дана небольшая отсрочка, так как он желает, чтобы мои деньги перешли в его карман, а не в карман казны. Но с Божьей помощью они не достанутся ни тому, ни другому.
Видишь ли, Дирк, мое сокровище хранится не дома, оно скрыто в месте, где не может больше оставаться. Поэтому, если ты любишь меня и помнишь мою прежнюю дружбу к тебе, то пришлешь ко мне своего сына Фоя и другого надежного человека - твоего слугу, фриса Мартина, на следующий же день после получения этого письма. К ночи они должны быть в Гааге; пусть отдохнут несколько часов и освежатся, но ни в коем случае не подходят к моему дому. Пусть Фой и слуга с полчаса после заката прохаживаются взад и вперед по правой стороне Широкой улицы в Гааге, пока их не толкнет нарочно девушка, которая придет также в сопровождении слупи, и не скажет Фою на ухо: «Ты также из Лейдена, душка?» На это он должен ответить «Да!» и последовать за девушкой на место, где ему покажут, что и как сделать. Главное, он не должен идти ни за какой женщиной, которая подошла бы к нему, но не сказала бы этих слов. Девушка, которая заговорит с ним, невысокого роста, брюнетка, хорошенькая и пестро одетая; на правом плече у нее будет красный бант. Но пусть Фой не доверяется наружности и платью, пока девушка не скажет упомянутых слов.
Если Фой благополучно достигнет Англии или Лейдена с найденным богатством, то скрывай его, пока это найдешь нужным. Я не желаю знать, где оно будет спрятано: плоть слаба, и под пыткой я мог бы выдать тайну.
Три месяца тому назад ты получил мое завещание вместе со списком моего имущества. Вскрой его теперь, и ты увидишь, что я назначаю тебя душеприказчиком для выполнения тех назначений, которые там указаны. Эльза хворала, и всем известно, что ей предписана перемена воздуха. Поэтому ее поездка в Лейден не возбудит ничьего внимания, и я надеюсь, что даже Рамиро не придет в голову, чтоб я мог отправить письмо, подобное этому, таким ненадежным путем. Однако все же я делаю это с опаской, так как шпионам нет числа, но выбора у меня нет и я не могу медлить. Если письмо перехватят, все равно не смогут разобрать шрифта, так как копий нашей книги не существует в Голландии. Но даже будь это письмо написано на чистейшем голландском или испанском языке, оно не откроет ни местонахождения моего состояния, ни его назначения. Наконец, если какой-нибудь испанец найдет это сокровище, оно исчезнет, а может быть, и он вместе с ним».
- Что он хочет сказать этими словами? - перебил Фой.
- Не знаю, - отвечал Дирк. - Брант не такой человек, чтобы говорить на ветер; мы, может быть, не так прочли это место.
Затем он продолжал:
«Теперь я кончил писание и посылаю его на волю судьбы. Только прошу тебя как честного человека и старого друга, сожги мое достояние, закопай, разбросай на все четыре стороны света, прежде чем позволить испанцу коснуться хоть одной драгоценной вещи, хоть одной монеты.
Ты поймешь, почему я посылаю Эльзу, свою единственную дочь, к тебе. В Лейдене, у тебя, она будет в большей безопасности, чем здесь, в Гааге, где и ее могли бы забрать вместе со мной. Монахи и их приспешники не пощадят молодого существа, особенно если оно стоит между ними и деньгами. Она знает очень мало о моем отчаянном шаге, ей неизвестно даже содержание этого письма, и я не желаю вовлекать ее во все эти заботы. Я - погибший человек, а бедняжка, любит меня. Скоро она услышит, что все кончено, и ей будет тяжело, но все же легче, чем в том случае, если б она знала все с самого начала. Завтра я прощусь с ней навсегда; подай мне, Боже, силы перенести удар!
Ты опекун Эльзы; прошу тебя… нет, должно быть, мои заботы сводят меня с ума, потому что иначе никому и в голову не пришло бы напоминать Дирку ван-Гоорлю и его сыну о его обязанностях относительно умершего. Прощай же, друг и брат! Да хранит Бог тебя и твоих близких в ужасное время, которое Ему угодно было послать нам, чтобы через нас, быть может, страна избавилась от власти монахов и тирании. Передай мой поклон твоей жене Лизбете и сыну Фою, которого я помню веселым малым и которого надеюсь увидать через двое суток, хотя, быть может, судьба и не допустит нам увидеться. Благословляю Фоя, особенно, если он успешно выполнит поручение. Да дарует нам Всемогущий счастливую встречу на том свете, где мы скоро будем. Молитесь за меня! Прощай, прощай! Гендрик Брант.
P.S. Прошу г-жу Лизбету наблюдать, чтобы Эльза одевалась в шерстяное платье в сырую и холодную погоду: у нее грудь несколько слаба. Это было последнее наставление жены, и я передаю его вам. Что же касается ее замужества, если она останется в живых, то я предоставляю это на твое усмотрение, прося только, чтобы, насколько возможно, ты не противоречил ее склонности. Когда я умру, поцелуй ее от меня и скажи ей, что я любил ее больше всех живых на земле и что я со дня на день буду ждать встречи с ней там, где скоро буду, так же как встречи с тобой, Дирк, и с твоими близкими. В том случае, если это письмо не попадет к тебе в руки, я при первом удобном случае, пошлю вторичное, написанное тем же шрифтом».
Окончив чтение письма, Дирк, складывая его, поник головой, не желая, чтобы его лицо могли видеть; Фой тоже отвернулся, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся у него на глаза, а Лизбета плакала, не стесняясь.
- Грустное письмо и грустные времена, - сказал наконец Дирк.
- Бедная Эльза, - проговорил Фой, но затем прибавил с проснувшейся надеждой: - Быть может, Брант ошибается, ему, может быть, удастся бежать.
Лизбета покачала головой, отвечая ему:
- Гендрик Брант не такой человек, чтобы писать подобные письма, если б у него оставалась какая-нибудь надежда, и он не расстался бы с дочерью, если бы не знал, что конец близок.
- Почему же он не бежит? - спросил Фой.
- В ту минуту, как он задумал бы сделать это, инквизиция бросилась бы на него, как на мышь, пытающуюся убежать из своего угла, - отвечал отец. - Пока мышь сидит тихо, кот тоже сидит и мурлычет, но только она пошевелится…
Наступило молчание, в продолжение которого Дирк, достав из надежного места завещание Гендрика Бранта, полученное им месяца три тому назад, вслух прочел этот документ.
Завещание было не длинно, в силу его Дирк ван-Гоорль и его наследники назначались также наследниками всего движимого и недвижимого имущества Бранта при условии: во-первых, выделить дочери Бранта, Эльзе, такую часть, какая будет необходима; во-вторых, употребить остальное «на защиту отечества, достижение свободы веры и изгнание испанцев, как и когда Господь укажет, что, прибавлялось в завещании, Он, наверное, сделает».
К завещанию был приложен перечень имущества. Сначала шел длинный список драгоценностей с точным их описанием. Первыми стояли три вещи:
«Ожерелье крупного жемчуга, вымененное мною у императора Карла V, когда он пристрастился к сапфирам. Ожерелье в непроницаемом медном ящике.
Диадема и пояс, оправленные в золото, моей собственной работы - лучшие вещи, когда-либо сделанные мною. Три королевы желали приобрести их, но ни у одной не хватило средств.
Большой изумруд, полученный мною от отца, величайший из известных камней этой породы, с магическими знаками, вырезанными на обратной стороне. Сохраняется в золотом ящичке».
Затем следовал длинный перечень других драгоценных камней, слишком многочисленных, чтобы их перечислять, и меньшей стоимости, и, наконец:
«Четыре сосуда с золотыми монетами (точная стоимость мне неизвестна)».
В заключение было приписано:
«Таково значительное богатство, самое большое во всех Нидерландах - плод честной работы и бережливости, - превращенное мною главный образом в драгоценные камни для более удобного спасения. Я, Гендрик Брант, платящийся за это богатство жизнью, возношу при этом молитву: «Да будет это богатство проклятием для всякого испанца, который попытается украсть его», и думаю, Господь услышит меня. Аминь, аминь, аминь. Так говорю я, Гендрик Брант, стоящий у врат смерти».
Когда Дирк окончил чтение, Лизбета тяжело вздохнула.
- Да, наша родственница богаче многих владетельных особ, - сказала она. - С таким приданым к ней просватался бы не один принц.
- Да, состояние немалое, - согласился Дирк, - только какую тяжесть на нас навалил Брант, оставляя по этому завещанию свое состояние не прямо законной наследнице, но мне и моим наследникам как исполнителям его распоряжений. Испанцам известно о существовании этого сокровища, монахам это также известно, и они не оставят ни одного камня на свете или в аду, не перевернув его, пока не найдут этих денег. По-моему, Гендрик поступил бы благоразумнее, приняв предложение негодяя Рамиро: следовало бы дать ему три четверти своего состояния, а самому бежать в Англию. Но это не в его характере, он всегда был упрям и готов был скорее десять раз умереть, чем обогатить ненавистных ему людей. Кроме того, он желает, чтобы большая часть его состояния пошла на его родину в минуту нужды, и на нас возлагается после его смерти обязанность определить эту минуту. Я предвижу, что эти драгоценности и золото принесут горе и гибель нашей семье. Но обязанность возложена на нас, и мы должны нести ее. Фой, завтра на рассвете ты с Мартином отправишься в Гаагу, чтобы исполнить приказание Бранта.
- Почему сыну моему рисковать своей жизнью ради такого поручения? - воскликнула Лизбета.
- Потому, что это моя обязанность, матушка, - весело отвечал Фой, стараясь, впрочем, придать своему лицу грустное выражение.
Он был молод и предприимчив, а предстоящая поездка сулила ему много нового.
Дирк невольно улыбнулся и приказал позвать Мартина.
Через минуту Фой был на чердаке у Мартина и толчками будил спящего.
- Проснись, бык! Вставай!
Мартин сел на постели, при свете ночника его рыжие волосы горели, как огонь.
- Что случилось, герр Фой? - спрашивал он, зевая. - Пришли нас взять за тех двух испанцев?
- Нет, соня. Тут дело идет о большом богатстве.
- На что мне богатство, - равнодушно отозвался Мартин.
- Тут замешаны испанцы.
- Ну, это немного лучше, - заявил Мартин, закрывая рот. - Расскажите же, в чем дело, пока я натяну куртку.
Фой в две минуты передал ему, что мог.
- Хорошая штука! - критически отозвался Мартин. - Насколько я знаю испанцев, мы не вернемся в Лейден, не пережив кое-что. Не нравится мне только, что тут замешались женщины, как бы они нам не испортили всего.
Он отправился с Фоем в комнату верхнего этажа и здесь в торжественном безучастном молчании выслушал приказания Дирка.
- Вы слушаете?.. Понимаете? - резко спросил Дирк.
- Кажется, да, мейнгерр, - отвечал Мартин. - Послушайте! - И он слово в слово повторил сказанное Дирком; когда он хотел, память у него оказывалась прекрасной. - Только позвольте вам задать несколько вопросов: наследство надо перевезти сюда во что бы то ни стало?
- Во что бы то ни стало, - отвечал Дирк.
- А если нам не удастся увезти его, то его следует спрятать как можно лучше?
- Да.
- А если нам вздумают помешать, мы должны будем обороняться?
- Конечно.
- А если при этом мне придется убить кого-нибудь, то пастор или другие не назовут меня убийцей?
- Не думаю, - отвечал Дирк.
- А если что-нибудь приключится с молодым герром, его кровь не падет на мою голову?
Лизбета застонала, затем встала и сказала:
- Зачем ты задаешь такие глупые вопросы, Мартин? Сын мой должен разделить опасность с тобой, и если с ним приключится беда - что легко может случиться, - то мы хорошо будем знать, что она приключилась не по твоей вине. Ты не трус и не предатель.
- Думаю, что так, мефроу, но вот видите, здесь две обязанности: первая - увезти деньги, а вторая - защитить герра Фоя. Я хочу знать, которая важнее.
Ему ответил Дирк:
- Ты отправляешься выполнять завещание моего родственника, Гендрика Бранта, и оно должно быть выполнено прежде всего.
- Отлично, - отвечал Мартин. - Вы все хорошо поняли, герр Фой?
- Вполне, - подтвердил молодой человек, улыбаясь.
- Ну, теперь прилягте на часок-другой, быть может, завтрашнюю ночь не придется уснуть. На рассвете я разбужу вас. Надеюсь вернуться к вам, мейнгерр и мефроу, через двое с половиной суток; если же я не вернусь через трое или через четверо суток, то советую вам навести справки. - После этого Мартин отправился обратно к себе на чердак.
Молодежь спит хорошо, чтобы ни случилось или что бы ни предстояло, и Мартину на рассвете пришлось три раза окликнуть Фоя, прежде чем он открыл глаза и, вспомнив все происшедшее, вскочил с постели.
- Спешить особенно некуда, - сказал Мартин. - Но все же лучше выбраться из Лейдена, пока на улицах еще не много народа.
В эту минуту в комнату вошла Лизбета, уже вполне одетая, - она вовсе не ложилась в ту ночь, - неся в руке небольшой кожаный мешочек.
- Что Адриан? - спросил Фой, когда мать нагнулась, чтобы поцеловать его.
- Он спит, и доктор, который все еще при нем, говорит, что ему лучше, - отвечала Лизбета. - Вот, Фой, ты в первый раз уезжаешь из родного дома, и я принесла тебе подарок - мое благословение.
Она развязала мешочек и, вынув из него какую-то вещь, положила на стол, где эта вещь образовала блестящую кучку величиной не больше кулака Мартина. Фой взял ее и поднял, причем маленькая кучка как-то необыкновенно вытянулась и в конце концов оказалась мужской одеждой.
- Стальная кольчуга! - воскликнул Мартин, одобрительно качая головой. - Хорошая вещь для тех, кому приходится иметь дело с испанцами.
- Да, - отвечала Лизбета. - Отец мой привез ее из одного своего путешествия на Восток. Я помню, он рассказывал, что купил ее на вес золота и серебра, и то только по особенной милости к нему короля той страны. Он говорил, что кольчуга старинной работы и теперь такой сделать нельзя. Она триста лет переходила в одной семье от отца к сыну, и ни один из носивших ее не умер от ран: никакой кинжал или меч не в состоянии пронзить эту сталь. По крайней мере, таково предание, и странно, когда я лишилась всего своего состояния… - она вздохнула, - эта кольчуга сохранилась у меня, так как лежала в своем мешочке в старом дубовом сундуке, и никто не обратил на нее внимания. Она - единственное наследство тебе от твоего деда, так как дом уже перешел к отцу.
Фой отблагодарил мать, только поцеловав ее, не говоря ни слова: он весь погрузился в рассматривание кольчуги, которую мог вполне оценить, сам будучи медником. Мартин же все повторял:
- Эта вещь дороже денег. Бог знал, что кольчуга понадобится, и не дал им ее в руки.
- Я никогда не видал ничего подобного! - вырвалось у Фоя. - Смотри, она переливается, как ртуть, и легче кожи. Видишь, она уж перенесла не один удар сабли и меча… - Держа кольчугу против света, он указал на звеньях много черточек и пятнышек, происшедших, очевидно, от лезвия меча или конца копья. Но ни одно из звеньев не было повреждено или сломано.
- Молю Бога, чтобы она оказалась такой же прочной и теперь, когда ты станешь носить ее, - сказала Лизбета. - Но все же, сын мой, помни всегда, что есть Один, Кто может охранить тебя, как никакая самая совершенная кольчуга. - Сказав это, она вышла из комнаты.
Фой надел кольчугу на шерстяную фуфайку, и она оказалась ему впору, хотя сидела и не так безукоризненно, как впоследствии, когда он пополнел. Когда поверх кольчуги он надел полотняную сорочку и куртку на подкладке, то никто не догадался бы, что он одет в броню.
- Нехорошо только, Мартин, что я закутался в сталь, а у тебя нет ничего, - сказал он.
Мартин засмеялся.
- Вы считаете меня сумасшедшим, герр Фой? - ответил он. - Или я на своем веку видал мало драк? Взгляните-ка, - и расстегнув свою кожаную куртку, он показал, что внизу у него надета другая куртка из какого-то толстого, но мягкого материала.
- Буйволова кожа, - пояснил Мартин. - Дубленая по-нашему, по фрисландски. Конечно, она не такая прочная, как ваша кольчуга, но выдержит не один удар и не одну стрелу. Прошлой ночью я было стал приготовлять такую куртку и для вас и почти кончил ее, но сталь лучше и прохладнее для того, кому она по карману. Теперь закусим - и в путь, чтобы быть у ворот к девяти часам, когда они отпираются.
ГЛАВА XIII. Подарок матери - хороший подарок
Без пяти минут девять у Белых ворот собралась небольшая кучка людей в ожидании, когда отворят городские ворота. Толпа была разнородная, но преобладали в ней крестьяне, возвращавшиеся к себе в деревню, ведя с собою мулов и ослов, нагруженных пустыми корзинами, и обменивавшиеся веселыми приветствиями со знакомыми, ожидавшими по другую сторону решетчатых ворот с корзинами, полными всякой зелени и другой провизии. Видно было несколько монахов, сосредоточенных и мрачных, по-видимому, отправлявшихся по своим мрачным делам. Отряд испанских солдат, шедших в соседний город, также ожидал открытия ворот. Сюда же подъехали и Фой с Мартином, ведшим за собой вьючного мула. Фой был одет в серую куртку торговца, но был вооружен мечом и ехал на хорошем коне; под Мартином же был фламандский битюг, которого в наши дни не сочли бы годным ни для чего иного, как для плуга. Но какая иная, более нежно сложенная лошадь, могла бы выдержать подобную тяжесть? В толпе сновал зоркий человечек с песочными бакенбардами и флегматичным лицом, спрашивая у едущих, куда и зачем они отправляются и записывая в записную книжку их товары и багаж. Подойдя к Фою, он спросил коротко, хотя хорошо знал молодого человека:
- Имя?
- Фой ван-Гоорль и Мартин, слуга моего отца; едем в Гаагу с образцами медного товара к заказчикам нашей фирмы, - спокойно отвечал Фой.
- Ишь, какие ловкие! - ядовито усмехнулся досмотрщик. - Чем нагружен мул? Библиями, что ли?
- Нет, не такой драгоценностью, - отвечал Фой, - а только разобранным церковным подсвечником.
- Распакуйте и покажите, - сказал чиновник.
Фой вспыхнул от гнева и стиснул зубы, Мартин же, подтолкнув его в бок, быстро принялся исполнять приказание.
Дело было хлопотное, так как каждая часть подсвечника была обернута в жгут сена, а чиновник не оставил не развязанной ни одной, после чего их опять пришлось упаковывать. Пока путешественники были заняты этой бесполезной, медленной работой, к воротам подъехали еще два путника: один высокий, костлявый, одетый в платье, по покрою похожее на монашеское, и со шляпой, закрывавшей лицо; другой - в неряшливом военном костюме, но вооруженный с головы до ног. Увидав молодого ван-Гоорля и его слугу, высокий, смешно сидевший на лошади, вытянув ноги вперед, что-то шепнул своему спутнику, и оба проехали через ворота без всяких вопросов со стороны досмотрщика.
Когда Фой и Мартин также пустились в путь минут двадцать спустя, этой пары уже не было видно, так как лошади у нее были хорошие, и она ехала быстро.
- Вы узнали их? - спросил Мартин, когда они выехали из толпы.
- Нет. А кто это? - отвечал Фой.
- Папистская колдунья Черная Мег, переодетая мужчиной, и молодец, приехавший из Гааги вчера. Они отправляются с донесением, что Адриан помешал им и что им не удалось обыскать Брекховенов и Эльзу.
- Что все это значит, Мартин?
- Значит, что нас встретят там с распростертыми объятиями; значит, кто-нибудь догадался, что мы знаем о сокровище и что оно не так-то легко дастся в руки.
- Они нападут на нас дорогою?
- Не думаю. Но всегда лучше быть наготове, - отвечал Мартин, пожимая плечами. - Они могут подстеречь нас на возвратном пути. Наша жизнь не нужна им без денег, стало быть, им придется подождать.
Мартин оказался прав. Добравшись беспрепятственно до Гааги, они, отправившись прямо в дом купца, которому везли заказ, оставили у него лошадей и сами отдохнули. Из разговоров со своим хозяином они узнали, что в Гааге всем, кого подозревают в принадлежности к новой религии, приходится очень плохо; ежедневно происходят пытки, сожжения, убийства, в домах обывателей расквартированы солдаты, шпионы и правительственные агенты, позволяющие себе безнаказанно всякие бесчинства. Гендрик Брант был еще на свободе и продолжал свою торговлю, но слух шел, что он уже намечен и ему недолго жить.
Фой объявил, что они переночуют в Гааге, и после заката предложил Мартину прогуляться, чтобы посмотреть виды города.
- Будьте осторожны, мейнгерр Фой, - сказал хозяин, - здесь много бродит всяких темных людей; и мужчин и женщин. Да, море полно всяких приманок, на которые легко попасть новичку.
- Мы будем настороже, - отвечал Фой с веселым видом юноши, который не прочь испытать какое-нибудь волнение. - Лейденскую рыбу не так-то легко поймать на гаагскую удочку.
- Будем надеяться, что так, - сказал хозяин, - но все же я прошу вас быть осторожными. Помните, где в случае надобности найти своих лошадей; они накормлены, и я не велю их расседлывать. Ваше прибытие сюда уже известно, и почему-то за моим домом наблюдают.
Фой кивнул головой и пошел к дверям впереди Мартина, который шел за ним, испуганно озираясь и придерживая свой огромный меч по прозванию «Молчание», которым он был опоясан и который, насколько мог, он старался скрыть под своей курткой.
- Лучше было бы, если бы ты был поменьше ростом, - шепнул Фой через плечо Мартину, - а то все оглядываются на тебя и на твою красную бороду, горящую, как огонь в печке.
- Что делать, мейнгерр, - отвечал Мартин, - у меня и то болит спина от того, что я все сгибаюсь, а бороду такую мне дал сам Бог.
- Можно бы выкрасить ее, - сказал Фой. - Если бы она была черная, ты не напоминал бы так петуха на церковной колокольне.
- Ну, как-нибудь выкрашу, мейнгерр; такую бороду не скоро выкрасишь; мне кажется, было бы скорее обрезать ее.
Тут он замолк, так как они вышли на Широкую улицу.
Здесь было очень оживленное движение взад и вперед, но лица прохожих было трудно рассмотреть, так как месяц не светил и улица освещалась только фонарями, стоявшими на очень далеком расстоянии один от другого. Однако Фой успел заметить, что в толпе было много подозрительных лиц: уличных женщин, солдат местного гарнизона, полупьяных матросов из разных стран, а между ними мелькали монахи и другие шпионы. Не успели Фой с Мартином сделать несколько шагов, как кто-то сильно толкнул Фоя, приказывая ему в то же время убираться с дороги. Однако, несмотря на то, что кровь вскипела в нем и рука инстинктивно схватилась за меч, Фой сдержался, поняв, что его желают вызвать на ссору. Тут к нему подошла пестро одетая женщина, но у нее не было банта на плече, потому Фой только покачал головой и улыбнулся. Однако он заметил, что во все остальное время прогулки эта женщина следила за ним вместе с мужчиной, лица которого он не мог рассмотреть, так как тот закрывался темным плащом.
Три раза Фой и Мартин прошли таким образом по правой стороне улицы, пока молодому человеку это не надоело и он не начал думать, что план Бранта не удался.
Но когда он повернул в четвертый раз, его опасения рассеялись, так как он очутился лицом к лицу с невысокого роста женщиной, имевшей большой красный бант на плече и шедшей в сопровождении другой женщины, неуклюжей и одетой как крестьянка. Особа с красным бантом, будто споткнувшись, бросилась с притворным криком прямо в объятия Фоя, и он услыхал, как она шепнула:
- Вы из Лейдена, душечка?
- Да.
- Так обходитесь со мной, как я буду обходиться с вами, и следуйте за мною, куда я поведу. Сделайте сначала вид, что хотите отделаться от меня.
Не успела она договорить, как Фой почувствовал, что Мартин подталкивает его, а позади слуги тотчас послышались шаги пары, следившей за ними, в чем теперь на конце улицы, где народа было не так много, уже не оставалось сомнения. Он начал играть свою роль как можно лучше, нельзя сказать, чтобы он исполнял ее в совершенстве, но его неловкость придавала ему чистосердечный вид.
- Нет, нет, - говорил он, - почему мне платить за твой ужин?! Убирайся-ка, моя милая, и дай мне с моим слугой осмотреть город.
- Позвольте мне быть вашим проводником, мейнгерр, - просила девушка с красным бантом, складывая руки с мольбой и смотря в лицо Фоя.
В эту минуту первая женщина, подходившая к нему, громко сказала его спутнице:
- Скажите, как наш Красный Бант старается! Напрасная надежда, моя милая, добиться ужина или хоть кружки пива за приглашение от лейденского купца-святоши.
- Напрасно ты считаешь его таким скаредом, - отвечала Красный бант через плечо, между тем как глазами показывала Фою, чтобы он отвечал.
Он старался, насколько мог, и результатом было то, что спустя десять минут тот, для кого это представляло интерес, мог видеть, как по Широкой улице шел белокурый молодой человек, нежно обняв за талию свою спутницу-брюнетку, а за ним шагал высокий слуга с огненной бородой и, стараясь подражать своему господину, охватил своей лапищей шею спутницы Красного Банта. Как Мартин объяснял бедной женщине впоследствии, не его была вина, что ей было неудобно идти, так как, если бы ему вздумалось обнять ее за талию, то пришлось бы для этого взять ее под мышку.
Фой и его спутница весело болтали, но Мартин даже не пытался говорить и только пробормотал сквозь зубы:
- Хорошо, что пастор Арентц не может видеть нас. Ему бы ни за что не понять, он на все смотрит с одной точки зрения.
Так, по крайней мере, Фой впоследствии рассказывал в Лейдене.
По знаку своей спутницы Фой повернул в боковую улицу, и ему казалось, что никто не следит за ними, как вдруг он услыхал позади себя насмешливый голос:
- Покойной ночи, Красный Бант. Желаю тебе хорошо поужинать с твоим лейденским приказчиком.
- Скорее, - шепнула Красный Бант и она повернула за угол, потом за другой, за третий.
Теперь они шли по узким улицам, грязным и вонючим, среди домов с остроконечными крышами, местами так свесившимися вперед, что, казалось, сходились наверху, оставляя только полоску звездного неба над головами прохожих. По-видимому, это было городское предместье, и ужасный запах происходил от многочисленных каналов с переброшенными через них сводчатыми мостами, каналов, где теперь, летом, вода стояла низко, неподвижно и загнивала.
Наконец Красный Бант остановилась и постучалась в потайную дверь, которую тотчас отпер человек, не имевший в руке никакого света.
- Входите, - сказал он шепотом, и все четверо вступили в узкий коридор. - Скорее, скорее! - повторял человек. - Я слышу шаги.
Фой слышал также звук шагов по переулку, и когда дверь затворилась, звук замер у дома. Держа друг друга за руки, все шли по узкому коридору и спустились по лестнице, где, наконец, увидели свет, падавший сквозь щели плохо притворявшейся двери. Она отворилась при их приближении и снова затворилась, как они только вошли.
Фой вздохнул с облегчением, так как его утомило это продолжительное бегство, и огляделся. Он увидел, что они находятся в обширном подвале без окон, хорошо меблированном дубовыми скамьями. Посредине стоял стол, уставленный кушаньями и флягами с вином. У нижнего конца стола стоял человек средних лет, преждевременно поседевший и с лицом, носившим отпечаток постоянной заботы.
- Добро пожаловать, Фой ван-Гоорль, - обратился этот человек приятным голосом к вошедшему. - Много лет мы не виделись, а все же я везде узнал бы тебя, хотя ты, я думаю, меня бы не узнал.
Фой смотрел на него, качая головой.
- Я так и думал, - продолжал хозяин, улыбаясь. - Я - Гендрик Брант, твой родственник, некогда бургомистр города Гааги и ее самый богатый гражданин, а теперь травленая крыса, которой приходится принимать гостей в потайном подвале. Скажи мне, благополучно ли доехала дочь моя Эльза до дома твоего отца и здорова ли она?
Фой рассказал ему все происшедшее.
- Я так и знал, - повторял Брант. - Рамиро знал об ее поездке и догадывался, что она может отвезти письмо. Кто из вас предатель? - заговорил он вдруг, сжав кулаки в припадке злобы и обращаясь к женщинам, игравшим роль Красного Банта и служанки. - Неужели вы, евшие мой хлеб, предали меня? Нет, не плачьте, я знаю, что этого не может быть, но теперь у нас в городе сами стены имеют уши, и даже эти толстые своды не сохранят нашей тайны. Ну, мне все равно, лишь бы удалось спасти свое состояние от этих волков! Пусть они тогда схватят мое тело и терзают его. По крайней мере, дочь моя в безопасности на некоторое время, и теперь у меня осталось одно только желание: лишить их также моего состояния.
Затем он обратился к пестро одетой девушке, сидевшей на скамье, закрыв лицо руками, и сказал:
- Расскажи все как было, Гретхен.
Девушка отняла руки от лица и передала все случившееся.
- Они следуют за нами по пятам, - сказал Брант, - но мы, друзья, перехитрим их. Теперь кушайте и пейте, пока можно.
По окончании ужина Брант приказал женщинам уйти и позвать человека, стоявшего на страже, став на его место. Вошел седой старик с суровым лицом и принялся за еду и вино.
- Послушай, Фой, - заговорил Брант, - вот каков мой план: с милю от города, при устье большого канала, стоит несколько судов, нагруженных товарами и лесом; честным людям, ничего не знающим об истинном грузе этих судов, приказано поджечь их, если бы на борту появились чужие. Между этими судами одно - «Ласточка», маленькое, но чрезвычайно быстрое и легко управляемое. Оно нагружено солью, но, кроме того, на нем восемь бочонков с порохом, а в середине между бочками с порохом и солью стоят бочки, в которых скрыты сокровища. Если у тебя хватит храбрости на такое дело, то этот человек, Ганс, довезет тебя до «Ласточки»; если же ты сомневаешься в себе, то скажи прямо, и я поеду сам. Ты должен вступить на борт и на заре, распустив большой парус, выйти в открытое море. Очень вероятно, что при устье канала или в другом месте вас будет поджидать враг. На этот случай я могу дать только один совет: бегите с «Ласточки», если окажется какая-нибудь возможность, спасайтесь на боте или вплавь, но прежде, чем оставить судно, зажгите фитили, приготовленные на корме и носу, и предоставьте пороху сделать свое дело; пусть мои сокровища развеет ветер или скроет вода… Можешь ты сделать это? Подумай хорошенько, прежде чем ответить.
- Разве мы не для того приехали из Лейдена, чтобы исполнять ваши приказания? - отвечал Фой, улыбаясь, и затем прибавил: - Но почему вы не уезжаете с нами? Здесь вам грозит опасность, и даже если бы нам удалось спасти богатство, то какая польза в деньгах без жизни?
- Конечно, для меня никакой, но разве ты не понимаешь? Я живу среди шпионов, за мной следят день и ночь; очень вероятно, что, несмотря на всю мою осторожность, мое присутствие здесь уже известно. Мало того, уже издан приказ схватить меня при первой попытке с моей стороны оставить город. Тогда немедленно будет произведен обыск, и окажется, что мое богатство исчезло. Вспомни, как оно велико, и ты поймешь, почему вороны так жаждут его. О моем состоянии говорят в Нидерландах, о нем донесли испанскому королю, и я знаю, что от него получен приказ о конфискации. Но есть еще шайка, которая раньше собирается наложить на него свою лапу, Рамиро и его товарищи, и вот, благодаря этой борьбе воров между собою, я еще до сих пор жив. Но за каждым моим шагом следят. Хотя они и не верят, чтобы я мог отослать свое богатство, а сам остаться, однако еще не вполне убеждены в этом.
- Вы думаете, они будут преследовать нас? - спросил Фой.
- Наверное. Из Лейдена прибыли гонцы за два часа до вашего приезда в город, и было бы чудом, если бы вам удалось уехать, не повстречавшись с шайкой разбойников. Не заблуждайся: дело, предстоящее тебе, не легкое.
- Вы говорите, мейнгерр, что суденышко быстро на ходу? - спросил Мартин.
- Да, но, может быть, у других есть не менее быстроходное. Кроме того, может случиться, что вы найдете устье канала закрытым стражниками, присланными сюда неделю тому назад с приказанием обыскать каждое судно, выходящее в открытое море. А может быть, вам и удастся проскользнуть мимо…
- Мы с герром Фоем не боимся нескольких ударов, - сказал Мартин, - и готовы храбро встретить всякую опасность; но все-таки все это дело мне кажется очень рискованным, и деньги ваши вряд ли удастся спасти. Вот я и спрашиваю: не лучше ли было бы взять сокровище с судна, где вы его спрятали, и скрыть его на суше или увезти?
Брант покачал головой.
- Я уже думал об этом, - сказал он, - как вообще обо всем, но сделать этого теперь нельзя; и теперь уже не время строить новые планы.
- Почему? - спросил Фой.
- Потому что день и ночь эти люди наблюдают за судами, принадлежащими мне, хотя они и записаны на чужие имена, и не далее как сегодня вечером подписан приказ обыскать эти суда за час до зари. Сведения у меня верные - я дорого плачу за них.
- В таком случае, нечего больше говорить, - сказал Фой. - Мы постараемся добраться до «Ласточки» и увести ее, и если это нам удастся, то постараемся скрыть сокровища, а если не удастся, то взорвем судно, как вы приказываете, сами же будем стараться скрыться, или… - он пожал плечами.
Мартин не сказал ничего и только покачал своей большой рыжей головой; лоцман же, сидевший за столом, тоже не проронил ни слова.
Гендрик Брант взглянул на них, и его бледное, похудевшее от забот лицо начало подергиваться.
- Прав ли я? - проговорил он вполголоса и наклонил голову, как бы в молитве.
Когда он снова выпрямился, он, казалось, принял решение.
- Фой ван-Гоорль, - сказал он, - выслушай меня и передай твоему отцу, а моему душеприказчику то, что я скажу, так как писать мне некогда. Ты, вероятно, удивляешься, почему я не предоставляю богатство на волю судьбы, не рискуя жизнью людей для его сохранения. Что-то в сердце толкает меня на иной путь. Может быть, это воображение; но я человек, стоящий на краю могилы, и таким людям - я знаю это - иногда бывает дано прозреть будущее. Мне кажется, что тебе удастся спасти сокровище и что оно даст возможность погубить нескольких злых людей, и еще больше того, но когда это будет, этого я не могу видеть. Однако я уверен, что тысячи и десятки тысяч людей будут жить, благословляя золото Гендрика Бранта, и поэтому я так стараюсь скрыть его от испанцев. Вот почему я прошу вас обоих рискнуть вашей жизнью сегодня ночью - не ради богатства, потому что богатство тленно, но ради того, что может быть достигнуто с помощью этого богатства в будущем.
Он замолк на минуту, затем продолжал:
- Я надеюсь также, что, будучи, как мне говорили, свободным, ты со временем полюбишь мою дорогую девочку, которую я поручаю попечению твоего отца и твоему. Так как время уходит и мы никогда больше не увидимся с тобой, то я прямо скажу, что такой союз был бы приятен мне, так как я слышал о тебе много хорошего и ты мне нравишься по характеру так же, как по наружности. Помни всегда, какими бы тучами ни было покрыто небо над тобой, что перед своей смертью Гендрик Брант имел откровение о тебе и любимой дочери, которую ты со временем полюбишь, как ее любят все, кто знает. Помни также, что ее привязанность не легко приобрести и что ты женишься на ней не из-за богатства, так как, повторяю тебе, богатство принадлежит не ей, но нашему народу, на благо которого оно должно быть употреблено.
Фой слушал с удивлением, но не отвечал ничего, не зная, что сказать. Однако на пороге первого важного события в своей жизни ему приятно было услышать эти слова, так как он уже и сам нашел, что у Эльзы красивые глаза.
Брант между тем обратился к Мартину, но тот, тряся своей рыжей бородой, отступил на шаг.
- Благодарю вас, мейнгерр, - сказал он, - но я обойдусь без пророчеств; хорошие или дурные, они смущают человека. Однажды астролог предсказал мне, что я утону на двадцать пятом году. Я не утонул, но, Бог мой, сколько лишних миль я сделал, отыскивая мосты, благодаря этому астрологу.
Брант улыбнулся.
- Относительно тебя, мой друг, я ничего не предвижу, кроме того, что твоя рука окажется всегда крепкой в битве, что ты всегда будешь любить своих хозяев и будешь употреблять свою силу на отмщение за Божьих замученных святых.
Мартин усердно кивал головой и сжимал рукоять своего меча «Молчание», между тем как Брант продолжал:
- Из-за меня и моих ты вступил в опасное дело, и если останешься жив, то получишь хорошую награду.
Он подошел к столу и, взяв лист бумаги, написал: «Герру Дирку ван-Гоорлю и его наследникам, моим душеприказчикам и хранителям моего состояния, которое они должны употребить, как укажет им Господь. Сим назначаю, чтобы за дело сегодняшней ночи Мартину по прозванию Красный, слуге вышеупомянутого Дирка ван-Гоорля, или его наследникам по его указанию была выплачена сумма в пять тысяч флоринов, и эта сумма прежде всего должна быть взята из моего состояния, на какой бы предмет его ни предназначили мои душеприказчики». Подписав документ и поставив число, он пригласил Ганса-лоцмана поставить и свою подпись в качестве свидетеля. После того он передал бумагу Мартину, который поблагодарил его, поднеся руку ко лбу, говоря в то же время:
- В конце концов, драться не так уж плохо! Пять тысяч флоринов! Никогда мне и во сне не снилось такое богатство.
- Ты еще не получил его, - заметил Фой. - И что ты сделаешь теперь с бумагой?
Мартин задумался.
- Положить в куртку?.. Нет, - сказал он, - куртку можно снять и забыть. В сапоги?.. Нет, там она продерется, особенно, если они намокнут. Зашить в фуфайку?.. Нельзя по той же причине. А, догадался!..
Вытащив из ножен свой огромный меч, он начал ножом отвертывать один из маленьких серебряных винтиков, которыми рукоять была привинчена к лезвию. Вынув винт, он дотронулся до пружинки, и одна четвертушка костяной ручки отскочила, обнаружив значительную пустоту внутри рукояти, так как меч был сделан для двух обыкновенных человеческих рук, и только Мартин мог удержать его одной рукой.
- Зачем эта дыра? - спросил Фой.
- Копилка палача, - отвечал Мартин, - благодаря которой человек, имеющий с ним дело, становится счастливым, конечно, если иметь чем заплатить. Я помню, он предлагал и мне, перед тем как я… - Мартин запнулся, свернув бумагу, спрятал ее в углубление.
- Ты можешь лишиться своего меча, - высказал свое предположение Фой.
- Да, но только вместе с жизнью, и тогда заменю надежду на флорины золотым венцом, - отвечал Мартин, осклабившись. - А до тех пор я не намерен расставаться с «Молчанием».
Между тем Гендрик Брант разговаривал шепотом с молчаливым лоцманом, и этот, поднявшись, сказал:
- Не беспокойся обо мне, брат, я иду на риск и не желаю пережить тебя. Мою жену сожгли, одна из двух дочерей замужем за человеком, который сумеет защитить их обеих. Не беспокойся обо мне, у которого одно только желание - выхватить из-под носа у испанцев сокровище, чтобы со временем оно могло служить к их погибели!
Он снова погрузился в молчание. Молчали и остальные присутствующие.
- Пора отправляться, - заговорил Брант. - Ганс, ты укажешь дорогу. Мне надо еще побыть здесь, прежде чем я пойду домой и покажусь на улице.
Лоцман кивнул головой.
- Готовы? - спросил он, обращаясь к Фою и Мартину. Затем, подойдя к двери, он свистнул, и в комнату вошла Красный Бант со своей спутницей. Он сказал им несколько слов и поцеловал каждую в лоб. Затем он подошел к Гендрику Бранту и, обняв его, поцеловал горячее, чем целовал своих дочерей.
- Прощай, брат, - сказал он, - до свидания здесь или там - все равно. Не бойся, мы, может быть, переправим все в Англию или пошлем все к черту и вместе с тем отправим туда же искать богатства несколько испанцев. Теперь, товарищи, пойдемте, и не отставайте от меня, а если кто захочет остановить нас, пришибите его. Когда мы дойдем до лодки, вы будете грести, а я сяду у руля. Дочери проводят нас до канала, под руку с каждым из вас. Если что-нибудь случится со мной, каждая из них может направить вас к «Ласточке», и если ничего не случится, то мы высадим их на ближайшей верфи. Идемте! - И он пошел к выходу.
На пороге Фой оглянулся на Гендрика Бранта. Тот стоял у стола, и свет, ярко освещавший его седую голову, образовал вокруг нее как бы венец. В эту минуту, закутанный в свой длинный черный плащ, с губами, шепчущими молитву, и руками, поднятыми, чтобы благословить уходящих, он походил не на обыкновенного смертного, но на какого-то святого, сошедшего на землю. Дверь затворилась, и Фой уже никогда не видал более Бранта, так как вскоре после того агенты инквизиции схватили старика и он умер в их жестоких руках. Одним из обвинений, выставленных против него, было то, что более двадцати лет тому назад Черная Мег, сама явившаяся свидетельницей, видела, как он читал Библию. Однако инквизиции не удалось узнать, где спрятано сокровище. Правда, ради более легкой смерти он сделал своим мучителям длинное признание, заставившее их совершить далекое путешествие, но он сам не знал истины и поэтому, собственно, не мог сообщить ничего.
Когда Фой со своими спутниками вышел на темную улицу, он снова обнялся с Красным Бантом, а Мартин снова обхватил за шею ту из женщин, которая казалась служанкой, между тем как лоцман, будто платный проводник, показывал дорогу. Скоро позади них послышались шаги - за ними следили. Они сделали один-два поворота и очутились на берегу канала, где Ганс, спустившись вместе с дочерьми с лестницы, вошел в лодку, стоявшую наготове. Мартин следовал за ними, а последним был Фой. В ту минуту, как он поставил ногу на первую ступень, из мрака вынырнула темная фигура, в воздухе сверкнул нож и ударил его между лопаток. Он покачнулся и со всего размаху полетел с лестницы.
Но Мартин все видел и слышал. Он размахнулся своим мечом. Убийца был далеко, однако конец меча коснулся протянутой руки его и из нее выпал сломанный нож, между тем как державший его отшатнулся с криком боли. Мартин схватил нож, затем вскочил в
лодку и оттолкнул ее. На дне ее лежал Фой, упавший прямо в объятия Красного Банта, повалив и ее.
- Вы ранены, мейнгерр? - спросил Мартин.
- Нет, - отвечал Фой. - Но боюсь, не ушиб ли я барышню.
- Подарок матери - хороший подарок, - проговорил Мартин, усаживая Фоя и его спутницу на скамью в лодке. - Вместо того чтобы нанести вам восьмидюймовую рану, нож сломался о кольчугу. Вот он. - Он бросил рукоятку ножа на колени Фоя и взялся за весло.
Фой рассматривал нож при слабом свете и увидел, что на ручке замер палец - длинный, костлявый, с надетым на него золотым кольцом.
- Это может пригодиться, - подумал Фой, положив палец с кольцом в карман.
Все взялись за весла и стали грести, пока не подъехали к верфи.
- Ну, дочери, теперь прощайте, - сказал Ганс.
Красный Бант нагнулась и поцеловала Фоя.
- До сих пор была шутка, а теперь всерьез, - сказала она. - Это на счастье. Прощайте, товарищ, и когда-нибудь вспомните обо мне.
- Прощайте, товарищ, - повторил Фой, отвечая на поцелуй.
Она спрыгнула на берег. Больше они не встречались.
- Вы знаете, что делать, - обратился Ганс к дочерям, - и через три дня вы будете в Англии, где, может быть, мы встретимся, хотя на это не рассчитывайте. Но что бы ни случилось, живите честно, помните меня, пока мы встретимся здесь или там, а главное, помните мать и вашего благодетеля Гендрика Бранта. Прощайте!
- Прощай! - отвечали дочери с рыданием, и лодка отчалила по темному каналу, оставив дочерей Ганса на верфи.
Впоследствии Фой узнал, что шедшая с Мартином была замужняя. Красный Бант тоже вышла замуж за лондонского торговца сукном, и ее внук был лондонским лорд-мэром. Больше мы уже не встретимся с этими девушками в нашем рассказе.
ГЛАВА XIV. Меч «Молчание» получает тайну на хранение
С полчаса они плыли по каналу молча и без препятствий. Теперь лодка вступила в более широкий проток, по которому они приближались к морю, держась, насколько было возможно, в тени берега, потому что хотя ночь и была безлунная, но на канале лежал слабый сероватый свет. Наконец Фой заметил, что их шлюпка начала толкаться о бока выстроенных в ряд барок и речных лодок, нагруженных лесом и другими товарами. Лоцман Ганс направился к четвертой из барок и привязал к ее корме свою лодку. Взобравшись сам на борт, он пригласил своих спутников последовать за собой.
Когда они исполняли его приказание, Фой увидел, как впереди поднялись две темные фигуры и сверкнуло стальное лезвие. Ганс свистнул, опустив оружие, эти люди подошли к нему и вступили в разговор. Скоро Ганс обратился к Фою и Мартину:
- Нам придется подождать немного - ветер дует противный, и было бы слишком опасно идти на веслах против него в открытое море мимо мелей. Он переменится еще до зари, если я что-нибудь понимаю в небе, и сильно подует от земли.
- Что говорили люди с судна? - спросил Фой.
- Только то, что им уже четыре дня не дают пропуска и что назавтра назначен обыск, и груз будут вынимать по одной вещи.
- Ну, надеюсь, что к тому времени то, что они ищут, будет уже далеко. Покажите нам судно.
Ганс повел их под палубу, так как суденышко было крытое и по размерам и форме напоминало теперешние суда сельдяных промышленников, хотя несколько более легкой постройки. Он зажег фонарь и стал показывать груз. Сверху лежали мешки с солью. Сняв один или два из них, Ганс открыл днища пяти бочонков, всех помеченных буквой Б, нарисованной белой краской.
- Вот что они будут искать, - сказал Ганс.
- Сокровища? - спросил Фой.
Лоцман кивнул головой.
- Да, эти пять бочонков.
Под этими пятью бочонками он указал еще на другие девять бочонков, наполненных лучшим порохом, и указал, как зажигательная нитка проходила в помещение для товара, на палубу и к рулю, где ее в любую минуту могли зажечь. Осмотрев, насколько позволяло освещение, канаты и паруса, Фой и его спутники сели в каюте, ожидая, пока ветер переменится, между тем как двое матросов поднимали якорь и приготовляли паруса. Прошел час, а ветер все еще продолжал дуть с моря, хотя уже не постоянно, а как бы нерешительными порывами, и наконец совершенно стих.
- Дай Бог, чтобы ветер поднялся поскорее, - сказал Мартин, - обладатель того пальца, который у вас в кармане, наверное, давно приготовился гнаться за нами, и вот восток уже алеет.
Молчаливый, угрюмый Ганс подался вперед и смотрел на темную воду, приложив руку к уху.
- Я слышу их, - сказал он.
- Кого? - спросил Фой.
- И испанцев, и ветер, - отвечал он. - Скорее поднимем грот-парус и выйдем на середину канала.
Все трое схватились за веревки; кольца и снасти затрещали, между тем как большой парус стал подниматься кверху по мачте. Наконец его установили, а вслед за ним и второй парус. Тогда с помощью обоих матросов «Ласточку» вывели из ее места в линии прочих судов на фарватер. Все это произвело шум и потребовало некоторого времени; на берегу появились люди и стали спрашивать, кто смеет без позволения сниматься с якоря. Когда с «Ласточки» не последовало ответа, раздался выстрел, а на сторожевом посту запылал огонь.
- Плохо дело, - сказал Ганс, - они дают сигнал правительственному кораблю у устья канала. Смелей, мейнгерр, смелей!.. Вот и ветер!
Он подбежал к рулю, рукоятка повернулась, и суденышко начало пролагать себе дорогу.
- Да, а вместе с ветром идут и испанцы, - заметил Мартин.
Фой стал вглядываться в серые сумерки, становившиеся с каждой минутой все светлее, так как уже занималась заря, и увидел не более как в четверти мили расстояния длинную лодку, на всех парусах несущующуюся к ним.
- Им пришлось плыть в темноте, вот отчего они так запоздали, - заметил Ганс через плечо.
- Как-никак, они здесь, и их немало, - сказал Фой, когда крик дюжины голосов с лодки возвестил им, что они открыты.
Но тут «Ласточка» полетела, глубоко бороздя носом воду.
- Далеко до моря? - спросил Фой.
- Около трех миль, - отвечал Ганс, - с таким ветром мы сделаем их в четверть часа. Мейнгерр, прикажите своему слуге зажечь огонь в кухне.
- Зачем? - спросил Фой. - Чтобы приготовить завтрак?
Лоцман пожал плечами и пробормотал:
- Да, если мы еще будем живы, чтобы съесть его.
Но Фой видел, что он смотрит на зажигательную нитку, и понял его мысль.
Прошло десять минут, они миновали последний бакен и вышли в открытое море. Между тем стало уже совершенно светло, и ехавшие на «Ласточке» увидели, что сигнальные огни были зажжены не понапрасну. При устье канала, как раз где начиналась последняя мель, была устроена земляная дамба, оставлявшая проход не больше пятидесяти шагов шириной, и на одном краю ее стоял форт, вооруженный пушками. В небольшой бухточке под стенами форта стояла наготове открытая шлюпка с двенадцатью или пятнадцатью поспешно вооружавшимися солдатами.
- Что же теперь будет? - спросил Мартин. - Они запрут выход из канала.
Ганс стиснул зубы и не отвечал; он только смотрел то на преследователей, то на заграждавших дорогу, но затем вдруг громко скомандовал:
- Вы двое - под палубу! Они собираются стрелять с форта.
Сам он плашмя лег на палубу, не выпуская руля из поднятой руки.
Фой и Мартин повиновались, сознавая, что на палубе они бесполезны. Только Фой одним глазом заглядывал через люк.
- Вот оно! - сказал он и пригнулся.
С форта показался дымок и вслед за тем свист снаряда, пролетевшего в воздухе; затем - снова дымок, и в парусе «Ласточки» появилась дыра. После этого нового выстрела не последовало, потому что люди не успели заложить новые заряды; только несколько солдат, вооруженных арбалетами, начали стрелять по суденышку, пронесшемуся в нескольких футах мимо них.
Не обращая внимания на летевшие стрелы, Ганс снова встал на ноги, потому что лежащему человеку невозможно было бы выполнить такую работу, какая предстояла. Большая лодка, спущенная у форта, теперь была футах в двухстах от них, и «Ласточка», подхваченная сильным течением, неслась на нее с быстротою стрелы.
Фой и Мартин выползли из-под палубы и легли рядом с лоцманом, наблюдая за неприятельской лодкой, дошедшей до половины самого узкого места канала еще по эту сторону мели.
- Смотрите, - сказал Фой, - они бросают два якоря. Будет ли возможность пройти мимо них?
- Нет, - отвечал Ганс, - у самой мели вода слишком мелка, и они знают это. Принесите горящую головню.
Фой сполз вниз и вернулся с огнем.
- Ну, теперь, герр Фой, зажгите нитку.
Фой широко раскрыл свои голубые глаза, и у него мороз прошел по коже, но, стиснув зубы, он повиновался. Мартин, взглянув на Ганса, проговорил:
- Жалко молодости!
Ганс кивнул головой и сказал:
- Не бойся: пока нитка догорит до палубы, мы уже будем в безопасности. Ну, товарищи, теперь держись крепче! Мне нельзя пройти мимо лодки, так я пройду сквозь нее. Мы, может быть, пойдем ко дну по ту сторону, хотя я уверен, что огонь достигнет пороха еще раньше; в таком случае, вы можете спастись вплавь, я же пойду туда, куда пойдет «Ласточка».
- Посмотрю, когда придет время. Ох, этот проклятый астроном! - проворчал Мартин, оглядываясь на преследовавшую их лодку, которая находилась не дальше восьми или девяти сот ярдов.
Между тем офицер, командовавший лодкой, вооруженный мушкетом, кричал им, чтобы они спустили парус и сдались; только тогда, когда между обеими лодками оставалось расстояние не больше пятидесяти ярдов, он, казалось, понял отчаянное намерение голландцев. В лодке послышались возгласы:
- Эти дьяволы хотят потопить нас! - и многие бросились поднимать якоря. Один только офицер стоял стойко, бешено крича.
Но было уже поздно: сильный порыв ветра подхватил «Ласточку», и она пронеслась мимо с быстротой сокола.
Ганс стоял и, осматриваясь, слегка поворачивал руль. Фой наблюдал за лодкой, на которую они летели, а Мартин, лежа возле него, не сводил глаз с нитки.
Вдруг, когда до лодки оставалось всего футов пятьдесят, испанский офицер, перестав кричать, поднял мушкет и выстрелил. Мартину, поднявшему глаза, показалось, что лоцман покачнулся, но он не издал ни звука. Он только придал какое-то особое положение рулю, налегши на него изо всех сил, и его спутникам показалось, будто «Ласточка» на минуту остановилась и нос ее поднялся над водой; затем вдруг послышался звук, будто что-то треснуло, покрывший даже крик солдат в лодке: бушприт рухнул, и парус бился в воздухе, как огромный флаг.
Фой на минуту зажмурился, держась обеими руками за борт, пока лодка не перестала дрожать. Когда он снова открыл глаза, то первое, что он увидел, было тело испанского офицера, перевесившееся через сломанный бушприт. Фой оглянулся. Лодка исчезла, и над водой виделись три или четыре головы плывших людей. Что же касается его и его спутников, то они казались невредимы, только их суденышко лишилось бушприта; но теперь оно плавно, как лебедь, плыло по морю. Ганс взглянул на зажигательную нитку, которая тлела уже близко к палубе, а Мартин стал топтать ее, говоря:
- Если мы теперь пойдем ко дну, то пойдем на глубоком месте, стало быть, не стоит лететь на воздух прежде, чем утопать.
- Поди взгляни, есть ли течь, - сказал Ганс.
Они спустились вниз; как оказалось, «Ласточка» не получила никакого серьезного повреждения. Ее массивный дубовый нос врезался в легкие борта открытой испанской лодки и разрезал ее, как нож яйцо.
- Отличный был поворот, - сказал Фой Гансу, когда они повернули, - кажется, все сделано как следует.
Ганс кивнул.
- Да, ловко прицелился, - проговорил он, - видимо, и следа не осталось.
В эту минуту «Ласточка» сильно качнулась, и тело испанца тяжело всплеснув, упало в воду.
- Я рад, что лодка пошла ко дну, - сказал Фой, - а теперь давайте позавтракаем: я умираю с голода. А вам, друг Ганс, принести что-нибудь поесть?
- Нет, мейнгерр, мне хочется спать.
Что-то такое в тоне лоцмана заставило Фоя взглянуть ему в лицо. Губы старика посинели. Фой взглянул ему на руки: хотя они крепко держали руль, однако тоже посинели, будто от холода, а на палубу капала кровь.
- Вы ранены? - спросил Фой. - Мартин, Ганс ранен.
- Да, - сказал лоцман, - он целил в меня, а я целил в него, и, может быть, мы скоро обсудим с ним вместе, как все случилось. Не беспокойтесь - навылет и смертельно. Я не ждал ничего иного, поэтому и не жалуюсь. Слушайте меня, пока я еще в силах говорить. Сумеете вы проехать до Гарвича, в Англию?
Мартин и Фой отрицательно покачали головой. Подобно большинству голландцев, они были хорошие моряки, но знали только берега собственной страны.
- В таком случае, и не пытайтесь; тут дуют ветры, которые отнесут вас в сторону, вы пойдете ко дну, и сокровища погибнут. Плывите на Гаарлемское озеро, друзья; на нашей «Ласточке» вы можете подойти близко к берегу, между тем как этому огромному дьяволу - он указал на преследовавший их корабль, переходивший через мель, - придется останавливаться вдали. Через узенький канал войдите в море. Вы знаете тетушку Марту по прозвищу Кобыла? Она будет ждать вас у входа в канал: она всегда там. Я, на всякий случай, дал ей знать, что мы можем заехать в море, и если вы поднимете белый флаг с красным крестом - он лежит в каюте - или в сумерки вывесите красный фонарь на правой стороне, она приедет, чтобы провести вас, потому что хорошо знакома с «Ласточкой». Ей вы безбоязненно можете сообщить все; она поможет вам и будет хранить тайну, как мертвая. В море вы можете потопить или взорвать на воздух, на суше - закопать сокровища, вообще сделать, что окажется нужным, но именем Бога, к которому я отхожу, умоляю вас, не отдавайте его в руки Рамиро и его испанских крыс, которые гонятся за нами по пятам.
При этих словах Ганс упал на палубу; Фой подбежал, чтобы поддержать его, но он отвел его слабеющей рукой.
- Оставьте меня, - шепотом сказал он, - я хочу помолиться. Я поставил руль. Держите тот же курс.
Мартин взялся за руль, между тем как Фой стоял около Ганса. Через десять минут последнего не стало.
Сильный ветер гнал их к Гаарлемскому морю; испанский корабль шел за ними, но держался дальше в открытом море, избегая мелей. Через полчаса ветер, все более и более поворачивая к северу, превратился в ураган, и им пришлось бороться против него, убрав паруса. Однако все обошлось благополучно; Фой смотрел за парусами, а Мартин стоял у руля. «Ласточка» была хорошее морское суденышко, и если плыла медленно, то и ее преследователь плыл не скорее ее, и между ними образовывался по временам промежуток в милю. Наконец к вечеру они увидали развалину мызы, указывавшую вход в один из каналов, ведущих в Гаарлемское море.
- Море бурно на мели, и теперь отлив, - заметил Фой.
- А все же надо попытаться, мейнгерр, может быть, и проскочим, - отвечал Мартин и направил «Ласточку» к устью протока.
Здесь волны вставали как горы и заливали палубу, однако «Ласточке» удалось перебраться через три мели, и наконец она вступила в спокойные воды канала, где пошла, хотя и тихо, но на парусе.
- Наконец-то мы ушли от них, - сказал Фой, - им не войти сюда до прилива.
- Надо воспользоваться временем, - отвечал Мартин. - Поднимите же белый флаг, и, пока возможно, закусим.
Пока они ели, солнце село и ветер так упал, что они едва шли по узлу в час. Так как Марты или какого-либо другого лоцмана не было видно, то они вывесили красный фонарь и медленно подвигались вперед, пока не достигли наконец выхода в море - обширной водной поверхности, местами мелкой, местами глубокой и усеянной во всех направлениях островками. Ветер теперь дул противный, и при наступившей полной темноте пришлось бросить якорь, рискуя иначе наткнуться на берег. Одно утешало пассажиров «Ласточки» - что их преследователь не мог видеть их.
Тут в первый раз их мужество несколько поколебалось, и они стояли молча у руля, не зная, что предпринять. Вдруг перед ними появилась белая фигура, будто поднявшись с палубы судна. Они не слыхали звука весел или шагов, а между тем фигура стояла перед ними, вырисовываясь на темном небе.
- Кажется, друг Ганс ожил, - сказал Мартин с легкой дрожью в голосе: он ужасно боялся привидений.
- А я думаю, что нас выследил испанец, - сказал Фой, выхватывая нож.
Но тут послышался хриплый голос:
- Кому надо лоцмана в моих водах?
- А кто ты? - спросил Фой. - Говори скорей!
- Я лоцман, - отвечал голос, - а ваше судно по виду и сигналу, должно быть, «Ласточка» из Гааги. А почему это мне пришлось споткнуться на палубе о мертвое тело?
- Пойдем в каюту, и я расскажу тебе все, - сказал Фой.
- Хорошо, мейнгерр.
Фой повел лоцмана в каюту, между тем как Мартин немного отстал.
«Мы нашли себе проводника, зачем нам теперь фонари?» - подумал он и загасил все фонари, кроме одного, который взял в каюту.
Фой ждал его у двери, и они вошли вместе. Фонарь осветил странную фигуру, одетую в меховую одежду, такую широкую и бесформенную, что невозможно было сказать, мужчину или женщину она покрывала. Фигура была без шапки, и на лоб ей спускалась прядь волнистых седых волос. Лицо с парой блуждающих серых глаз было изможденное, обветренное от постоянного пребывания на воздухе, все в шрамах, некрасивое, с высохшими губами и выступающими вперед зубами.
- Здравствуй, сын Дирка ван-Гоорля и Красный Мартин. Я - тетка Марта, прозванная испанцами «Кобылой» и озерной ведьмой.
- Я и без ваших слов узнал бы вас, матушка Марта, - сказал Фой, - хотя, правда, уже много лет не видел вас.
Марта грустно улыбнулась, отвечая ему:
- Да, много лет. Какое дело жирным лейденским бюргерам до бедной бродяги в спокойное время. Я не хочу укорять вас. Не следовало бы даже, чтобы знали, что ты или твои родители имеют дело со мной. Ну, что вам от меня нужно? По сигналу я вижу, что есть дело; а почему тело крестного брата Гендрика Бранта лежит там, у руля?
- Потому что, говоря прямо, у нас на борту богатство Гендрика Бранта, а что касается остального, то взгляните туда.
И Фой указал вдаль, где среди мрака в нескольких милях светилась точка, слишком низкая и красная, чтобы быть звездой, - фонарь, поднятый на мачту корабля.
Марта кивнула.
- Испанцы гонятся за вами, и ветер не пускает их сюда. Времени терять нечего. Спустите лодку, и мы отведем «Ласточку» туда, где она на сегодняшнюю ночь будет в безопасности.
Через пять минут они все ехали на веслах в лодочке, в которой бежали из Гааги, к неизвестному им месту в темноте, медленно ведя за собой на буксире «Ласточку». По пути Фой рассказал Марте все касавшееся данного ему поручения и своего бегства из Гааги.
- Я прежде слыхала об этих богатствах, - сказала Марта, - все Нидерланды знают о сокровищах Гендрика Бранта. Покойный Ганс известил меня, что они могут попасть сюда; он думал что на меня можно положиться в таких делах, - усмехнулась она. - Ну, что же вы намереваетесь делать?
- Исполнить данное нам приказание, - сказал Фой. - Спрячем богатство, если окажется возможным, или уничтожим его.
- Лучше первое, чем второе, - прервала Марта. - Спрячьте сокровища, говорю вам, и уничтожьте испанцев. У тетки Марты есть план.
- Мы можем потопить судно, - предложил Фой, - или положить драгоценности в лодку и потопить ее.
- И никогда не найти ее в этом море, - заметила Марта.
Все это время Марта так уверенно управляла лодкой, будто среди белого дня. Лодка выехала из открытой воды и пробиралась между островками. Наконец гребцы почувствовали, что идущая позади «Ласточка» слегка задевает дном за ил; тогда Марта, отведя ее в сторону, бросила якорь, говоря, что здесь будет ее стоянка на ночь.
- Теперь, - сказала она, - несите золото и кладите в лодку; если вы хотите спасти его, много придется поработать до зари.
Фой и Мартин пошли вниз, между тем как Марта, свесившись над перилами лестницы, держала зажженый фонарь, светя им, так как они не решались подходить с огнем к пороху. Сняв мешки с солью, они скоро добрались до бочонков с буквой Б и, несмотря на всю свою силу, с трудом при помощи блока опустили их в лодку. Наконец погрузка была окончена, место бочонков занято мешками с солью. Захватив два железных, заранее приготовленных заступа, Фой, с Мартином снова спустились в лодку, которой по-прежнему управляла Марта. Больше часу они пробирались между бесконечными островками, на темные берега которых Марта пристально смотрела, пока, наконец она не приказала им положить весла, и они причалили.
Марта привязала лодку и скрылась в камышах, откуда скоро вернулась, говоря, что место найдено. Тогда началась трудная работа перекатывания тяжелых бочонков шагов на тридцать по тропинкам, проложенным речными бобрами среди густых камышей.
Осторожно вырезав камыш в месте, указанном Мартой, Мартин и Фой принялись копать при свете звезд глубокую яму. Они работали усердно и все-таки, не будь почва такой болотистой и мягкой, не успели бы кончить до рассвета, так как яма должна была быть очень объемистой, чтобы заключить в себе все бочонки.
Выкопав фута три почвы, они дошли до поверхности озера и продолжали работать в воде, выбрасывая заступами грязь. Наконец все пять бочонков были поставлены рядышком в воде, закрыты землей, а место заложено торфом и покрыто камышом.
- Пойдемте, - сказала Марта. - Времени терять нельзя.
Они выпрямились и обтерли пот с лица.
- Кругом накидана земля, она может выдать нас, - сказал Мартин.
- Да, - согласилась Марта, - если кто увидит это место в течение десяти дней, а потом болотистая почва опять зарастет мохом, и все скроется.
- Мы сделали, что могли, - заметил Фой, ополаскивая загрязнившиеся сапоги, - а там будь что будет.
Они снова сели в лодку и поехали прочь, но гребли гораздо медленнее: утомленный Фой чуть не засыпал над своим веслом.
Вдруг Марта дотронулась до его плеча. Он поднял голову и увидел неясно обрисовавшиеся при слабом свете футах в двухстах мачты преследовавшего их корабля с фонарем, одиноко горевшим на мачте.
Марта нагнулась и что-то повелительно шепнула.
- Это сумасшествие, - сказал Мартин.
- Делайте, как я говорю, - прошипела она.
И они пустили лодку по ветру, пока она не доплыла к маленькому островку футах в тридцати от стоявшего на якоре корабля. На островке, на самом берегу росла одинокая ива, свесившись ветвями в воду.
- Держитесь за ветви дерева, - проговорила Марта, - и подождите, пока я вернусь.
Фой и Мартин повиновались.
Марта встала. Они увидели, что она сняла свое меховое платье и выросла перед ними высокой белой фигурой, вооруженной ножом. Она взяла нож в зубы и тихо, как водяная птица, спустилась в воду. Прошло не больше минуты, и ее спутники заметили, что кто-то карабкается по якорному канату.
- Что она хочет делать? - шепотом спросил Фой.
- Бог знает, - отвечал Мартин, только если она не вернется, прощай богатство герра Бранта: она одна может найти место.
Они ждали затаив дыхание, как вдруг до них донесся какой-то странный, глухой звук, и фонарь на корабле исчез. Две минуты спустя над бортом показалась рука с ножом, и в следующую секунду в лодку, как большая рыба из сети, скользнула белая фигура.
- Отчаливайте и гребите, - запыхавшись, проговорила она, и они повиновались.
Марта же снова оделась в свою меховую одежду.
- Что вы сделали? - спросил Фой.
- Одну вещь, - отвечала она со злобным смешком. - Заколола часового. Он принял меня за приведение и со страху не посмел крикнуть. Я перерезала канат и, кажется, подожгла корабль. Смотрите!.. Только гребите, гребите за угол острова.
Они изо всей силы налегли на весла, а когда оглянулись, то увидели из-за высокой стены камышей огненный язык, взбегавший по снастям корабля, и до слуха их донеслись испуганные, сердитые голоса. Спустя десять минут они были на борту «Ласточки» и оттуда смотрели, как пылал испанский корабль приблизительно на расстоянии мили от них. Здесь они подкрепились пищей и питьем, в которых сильно нуждались.
- Что теперь делать? - спросил Фой, когда они кончили.
- Пока ничего, - отвечала Марта, - только дайте мне перо и бумагу.
Они нашли просимое, занавесив маленькое оконце каюты, Марта присела к столу и медленно, но чрезвычайно искусно нарисовала план, или, скорее, картину этой части Гаалемского озера. На этом плане было точно изображено до двадцати островов, и один из них был отмечен маленьким крестиком.
- Возьмите и спрячьте, - сказала Марта, окончив карту, - таким образом вы будете знать, где искать сокровища Гендрика Бранта. Имея этот план в руках, вам не трудно будет разыскать сокровища: я рисую хорошо. Помните, что вещи закопаны в тридцати шагах к югу от единственного места, где можно пристать к острову.
- Что мне делать с такой драгоценной картой? - беспомощно спросил Фой. - Я вправду боюсь носить такую вещь при себе.
- Дайте ее мне, мейнгерр, - сказал Мартин, - пусть тайна сокровищ лежит вместе с завещанием, исполнение которого зависит от находки этих сокровищ.
Он отвинтил ручку меча «Молчание», сложил бумагу и, обернув ее тряпочкой, спрятал в пустую рукоять.
- Теперь меч мой дороже, чем могут подумать многие, - сказал Мартин, привинчивая рукоять. - Надеюсь, что тому, кому вздумалось бы узнать тайну от моего меча, прежде придется познакомиться с его лезвием. Теперь едем дальше!
- Послушайте, - сказала Марта, - решитесь ли вы вдвоем на смелое дело против испанцев? Корабль их сгорел, но их на нем было с полсотни, и у них два бота. На рассвете, заметив мачты нашего судна, они нападут на нас на своих ботах, надеясь найти сокровища. Нам надо поджечь зажигательные нити.
- Вероятно, испанцев осталось в живых не много, - высказал свое предположение Фой.
- Видя, как «Ласточка» взлетит на воздух, подумают, что сокровища погибли вместе с ней, и отложат их поиски, - продолжала Марта. - Да, план хорош, но опасен. Обсудим его хорошенько.
Заря разлилась желтым светом по поверхности Гаарлемского моря. Со стороны продолжавшего гореть испанского корабля донесся звук гребущих весел, и трое наблюдателей с «Ласточки» увидели две лодки, полные вооруженных людей, направлявшихся к ним. Когда лодка подошла футов на сто, Марта прошептала:
- Пора!
Фой с разных сторон поджег нити и для пущей уверенности бросил зажженный огарок в кучу пропитанных маслом тряпок, уже приготовленных в трюме. После того он вместе со своими спутниками спустился с той стороны «Ласточки», где их не могли видеть испанцы, в мелкую воду, заросшую высоким тростником, и все направились к берегу. Здесь, пробежав шагов сто, они спрятались в группе болотного ивняка. Фой затем взобрался на одну из ив, откуда видны были «Ласточка» и испанский корабль. Испанцы уже подплыли к «Ласточке», и слышался голос начальника лодки, приказывавшего человеку, стоявшему у сломанной мачты, и всем находившимся на судне сдаться.
Но человек у мачты не отвечал, в чем, впрочем, не было ничего удивительного, так как то был убитый лоцман Ганс, тело которого Мартин привязал к мачте, чтобы обмануть испанцев. Испанцы выстрелили в лоцмана, который остался в прежнем положении, и начали взбираться на борт. Теперь все люди из первого бота были на «Ласточке», исключая двух рулевого и начальника, в котором по костюму и манере держаться Фой узнал одноглазого испанца Рамиро, хотя дальность расстояния мешала ему сказать это с уверенностью. Одно было очевидно - что этот человек не намеревался взбираться на «Ласточку», так как он вдруг повернул свою лодку, и ветер, надув парус, быстро отнес ее прочь.
- Хитрый парень, - сказал Фой Мартину и Марте, стоявшим под деревом, - я дурак, зажег промасленные тряпки, и он увидал дым из люка.
- А ему уже довольно было побывать сегодня на одном горящем корабле, и он предоставляет это удовольствие своим товарищам, - вставил Мартин.
- Второй бот подходит, - продолжал Фой, - и, вероятно, сейчас произойдет взрыв.
- Нет, еще рано, - сказал Мартин, - не прошло и шести минут с тех пор, как вы подожгли нитку.
Наступило молчание, в продолжение которого все трое наблюдали с сильно бьющимися сердцами. Послышался голос, возвещавший, что лоцман мертв, и ответ из лодки от испанца, в котором Фой справедливо признал Рамиро, предостерегавший против измены. Затем вдруг раздались крики: «Мина! Мина!» Испанцы, по-видимому, заметили одну из ниток.
- Они спешат в лодку, - сказал Фой, - а начальник удирает. Господи, как орут!
В ту же секунду воздух огласился страшным криком. Весь остров содрогнулся, дерево, на котором сидел Фой, закачалось, и он свалился с него. Что-то загрохотало, небо затемнилось тучей разлетевшейся соли, снастей, обрывков парусов, дождем посыпавшихся на остров.
В пять секунд все было кончено, а трое пассажиров «Ласточки» невредимые стояли, держась друг за друга, под деревом. Когда темный клуб дыма рассеялся, унесенный ветром к югу, Фой снова взобрался на дерево. Но теперь он уже увидел немного: «Ласточка» исчезла совершенно, и на много футов кругом вода была черна, как чернила, от грязи, поднятой со дна крушением. Испанцы также исчезли все, кроме двоих, остававшихся в лодке, которая невредимой плыла на некотором расстоянии. Фой всматривался в сидевших в лодке. Рулевой сидел, ломая руки, между тем как начальник, вооружение которого сверкало теперь на солнце, ухватившись за мачту, как окаменелый, смотрел на ту точку, где за минуту перед тем стояло судно с живыми людьми. Затем он как бы пришел в себя и, по-видимому, отдал приказание, после чего лодка стала быстро удаляться.
- Нам надо постараться догнать их, - сказала Марта.
- Нет, зачем, - возразил Фой, - довольно людей мы отправили на тот свет.
Он содрогнулся.
- Воля ваша, мейнгерр, - проворчал Мартин, - но, по-моему, это неблагоразумно. Слишком, должно быть, уж хитер этот человек, чтобы оставлять его в живых; иначе он вместе с другими взобрался бы на судно.
- Нет, мне тошно, - отвечал Фой. - Этот пороховой запах отвратителен. Решайте с матушкой Мартой, а меня оставьте в покое.
Мартин обернулся было, собираясь что-то сказать Марте, но она исчезла. Бормоча про себя в своей бешеной ненависти и безумной радости от предстоящей блестящей мести, она с ножом в руках пошла искать, не осталось ли в живых кого-нибудь из ненавистных испанцев. К счастью для последних, такового не оказалось: взрывом были убиты все, даже те, которые уже в первую минуту искали спасения в воде. Наконец Мартин нашел ее нагнувшейся над трупом, настолько обезображенным, что в нем трудно было узнать человека, и увел прочь. Однако теперь было уже поздно пускаться в погоню за Рамиро; уносимая сильным ветром, его лодка исчезла.
ГЛАВА XV. Сеньор Рамиро
Если бы Фой ван-Гоорль каким-нибудь чудом мог увидеть то, что происходило в уме беглеца, быстро удалявшегося на своей шлюпке от места катастрофы, он стал бы горько сожалеть о своей неопытности и заблуждении, побудивших его не послушаться совета Мартина.
Взглянем на этого человека в лодке, грызущего себе руки в бешенстве и отчаянии.
Лицо его как будто нам знакомо, и манеры его еще указывают, что некогда он принадлежал к лучшему обществу, но все же в сеньоре Рамиро трудно было признать когда-то изящного и красивого графа Жуана де Монтальво. Долгие годы, проведенные на галерах, способны изменить самого закаленного человека, а Монтальво, или, как его теперь зовут, Рамиро, пришлось, по несчастному стечению обстоятельств, отработать почти весь назначенный ему срок. Он освободился бы раньше, если бы не принял участия в бунте, который был открыт и усмирен. При этой отчаянной попытке вырваться на свободу он лишился глаза, выколотого ему офицером, которому он нанес удар кинжалом. Ни в чем не повинный офицер умер, а негодяй Рамиро выздоровел, но лишился одного из своих красивых глаз.
Для человека, принадлежащего по происхождению к высшим слоям общества, какой бы негодяй он ни был, галеры, заменявшие в шестнадцатом веке каторжные работы, тяжелая школа. В большинстве случаев человек, попадавший туда безупречным, портился, а человек дурной вконец погибал, согласно пословице: «Кто побывал в аду, от того всегда отдает смолой». Кто может представить себе весь ужас подобной жизни - цепи, постоянную тяжелую работу под бичом надзирателя в обществе воров и отбросов человечества - ужасное, однообразное существование?
Как бы то ни было, благодаря своему крепкому телосложению и известного рода мрачной философии, Рамиро выдержал и, наконец, оказался свободным человеком, правда, уже не первой молодости, но еще сильным и умным.
Жизнь снова открылась перед ним. Но какая жизнь!
Жена его, сочтя его умершим или, быть может, желая, чтобы было так, вышла замуж за другого и уехала со вторым мужем в Новый Свет, взяв с собой детей, а все друзья Монтальво, еще оставшиеся в живых, отвернулись от него. Однако, несмотря на свое несчастье, он не стал хуже, чем был прежде, и не потерял мужества и находчивости.
Граф Монтальво стал нищим бродягой, от которого все отворачивались с презрением; и вот граф Монтальво умер и был всенародно погребен в своем родном поместье. Но довольно странно, что в то же время в другой части Испании появился сеньор Рамиро и довольно успешно исполнял обязанности нотариуса и ходатая по делам. Так прошло несколько лет, пока, наконец, Рамиро, сколотившему себе порядочное состояньице путем остроумного обмана, не пришла гениальная мысль, и он отправился в Нидерланды.
В эти ужасные дни ради распространения религиозного преследования и совершения законного воровства доносчикам в награду выдавалась часть имущества еретиков. Рамиро пришла мысль - в своем роде гениальная - организовать собирание подобных справок и, заинтересовав в успехе нескольких лиц и сделав их пайщиками, иметь возможность улавливать в свои сети большие состояния, чем то было бы возможно для одного человека, как бы деятелен и ловок он ни был. Он скоро, как и ожидал того, нашел себе много достойных товарищей, и предприятие пошло в гору. При помощи местных шпионов вроде Черной Мег и Мясника, с которыми, забыв прежнюю обиду, Монтальво возобновил знакомство, дела пошли успешно и давали значительные дивиденды. Без риска получались кругленькие суммы из состояния тех несчастных, которые погибали на костре, а еще большие собирались негласным путем с тех, кто желал избегнуть казни. Таких людей, высосав из них до последней капли все, что было возможно, или отпускали на свободу, или сжигали, смотря по тому, что было выгоднее.
Были и другие средства получать деньги - организовалась целая остроумная система грабежей и откупов на сбор податей и налогов.
Так, проработав несколько лет, опытный делец сеньор Рамиро после долгой нужды и бедности разбогател, но, побуждаемый естественным, хотя неблагоразумным честолюбием, вступил на опасный путь.
Богатство золотых дел мастера Гендрика Бранта было известно всем, и богатым мог бы сделаться тот, кому удалось бы добиться его конфискации. Рамиро задумал сделаться наследником Бранта, что было не трудно, так как Брант был заведомый еретик и, следовательно, мог служить законной добычей всякому служителю истинной Церкви и короля. Однако дорогу к Бранту охраняли два грозных льва, или, скорее, один лев и один призрак льва, так как одно препятствие было осязаемое, а другое - духовное.
Осязаемое препятствие состояло в том, что его величество король Филипп сам желал унаследовать сотни тысяч от золотых дел мастера и, следовательно, мог рассердиться на вмешательство постороннего лица. Духовное препятствие заключалось в том, что Брант был родственником Лизбеты ван-Гоорль, некогда известной как Лизбета Монтальво, принесшей человеку, слывшему ее мужем, одно только несчастье. Очень часто, в часы тяжелых дум под лучами тропического солнца сеньор Рамиро вспоминал о том страшном проклятии, служившем ответом на его сватовство, - о проклятии, в котором его невеста молила, чтобы ему пришлось добывать себе пропитание тяжелым трудом, чтобы она и ее семья принесли ему заботы и несчастье и чтобы он кончил жизнь в горе. Оглядываясь назад, Монтальво видел, что проклятие принесло свои плоды: благодаря Лизбете и своим отношениям с ней он перенес последнее унижение и выдержал четырнадцать лет каторжного труда на галерах.
Теперь он снова был свободен, и дела его улучшились, но кто знает, не вступит ли проклятие снова в силу, раз ему опять придется иметь дело с Лизбетой ван-Гоорль и ее родными?
Стоило ли состояние Бранта того, чтобы из-за приобретения его подвергать себя такому риску? Брант, правда, был только родственником мужа Лизбеты, но раз имеешь дело с одним членом семьи, никогда нельзя сказать, что прочие члены ее не будут замешаны.
Решение Рамиро нетрудно угадать.
Огромное богатство было близко, между тем как гнев небесного и земного владыки только возможен и отдален. Жадность пересилила осторожность и суеверие: Рамиро решился на предприятие и энергично и ловко приступил к выполнению его.
Рамиро и теперь, как прежде, ненавидел резкие меры. Он вовсе не желал бесполезно возвести на костер или подвергнуть пытке почтенного герра Бранта. Вследствие этого через своих посредников он сделал ему - как то сообщал Брант в своем письме - предложение, довольно великодушное по тем временам: уступить ему, Рамиро, и его товарищам две трети своего состояния, за что Бранту разрешалось бежать вместе с остающейся одной третью. К досаде Рамиро, упрямый голландец отказался заплатить за свою свободу хотя бы один стивер. Он заявил энергично, что теперь, как и всегда, жизнь его в Божьих руках, и если Богу угодно будет отнять ее, а его большое состояние отдать на разграбление ворам, то, видно, такова воля Его; он же, со своей стороны, не пойдет ни на какую сделку.
Описание всего плана Рамиро, нападения его шайки, защиты Бранта и борьбы между членами компании и правительственными агентами потребовало бы целой книги; мы в общих чертах знаем все это, а об остальном можем догадаться.
Во все это время Рамиро сделал одну только ошибку, причина которой крылась в том, что он называл «слабостью своего характера»: он посмотрел сквозь пальцы на бегство дочери Бранта Эльзы. Быть может, его побудило к этому суеверие, быть может, жалость, быть может, клятва быть милосердным, данная в минуту крайней опасности, - как бы то ни было, он был доволен, что девушка не разделит судьбу отца. Он не думал, чтобы она могла захватить с собой какие-нибудь важные бумаги или драгоценности, однако на всякий случай велел обыскать ее дорогой.
Как мы видели, обыск не удался, и когда на следующий день к Рамиро явилась Черная Мег с донесением, что сын Дирка и его великан-слуга отправляются в Гаагу, то Рамиро окончательно убедился, что девушка привезла с собой какое-нибудь важное письмо.
Между тем местонахождение сокровищ Бранта было установлено. Предполагалось, что они скрыты на одном из кораблей, хотя и не было известно, что в грузе одного из них кроме золота находился также порох. Правительство предполагало производить осмотр судов перед их выходом в море и захватить сокровища под видом контрабанды, чем представлялась возможность избежать многих хлопот, так как в силу указов еретики не имели права увозить свое богатство на кораблях. План же Рамиро состоял в том, чтобы облегчить увоз сокровищ в открытое море, где он надеялся перехватить их и направить к более мирным берегам.
Когда Фой и его спутники поехали по каналу в лодке, Рамиро увидел, что пришло время действовать, и велел большому кораблю сняться с якоря. Нападение на Фоя произошло без его приказания, так как он желал, чтобы лодка голландцев шла беспрепятственно и чтобы он мог следить за нею. Это было делом личной злобы Черной Мег, переодетой мужчиной. Несколько раз отзывы Фоя в Гааге о Черной Мег возбуждали ярость последней, и теперь она пыталась уплатить ему по старому счету, за что в конце концов поплатилась пальцем, хорошим ножом и золотым кольцом, с которым были связаны воспоминания ее молодости.
Сначала все шло хорошо. С помощью самого искусного и смелого маневра, когда-либо виданного Рамиро в течение его долгой, полной опытом жизни, маленькая «Ласточка» со своим экипажем из трех человек избежала выстрелов с форта, где ее ждали и откуда ее заметили, перерезала, как яичную скорлупу, большую казенную лодку, пустила ее ко дну с ее экипажем опытных солдат, причем многие из них потонули, и убила офицера - личного врага Рамиро, сама же ушла в открытое море. Здесь Рамиро был уверен, что «Ласточка» попадет в его руки: он не сомневался, что она направится к берегу Норфолка, и при сильном противном ветре его большому, снабженному многочисленным экипажем кораблю будет нетрудно перехватить ее.
Однако неудача - та неудача, которую он всегда испытывал, когда начинал вмешиваться в дела Лизбеты и ее близких, - снова начала преследовать его.
Вместо того чтобы пытаться перейти Северное море, маленькая «Ласточка» держалась берега, где вследствие различных обстоятельств - ветра, глубины воды и строения обоих судов - она всегда могла идти скорее. Наконец, лодка скрылась в канале, а что было дальше, уже известно нам. Нельзя было обольщаться: Рамиро потерпел полное фиаско. Корабль, снаряжение которого поглотило такую значительную часть доходов почтенной компании, взлетел на воздух, а часовой был заколот каким-то белым дьяволом неизвестного пола - это ли не неудача!
И все это после того, как нагруженное золотом судно было выслежено, после того, как оно было почти у него, Рамиро, в руках… Одна уже эта мысль была невыносима! Оставалось только одно утешение: было уже поздно спасти других, когда он заметил дым, выходивший из люка, но, по крайней мере, он сам, травленая крыса, каким-то инстинктом почуял опасность и держался вдали, вследствие чего и остался в живых.
Что же сталось с другими - с его верными товарищами? Откровенно говоря, Рамиро мало заботился об участи, постигшей их.
Его гораздо больше занимал другой вопрос - где сокровища? Теперь, когда его мысли несколько прояснились после испытанного потрясения, ему стало ясно, что Фой ван-Гоорль, Рыжий Мартин и белый дьявол, взобравшийся на его корабль, не погубили бы сокровища, если бы был другой исход, а тем более не погубили бы самих себя. Логическим выводом было предположение, что они за ночь опустили богатство на дно моря или закопали его и подготовили западню, в которую он попался. Таким образом, тайна в их руках, и если они только живы, то можно найти средство заставить их открыть место, где спрятан клад. Значит, еще оставалась надежда, и Рамиро, взвесив все, пришел к убеждению, что дела еще не так плохи.
Начать с того, что почти все пайщики предприятия погибли по воле Провидения, и он остался их единственным наследником.
Другими словами, сокровища в случае находки становились его нераздельной собственностью. Далее, услыхав про все это происшествие, правительство, вероятно, сочтет богатство Бранта
безвозвратно погибшим, и, таким образом, Рамиро избавится от соперника, доставлявшего ему много хлопот.
Что же следовало делать при подобных обстоятельствах? Сеньор Рамиро, плывя по морю на свежем утреннем воздухе, весьма скоро нашел ответ на этот вопрос.
Сокровищ уже нет в Гааге, стало быть, и ему нечего делать в Гааге. Тайна местонахождения клада в Лейдене, стало быть, и ему следует перебраться в Лейден. Почему же не сделать этого? Он прекрасно знал этот город. Жить в нем было хорошо. Конечно, его могли узнать, хотя это было маловероятно, так как граф Монтальво официально умер и был погребен. Время и жизнь изменили его; кроме того, он мог призвать искусство на помощь природе. В Лейдене у него также были помощники - хотя бы Черная Мег; денег же у него было достаточно - ведь он был казначеем компании, так неожиданно взлетевшей на воздух сегодня утром.
Было одно только обстоятельство, говорившее против плана: в Лейдене жили Лизбета ван-Гоорль и ее муж, а с ними еще молодой человек, о происхождении которого Рамиро догадывался. Место, где были скрыты сокровища, известно сыну Лизбеты, и узнать тайну можно только от него и его слуги Мартина.
Стало быть, снова придется идти против Лизбеты - Лизбеты, которой он боялся больше всего на свете.
Уже раз она одержала над ним победу, и ее обличающий голос до сих пор звучал у него в ушах, а горящие глаза до сих пор жгли его душу… Некогда он боролся с ней из-за денег, и хотя получил их, но они принесли ему мало пользы, и в конце концов восторжествовала все-таки она. Теперь, если он переселится в Лейден, ему снова придется бороться с ней из-за денег, и каков будет исход этой борьбы? Стоило ли рисковать?
Не повторится ли прежняя история? Если он коснется Лизбеты, не сокрушит ли она его? Но сокровища, могущественные сокровища, которые могли дать ему столько благ, а главное - могли помочь вернуть потерянное положение и сан, чего он желал больше всего на свете! Как ни низко пал Монтальво, он не мог забыть, что родился дворянином.
Он решился попытать счастья и отправиться в Лейден. Если бы он стал обдумывать этот вопрос ночью или в сумрачную погоду, очень может быть - даже вероятно - его решение было бы иным. Но в это утро солнце светило ярко, ветер весело шелестел в камышах, болотные птицы пели, а с берега доносилось блеяние стад.
При такой обстановке опасения и суеверия Рамиро рассеялись. Он овладел собой и знал, что все зависит от него самого, все же остальное - пустяки и воображение.
Позади него лежало скрытое золото, перед ним - Лейден, где он мог найти ключ к сокровищам. А Бог? А представление о возмездии, в которое верит духовенство и прочие? Раздумывая, он начинал находить тут недоразумение: ему, как всякому агенту инквизиции, было хорошо известно, что возмездие постигало именно тех, кто полагался на Бога, чему доказательством служили хотя бы тысячи пылавших костров. А если был такой закон, то почему Бог именно сегодня избрал его из среды многих, чтобы оставить его в живых и сделать наследником богатства Гендрика Бранта? Рамиро решился: он поедет в Лейден и начнет борьбу.
В устье канала сеньор Рамиро вышел из лодки. Сначала он думал было заколоть своего спутника, чтобы остаться единственным свидетелем катастрофы, но, рассудив, передумал, так как этот человек был предан ему и мог быть полезен. Итак, он приказал ему вернуться в Гаагу, чтобы сообщить о гибели корабля и «Ласточки», на которой были сокровища, со всем ее экипажем.
Кроме того, он должен был сказать, что, насколько ему известно, капитан Рамиро также погиб, так как он один оставался на лодке во время взрыва. Затем он обязан был отправиться в Лейден и привезти с собой некоторые бумаги и ценности, принадлежавшие Рамиро.
Этот план казался удачным. Никто не станет разыскивать сокровища. Никто, кроме него самого, да, может быть, Черной Мег не узнает, что Фой ван-Гоорль и Мартин не были на борту «Ласточки» и спаслись, в чем, впрочем, он и сам не был вполне уверен; что же касается его самого, то он мог скрываться или оказаться живым, смотря по тому, что окажется более выгодным. Если бы даже его посланец оказался неверным и рассказал истину, то это не будет иметь большого значения, так как этот человек не знал ничего такого, из чего кто-нибудь мог бы извлечь выгоду.
Итак, гребец уехал, между тем как Рамиро со своими воспоминаниями, рассуждениями и надеждами спокойно вошел через Марш-Порт (Болотные ворота) в Лейден.
В этот же вечер, но уже после наступления темноты два других путника - именно Фой и Мартин - также вернулись в Лейден.
Пройдя никем не замеченные по пустынным улицам, они дошли до калитки дома на Брее-страат. Калитку отперла служанка, сказавшая Фою, что мать его в комнате Адриана и что Адриану гораздо лучше. Фой в сопровождении медленно шагавшего за ним Мартина отправился также в комнату брата, шагая через две ступеньки на третью. Ему хотелось поскорее рассказать все пережитое!
Комната, в которую они вошли, представляла привлекательную картину, бросившуюся в глаза даже Фою, несмотря на всю его спешку, и так запечатлевшуюся в его уме, что он никогда не мог забыть ее подробностей. Комната была прелестно убрана, так как Адриан любил ковры, картины и тому подобные украшения. Сам он лежал теперь на богатой резной дубовой кровати, бледный от потери крови, но вследствие этого, может быть, еще более интересный. Возле постели сидела Эльза Брант, чрезвычайно миловидная при свете лампы, падавшем на ее светлые вьющиеся волосы и нежное лицо.
Она читала Адриану роман из жизни испанского рыцарства - любимое чтение романтического молодого человека, и он, приподнявшись на локте, созерцал своими черными мечтательными глазами ее красоту.
Однако Фой в одну минуту успел заметить, что Эльза вовсе не сознавала того внимания, которое ей оказывал красавец Адриан, и что сама она в душе была далека от необычайных происшествий и ярких любовных сцен, описание которых она читала своим приятным голоском. И он не ошибся: бедная девушка думала о своем отце.
На другом конце комнаты, в нише окна, стояли мать и отец, занятые серьезным разговором.
Видимо, они были не менее озабочены, чем молодежь, и Фою было не трудно догадаться, что причина этого главным образом заключалась в опасности, которой подвергался их сын, хотя и помимо того забот у стариков было немало: жителям Нидерландов в то время приходилось из года в год переживать такие ужасы, которые мы даже едва в состоянии вообразить себе.
- Прошло уже шестьдесят часов, а их все еще нет, - сказала Лизбета.
- Мартин говорил, что мы не должны беспокоиться, пока не пройдет сто, - утешал жену Дирк.
В эту минуту Фой, выступив из темной двери, сказал своим звонким голосом:
- Шестьдесят часов, минута в минуту.
Лизбета с легким криком радости бросилась ему навстречу. Эльза выронила книгу и хотела сделать то же, но передумала и остановилась, между тем как Дирк не трогался со своего места, выражая удовольствие быстрым потиранием рук. Один Адриан не проявлял особенной радости; но не потому, чтобы сердился на Фоя за происшедшее несколько дней тому назад: раз успокоившись от своего припадка ярости, он не был злопамятным человеком и теперь даже был рад возвращению Фоя здоровым и невредимым, но ему было неприятно, что брат так шумно ворвался в его спальню и прервал приятное времяпрепровождение.
С самого отъезда Фоя Адриан был предметом забот, которые он принимал как должную дань. Даже его отчим пробормотал несколько слов сожаления по поводу случившегося и выразил надежду, что никто больше не будет вспоминать о происшедшем; мать же была полна забот, а Эльза внимательна и очаровательна. Теперь - Адриан знал это - все изменится. Шумный, неотесанный, несдержанный Фой станет центром всеобщего внимания и заставит всех выслушивать бесконечные рассказы о своих скучных приключениях, между тем как Мартин, этот медведь, которому бы только колоды ворочать, будет стоять тут же, время от времени вставляя свое «да» или «не-ет». Конечно, придется покориться, но какая тоска!
Через минуту Фой крепко жал руку Адриану, громко говоря:
- Ну, как поживаешь, старина? Вид у тебя совсем хороший. Чего же ты валяешься в постели и допускаешь сиделок кормить себя с ложечки?..
- Ради Бога, Фой, не ломай мне пальцы и перестань трясти меня, как крысу. Я знаю, ты это делаешь от души, только… - сказал Адриан, откидываясь на подушку, покашливая и придавая себе интересный вид.
Обе женщины напали на Фоя за его грубость, напоминая, что он своей неосторожностью может убить брата, артерии которого очень слабы, так что молодому человеку оставалось только зажать себе уши и ждать, пока он не увидел, что губы женщин перестали двигаться.
- Извиняюсь, - сказал он, - я не трону его и не стану говорить громко при нем. Слышишь, Адриан?
- Ты не нарочно, - слабо проговорил Адриан.
- Брат Фой, - прервала Эльза, умоляюще сложив руки и смотря ему прямо в лицо своими большими карими глазами, - прости меня, но я не в состоянии ждать дольше. Скажи мне, видел ли ты или слышал что-нибудь об отце во время своей поездки в Гаагу?
- Да, я видел его, - просто отвечал Фой.
- Ну, как он?.. Как все вообще?..
- Он был здоров.
- Свободен?.. И не в опасности?..
- Свободен, но не могу сказать, чтобы не в опасности. Ведь теперь все мы в опасности, - отвечал Фой прежним спокойным голосом.
- Слава Богу и за это, - сказала Эльза.
- Не за что благодарить Бога, - пробормотал Мартин, вошедший в комнату за Фоем и стоявший, как великан на выставке.
Эльза отвернулась, а Фой, двинув локтями назад, изо всей силы толкнул Мартина под ложечку. Мартин отшатнулся на шаг, но понял предупреждение.
- Ну, сын, какие вести? - заговорил в первый раз Дирк.
- Новостей много, - отвечал Фой особенно веселым голосом, радуясь про себя своей находчивости. - Вот, посмотри!
Он вынул из кармана сломанный нож и длинный костлявый палец с кольцом.
- О, - застонал Адриан, - прошу тебя, убери эту ужасную вещь.
- Ах, извини, - отвечал Фой, пряча палец назад в карман. - Ведь ты это не о ноже? Нет? Да, матушка, чудесную вы мне дали кольчугу: этот нож переломился о нее, как морковь, а все же, когда пробудешь в такой одежде три дня не снимая, хочется освободиться от нее.
- Я вижу, у Фоя есть кое-что рассказать, - утомленным тоном проговорил Адриан, - и чем скорее он все сообщит, тем скорее ему можно будет умыться. Начинай же с самого начала.
Фой начал с самого начала, и его рассказ заинтересовал даже безучастного Адриана. Он, однако, смягчил некоторые подробности, а кое-что даже совсем опустил ради Эльзы, хотя сделал это не особенно искусно, так как не был дипломатом, и живое воображение слушательницы быстро дополнило все недосказанное. Обо всем, что касалось его самого и будущности Эльзы, он вовсе умолчал. В общих чертах он рассказал о бегстве из Гааги, о потоплении казенной лодки, о плавании по каналам Гаарлемского моря с мертвым лоцманом на палубе «Ласточки», о погоне испанского корабля и о сокрытии сокровищ.
- Где вы закопали их? - спросил Адриан.
- Сам не имею ни малейшего понятия, где, - сказал Фой. - В этой части моря до трехсот островов, и я знаю только, что мы вырыли яму на одном из них. Впрочем, - добавил он в приливе откровенности, - мы нарисовали карту этого места, то есть…
Но тут он вскрикнул от боли. Мартин, стоявший позади него и, как предвидел Адриан, вставлявший по временам свое «да» или «нет», снял свой меч «Молчание» и рассеянно играл им, подбрасывая его в воздухе и ловя, когда он падал. Но тут он вдруг засмотрелся в сторону и не успел подхватить свое оружие: тяжелая рукоять упала прямо на ногу Фою и со звоном ударилась о пол.
- Ах ты, скотина! - взвыл Фой. - Ты раздробил мне палец. - Он на одной ноге заковылял к стулу.
- Извините меня, мейнгерр, - проговорил Мартин, - я сознаю, что был неосторожен, - таков был и мой отец.
Адриан, вздрогнув от страшного шума, закрыл глаза и вздохнул.
- Ему дурно, - сердито сказала Лизбета, - я знала, что так кончится весь ваш шум. Если вы не будете осторожнее, у него опять лопнет жила. Убирайтесь из комнаты. Можете досказать все внизу.
И она погнала их перед собой, как крестьянки гонят перед собой птицу.
- Мартин, - обратился Фой к слуге, когда они на минуту очутились одни, так как при первых признаках бури Дирк удалился. - Как это тебя угораздило уронить твой тяжелый меч прямо мне на ногу?
- А как это вас угораздило толкнуть меня локтем прямо в живот, мейнгерр?
- Я сделал это, чтобы ты прикусил язык.
- А как зовут мой меч?
- «Молчание».
- Так вот, я уронил «Молчание» по той же причине. Надеюсь, вам не очень больно, но если бы даже и было больно, то делать нечего: без этого нельзя было обойтись.
Фой обернулся.
- Что ты хочешь сказать этим?
- Хочу сказать, что вы не имеете права говорить, куда девалась бумага, которую нам дала тетушка Марта.
- Почему? Я доверяю брату.
- Очень вероятно, но в этом-то и беда. Нам доверена важная и опасная тайна; не следует взваливать ее бремя на плечи других. Чего люди не знают, того они не могут и сказать, герр Фой.
Фой продолжал смотреть на него во все глаза полувопросительно-полусердито, но Мартин ничего не говорил дальше и только делал какие-то жесты, будто человек, с трудом медленно вертящий колесо. Губы Фоя побледнели.
- Колесо? - шепотом спросил он.
Мартин кивнул головой и отвечал также шепотом:
- Теперь они, может быть, все на нем. Вы дали человеку в лодке бежать, а этот человек был Рамиро, испанский шпион, я в этом уверен. Если они не знают, они не могут сказать; а мы, хотя и знаем, не скажем - ведь мы скорее умрем, герр Фой.
Фой задрожал и прислонился к стене.
- Что может выдать нас?
- Кто знает, герр Фой. Женщина… мужчина под пыткой… - Он придал особенное выражение своему голосу. - Ревность… тщеславие… месть… Придерживайте свой язык и не доверяйте никому: ни отцу, ни матери, ни невесте, ни… - и снова в голосе Мартина зазвучала особенная нота, - ни брату.
- Ни тебе? - спросил Фой, взглянув на него.
- Не знаю… Нет, мне кажется, на меня вы можете положиться, хотя, конечно, нельзя знать, как человек может заговорить на колесе.
- Если все так, - вдруг горячо заговорил Фой, - то я уж и теперь сказал слишком много.
- Да, герр Фой, слишком много. Мне уже гораздо раньше хотелось ударить вас по ноге своим «Молчанием», да не удавалось: герр Адриан не сводил с меня глаз, и мне пришлось подождать, пока он закрыл глаза, что он сделал, чтобы не проронить ни одного вашего слова, принимая при том вид, будто он вовсе не слушает.
- Ты несправедлив к Адриану, Мартин, как всегда, и я сердит на тебя. Что же теперь делать?
- Теперь, герр Фой, вас следует забыть наставления пастора Арентца и солгать, - весело отвечал Мартин. - Вы должны продолжать свой рассказ с того места, где остановились, и сказать, что нарисовали карту острова, на котором спрятали сокровища, но что я, дурак, умудрился уронить ее в то время, как мы поджигали нити, так что она взлетела на воздух вместе с «Ласточкой». Я расскажу то же.
- Я должен сказать это и отцу с матерью?
- Да, и они поймут, почему вы говорите так. Госпожа Лизбета уже начинала беспокоиться, и вот почему она выгнала нас из комнаты. Вы скажете, что сокровища зарыты, но тайна их местонахождения потеряна.
- Но даже если бы действительно случилось, как мы расскажем, то ведь тетушка Марта знает, где мы спрятали богатство, и они догадаются, что она знает.
- Вы так спешили рассказать случившееся, что кажется, забыли упомянуть об ее присутствии при закапывании бочонков. Вы только что собирались назвать ее, как я уронил меч.
- Но ведь она взбиралась на испанский корабль и подожгла его, так что Рамиро и его товарищ, вероятно, видели ее.
- А я так думаю, что единственный, кто видел ее, был тот человек, которого она спровадила на тот свет, - а этот уже ничего не скажет. Вероятно, Рамиро думает, что это дело наших рук. А если бы даже он видел Марту или если узнают, что тайна известна ей, то пусть добьются ее от нее. О, кобылы умеют скакать, утки нырять, а змеи прятаться в траве. Если они сумеют поймать ветер и выведать у него его тайну, если они сумеют заставить меч «Молчание» рассказать историю той крови, которую он пил, если они смогут призвать обратно на землю замученных святых, чтобы снова начать пытать их, только тогда и не раньше они узнают от колдуньи Гаарлемского озера тайну того места, где скрыты сокровища. Не бойтесь за нее, герр Фой, могила и та не так надежна.
- Почему ты не предостерег меня раньше?
- Потому что никак не думал, что вы такой сумасшедший, - невозмутимо ответил Мартин. - Я забыл, что вы молоды; да, я забыл, что вы молоды и добры, слишком добры для времени, в которое мы живем. Вина моя. Пусть она падет на мою голову.
ГЛАВА XVI. Маг
Фой докончил свой рассказ в гостиной уже в гораздо более сдержанном и осторожном тоне. Когда он дошел до того места, как «Ласточка» взлетела на воздух вместе со всеми испанскими солдатами, бывшими на ней, Эльза всплеснула руками, говоря:
- Ужасно! Ужасно! Подумайте об этих несчастных, отошедших таким образом в вечность.
- Но подумайте также о том, зачем они попали на «Ласточку», - мрачно перебил Дирк и затем прибавил: - Да простит меня Господь, что я не могу печалиться о судьбе, постигшей этих испанских разбойников. Хорошо сделано, Фой, прекрасно! Ну, продолжай.
- Кажется, все кончено, - кратко заключил Фой, - только два испанца уехали в лодке, и один из них, как говорит Мартин, главный шпион их, Рамиро.
- Но там, в комнате Адриана, ты как будто сказал, что вы сделали карту острова, где зарыто золото. Где она? Я ее спрячу.
- Да, я знаю, что сказал это, - отвечал Фой, - но разве я не сказал также, - продолжал он недовольным тоном, - что Мартин умудрился уронить карту в каюту «Ласточки», когда мы зажигали нити, и она взлетела на воздух вместе с судном, и теперь не осталось никакого воспоминания о месте, где зарыто богатство.
- Марта знает каждый уголок моря; она, наверное, запомнила и это место.
- Нет, - отвечал Фой, - ее не было с нами, когда мы закапывали бочонки. Она наблюдала за испанским кораблем, а нам велела пристать к первому острову и выкопать яму; мы так и сделали, предварительно нарисовав ту карту, которую Мартин уронил.
Всю эту грубую ложь Фой произнес с неподвижным лицом и голосом, не убедившим бы даже трехлетнего ребенка, сам же в душе восхищаясь своей необыкновенной находчивостью.
- Мартин, правда это? - подозрительно спросил Дирк.
- Совершенная правда, мейнгерр. Удивительно, как герр Фой все запомнил.
- Сын мой, - обратился Дирк к Фою, весь побледнев от сдерживаемого гнева. - Ты всегда был добрым парнем, а теперь показал себя и мужественным, но молю Бога, чтобы мне не пришлось сказать, что язык у тебя лживый. Разве ты не понимаешь, что это выходит неблаговидно? Спрятанное тобою богатство - величайшее во всех Нидерландах. Не скажут ли люди, что нет ничего удивительного в твоей забывчивости, так как ты припомнишь, когда тебе покажется нужным.
Фой сделал шаг вперед, весь вспыхнув от негодования, но тяжелая рука Мартина, опустившаяся на его плечо, удержала его на месте, как малого ребенка.
- Кажется, фроу Лизбета желает что-то сказать вам, герр Фой, - вмешался он, смотря на Лизбету.
- Да, твоя правда, Мартин. Неужели, Дирк, ты думаешь, что в настоящее время только желание обогатиться кражей может заставить человека отступить от истины?
- Что ты хочешь сказать этим, жена? Фой говорит, что он и Мартин закопали сокровища, но что они оба не знают, где они закопали их, и потеряли нарисованную ими карту. Что бы ни стояло в завещании, это богатство принадлежит нашей племяннице, правда, при выполнении некоторых условий, время для которых еще не наступило и, может быть, никогда не наступит. Я же назначен ее опекуном, пока Гендрик Брант жив, и его душеприказчиком, когда он умрет. Стало быть, по закону это состояние принадлежит также мне. По какому же праву сын мой и слуга скрывают от меня истину, если они действительно скрывают ее? Говорите, что знаете, прямо: я простой человек и не умею отгадывать загадок.
- В таком случае я скажу тебе, в чем дело, хотя только догадываюсь и не говорила ни с Фоем, ни с Мартином; пусть они поправят меня, если я ошибусь. Я умею читать по их лицам и так же, как ты, уверена, что они говорят неправду. Я думаю, что они не хотят, чтобы мы знали истину, не с целью скрыть сокровища для себя, но потому, что подобная тайна может довести тех, кто знает ее, до пытки и костра. Не так ли, сын мой?
- Именно так, матушка, - почти шепотом проговорил Фой. - Документ не потерян, но не старайтесь узнать, где он скрыт: есть волки, которые готовы растерзать вас на клочки, лишь бы добиться от вас открытия тайны; да, они не пощадят и Эльзу… даже Эльзу. Если будет следствие, предоставьте отвечать мне с Мартином, мы выносливы. Батюшка, что бы ни случилось, будьте уверены, что мы оба никогда не сделаемся ворами.
Дирк подошел к сыну и поцеловал его в лоб.
- Прости меня, сын мой, - сказал он, - и прости также ты, Красный Мартин. Я сказал эти слова сгоряча, и мне в мои годы пора бы было стать благоразумнее, но говорю вам: от всей души я бы желал, чтобы эти ящики с драгоценностями, эти бочонки с золотом взлетели на воздух вместе с «Ласточкой» и погибли бы на дне моря. Заметьте, что Рамиро спасся еще с одним человеком, и они очень хорошо знают, что сокровища не погибли вместе с судном, но что вы успели за ночь спрятать их. Эти испанские ищейки, жаждущие крови и золота, выследят вас, и хорошо еще, если нам всем не придется поплатиться жизнью за тайну местонахождения состояния Гендрика Бранта.
Он замолк, весь дрожа, и в комнате водворилось тяжелое, грустное молчание: всем присутствующим почудилось в словах отца семейства пророчество. Мартин первый заговорил:
- Может быть, и так, мейнгерр, - сказал он, - но, извините меня, вы должны были подумать обо всем этом прежде, чем принять на себя такое обязательство. Вас не просили прямо послать герра Фоя и меня в Гаагу за этим богатством, но вы сделали это добровольно, как сделал бы всякий честный человек. Ну, теперь дело сделано, и мы должны быть готовы на все. Но позвольте мне сказать, мейнгерр: если вы, хозяйка и ювфроу Эльза благоразумны, то вы все, прежде чем выйти из комнаты, поклянетесь над Библией, что никогда не произнесете слова «сокровища», никогда не будете думать о них иначе, как что они погибли безвозвратно в водах Гаарлемского озера. И никому ни слова об этом богатстве, мефроу, даже вашему сыну Адриану, который теперь лежит больной у себя наверху.
- Ты замечательно поумнел, Мартин, с тех пор, как перестал пить и драться, - сказал Дирк сухо, - и что касается меня, то я клянусь перед Богом…
- И я! И я! И я! И я! - отозвались другие.
Мартин же, произнесший свою клятву последним, прибавил:
- Да, я клянусь, что никогда не стану говорить об этом, даже с моим молодым хозяином, герром Адрианом, лежащим больным наверху.
Адриан поправился, хотя и не очень быстро. Он потерял порядочное количество крови, но сосуд закрылся без дальнейших осложнений, так что оставалось только восстановить силы с помощью покоя и обильного питания.
Еще десять дней после возвращения Фоя и Мартина его продержали в постели, внимательно за ним ухаживая. Эльза проявляла свое участие в заботах о нем, читая ему испанские романы, которыми он восхищался. Однако весьма скоро он убедился, что восхищается самой Эльзой гораздо больше, чем читаемой ею книгой, и часто просил закрыть последнюю и поговорить с ним. Пока разговор касался его самого, его мечтаний, планов и стремлений, она довольно охотно выслушивала Адриана, но когда он переходил к ней самой и начинал говорить ей комплименты и намекать на свою любовь, она сейчас же прерывала его и искала спасения в дальнейшем чтении.
При всей своей красоте Адриан не привлекал Эльзу: в нем, на ее взгляд, было что-то неестественное, кроме того, он был испанец - испанец по красоте, испанец по складу ума, а все испанцы были ей ненавистны. Глубоко в душе ее скрывалась еще причина ее отвращения к Адриану: он напоминал ей другого человека, в продолжение нескольких месяцев бывшего для нее кошмаром, - испанского шпиона Рамиро. Она внимательно вглядывалась в этого Рамиро, хотя не часто встречалась с ним. Она знала его ужасную репутацию; отец рассказал ей, что Рамиро старается поймать его в свои сети, день и ночь измышляя, как бы овладеть его состоянием.
На первый взгляд между этими двумя людьми не было явного сходства: как оно могло существовать между человеком, перешедшим за средние лета, одноглазым, седым, носившим отпечаток своей прежней жизни и своего теперешнего неблагородного занятия, и юношей, изящным, красивым, легкомысленным, но, во всяком случае, не преступным. А сходство, несомненно, существовало. Оно в первый раз бросилось в глаза Эльзе, когда Адриан стал развивать ей свой план атаки Лейдена, и с этой минуты он стал ей антипатичен. Сходство проявлялось и в других случаях: в интонации голоса и некоторой напыщенности манер; Эльза всегда замечала его в самые неожиданные минуты, может быть, как говорила сама себе, потому, что приучила себя искать это сходство, хотя сама сознавала, что это смешная фантазия, так как что общего могло быть между этими двумя людьми?
В последние дни Эльза вообще мало думала об Адриане или вообще о ком-либо, кроме отца, у которого она была единственной дочерью и которого страстно любила. Она знала об ужасной опасности, грозившей ему, и догадывалась, что отец отослал ее из Гааги, чтобы спасти ее. И у нее было единственное желание, единственная молитва: чтобы ему удалось благополучно бежать, а ей возможно было бы вернуться к нему. Один раз только она получила от него известие; принесла его незнакомая Эльзе женщина, жена рыбака, которая, вызвав ее, передала ей на словах:
«Передай мой поклон и благословение моей дочери Эльзе и скажи ей, что пока меня еще не трогают. Фою ван-Гоорлю скажи, что я слышал кое-что. Спасибо ему и его верному слуге. Пусть он помнит, что я сказал ему, и знает, что его труд не пропадет даром, и он получит свою награду на этом или на том свете».
И только. Также до Эльзы дошли слухи о том, что гибель стольких людей при взрыве «Ласточки» и при потоплении казенной лодки, разрезанной пополам, очень рассердила и возбудила испанцев. Но так как погибшие принадлежали не к регулярным войскам, то не было ничего сделано для розыска виновных в их гибели, да, сказать правду, ничего и нельзя было сделать, так как никому не было известно, из кого состоял экипаж «Ласточки», и все предполагали, как предвидел Рамиро, что ее груз затонул вместе с ней в Гаарлемском озере.
Скоро пришли еще вести, наполнившие сердце Эльзы надеждой: говорили, что Гендрик Брант исчез и что, по всей вероятности, он бежал из Гааги. Больше о нем не было никаких слухов, в чем, впрочем, не было ничего удивительного, так как, обреченный на смерть, он пошел по дороге других богатых еретиков под молчаливыми сводами инквизиционной тюрьмы. Сеть наконец сомкнулась над ним, и через нее опустился меч.
Если Эльза редко думала об Адриане, а когда и вспоминала, то не иначе, как с антипатией, зато Адриан думал о молодой девушке очень часто. Ее красота и обаяние подействовали на него, и скоро он был действительно влюблен; а то обстоятельство, что Адриан считал Эльзу самой богатой наследницей во всех Нидерландах, уж никак не могло охладить его пыла. Что могло быть для него более подходящим в его положении, как не женитьба на такой красивой и богатой девушке?
Таким образом, Адриан решил про себя, что он женится на Эльзе, так как при своем тщеславии он не допускал мысли, чтобы она могла иметь что-нибудь против него, и единственное, что несколько смущало его, был вопрос, как получить все ее состояние. Фой и Мартин закопали его где-то на острове Гаарлемского озера, но сказали - в этом он убедился многократными расспросами, - что план места, где зарыты сокровища, взлетел на воздух вместе с «Ласточкой». Адриан ни на минуту не поверил в этот рассказ; он был убежден, что от него скрывают истину, и, как имеющий притязание на сокровища, был глубоко обижен этой скрытностью брата. Пока, делать нечего, пришлось покориться, но он решил высказать все, как только станет женихом Эльзы. Пока прежде всего надо было найти случай объясниться с ней, после чего он уже предполагал приняться за Фоя и Мартина.
Эльза обыкновенно выходила под вечер на прогулку, а так как Фой в это время также уходил из литейной, то он сопровождал ее, а Мартин на всякий случай шел позади. Скоро эти прогулки стали наслаждением для обоих. Эльза особенно бывала рада вырваться из душной комнаты на свежий вечерний воздух, а еще более рада смене напыщенной, натянутой нежности и преувеличенных комплиментов Адриана веселым, прямым разговорам Фоя.
Фою двоюродная сестра нравилась не меньше, чем его сводному брату, но его обращение с ней было совершенно иное. Он никогда не говорил любезностей, он никогда не смотрел ей в глаза, вздыхая, разве только при случае иногда несколько сильнее пожимал ее руку. Он держал себя с Эльзой как друг и близкий родственник, и предмет их разговора составляло чаще всего обсуждение возможности для ее отца избегнуть грозившей ему опасности и вообще всего, что касалось его.
Наконец Адриану позволено было выйти из комнаты, и случайно на долю Эльзы выпало помочь ему совершить его первое путешествие вниз. В голландских домах того времени и в том сословии, к которому принадлежала семья ван-Гоорля, все женщины, без различия своего положения, должны были принимать участие в домашних работах. Обязанностью Эльзы было ухаживать за Адрианом, который при малейшем намеке на замену ее кем-нибудь другим волновался до такой степени, что Лизбета, помня приказания доктора, не решалась противоречить ему.
Эльза же с немалым удовольствием ждала освобождения, так как напыщенность и влюбленные вздохи молодого человека становились ей невтерпеж. Адриан же притворялся больным, чтобы пролежать в постели лишнюю неделю и наслаждаться постоянно обществом Эльзы. Но теперь неизбежный час настал, и Адриан думал, что пришла пора приподнять завесу, скрывавшую его чувства, и дать Эльзе заглянуть в его душу. Он приготовился к этому событию: скука пребывания в заключении ему значительно облегчала составление трогательной и искусной речи, в которой он, благородный кавалер, намеревался принести к ногам простой, но богатой и привлекательной девушки свою драгоценную персону и свое состояние.
Однако, когда настала решительная минута и Эльза подала Адриану руку, чтобы вывести его из комнаты, вдруг все красиво составленные фразы исчезли, и колени стали у него подгибаться от слабости, на этот раз не вымышленной. Эльза вовсе не имела вида девушки, которой молодой человек готов сделать предложение: она была слишком холодна и солидна и вовсе не догадывалась о чем-либо необычайном, ожидавшем ее. Было от чего растеряться; однако решиться представлялось необходимым.
Сделав отчаянное усилие, Адриан овладел собой и начал с одной из своих фраз, не самой удачной, но первой, пришедшей ему на память.
- Мои опустившиеся крылья готовы подняться на просторе, - начал он, - но хотя мое сердце рвется, как сердце дикого сокола, однако я должен сказать вам, прелестная Эльза, что в той золоченой клетке, - он указал на постель, - я…
- Боже мой! Герр Адриан, - прервала его встревоженная Эльза, - что с вами? У вас голова закружилась?
- Она не понимает. Бедная девочка, как ей понять? - проговорил он вполголоса в сторону, как на сцене, а затем продолжал вслух: - Да, моя дорогая, обожаемая, у меня закружилась голова, закружилась голова от благодарности этим прелестным ручкам, от восхищения этими чудными глазами…
Тут Эльза, не будучи в силах дольше сдерживаться, разразилась веселым хохотом, но видя, что лицо ее поклонника становится снова таким, каким оно было в столовой, когда у Адриана лопнул сосуд, она пересилила себя и сказала:
- О, герр Адриан, не тратьте всю эту поэзию на меня - я слишком глупа, чтобы оценить ее.
- Поэзию! - воскликнул он. - Я не стихи читаю вам.
- Что же это такое? - спросила она, но в следующую же минуту готова была откусить себе язык.
- Это… Это любовь! - И Адриан упал перед Эльзой на колени, и при этом, надо сказать правду, был очень красив, с лицом, побледневшим от болезни, и своими большими горящими южными глазами. - Эльза, я люблю вас и никого другого, и если вы не ответите на эту любовь, вы разобьете мое сердце и я умру.
При обыкновенных обстоятельствах Эльза нашлась бы, как поступить, но боязнь взволновать Адриана осложняла положение. Сомневаться в искренности чувств молодого человека в эту минуту не было возможности: он весь дрожал, как лист. Однако надо было положить конец его ухаживанию. Эльза ласково протянула Адриану руку и подняла его, говоря:
- Встаньте, герр Адриан.
Он повиновался и, взглянув ей в лицо, увидел, что оно спокойно и холодно, как зимний лед.
- Выслушайте меня, герр Адриан, - начала она. - Вы очень добры ко мне, и, без сомнения, каждая девушка была бы польщена вашими словами; но я должна сказать вам, что я не расположена теперь отвечать на ухаживания.
- Потому что есть другой? - спросил он, снова впадая в театральный тон. - Скажите, пусть я услышу худшее; я вынесу…
- Напрасно вы это спрашиваете, - тем же спокойным голосом сказала Эльза, - потому что нет никого другого. Я еще никогда не думала о замужестве и не желаю думать о нем. А если бы и приходила мне подобная мысль, то я позабыла бы про нее теперь, когда я могу думать только о том, где мой дорогой отец и какая судьба ожидает его. Он - моя единственная любовь, герр Адриан, - и ее кроткие карие глаза наполнились слезами.
- О, если б я мог полететь и спасти его от всех опасностей, как спас однажды вас…
- Да, хорошо было бы, если бы это оказалось возможным для вас, - сказала Эльза, невольно улыбнувшись двойному смыслу слов. - Однако слышите, ваша матушка зовет нас. Я знаю, - прибавила она мягко, - что вы поймете и уважите мое душевное состояние и больше не станете беспокоить меня объяснениями в любви, иначе я рассержусь.
- Ваше желание для меня закон, - отвечал Адриан, - и пока эти тучи не сбегут с лазоревого небосклона вашей жизни, я буду нем, как месяц, стоящий посреди неба. Может быть, и вы также умолчите о нашем разговоре, - прибавил он нервно, - я вовсе не желал бы, чтоб этот шут Фой имел право поднять нас на смех.
Эльза наклонила голову. Ей весьма не нравилось это «нас» и другие выражения Адриана, но прежде всего хотелось положить конец неприятному свиданию, и, взяв своего обожателя за руку, она повела его вниз.
Три дня спустя после этой смешной сцены, когда Адриан вышел из комнаты во второй раз, печальная весть дошла до Эльзы. Дирк услыхал ее в городе и вернулся домой чуть не плача.
Эльза по его лицу догадалась обо всем.
- Он умер? - с трудом проговорила она.
Дирк кивнул головой, чувствуя, что не в состоянии произнести ни слова.
- Как? Где?
- В тюрьме, в Гааге.
- Откуда ты знаешь?
- Я видел человека, помогавшего хоронить его.
Она подняла голову, будто собираясь спросить о дальнейших подробностях, но Дирк отвернулся, бормоча:
- Он умер… умер… не спрашивай больше.
Она поняла и не пыталась узнать ничего больше. После всех страданий он теперь был у Бога, которому служил, и возле жены, которой лишился. Бедная сирота, поддерживаемая Лизбетой, тихо вышла из комнаты и целую неделю не показывалась. Когда она снова появилась, то как будто ни в чем не изменилась, но долго после того она не улыбалась и относилась совершенно безучастно ко всему происходившему вокруг.
Хотя все члены семьи понимали Эльзу и сочувствовали ей, Адриан скоро начал находить ее поведение смешным и скучным. Так велико было тщеславие молодого человека, что он почти не был в состоянии понять, что воспоминание об убитом отце могло так наполнить душу девушки, что в ней уже не оставалось места для нежного обожателя.
Что такое, в конце концов, был этот отец?
Средних лет, вероятно, вовсе не интересный бюргер, замечательный одним только - своим огромным богатством, большая часть которого была накоплена его предками.
Живой богач еще представляет некоторый интерес, но кому, кроме наследников, есть дело до умершего? Кроме того, этот Брант был одним из ограниченных, фанатичных последователей новой религии, столь антипатичных человеку умному и развитому. Правда, он сам, Адриан, по сложившимся обстоятельствам, принадлежал к этой общине, но он находил ее последователей скучными. Их учение о борьбе отдельной личности, о возможности собственными усилиями достигнуть личного спасения не нравилось Адриану; к тому же эти усилия обыкновенно приводили на костер. Кроме того, пышность и могущество главной Церкви имели для него нечто обаятельное. Утешителен был также догмат о прощении, которое можно получить одной исповедью в своих грехах, и сознание великой силы, всегда готовой поддержать самого скромного из верующих.
Одним словом, умерший Гендрик не представлял из себя ничего интересного, ничего такого, что могло бы оправдать столь глубокую печаль молодой девушки, что она даже вовсе перестала замечать человека, без сомнения, интересного и готового откликнуться по первому знаку на ее внимание.
После долгих размышлений и найдя подтверждение им во внимательном изучении современных романов, Адриан пришел к убеждению, что во всем этом есть что-то неестественное, что молодая девушка находится как бы под каким-то очарованием, которое надо нарушить. Но как это сделать? В этом заключался вопрос. Сам Адриан никак не мог придумать и поэтому, по примеру многих других, решился обратиться за советом к человеку опытному - именно к Черной Мег, которая была не прочь за известное вознаграждение дать совет в сердечных делах.
Итак, ночью Адриан тайно отправился к Черной Мег: он любил таинственность, да и опасно было бы идти на свидание с ней среди белого дня. Сидя в полутемной комнате, он изложил колдунье свое дело, конечно, не сообщая имен. Последнее, впрочем, было бы и излишне, так как Адриан был старинный клиент Черной Мег, и никакая маска не в состоянии была бы скрыть его от нее. Прежде еще, чем он раскрыл рот, она уже знала имя возлюбленной Адриана и все связанные с его делом обстоятельства.
Советница терпеливо выслушала Адриана и, когда он кончил, покачала головой, говоря, что она сама решительно не знает, как помочь, но предлагает посоветоваться с магом, гораздо более сведущим, чем она, по счастливой случайности находящимся теперь в Лейдене и даже бывающем у нее в доме. Она просила Адриана зайти к ней в то же время на следующий день.
По совершенно странному совпадению обстоятельств этот самый маг поручил Мег устроить свидание между ним и этим самым молодым человеком.
Адриан пришел, согласно условию, и получил ответ, что маг, вопросив звезды и другие предметы гадания, так заинтересовался делом, что исключительно из любви к нему и вовсе не руководствуясь какими-нибудь целями наживы готов дать совет лично. Адриан был в восторге и просил, чтобы их познакомили. Скоро в комнату вошел статный человек, закутанный в длинный плащ. Адриан поклонился, и вошедший, внимательно приглядевшись к нему, с достоинством отвечал на поклон. Адриан откланялся и начал говорить, но мудрец перебил его.
- Объяснения излишни, молодой человек, - сказал он, - изучение дела открыло мне больше, чем вы можете сами сообщить мне. Имя ваше Адриан ван-Гоорль; девица, любви которой вы добиваетесь, - Эльза Брант, дочь Гендрика Бранта, еретика и известного золотых дел мастера, недавно казненного в Гааге. Она очень красива, но удивительно неотзывчива на любовь и не умеет ценить вас. Если я не ошибаюсь, здесь примешиваются еще некоторые особые, важные обстоятельства. Девушка - богатая наследница, но ее состояние теперь исчезло и, как я имею повод предполагать, скрыто на одном из островов Гаарлемского озера. Она окружена влияниями, враждебными вам, с которыми вам, однако, можно будет сладить, если вы отдадите себя в мои руки, потому что я (вы должны знать это) не принимаю откровенности наполовину. Задатка я не прошу; когда состояние отыщется и девушка станет вашей счастливой женой, тогда вы заплатите мне за услугу, но не раньше.
- Изумительно, ученый сеньор, как истинно каждое ваше слово, - проговорил Адриан.
- Да, друг Адриан, но я еще не все досказал вам. Например… впрочем, теперь не время говорить. Принимаете вы мои условия?
- Какие условия, сеньор?
- Старые условия, без которых чудо невозможно. Необходимо доверие, безусловное доверие.
Адриан несколько колебался. Можно ли обещать безусловное доверие совершенно незнакомому человеку при первом свидании?
- Я угадываю ваши мысли и уважаю их, - продолжал мудрец, в душе подумавший, не зашел ли он слишком далеко. - Спешки нет; такие дела нельзя решать в один день.
Адриан согласился с этим, но высказал желание иметь немедленно какое-нибудь практическое указание. Мудрец закрыл лицо руками и стал размышлять.
- Первое, что следует сделать, - заговорил он, - это заставить девушку относиться к вам благосклонно, и этого лучше всего достигнуть (к подобному средству я не часто прибегаю), дав девушке выпить любовного напитка, составленного согласно требованиям настоящего случая. Если вы зайдете сюда завтра, то хозяйка этого дома - достойная женщина, хотя несколько суровая по внешности - передаст вам его.
- Это не яд? - подозрительно спросил Адриан.
- Какая глупость! Разве я торгую ядами? Напиток только приворожит сердце девушки к вам.
- Как же употреблять его?
- Дать выпить в воде или вине, которое она пьет, а потом стараться заговорить с ней как можно скорее. Итак, мы условились, - прибавил он мимоходом. - До свидания.
- Стало быть, задатка вы не требуете?
- Нет, пока все не совершится. Ах, если б вы знали, какое удовольствие для утомленного жизнью и много испытавшего человека помогать молодежи в достижении ее целей, способствовать бедной, тоскующей душе найти подругу, предназначенную ей небом, тогда вы не стали бы говорить о задатке! Кроме того (я буду с вами откровенен), в ту же минуту, как я вошел в эту комнату, я почувствовал в вас родственную натуру, способную под моим руководством совершить великие вещи, более великие, чем я могу сказать. Какое видение стоит перед моими глазами! Вы - муж красавицы Эльзы и обладатель ее большого состояния, а я возле вас - ваш руководитель по своей опытности и знанию. Чего мы не достигнем вдвоем! Это мечты, без сомнения, мечты; но как часто мои мечты бывали пророчеством! Но лучше забудьте их, мы же с вами будем друзьями! - Он протянул руку
Адриану.
- С удовольствием, - отвечал Адриан, прикасаясь к холодным длинным пальцам. - Много лет я ищу кого-нибудь, на кого мог бы положиться, кто бы понял меня, как вы понимаете меня теперь, - я это чувствую.
- Да, да! Я действительно понимаю вас, - сказал маг.
- И подумать только, что я могу быть отцом такого дурака, - начал он рассуждать по уходе Адриана вслух, как делал часто, когда думал, что находится наедине с самим собою. - Впрочем, это мне на руку: в данном случае красивый, влюбленный в себя дурак может быть мне полезнее, чем молодой человек со здравым умом. Надо свести свои счеты. За наем конторы заплачено, и с первого числа я буду уже получать жалованье от правительства, как новый смотритель тюрьмы; стало быть, я могу заняться собиранием улик против почтенного наследника Бранта, Дирка ван-Гоорля, его предприимчивого сына Фоя и этого негодяя, Красного Мартина. Раз они попадут ко мне в тюрьму, уж непременно один из них выдаст мне тайну богатств Бранта. Женщины, вероятно, ничего не знают - они не скажут им; да я и не желаю иметь дело с ними: ничто не разубедит меня, что… - он содрогнулся, как при неприятном воспоминании. - Надо добыть неопровержимые улики; последние казни и допросы вызвали такой шум, что правительство не допустит казни без приличного предлога… Даже Альба и Кровавое Судилище начинают опасаться. Кто же может доставить лучшие улики, как не этот осел, сын мой Адриан? Но так как, по всей вероятности, у него где-нибудь да скрывается совесть, то лучше не давать ему заметить, что, разговаривая с ним, в сущности, допрашиваешь его. Прежде всего надо уличить старого друга Дирка в ереси, а против молодого человека и слуги возбудить обвинение в убийстве солдата и в пособничестве бегству еретиков с их состоянием. Убийство - тяжкое обвинение и не вызывает общественной симпатии, как ересь.
Он подошел к двери и позвал:
- Мег! Хозяйка!
Напрасно он трудился, так как едва отворил дверь, почтенная хозяйка очутилась у него чуть не в объятиях.
- Что это?.. Вы подслушивали? Какой стыд! Но женщины любопытны… - а про себя подумал: «Надо быть осторожнее. К счастью, я говорил негромко».
Он позвал Мег в комнату и, внимательно осмотрев последнюю, начал делать в ней некоторые приспособления.
ГЛАВА XVII. Обручение
В сумерки следующего дня Адриан вернулся, согласно обещанию, и был впущен в ту же самую комнату, где застал Черную Мег, которая передала ему маленький пузырек с совершенно прозрачной как вода жидкостью, что было весьма естественно, так как в действительности в пузырьке было не что иное, как вода.
- И это питье в самом деле повлияет на ее сердце? - спросил Адриан, рассматривая пузырек.
- Это удивительное лекарство, - отвечала старуха, - кто выпьет его, сходит с ума от любви к давшему его. Оно составлено по рецепту самого мага из драгоценных трав, не имеющих никакого вкуса и растущих только в африканских пустынях.
Адриан понял и стал шарить в кармане. Мег протянула руку, чтобы получить награду. То была длинная костлявая рука с длинными костлявыми пальцами, и на ней недоставало одного пальца. Мег увидала, что Адриан смотрит на руку и поспешила объяснить:
- Со мной случилось несчастье, - сказала она, - мясник резал свинью и отхватил мне палец.
- У вас было кольцо на этом пальце? - спросил Адриан.
- Было, - мрачно и сердито отвечала она.
- Как странно! - вырвалось у Адриана.
- Почему?
- Потому что я видел палец, длинный женский палец с золотым кольцом на нем, как будто отрубленный от вашей руки. Вероятно, мясник спрятал его на память.
- Может быть, герр Адриан; а где он теперь?
- Теперь он сберегается, или по крайней мере сберегался в банке со спиртом, привязанный ниткой к пробке.
Злое лицо Мег передернулось.
- Достаньте мне его, - хрипло сказала она. - Я много делала для вас, герр Адриан, сделайте это для меня.
- На что он вам?
- Чтобы по-христиански похоронить его, - мрачно проговорила она. - Не годится и не на счастье, если человеческий палец сохраняется в банке, как какой-нибудь жук или ящерица. Достаньте его - я не спрашиваю, у кого он, - иначе я не стану больше помогать вам в ваших любовных делах.
- Хотите получить вместе с тем и рукоятку кинжала? - колко спросил он.
Она искоса взглянула на него своими черными глазами. Этот молодой человек знал слишком много.
- Мне нужен палец с кольцом, который мясник отрубил, свежуя свинью.
- Может быть, тетушка, вам и свинку хотелось бы получить? Не ошибаетесь ли вы? Вы, может быть, сами хотели перерезать ей горло, а она откусила вам палец.
- Если мне понадобится свинья, я стану искать ее в хлеву… Принесите мне банку или…
Она не успела окончить, так как дверь отворилась и в комнату вошел маг.
- Вы ссоритесь? - укоризненно спросил он. - Из-за чего? Я догадываюсь. - Он провел рукой по лбу. - Тут замешан палец - перст судьбы?.. Нет, не то? А!.. - Он схватил руку Мег и, как бы осененный новым вдохновением, добавил: - Теперь понимаю. Принесите его, друг Адриан; мертвый палец приносит несчастье всякому, кроме его владельца. Сделайте это для меня.
- Хорошо, - отвечал Адриан.
- Моя сила увеличивается, - продолжал маг как бы про себя. - Я вижу эту честную руку и большой меч, но пока еще не стоит говорить: этого еще слишком мало. Оставьте нас, тетушка. Даю вам слово, ваш палец вернется. Да, вместе с золотым кольцом. А теперь, мой молодой друг, поговорим. Вы получили напиток? Говорю вам, что он окажется действенным, он заставит ожить мраморную Галатею. Пигмалиону, вероятно, был известен этот секрет. Но расскажите мне что-нибудь о вашей жизни, о том, что вы изо дня в день думаете и делаете: когда я даю свою дружбу, я люблю жить жизнью моих друзей.
Поощряемый им Адриан рассказал ему очень многое, сообщил столько подробностей, что сеньор Рамиро кивая ему из-под надвинутого колпака, думал про себя: «Успеет ли шпион, спрятанный в потайном шкафу, несмотря на всю свою опытность, записать все, что он слышал?» Он старался не давать Адриану уклониться в сторону и, время от времени вставляя свое замечание, искусно перевел разговор в нужное русло.
- Вам нечего скрытничать со мной, - сказал он, - я знаю, как вы выросли, как не по своей вине покинули лоно истинной Церкви и принимаете участие в тайных сборищах еретиков. Вы сомневаетесь, что это мне известно? Дайте припомнить. Не далее как на прошлой неделе вы сидели в комнате с выбеленными стенами, выходящей на рыночную площадь. Я вижу всех, бывших там: некрасивый, низенький человек проповедует резким голосом; его проповедь - сплошное кощунство. Корзины… корзины… Какое отношение могут иметь к нему корзины?
- Он, кажется, прежде делал их, - прервал Адриан, попавшись на удочку.
- Может быть, так, а может быть, я вижу их оттого, что ему предстоит быть похороненным в корзине. Как-никак, его судьба странным образом связана с корзинами. Вместе с вами тут и другие: человек средних лет с тупыми чертами лица; не Дирк ли это ван-Гоорль, ваш отчим? А кроме него еще молодой, довольно красивый молодой человек, вероятно, родственник. Я вижу его имя, но не могу ясно разобрать его. Ф… Ф… о… и… Foi по-французски значит вера; странное имя для еретика.
- Фой, - поправил Адриан.
- В самом деле!.. Как это я не разобрал последнюю букву; но в видениях подобные вещи случаются. Кроме того, в комнате еще один человек - высокого роста с рыжей бородой…
- Нет, вы ошибаетесь, - горячо возразил Адриан, - Мартина не было там, он оставался караулить дом.
- Вы уверены в этом? - с сомнением спросил маг. - Я смотрю, и мне кажется, вижу его.
Он пристально глядел на стену.
- Вообще, он часто бывает на этих собраниях, только не был на прошлой неделе.
Нет надобности дальше следить за разговором мага с Адрианом. Маг, вынув из-под плаща хрустальный шар, продолжал описывать свои видения, а молодой человек поправлял его, зная в точности все случившееся, пока сеньор Рамиро и его сообщник не нашли, что собрали достаточно улик, неопровержимых улик по понятиям того времени, чтобы три раза сжечь Дирка, Фоя и Мартина, а если бы оказалась надобность, то и самого Адриана. После этого маг простился со своим новым другом.
На следующий вечер Адриан явился с пальцем в банке, на которую Мег бросилась, как уж на лягушку, и снова начался интересный разговор. Адриана очень привлекала мистическая болтовня мага вперемежку с мудрыми наставлениями в сердечных и других житейских делах и льстивыми отзывами о его собственных качествах и дарованиях.
Несколько раз Адриан приходил таким образом к магу, так как в это время случилось, что Эльза по нездоровью не выходила из комнаты и Адриан не имел случая дать ей выпить магического напитка, от которого ее сердце должно было воспылать любовью к нему.
Наконец, когда даже Рамиро начинали надоедать продолжительные визиты молодого человека, счастье улыбнулось последнему. Эльза появилась в один прекрасный день за столом, и Адриан ловко и незаметно для других успел вылить содержимое пузырька в стакан воды, который Эльза, к великой радости влюбленного, выпила до дна.
Но случая объясниться не представилось, так как Эльза, вероятно, подавленная нахлынувшим на нее чувством, ушла к себе в комнату, чтобы бороться с собой наедине. Так как следовать за ней туда и сделать ей сейчас же предложение оказалось невозможным, то Адриан, призвав на помощь все самообладание, на какое был способен, уселся в гостиной, ожидая ее возвращения, так как знал, что она никогда не выходит раньше пяти часов. Однако случилось, что Эльза иначе распорядилась своим временем на этот вечер: она обещала Лизбете сделать с ней несколько визитов соседкам, а затем зайти за Фоем в контору и пройтись с ним за город.
И вот, пока Адриан сидел в гостиной, погруженный в свои мечты, Лизбета вышла с Эльзой из дома через боковой подъезд.
Они уже побывали в двух или трех домах, как случайно должны были пройти мимо старинной городской тюрьмы, называемой Гевангенгуз. Эта тюрьма находилась у одних из городских ворот; она была выстроена в стене и выходила на городской ров, окружавший ее со всех сторон водой. Перед ее массивной дверью, охраняемой двумя часовыми, на подъемном мосту и улице, ведущей к нему, собралась небольшая кучка людей в ожидании кого-то или чего-то. Лизбета взглянула на трехэтажное мрачное здание и содрогнулась: здесь допрашивали еретиков и здесь же многих из них казнили страшными способами того времени.
- Пойдем скорее, - сказала она Эльзе, пробираясь через толпу. - Наверное, тут происходит что-нибудь ужасное.
- Не бойтесь, - отвечала пожилая, добродушная на вид женщина, услышавшая ее слова. - Мы только ждем, чтобы послушать, как новый смотритель тюрьмы выйдет и прочтет о своем назначении.
В эту самую минуту дверь отворилась, и из нее вышел человек. Это был палач с мечом в одной руке и связкой ключей на подносе - в другой. За ним следовал смотритель в нарядной одежде, сопровождаемый взводом солдат и служебным тюремным персоналом. Вынув из-под плаща свиток, он стал быстро, едва слышно читать его.
Это было назначение его смотрителем, подписанное самим Альбой. В нем перечислялись все его полномочия, весьма значительные, ответственность, весьма небольшая, и все прочее, кроме той суммы, которую он заплатил за место, так как подобные должности продавались совершенно открыто тому, кто предлагал больше. Можно догадаться, что подобное место в одном из больших нидерландских городов было весьма доходным для тех, кто не пренебрегал такими способами разбогатеть. И действительно, доходы были так велики, что жалованье, полагавшееся по этой должности, никогда не выплачивалось, и смотрителю предоставлялось существовать на суммы из карманов еретиков.
Окончив чтение, новый смотритель поднял глаза и окинул взглядом слушателей, быть может, чтобы увидеть, какое впечатление он произвел на них. Эльза, в первый раз увидевшая тут его лицо, схватила Лизбету за руку.
- Это Рамиро, - шепнула она, - шпион, следивший за отцом в Гааге.
Но ее спутница не отозвалась. Лизбета вдруг как бы окаменела и, вся побледнев, бессмысленным взглядом смотрела в лицо человека, стоявшего против нее. Она также узнала его. Несмотря на печать, наложенную на него годами, страстями, страданиями и злыми мыслями, несмотря на то, что он потерял один глаз, оброс бородой и страшно похудел, она узнала его: перед ней стоял ее муж, Жуан де Монтальво. Как бы повинуясь влиянию магнетического тока, и его взгляд обратился на нее; ее лицо выделилось для него из толпы. Он задрожал и побледнел, отвернулся и быстро пошел в ад Гевангенгуза. Он показался оттуда, будто дьявол, сошедший в людской мир, чтобы выискать себе жертв, и, как дьявол, снова скрылся. Так, по крайней мере, показалось Лизбете.
- Пойдем, пойдем, - проговорила она, увлекая за собой девушку и стараясь выбраться из толпы.
Эльза заговорила сдавленным голосом, часто переходившим в рыдание:
- Да, это он. Он затравил моего отца; ему нужно было его состояние, но отец поклялся, что умрет прежде, чем отдаст ему свое богатство; и он умер, умер в тюрьме инквизиции, а этот человек - его убийца.
Лизбета не отвечала; она не произнесла ни слова, пока они не остановились у маленькой, обшарпанной двери. Здесь она заговорила в первый раз холодным, неестественным тоном:
- Я зайду к фроу Янсен; ты слышала о ней: это жена того, которого они сожгли. Она присылала сказать мне, что больна; я не знаю, что с ней, но в городе ходит оспа: я уже слышала о четырех случаях, и поэтому лучше, если ты не пойдешь со мной. Дай мне корзинку с вином и провизией. Мы уже дошли до конторы, где тебя ждет Фой. Не вспоминай о Рамиро. Что сделано, того не воротишь. Поди, погуляй с Фоем и забудь на это время о Рамиро.
Эльза нашла Фоя у дверей конторы, где он уже ждал ее, и они вместе вышли из городских ворот в луга, лежавшие за городом. Сначала оба говорили немного, так как у каждого были мысли, которые не хотелось высказывать. Однако, отойдя недалеко от города, Эльза уже не могла дольше сдерживаться - страх, пробужденный в ней Рамиро, при напряжении ее нервов доводил ее почти до истерики. Она заговорила; слова лились, как вода, прорвавшая плотину. Эльза сказала, что видела Рамиро, и еще многое, многое, все, что она вынесла в это время, все, что перестрадала за горячо любимого отца.
Наконец она замолчала и, остановившись на берегу реки, ломая руки, заплакала. До сих пор Фой не говорил ничего: его находчивость и веселость совершенно оставили его. И теперь даже он не знал, что сказать; он только обнял девушку за талию и, привлекая ее к себе, поцеловал в губы и глаза. Она не сопротивлялась, ей даже не пришло это в голову; она опустила голову ему на плечо и тихо рыдала. Наконец она подняла лицо и спросила очень просто:
- Чего ты желаешь от меня, Фой?
- Чего? - повторил он. - Желаю стать твоим мужем.
- Время ли теперь выходить замуж или жениться? - спросила она снова, как будто рассуждая про себя.
- Не знаю, - отвечал он, - но мне кажется, что только это и можно сделать: в наши дни вдвоем все же легче жить, чем одному.
Она несколько отступила и, грустно покачав головой, начала было:
- Отец мой…
- Да, - прервал он ее, просияв, - благодарю, что ты упомянула о нем. Это напомнило и мне. Он также желал нашего союза; и теперь, когда его нет, надеюсь, что ты разделишь его взгляд.
- Не поздно ли теперь спрашивать об этом? - проговорила она, не смотря на Фоя и приглаживая своей маленькой белой ручкой растрепавшиеся волосы. - Но что ты хочешь сказать этим?
Слово за словом, как мог восстановить в своей памяти, Фой повторил сказанное ему Гендриком Брантом перед тем, как они с Мартином отправились на опасное предприятие в Гаарлемское озеро, и закончил:
- Ты видишь, он желал этого.
- Его желания всегда были моими желаниями, и я… я также желаю этого…
- Бесценные вещи не легко приобрести, - сказал Фой, вспомнив слова Бранта, между тем как в душу его закралось опасение.
- Это он намекал на сокровища? - сказала она, и улыбка осветила ее лицо.
- Это сокровище - твое сердце.
- Правда, вещь не имеющая цены, но, мне кажется, неподдельная.
- Но и лучший металл может треснуть от долгого употребления.
- Мое сердце выдержит до смерти.
- Большего я не прошу. Когда я умру, можешь отдать его, кому захочешь; я снова найду его там, где нет ни женитьбы, ни замужества.
- Не много от него осталось бы на долю другого; но вглядись внимательно и в свое золото: как бы его чеканка не изменилась - ведь золото плавится в горне, и каждая новая королева чеканит свою монету.
- Довольно, - нетерпеливо перебил ее Фой. - Зачем ты говоришь о таких вещах, да еще загадками, сбивающими меня.
- Потому… потому, что мы еще не женаты, бесценные же вещи - повторяю не свои слова - не легко достаются. Полную любовь и согласие нельзя приобрести несколькими нежными словами и поцелуями - они приобретаются путем испытаний…
- Немало их еще выпадет на нашу долю, - весело отвечал он. - А в начале пути очень приятно поцеловаться.
После этого Эльза уже не стала возражать.
Наконец, они повернули и пошли обратно в город в спокойные сумерки, рука в руке, счастливые в душе. Они не выражали этого счастья, потому что голландцы вообще народ сдержанный и не любят выказывать своих чувств. Кроме того, условия, при которых они дали друг другу слово, были особенные: как будто их руки соединились у одра умирающего, у смертного одра Гендрика Бранта, гаагского мученика, кровь которого взывала к небу о мести. Это чувство, тяготевшее над ними, сдерживало проявление юношеской страсти; но даже если бы они были в состоянии забыть свое горе, осталось бы еще другое чувство, которое сковало бы их, - чувство страха.
«Вдвоем легче жить», - сказал Фой, и Эльза не оспаривала этого; но все же она чувствовала, что в этом деле была еще другая сторона. Если при жизни вдвоем являлась возможность поддерживать друг друга, любить друг друга, то не являлось ли возможным и страдать друг за друга? Не удваивалось ли при этом беспокойство и не увеличились бы еще заботы в случае появления ребенка? Этот вопрос, являющийся при каждом браке, был еще более понятен в такое время, и особенно, когда дело шло о Фое и Эльзе - еретиках и богатых, - стало быть, живших каждую минуту под опасностью ареста или костра. Зная все это и только что перед тем увидав Рамиро, неудивительно, что Эльза, радуясь, как радуется всякая женщина, узнав, что человек, которому она отдала свое сердце, любит ее, тем не менее могла только робкими и неполными глотками пить из радостной чаши. Неудивительно также, что и на веселой жизнерадостности Фоя отразились эти опасения и тайная душевная тревога.
Расставшись с Эльзой, Лизбета вошла в комнату фроу Янсен. Это была бедная каморка, так как после казни мужа у несчастной вдовы его палачи отобрали все имущество, и она существовала теперь исключительно на подаяния своих единоверцев. Лизбета застала ее в постели, около которой сидела ухаживавшая за фроу Янсен старуха, сказавшая, что, по ее мнению, у больной горячка. Лизбета наклонилась над постелью и поцеловала больную, но отшатнулась, заметив, что железы у нее на шее опухли и вздулись, а лицо все горело в жару и налилось кровью. Однако фроу Янсен узнала посетительницу и сказала:
- Что со мной, фроу ван-Гоорль, не оспа ли? Скажите мне, доктор, пожалуй, скроет.
- Я боюсь, не хуже ли, - отвечала мягко Лизбета, - это чума.
Бедная женщина хрипло засмеялась.
- О, я надеялась на это! - сказала она. - Я рада, очень рада; теперь я умру и пойду к нему. Жалко только, что я раньше не подхватила ее: я бы занесла ее к нему в тюрьму, и они не сделали бы над ним того, что сделали теперь, - продолжала она как бы в бреду, но затем, снова придя в себя, она обратилась к Лизбете: - Бегите отсюда, фроу ван-Гоорль, вы можете заразиться.
- Если я могу заразиться, то боюсь, что уже заразилась, потому что поцеловала вас, - отвечала Лизбета, - но я не боюсь такой болезни, хотя быть может, если б мне удалось заразиться, я бы избавилась от многих неприятностей. Но я должна подумать о других и поэтому уйду. - Она опустилась на колени, чтобы помолиться, и, затем, отдав корзину с вином и провизией старухе, ушла.
На следующее утро она услыхала, что фроу Янсен умерла от болезни, в тяжкой форме поразившей ее.
Лизбета знала, что подверглась большой опасности, так как нет болезни заразительней чумы. Поэтому она решила сейчас же по возвращении домой сжечь свое платье и всю одежду, бывшую на ней, а самой очиститься дымом трав. После этого она перестала думать о чуме, так как ум ее был занят другой мыслью, всецело овладевшей ею.
Монтальво вернулся в Лейден! Этот злой дух ее жизни - и по роковой случайности также и жизни Эльзы, узнавшей его, - вернулся из мрака прошлого, с галер. Лизбета была мужественная женщина, встречавшаяся в своей жизни со многими опасностями, но она вся похолодела от ужаса, увидав его, и знала, что ей не избавиться от этого страха, пока он или она живы. Она догадывалась, зачем Монтальво появился в Лейдене. Его привлекло сюда проклятое богатство Гендрика Бранта. От Эльзы она знала, что целый год один человек в Гааге по имени Рамиро употреблял все усилия, чтобы завладеть этим богатством. Ему не удалось этого сделать. Он потерпел полное, позорное поражение благодаря храбрости и находчивости ее сына и слуги. Теперь он узнал, кто они, и, будучи уверен, что им известна тайна местонахождения сокровищ, перебрался в Лейден, чтобы выпытать ее. Это было ясно - ясно как заходящий шар багрового солнца перед ней. Она знала, что это за человек, недаром она жила с ним! В справедливости ее догадок не было сомнения - недаром Рамиро добился места смотрителя Гевангенгуза. Он, без сомнения, купил эту должность, чтобы быть вблизи от тех, кого намеревался выследить.
Еле передвигая ноги и ничего не видя, Лизбета добрела до дому. Ее единственной мыслью было, что надо поскорее все сказать Дирку; но она прикоснулась к чумной - стало быть, прежде всего следует обеззаразить себя. Она пошла к себе в комнату и, несмотря на лето, развела огонь в очаге, на котором сожгла все платье. После того она окурила себе волосы и тело, посыпав на угли ароматических трав, запас которых в те времена, когда заразные болезни бывали так часто, всегда находился в каждом доме, и, переодевшись, пошла к мужу. Она застала его в его комнате у конторки за чтением какой-то бумаги, которую при ее появлении он быстро спрятал в ящик.
- Что это, Дирк? - спросила она с внезапно проснувшимся подозрением.
Он сделал вид, что не слышит, и она повторила вопрос.
- Если ты уж непременно желаешь знать, то скажу тебе: это мое завещание, - прямо ответил он.
- Почему ты стал читать свое завещание? - спросила она, снова начиная дрожать, так как ее нервы были напряжены и этот незначительный случай показался ей ужасным предзнаменованием.
- Без особенных причин, - спокойно отвечал Дирк, - но всем нам суждено рано или поздно умереть. От этого не уйдешь, и теперь это случается чаще, скорее, чем это было прежде; так лучше, чтобы те, кто останутся в живых, нашли все в порядке. Раз теперь разговор коснулся предмета, которого я избегал до сих пор, выслушай меня.
- В чем же дело?
- Дело касается моего завещания. Видишь ли, Гендрик Брант со своим богатством дал мне урок. Я не такой богач, как он, но во многих странах слыл бы за богатого человека, так как работал усердно, и Бог благословил меня. В последнее время я продавал, что мог, и теперь главная часть моего состояния в деньгах. Но деньги не здесь, и даже не в этой стране. Ты знаешь моих корреспондентов, Мунта и Броуна, в Норвиче, в Англии, которым мы отправляем наши товары для английского рынка. Они честные люди, и Мунт мне обязан всем, даже жизнью. Так вот, деньги у них, они благополучно дошли до них: вот квитанция в получении и извещение, что капитал помещен за хорошие проценты под залог больших имений в Норфолке, где я или мои наследники всегда можем получить его; копия этого свидетельства, на случай его утраты, внесена в их английские книги. Здесь, кроме этого дома и конторы - да и те заложены, - у меня осталось немного. Дело дает достаточно дохода для жизни, и с процентами, получаемыми из Англии, мы везде можем прожить, не нуждаясь. Но что с тобой, Лизбета? Какой у тебя странный вид.
- О Боже! - вырвалось у Лизбеты. - Жуан де Монтальво здесь. Он назначен надзирателем тюрьмы. Я видела его сегодня вечером. Я не могла ошибиться, хотя он лишился одного глаза и очень изменился.
Челюсть Дирка отвисла, и его цветущее лицо побледнело.
- Жуан де Монтальво? - переспросил он. - Я слышал, что он давно умер.
- Ты ошибаешься. Дьявол никогда не умирает. Он отыскивает наследство Бранта и знает, что тайна известна нам. Ты догадаешься об остальном. Теперь я, кроме того, вспомнила, что слышала, что у Симона, прозванного Мясником, и Черной Мег, которую мы с тобой знаем, в последнее время жил какой-то странный испанец. Это, без сомнения, он, и теперь, Дирк, нас, может быть, уже сторожит смерть.
- Откуда ему знать о сокровищах Бранта?
- Он - Рамиро, тот самый человек, который затравил Бранта, тот самый, который старался догнать «Ласточку» на Гаарлемском озере. Эльза была со мной сегодня вечером и тоже сразу узнала его.
Дирк, опершись головой на руку, задумался на минуту, потом сказал:
- Я очень рад, что отправил деньги Мунту и Брауну. Само небо внушило мне эту мысль. Что ты посоветуешь делать теперь?
- Мой совет - бежать из Лейдена всем нам еще сегодня ночью.
Он улыбнулся.
- Это невозможно… Как бежать? По новым законам нам нельзя выйти за город, но дня через два я могу устроить все так, что мы сможем уехать, если ты желаешь.
- Сегодня, сегодня! - настаивала она. - Иначе кому-нибудь из нас придется остаться здесь навсегда.
- Говорю тебе, это невозможно. Разве я крыса какая, чтобы какой-нибудь негодяй Монтальво мог выжить меня из моей норы? Я уже немолод и человек мирный, но чего доброго, пока еще живу здесь, проколю его мечом.
- Как хочешь, - сказала Лизбета. - Но мне кажется, что меч пройдет сквозь мое сердце. - Она залилась слезами.
Невесело было в этот день за ужином. Дирк и Лизбета, сидя на противоположных концах стола, молчали. С одной стороны помещались Фой и Эльза, тоже молчавшие, хотя и по другой причине, а напротив - Адриан, наблюдавший все время за Эльзой.
Он был уверен, что любовный напиток произвел свое действие, так как Эльза казалась сконфуженной и краснела и, что казалось ему весьма естественным, старалась избегать его взгляда, делая при этом вид, будто занята Фоем, казавшимся Адриану еще глупее обыкновенного. Адриан решился при первой возможности выяснить все, а в настоящую минуту тяжелое молчание, господствовавшее за столом, раздражало его нервы. Чтобы что-нибудь сказать, он спросил мать:
- Где вы были сегодня, матушка?
- Я? - спросила она, вздрогнув. - Была у фроу Янсен, которая очень больна…
- Что с ней?
Лизбета, мысли которой были далеко, с трудом могла ответить:
- Что с ней?.. У нее чума.
- Чума! - вскричал Адриан, вскакивая. - Неужели вы ходили к женщине, у которой чума?
- Да, кажется, - отвечала она, улыбаясь. - Но не бойся, я сожгла свое платье и окуривалась.
Но Адриан испугался. Он еще не забыл о своей недавней болезни и, кроме того, будучи трусом, он особенно терпеть не мог заразных болезней.
- Это ужасно, - сказал он, - ужасно! Дай Бог нам, то есть вам, избегнуть заразы. В доме у нас такая теснота. Я пройдусь по саду.
Он ушел, забыв, по крайней мере в эту минуту, и о своей любви к Эльзе, и о любовном напитке.
ГЛАВА XVIII. Видение Фоя
Ни разу еще с тех пор, как Лизбета много лет тому назад купила спасение любимого ею человека, обещавшись стать женой его соперника, не спала она так дурно, как в эту ночь. Монтальво был жив, он был здесь, чтобы погубить тех, кого она любила. Рамиро имел для этого в руках все - усердие и признанную правительством власть. Лизбета хорошо знала, что если предвиделась нажива, этот человек не отступит ни перед чем, пока не овладеет ею. Оставалась одна надежда: он не был жесток, то есть не находил удовольствия мучить людей ради мучения, а только прибегал к последнему как к средству. Она была уверена, что если бы он мог получить те деньги, которых добивался, он оставил бы всех в покое. Почему не получить их ему? Почему подвергать жизнь всех опасности из-за этого наследства, бремя которого взвалено на них?
Не будучи в состоянии выносить этой муки сомнений и страха, Лизбета разбудила спокойно спавшего мужа и сообщила ему свои мысли.
- Конечно, так было бы легче всего поступить, - отвечал Дирк с улыбкой, - я вижу, что даже лучшие из женщин не могут быть вполне честны, если дело коснется их личного интереса. Неужели ты хочешь, чтобы мы купили свое счастье ценой состояния Бранта и, таким образом, обманув доверие покойного, призвали на себя его проклятие.
- Жизнь людей дороже золота, и Эльза, наверное, согласится, - мрачно отвечала Лизбета, - сокровища уже запятнаны кровью, кровью самого Бранта и Ганса-лоцмана.
- Да, и уж если на то пошло, то кровью многих испанцев, пытавшихся похитить его. Несколько их потонуло в устье реки и до двадцати взлетело на воздух вместе с «Ласточкой», так что потери не на одной нашей стороне. Слушай, Лизбета: двоюродный брат Гендрик Брант был уверен, что в конце концов его богатство окажет какую-нибудь услугу нашему народу или стране; это он написал в своем завещании и то же самое повторил Фою. Я не могу знать, как это совершится, но умру прежде, чем предам сокровища в руки испанцев. К тому же я и не могу этого сделать, так как тайна никогда не была сообщена мне.
- Ее знают Фой и Мартин.
- Лизбета, - серьезно заговорил Дирк, - именем твоей любви ко мне умоляю тебя не настаивать на том, чтобы они выдали ее, даже ради спасения моей или твоей собственной жизни. Если мы должны умереть, то умрем с честью. Обещаешь ты?
- Обещаю, - отвечала она запекшимися губами, - но с одним условием - что ты бежишь со всеми нами из Лейдена еще сегодня ночью.
- Хорошо, - отвечал Дирк, - долг платежом красен; ты дала обещание, и я дам обещание; согласен, хотя уже и староват я, чтобы искать себе нового дома в Англии. Но сегодня ночью бежать невозможно: мне надо еще кое-что устроить. Завтра утром уходит корабль, и мы можем догнать его завтра у устья реки после того, как он пройдет мимо досмотрщиков; капитан корабля мне друг. Согласна?
- Мне бы хотелось устроить это еще сегодня, - сказала Лизбета. - Пока мы в Лейдене с этим человеком, мы не можем ручаться ни за один час.
- И никогда мы не можем ни за что ручаться. Все в руках Божиих, и поэтому мы должны жить как солдаты, ожидающие часа выступления, и радоваться, когда раздастся призыв.
- Я знаю, - отвечала она. - Но трудно нам будет расстаться.
Он отвернулся на минуту, но затем отвечал твердым голосом:
- Да. Но хорошо будет снова встретиться, чтобы никогда больше не разлучаться.
Ранним утром Дирк позвал Фоя и Мартина в комнату жены. Адриана он, по особым соображениям, не звал и сказал, что ему жаль будить его, так как он крепко спит. Эльзу он также до поры до времени не хотел тревожить. В коротких словах он передал суть дела, сказав, что Рамиро - тот самый человек, который потерпел из-за них неудачу на Гаарлемском озере, - находится в Лейдене (обстоятельство, впрочем, уже известное Фою через Эльзу), что он не кто иной, как граф Жуан де Монтальво, обманувший Лизбету и заставивший ее угрозами выйти за себя замуж, и что он отец Адриана. Все это время Лизбета сидела в резном дубовом кресле, слушая с окаменевшим лицом рассказ об обмане, жертвой которого она стала. Она не сделала ни одного движения и только слегка шевелила пальцами, пока Фой, угадывая ее душевное страдание, не подошел к ней вдруг и не поцеловал. По щеке ее скатилось несколько слезинок; с минуту она продержала руку на голове Фоя, как бы благословляя его, а затем снова стала прежней Лизбетой: серьезной, холодной, следившей за всем происходившим.
После того Дирк сообщил об опасениях Лизбеты и о предположении, что существует заговор с целью выпытать у них их тайну.
- К счастью, - сказал он, обращаясь к Фою, - ни я, ни Адриан, ни Эльза не знаем тайны; она известна только тебе и Мартину, да, может быть, еще одному, который далеко и не попадется в их руки. Мы этого не знаем и не хотим знать, и что бы ни случилось с нами, твердо надеемся, что ни один из вас не выдаст тайны, если бы даже от этого зависела наша и ваша жизнь: мы считаем, что обязаны выполнить завещание покойника во что бы то ни стало и не имеем права обмануть его доверие ради спасения собственной жизни. Не так ли, жена?
- Так, - хрипло ответила Лизбета.
- Не бойтесь, - сказал Фой, мы скорее умрем, чем выдадим тайну.
- Постараемся умереть прежде, чем выдадим тайну, - своим густым басом пробормотал Мартин, - но плоть немощна, и кто знает…
- Я не сомневаюсь в тебе, честный старик, - с улыбкой сказал Дирк, - ведь тебе в эту минуту не придется думать об отце и матери.
- Ну, вот и пустяки говорите, хозяин, - отвечал Мартин, - потому что, повторяю вам, плоть немощна, а вид колеса для меня всегда ненавистен. Но ведь мне также завещано кругленькое состояньице из этого богатства, и, может быть, эта мысль поддержит меня. Живому или мертвому мне неприятно было бы думать, что мои деньги станет тратить испанец.
Между тем как Мартин говорил, Фой подумал о том, как странно все происходившее вокруг него. Вот здесь было четверо людей, из которых двое знали тайну, а двое других, не знавших, умоляли знавших не сообщать им ничего, что могло, став им известным, спасти их от ужасной судьбы. Тут в первый раз он своим молодым неопытным умом понял, как высоко могут стоять мужчины и женщины и какое спокойное величие живет в человеческом сердце, способном ради исполнения завещания решиться обречь и тело и душу на ужаснейшие страдания. Сцена этого утра так врезалась в его память, что он не забыл ее во всю свою последующую жизнь: мать его, в плоском чепце и сером платье, сидящая с холодным и решительным лицом в дубовом кресле; отец, с которым он в этот день говорил в последний раз, хотя не знал этого, стоящий позади матери, положив руку на ее плечо и разговаривающий с ним спокойным тоном; Мартин, также стоящий несколько позади со своей рыжей бородой, ярко освещенной солнцем, и маленькими серыми глазами, блестящими, как всегда, когда он сердился, и сам он, Фой, наклонившийся вперед, весь охваченный волнением, любовью и страхом.
Да, он никогда не забывал этой сцены, в чем нет ничего удивительного, так как все происходившее так глубоко потрясло его, так ясно он сознавал, что эта сцена - только прелюдия к ужасным событиям, что на минуту его трезвый ум был потрясен, и он увидел перед собой видение: Мартин, огромный, похожий на терпеливого вола, превратился в кровавою мстителя. Фой видел, как он высоко взмахивал мечом, и слышал его громкий крик; он видел, как люди падали вокруг, а земля обагрялась кровью. Фой видел также отца и мать, но они были уже не людьми, а святыми: их окружал ореол святости, а рядом с ними стоял Гендрик Брант и что-то говорил им на ухо. А он, Фой, стоял возле Мартина, принимая деятельное участие в его кровавом мщении.
Затем все исчезло, и на него нашло мирное настроение, сознание исполненного долга, удовлетворенной чести и полученной награды. Игра воображения кончилась, и ее смысл был ясен; но прежде чем он мог понять его, все уже исчезло.
Фой с трудом перевел дух, содрогнулся и всплеснул руками.
- Что ты видел? - спросила Лизбета, наблюдавшая за его лицом.
- Странные вещи, матушка, - отвечал Фой. - Видел, что мы с Мартином участвуем в битве, тебя и отца окружает слава, а для нас всех наступает мир.
- Это хорошее предзнаменование, - сказала она. - Борись сам и предоставь нам бороться. После многих испытаний мы вступим в царствие Божие, где всех нас ждет успокоение. Это хорошее предзнаменование. Отец твой был прав, а я неправа. Теперь я уже не боюсь. Я довольна.
Никто из присутствовавших не удивился и не нашел в этих словах ничего необычайного. Для них рука приближающегося рокового часа отдернула завесу далекого, и они все поняли, что таким образом луч света - слабый луч из-за облаков - упал в их сердца! Они с благодарностью приняли его.
- Я, кажется, все сказал, - заговорил Дирк своим спокойным голосом. - Нет, еще не все…
И он сообщил свой план бегства.
Фой и Мартин слушали и соглашались с ним, но бегство казалось им чем-то очень далеким и призрачным. Они не верили в возможность выполнения плана. Они были убеждены, что здесь, в Лейдене, их ждет испытание их веры и что здесь каждый из присутствовавших стяжает в отдельности свой венец.
Когда все было взвешено и каждый знал твердо, что ему делать, Фой спросил, следует ли посвящать в план и Адриана. На это отец его поспешно заметил, что чем меньше будет разговоров, тем лучше, и предложил поэтому сообщить Адриану все только вечером, предоставив ему решить тогда, поедет ли он с ними или останется в Лейдене.
- Так он сегодня весь день просидит дома и проводит нас на корабль, - пробормотал Мартин, но вслух не сказал ничего.
Ему казалось почему-то, что не стоит делать из этого вопроса, так как знал, что выскажи он сомнение, Лизбета и Фой, вполне доверявшие Адриану, рассердятся.
- Батюшка и матушка, - начал Фой, - пока мы здесь все вместе, я желал бы сказать вам одну вещь.
- Что такое? - спросил Дирк.
- Вчера мы обменялись обещанием с Эльзой Брант и просим вашего согласия и благословения.
- Я с радостью дам их вам, сын мой, и мне приятно слышать эту новость. Приведи Эльзу сюда, - ответил Дирк.
Фой поспешил исполнить желание отца и не заметил, что Лизбета ничего не говорит. Она полюбила Эльзу - кто мог ее не любить, - но… они таким образом приближались еще на шаг к проклятым сокровищам, которые копились из поколения в поколение, чтобы погубить людей. Если Фой сделается женихом Эльзы, богатство станет его наследством, так же как ее, и принесет ему такое же горе, как ей. Кроме того, люди могут сказать, что он женился из-за денег.
- Тебе это не по душе? - спросил Дирк, взглянув на нее.
- Да, теперь мне кажется, что мы уже никак не выберемся из Лейдена. Молю только Бога, чтобы Адриан ничего не узнал.
- Почему?
- Он без памяти влюблен в Эльзу. Разве ты не заметил этого? И ты знаешь его характер…
- Адриан, Адриан, все Адриан! - нетерпеливо воскликнул Дирк. - Эльза вполне подходящая партия для нашего сына; богатство ее, спрятанное где-то в болоте, вовсе не ее, так как большая часть ее завещана мне для употребления на известное дело; у него же деньги в полной безопасности в Англии. Вот они идут, прими ласковый вид, они сочтут за несчастное предзнаменование, если ты не улыбнешься.
Фой вошел в комнату, ведя за руку Эльзу, красивее которой в эту минуту трудно было бы найти девушку. Они рассказали, как все произошло, и опустились на колени перед Дирком, чтобы он благословил их по старинному обычаю; впоследствии им приятно было воспоминание, что это произошло именно так. После того они обратились к Лизбете, и она также подняла руки, чтобы благословить их, но, готовясь прикоснуться к их головам, не могла, несмотря на все свои усилия, сдержать грустного восклицания:
- О, дети, вы, конечно, любите друг друга, но время ли теперь жениться и выходить замуж?
- То же самое говорила и я, теми же самыми словами! - воскликнула Эльза, вскакивая с колен и бледнея.
Фой сделал недовольное лицо, но, овладев собой, улыбнулся и сказал:
- И я опять отвечу теми же словами: вдвоем жить легче, и к тому же это только обручение, а не венчание.
- Да, правда, обручение - одно, а венчание - другое, - пробормотал Мартин, думая, как всегда, вслух; и как ни тихо были сказаны эти слова, Эльза услыхала их.
- Мать твоя расстроена, - вмешался Дирк, - ты сам знаешь, почему, и не тревожь ее еще больше. Принимайся за дело; отправляйся с Мартином в контору и сделай там все, как я сказал тебе, а я, повидавшись с капитаном, поступлю так, как прикажет мне Господь. Теперь до свидания, сын мой… и дочь, - добавил он с улыбкой, обращаясь к Эльзе.
Они пошли к двери, но Лизбета позвала Мартина.
- Мартин, возьми с собой оружие, когда пойдете в контору, а молодой хозяин пусть наденет кольчугу под колет.
Мартин кивнул головой и вышел.
Адриан проснулся утром этого дня в дурном расположении духа. Он, правда, успел дать выпить Эльзе любовный напиток, но до сих пор не пожал еще плода своих хлопот и ужасно боялся, что волшебное питье не принесет никакой пользы. Сойдя вниз, он узнал, что Фой и Мартин уже ушли в контору, а отчим также отправился неизвестно куда. Это было ему на руку, так как оставляло ему свободное поле действия. Однако оказалось, что мать и Эльза уже позавтракали наверху. Что он не увидится с матерью, не слишком огорчало его, особенно после того, как она приходила в соприкосновение с зачумленной, но отсутствие Эльзы страшно раздосадовало его. Кроме того, в доме стало вдруг как-то неуютно: вся прислуга почему-то была на ногах, перенося без всякой видимой цели разные вещи с места на место, будто потеряла голову. Раза два мимо Адриана прошла Эльза, но она также несла вещи, и ей некогда было разговаривать.
Наконец, Адриану надоело ждать, и он отправился в контору, намереваясь приняться за книги, которые, правду говоря, он несколько запустил. Но и тут царила такая же суета. Вместо того чтобы заниматься своим обычным делом, Мартин ходил взад и вперед, отбирая медные вещи, которые укладывались в корзины, и, кроме того, Адриан заметил - он был наблюдательный молодой человек, - что на Мартине было не его ежедневное рабочее платье. С чего, - спрашивал себя Адриан, - было Мартину в летний день прийти в контору в своей броне из дубленой буйволовой кожи, опоясанным своим мечом «Молчание?» Зачем Фою понадобились книги, которые он просматривал с одним из конторщиков? Изучал он их, что ли? В таком случае - на здоровье, так как привести их в надлежащий вид оказалось бы далеко не по силам Адриана. Нельзя сказать, что они велись неверно - он вел их, как мог по своему крайне несовершенному знанию, - но часто приходилось выкидывать кое-что, потому что иначе баланс не сходился. В конце концов, он был очень рад: разве пойдут человеку, занятому своими любовными надеждами и опасениями, разные арифметические выкладки? Потолкавшись в конторе, Адриан вернулся домой обедать.
Обед, совершенно вопреки обычаю, запоздал, и это опять раздосадовало молодого человека, и к тому же ни мать, ни отец не стали обедать. Наконец вышла Эльза, бледная и утомленная, и молодые люди начали обедать, или, по крайней мере, делали вид, что обедают, так как у обоих, казалось, не было никакого аппетита. И Адриану не пришлось воспользоваться их пребыванием вдвоем, так как в комнате постоянно была
служанка, а Эльза сидела на своем месте - на другом конце длинного стола.
Наконец служанка ушла, а через несколько секунд поднялась и Эльза. Адриан потерял терпение. Он не мог дольше выносить неизвестности, он должен был объясниться.
- Эльза, - начал он раздраженным голосом, - сегодня у нас в доме все вверх дном, будто мы собираемся уезжать из Лейдена.
Эльза взглянула на него сбоку: она уже, вероятно, знала причину этого беспорядка.
- Очень жаль, герр Адриан, - сказала она, - но вашей матушке сегодня нездоровится.
- В самом деле? Надо надеяться, что она не заразилась чумой от этой Янсен, но это не причина, почему все бегают с полными руками, как муравьи в разоренном муравейнике, ведь теперь не такое время года, когда женщины все переворачивают вверх дном и выбрасывают занавеси на улицу под предлогом, что производят чистку. Наконец-то нас оставили на минуту в покое, поговорим же.
Эльза встревожилась.
- Ваша матушка ждет меня, герр Адриан, - сказала она, направляясь к двери.
- Пусть она отдохнет, сон - лучшее лекарство.
Эльза сделала вид, что не слышит его, и пошла к двери, но Адриан, забыв всякое достоинство, быстрым движением преградил ей дорогу.
- Я сказал вам, что желаю поговорить с вами, - обратился он к Эльзе.
- А я сказала вам, что мне некогда, позвольте мне пройти.
Адриан не трогался.
- Я не пропущу вас, пока не переговорю с вами, - сказал он.
Уйти не было возможности, Эльза вернулась и спросила холодным тоном:
- Что вам угодно? Прошу вас, говорите покороче.
Адриан откашлялся, думая про себя, что Эльза удивительно умеет сдерживать себя, несмотря на действие любовного напитка: никто не подумал бы по ее виду, что она приняла это восточное лекарство. Однако следовало на что-нибудь решиться, он зашел слишком далеко, чтобы отступить.
- Эльза, - сказал он смело, хотя в душе трусил сильнее всякого зайца. - Эльза! - Он в мольбе сложил руки и поднял глаза к потолку. - Я люблю вас, и пришло время сказать вам это.
- Кажется, оно пришло уже несколько дней тому назад, герр Адриан; я думала, что вы уже успели и позабыть все это, - отвечала она насмешливо.
- Позабыть! - со вздохом повторил он. - Как я могу забыть это, когда вы у меня всегда на глазах.
- Не могу сказать вам, как; что меня касается, то я желаю забыть это безумство.
- Безумство? Она называет это безумством! - воскликнул Адриан. - Она называет безумством это вечное обожание моего сердца, истекающего кровью.
- Вы знаете меня ровно пять недель, герр Адриан.
- Что заставляет меня желать знать вас пятьдесят лет.
Эльза вздохнула: подобная перспектива вовсе не казалась ей заманчивой.
- Ну, преодолейте вашу девическую застенчивость, - заговорил он вдруг порывисто, - вы уже довольно сделали уступок приличиям, теперь отбросьте в сторону жеманство, положите оружие и сдайтесь. Ни один час вашей борьбы - клянусь вам - не был так сладок, как будет эта минута уступки, потому что, помните, дорогая, что я - видимый победитель - в сущности, побежденный. Я отказываюсь…
Он не докончил, потому что тут Эльза уже не могла совладать с собой, но совершенно в ином смысле, чем он надеялся и ожидал.
- Вы с ума сошли, герр Адриан, - воскликнула она, - что осмеливаетесь заставлять меня выслушивать такие высокопарные пошлости, после того как я вам сказала, что не желаю слушать их! Я понимаю, что вы добиваетесь моей любви, но раз и навсегда говорю вам, что не могу ответить тем же.
Это был удар, и Адриан не сразу нашелся, как ответить на такое прямое заявление. Его самомнение покинуло его, и он только беспомощно повторил:
- Не можете ответить тем же? Или вы отдали вашу любовь другому?
- Да, - отвечала Эльза твердо: она не на шутку рассердилась.
- В самом деле? Кому же? В прошлый раз вы горевали об умершем отце. Может быть, теперь ваше расположение приобрел этот великолепный гигант Мартин или… нет, это было бы слишком нелепо… - и он захохотал в своем ревнивом бешенстве, - или этот шут, мой почтеннейший братец Фой?
- Да, - спокойно отвечала она, - Фой!
- Фой! Силы небесные! Желтоголовый увалень, невежда Фой - мой соперник! И после того говорят, что у женщин есть душа! Соблаговолите мне ответить на один вопрос: скажите мне, когда возникло это странное и чудовищное чувство? Когда вы объявили себя побежденной непреодолимыми качествами Фоя?
- Вчера вечером, если вам угодно знать это, - отвечала она так же спокойно и бесстрастно, как прежде.
Адриана осенило вдохновение. Он на минуту приложил руку ко лбу и громко, резко захохотал:
- А, вот что! - сказал он. - Это приворотное зелье подействовало в обратном направлении. Бедная Эльза, вы заколдованы; вы не знаете правды. Я влил вам напиток в воду, а Фой, предатель Фой, пожал плод! Дорогая моя, сбросьте с себя обманчивое очарование! Вы любите меня, а не похитителя сердец Фоя.
- Что вы говорите? Вы влили мне напиток? Вы посмели отравить мое питье своим языческим зельем? Прочь с дороги! Пропустите меня и никогда не смейте говорить со мной. Будьте благодарны, если я ничего не скажу брату о вашей низости.
Что случилось после этого, Адриан никогда не мог в точности припомнить, он только смутно помнил, что он отстранился, между тем как дверь отворилась с такой силой, что он ударился о стену, и мимо него промелькнуло видение - женщина со сверкающими глазами и гневно сжатыми губами - и больше ничего.
С минуту он стоял уничтоженный: удар попал в цель. В сердце его, казалось, не осталось ни надежды, ни чувства. Но затем его бешеный характер, всегда бывший его несчастьем, проснулся вместе с оскорбленным тщеславием, ненавистью, ревностью и прочими ослепляющими страстями. Это не могло быть правдой, тут должно существовать объяснение, и Адриан находил его в том, что Фой, по счастливой случайности или по своей хитрости, сделал Эльзе предложение вскоре после того, как она выпила любовный напиток. Адриан, подобно многим своим современникам, был крайне суеверен и легковерен. Ему и в голову не приходило отнестись с сомнением ко всеми признанной действенности волшебного лекарства, хотя в душе он теперь и сознавал, что сделал большую глупость, сказав Эльзе в первом порыве ярости, что прибегнул к подобному средству, чтобы приобрести ее расположение, вместо того чтобы предоставить своим личным достоинствам подействовать на нее.
Что делать? Ошибка была совершена, яд проглочен, но ведь и для большинства ядов существует противоядие. Чего он медлит? Следует как можно скорее посоветоваться со своим другом - магом.
Десять минут спустя Адриан уже был у дома Черной Мег.
ГЛАВА XIX. Борьба на башне литейного завода
Дверь отворил Симон, лысый, толстый негодяй, живший с Черной Мег. В ответ на расспросы Адриана он отвечал, пристально смотря ему в лицо своими свиными глазами, что не может наверное сказать, дома его жена или нет.
- Она, кажется, вместе с магом была занята вызыванием духов, но они могли выйти незамеченными, потому что у них есть дар, великий дар, - заключил он, вводя Адриана в комнату, где тот бывал не раз.
Комната была неуютная и на Адриана почему-то всегда производила такое впечатление, будто в ней постоянно был кто-то, кого он не мог видеть: из пола и стен слышался какой-то странный, необъяснимый шум, похожий на скрип и вздохи. Но подобных вещей ведь всегда можно ожидать в доме, где живет один из величайших современных магов. Тем не менее Адриан был доволен, когда дверь отворилась и вошла Черная Мег, хотя многие предпочли бы ее обществу общество привидения.
- Почему вы беспокоите меня в такой час? - резко спросила она.
- Почему? - повторил Адриан, и вся его ярость снова поднялась при этой грубости. - Ваше проклятое лекарство подействовало совершенно наоборот, вот что. Другому человеку вышла от этого польза, понимаешь, старая ведьма! И я думаю, он хочет увезти ее, - вот что значит вся эта сутолока. Как это я раньше не догадался! Где маг? Я хочу видеть мага. Он должен дать мне противоядие, другое лекарство.
- Вам, кажется, самому оно нужно, - сухо ответила Черная Мег. - Не знаю, можно ли будет видеть мага: теперь не приемный час, да его, кажется, и дома нет; по крайней мере он так велел говорить всем.
- Мне необходимо видеть его, - настаивал Адриан.
- Может быть, и удастся, - сказала Мег, многозначительно дотронувшись до его кармана.
Несмотря на свое волнение, Адриан понял намек.
- Ты жаждешь золота? - спросил он фразой из прочитанного недавно романа, подавая старухе горсть серебряных монет - все свои капиталы в данную минуту.
Мег приняла деньги, фыркнув, но, вероятно, сообразила, что кое-что все же лучше, чем ничего, и вышла. Послышался какой-то таинственный шум, шепот, звук отпираемых и запираемых дверей, затем водворилась полнейшая, неприятная тишина. Адриан сидел, смотря в стену, так как единственное окно в комнате находилось так высоко над его головой, что в него нельзя было смотреть, и оно скорее походило на отдушину, чем на окно. Так он просидел с минуту, кусая концы своих усов и проклиная свою судьбу, как вдруг почувствовал чью-то руку у себя на плече.
- Какой тут черт?! - вскричал он, резко обернувшись и очутившись лицом к лицу с магом, величественно задрапированным в плащ.
- Черт? Какое нехорошее слово в устах молодого человека, - укоризненно заметил мудрец.
- Может быть, - отвечал Адриан. - Только какой… я хотел сказать, каким образом вы вошли? Я не слыхал, чтобы дверь отворилась.
- Каким образом вошел? Я сам не знаю. Двери? На что мне двери?
- Не знаю, - отвечал Адриан коротко, - но люди, вообще, находят, что они полезны.
- Довольно говорить о таких материальных вещах, - серьезно перебил его маг. - Ваш дух взывал к моему, и я здесь, вот все, что вам надо.
- Я предполагал, что вас позвала Черная Мег, - продолжал выспрашивать Адриан, в котором после неудачи с любовным напитком проснулась недоверчивость.
- Можете предполагать, что вам угодно, мой молодой друг, а теперь потрудитесь объяснить, что вам надо: мне некогда. Впрочем, я и так все знаю: вы дали питье девушке и не исполнили моего совета тут же сделать ей предложение. Другой подсмотрел и извлек пользу из магического напитка. Пока она еще находилась под влиянием очарования, он сделал предложение, и оно было принято… да, ваш брат Фой. Беспечный и недогадливый человек, чего же вы еще ожидали?
- Во всяком случае, не ожидал этого, - отвечал Адриан в бешенстве. - А теперь, если вы обладаете такой силой, как уверяете, скажите мне, что делать.
Что-то сверкнуло под капюшоном, то был единственный глаз мага.
- Друг, вы невежливы, даже грубы. Но я понимаю и прощаю. Подумаем сообща. Расскажите мне все, что было.
Адриан подробно рассказал все происшедшее, и рассказ, по-видимому, глубоко тронул мага, по крайней мере он отвернулся, закрыв лицо руками, и плечи его затряслись от сильного чувства.
- Дело очень серьезное, - сказал он торжественно, когда, наконец, Адриан кончил. - Теперь остается сделать только одно. Вашему коварному сопернику - сколько лукавства и обмана скрывается за его простоватой наружностью - кто-то дал хороший совет, не знаю, кто именно, хотя подозреваю, что это один знакомый Черной Мег - Арентц!..
- А!.. - вырвалось у Адриана.
- Я вижу, вы знаете этого человека. Да, конечно, мы ведь говорили с вами о нем на днях. Он действительно волк в овечьей шкуре, скрывающий дьявольские наущения под личиной благочестия. Я уж один раз вывел его на чистую воду - разве может тьма устоять против света? - и с помощью тех, кто помогает мне, выведу вторично. Теперь выслушайте мои вопросы и ответьте на них ясно, медленно, без утайки. Если вы хотите, чтобы молодая девушка стала вашей, вашего хитрого соперника надо удалить из Лейдена, по крайней мере на время, пока сила волшебства пройдет.
- Вы хотите… - начал было Адриан и запнулся.
- Нет, я не хочу сделать ему никакого зла. Я думаю только, что ему следует совершить путешествие, что он поспешит сделать, узнав, что его колдовство и прочие преступления известны. Отвечайте же поскорее, у меня есть другие дела, кроме любовных забот дур… упрямой головы. Во-первых, правда ли то, что вы говорили мне об участии Дирка ван-Гоорля, вашего отчима, и других домашних, например Рыжего Мартина и вашего брата Фоя, в богослужении, которое совершал ваш враг, колдун Арентц?
- Правда, - отвечал Адриан, - но я не вижу, какое то имеет отношение к делу.
- Молчите! - закричал маг, и вслед за тем Адриан услыхал какой-то странный скрип, как будто из стены; маг стоял погруженный в задумчивость, пока скрип не прекратился. Тогда он опять заговорил: - Правда ли то, что вы мне сообщали об участии вышеназванных Фоя и Мартина в сокрытии сокровища умершего еретика Гендрика Бранта и об убийстве, совершенном ими во время плавания по Гаарлемскому озеру?
- Конечно, правда, - отвечал Адриан, - только…
- Молчите! - снова крикнул маг, - иначе, клянусь своим повелителем Зороастром, я все брошу.
Адриан притих, и снова последовала пауза.
- Вы предполагаете, - продолжал маг, - что вышеупомянутые Фой и Дирк ван-Гоорль вместе с Мартином намереваются увезти эту неповинную ни в чем и несчастную девушку, богатую наследницу Эльзу Брант, имея преступные виды.
- Я никогда не говорил вам этого, - возразил Адриан, - но я думаю, что это так, по крайней мере, идет укладка вещей.
- Вы никогда не говорили мне? Разве вы не понимаете, что и надобности нет говорить мне все?
- Так, именем вашего повелителя Зороастра, зачем же вы спрашиваете? - в отчаянии воскликнул Адриан.
- Узнаете сейчас, - отвечал маг, думая о чем-то.
Опять Адриан услыхал шорох, будто скреблись молодые голодные крысы.
- Я, кажется, дольше не стану вас задерживать, - сказал вдруг встревожившись Адриан, так как все происходившее показалось ему очень странным, и встал.
Маг не отвечал, только начал свистеть, что уже было совсем недостойно мудреца.
- Позвольте проститься, - сказал Адриан, стоявший спиной к двери, - у меня дела.
- И у меня также, - сказал маг, продолжая свистеть.
Тут вдруг в одной из боковых стен образовался провал, и в отверстии показался человек в одежде монаха, а за ним Симон, Черная Мег и еще какой-то зловещего вида человек.
- Все записали? - спросил спокойным голосом маг.
Монах поклонился и, вынув несколько исписанных листов, положил их на стол вместе с чернильницей и пером.
- Хорошо. А теперь, мой молодой друг, потрудитесь подписаться.
- Подписаться? Под чем? - в изумлении проговорил Адриан.
- Объясните ему, - сказал маг. - Он прав: человек должен знать, что подписывает.
Монах заговорил тихим, деловым тоном:
- Это показание Адриана по фамилии ван-Гоорль, записанное с его собственных слов, в котором, между прочим, он указывает на принадлежность к ереси его отчима, Дирка ван-Гоорля, его сводного брата, Фоя ван-Гоорля, и их слуги-фриса Рыжего Мартина, на убийство ими королевских подданных и на намерение бежать из королевских владений. Прочесть бумагу? Это займет некоторое время.
- Если свидетель пожелает, прочтите, - сказал маг.
- Какое значение имеет этот документ? - спросил хриплым голосом Адриан.
- Он должен убедить вашего соперника, Фоя ван-Гоорля, что желательно, в виду его здоровья, чтобы он на некоторое время уехал из Лейдена, - с усмешкой отвечал наставник Адриана, между тем как Мясник и Черная Мег захихикали. Один только монах молчал, как олицетворение мрачной, караулящей свою жертву судьбы.
- Я не подпишу, - заявил Адриан. - Меня обманули! Это предательство! - Он бросился к двери.
Рамиро сделал знак, и в следующую минуту толстые пальцы Мясника крепко стиснули шею Адриана. Несмотря на это, юноша боролся и отбивался, тогда человек зловещего вида подошел к нему и слегка уколол его в нос большим ножом.
Рамиро же заговорил ласково и спокойно:
- Молодой мой друг, где же то доверие ко мне, которое вы обещали иметь, и почему вы отказываетесь подписать эту безобидную бумажку, когда я вам советую это?
- Потому что я не хочу быть предателем отчима и брата, - с трудом проговорил Адриан. - Я понимаю, для чего вам нужна моя подпись. - Он взглянул на монаха.
- Вы не хотите предать их? - насмешливо спросил Рамиро. - Вы, глупец, уже пятьдесят раз предали их, а кроме того - только вы, кажется, не помните этого, - предали и себя. Смотрите, мне все равно, подпишете ли вы бумагу или нет; я очень скоро могу, мой дорогой ученик, получить от вас подтверждение вашего показания.
- Я вижу, что поступил как безумец, поверив вам и вашему ложному искусству, - мрачно сказал Адриан, - но не такой я глупец, чтобы свидетельствовать в суде против своих родных. Я, говоря все это, никогда не думал, что могу повредить им.
- То есть не думали, можете повредить или нет, - поправил его Рамиро, - у вас была другая цель - приобрести расположение молодой девушки, которую вы даже ради этого решились опоить приворотным напитком.
- Любовь ослепила меня, - сказал Адриан.
Рамиро положил ему руку на плечо и слегка потряс его, говоря:
- А вам не приходило в голову, глупый щенок, что есть и другие вещи, которые могут ослепить, например раскаленное железо?
- Что вы хотите сказать этим? - проговорил Адриан.
- Думаю, что пытка - удивительно убедительная вещь. Она заставляет говорить самого молчаливого человека и петь самого серьезного. Выбирайте же. Подписывайте или в застенок!
- Какое право вы имеете допрашивать меня? - спросил Адриан, стараясь скрыть свой страх за смелыми словами.
- Такое, что я, говорящий с вами, - начальник тюрьмы этого города, лицо, имеющее известную власть.
Адриан побледнел, но не сказал ничего.
- Вы, кажется, заснули, молодой друг? - сказал Рамиро. - Эй, Симон, ущипни-ка ему руку. Нет, не правую, она может понадобиться ему для подписи, а другую.
С противной усмешкой Мясник, оставив горло Адриана, схватил его за левую кисть и медленно, спокойно начал поворачивать ее.
Адриан застонал.
- Что, больно? - спросил Рамиро. - Ну, мне некогда. Сломай ему руку.
Адриан уступил: он не в силах был перенести пытки; его воображение было слишком живо.
- Я подпишу, - прошептал он, и пот выступил на его бледном лице.
- Вы это делаете добровольно? - спросил его мучитель и прибавил: - Ну-ка, Симон, еще слегка поверни, а если ему сделается дурно, так вы, фроу Маргарита, пощекочите его кончиком ножа.
- Да, да, добровольно, - простонал Адриан.
- Хорошо. Вот перо, подписывайте.
Адриан подписал.
- Хвалю вас за откровенность, ученичок, - заметил Рамиро, посыпав подпись песком и спрятав бумагу в карман. - Сегодня вы научились самому мудрому, чему может научить нас жизнь, а именно, что наши капризы должны подчиняться неминуемому. Мои солдаты, надеюсь, успели сделать, что им приказано, вы, стало быть, можете идти; если мне понадобится, я знаю, где найти вас. Но если хотите принять мой дружеский совет, вы придержите язык, не говорите обо всем случившемся сегодня. Если вы сами не скажете, никто не будет знать, что вы доставили некоторые полезные указания, потому что в Гевангенгузе имена свидетелей не сообщаются обвиненным. Иначе у вас могли бы выйти неприятности с родными и знакомыми. Добрый вечер! Мясник, потрудись отворить дверь.
Секунду спустя Адриан очутился на улице, куда был вышвырнут пинком тяжелого сапога. Его первым движением было пуститься бежать, и он бежал, не останавливаясь, с полмили, пока, наконец, не остановился, запыхавшись, на пустынной улице, где, прислонившись к колесу распряженной телеги, попытался собраться с мыслями. Думать! Как он мог думать? У него в голове все кружилось: бешенство, стыд, отчаяние, отвергнутая страсть - все кипело в нем, как в котле. Над ним надсмеялись, он потерял любимую девушку, позорно предал своих родных в ад инквизиции. Их станут пытать и сожгут. Да, может быть, даже сожгут мать и Эльзу, потому что эти дьяволы не останавливаются ни перед возрастом, ни перед полом; и кровь всех падет на его голову. Правда, он подписал под угрозой, но кто поверит этому, ведь все записанное слово в слово было сказано им. В первый раз Адриан увидал себя таким, каков он есть, покров тщеславия и эгоизма приподнялся над его душой, и он понял, что подумают другие, когда услышат о случившемся. Ему в голову пришла мысль о самоубийстве; до воды было недалеко, а кинжал под рукой… Но нет, у него не хватило сил, это было бы слишком ужасно. И притом, как он мог осмелиться переступить порог другого мира неподготовленным, запятнанным такими грехами? Не мог ли он попытаться спасти и себя, и тех, кого бездумно предал? Он оглянулся: не далее трехсот шагов от него возвышалась труба завода. Может быть, еще не поздно, может быть, ему еще удастся предупредить Фоя и Мартина об ожидающей их участи.
Действуя под влиянием минуты, Адриан рванулся вперед и побежал, как заяц. Подойдя к заводу, он увидал, что рабочие уже ушли и главные ворота были заперты. Он бросился кругом к боковой двери; она оказалась отпертой, и в конторе двигались люди. Слава Богу! Там были Фой и Мартин. Весь бледный, с полуоткрытым ртом и неподвижными глазами, Адриан вбежал к ним, скорее похожий на привидение, чем на живого человека.
Мартин и Фой испугались, увидав его.
«Неужели это Адриан, - подумали они, - или выходец с того света?»
- Бегите! - задыхаясь, проговорил он. - Спрячьтесь! За вами идут солдаты инквизиции!
Но тут другая мысль поразила его, и он пробормотал:
- А отец и мать! Я должен предупредить их!
Прежде чем они успели ответить, он уже исчез, еще раз крикнув на прощание:
- Бегите! Бегите!
Фой стоял, как окаменелый, пока Мартин не ударил его по плечу и сказал грубо:
- Ну, нечего стоять так! Он или помешался, или знает что-нибудь. Меч и кинжал при вас? Теперь скорей!
Они через дверь, которую Мартин запер, вышли на двор. Фой первым дошел до калитки и выглянул через нее. Потом он преспокойно задвинул болт и запер замок на ключ.
- Вы с ума спятили, что запираете нас на ключ? - спросил Мартин.
- Вовсе нет, - возразил Фой, возвращаясь к нему, - бежать поздно; солдаты уже идут по улице.
Мартин подбежал к калитке и взглянул через решетку. Действительно, по улице шла целая рота человек в пятьдесят, направляясь прямо к конторе, вероятно, предполагая найти ее укрепленной.
- Остается одно - защищаться, - весело сказал Мартин, бросая ключ в чан под колодцем и накачивая в него воды, которую он спустил в трубу.
- Что могут сделать два человека против пятидесяти? - спросил Фой, сняв свою шапку на стальной подкладке и почесывая в затылке.
- Не много, однако при удаче кое-что могут. Но так как, кроме кошки, никто не умеет лазать по стенам, а калитка заперта болтом, то, мне думается, для нас безразлично, умереть ли здесь, обороняясь, или под пыткой в тюрьме.
- И я то же думаю, - согласился Фой, ободряясь. - Ну, как нам насолить им посильнее, прежде чем они уложат нас?
Мартин огляделся вокруг, раздумывая. Посредине двора возвышалась постройка вроде голубятни или палатки, какие устраиваются иногда на рынках. В действительности это была постройка, где отливались свинцовые ядра различного калибра - изготовление их входило в число производств литейных, - и оттуда они после отливки спускались для охлаждения в неглубокий резервуар с водой, находившийся внизу.
- Вот здесь можно продержаться, - сказал Мартин, - и на стенах висят арбалеты.
Фой кивнул головой, и они вбежали в башенку, но не незамеченные, так как в ту минуту, когда они ступили на лестницу, офицер, командовавший отрядом, крикнул им, что приказывает сдаться во имя короля. Они не отвечали, и когда они входили в дверь, стрела из арбалета ударилась о деревянную обшивку башенки.
Башня стояла на дубовых столбах, и в круглую комнату над ними, имевшую до двадцати футов в диаметре, вела широкая наружная лестница в пятьдесят ступенек. Лестница оканчивалась небольшой площадкой футов шести в поперечнике, и налево от нее дверь вела в помещение, где отливались пули. Фой и Мартин вошли туда.
- Что теперь делать? Запереть дверь? - спросил Фой.
- Я не вижу пользы в этом, - отвечал Мартин, - они постараются ее разбить, а чего доброго, вздумают еще поджечь. Нет, лучше снимем ее с петель и положим на высокие болты так, чтобы им пришлось взобраться на нее, когда они вздумают взять нас.
- Блестящая мысль, - сказал Фой, и они сняли с петель узкую дубовую дверь и положили ее поперек порога на нескольких металлических формах, приперев другими формами. Площадку же они усыпали мелкой дробью так, чтобы люди впопыхах спотыкались и падали. Кроме того, они сделали еще одно приспособление, и это была уже выдумка Фоя. На одном конце комнаты стояли ванны, в которых плавился свинец, а в печи под ними уже были наложены дрова для работы следующего дня. Фой зажег их и открыл тягу, чтобы дрова загорелись скорее и поскорее расплавились лежавшие в ваннах свинцовые слитки.
- Пусть они подойдут снизу, - сказал он, показывая на отверстие, через которое расплавленный металл выливался в резервуар с водой, - расплавленный свинец окажется кстати.
Мартин кивал, посмеиваясь. Он снял со стены арбалет - в эти времена, когда каждое жилище или склад товаров должны были быть приспособлены так, чтобы служить для защиты, было обыкновение везде держать большие запасы оружия - и подошел к узкому окошечку, откуда видна была улица.
- Я так и думал, - сказал он. - Они сами не могут отпереть калитку, а острые прутья над ней не нравятся им; вот они пошли за кузнецом, чтобы выбить болты. Подождем.
Фой начал волноваться: перспектива быть убитым превосходящими силами расстраивала его. Он думал об Эльзе и своих родителях, с которыми никогда больше не увидится, думал о смерти и обо всем, что может ожидать его после нее в том неведомом мире, где он скоро должен очутиться. Он осмотрел свой арбалет, попробовал тетиву и положил запас стрел на пол возле себя, сняв пику со стены, он попробовал ее рукоятку и конец, потом раздул огонь под ваннами, так что плавившаяся масса заклокотала.
- Не надо ли еще что-нибудь сделать? - спросил он.
- Мы можем еще помолиться, - сказал Мартин, - в последний раз, - и приводя свои слова в исполнение, великан опустился на колени, Фой последовал его примеру.
- Читай молитву! - сказал Фой. - Я не могу ни о чем думать.
Мартин начал молитву, которую, может быть, стоит привести:
«Господи, - начал он, - отпусти мне мои грехи, которым нет числа или которые мне теперь некогда счесть, а особенно тот мой грех, что я отсек голову палачу его собственным мечом, хотя мы и не бились с ним, и убил испанца в боксе. Благодарю Тебя, Боже мой, что Ты допустил нас умереть в бою, а не быть замученными или сожженными в тюрьме, и прошу Тебя допустить нас убить как можно больше испанцев, чтобы они помнили нас долгие годы. Господи, защити моих дорогих хозяина и хозяйку, и пусть они узнают, что мы кончили свою жизнь так, что они похвалили бы нас, а пастор Арентц пусть лучше не знает: он, пожалуй, подумает, что нам лучше бы было сдаться. Аминь».
Фой после того также прочел краткую и сердечную молитву.
Между тем испанцы отыскали кузнеца, который начал работать над калиткой, как было видно через верхнюю решетку.
- Почему ты не стреляешь? - спросил Фой. - В него можно попасть. Стреляй.
- Потому, что он бедный голландец, которого они силой принудили идти с ними. Подождем, пока они сломают калитку. Когда придет время, постоим за себя, герр Фой; видите, как все смотрят на нас: они ждут, что мы будем отчаянно защищаться. - Он указал вниз.
Фой взглянул. Двор литейного завода был окружен высокими домами с остроконечными крышами, и у всех окон, на всех балконах собрались зрители. Уже распространился слух, что инквизиция выслала солдат, чтобы схватить молодого ван-Гоорля и Рыжего Мартина, и что они уже ломают калитку завода. Поэтому граждане, между которыми были и рабочие с завода, собрались, так как не думали, чтобы Рыжего Мартина и Фоя ван-Гоорля легко было взять.
Стук у калитки продолжался, но она была крепка и не поддавалась.
- Мартин, - сказал вдруг Фой, - я боюсь… Мне нехорошо… Я знаю, что буду тебе плохой поддержкой в трудную минуту.
- Вот теперь я уверен, что вы храбрый малый, - отвечал Мартин с коротким смехом, - иначе вы никогда бы не признались, что боитесь. Конечно, вам страшно, и мне тоже страшно. Это от ожидания; но при первом ударе вы будете счастливы. Слушайте: как только они начнут взбираться по лестнице, становитесь позади меня, близехонько за мной, - мне нужна будет вся комната, чтобы размахнуться мечом, и, стоя рядом, мы только мешали бы друг другу, а с пикой вы можете стоять позади меня и принимать каждого, кто сунется вперед.
- Ты думаешь защитить меня своей тушей, - сказал Фой. - Ну, ты начальник здесь; я же сделаю, что могу. - Обняв великана обеими руками за талию, он ласково потрепал его.
- Смотрите, калитка валится! - закричал Мартин. - Ну, стреляйте вы первый! - Он несколько отстранился.
В эту минуту дубовая дверь повалилась, и солдаты ворвались во двор. Силы вдруг вернулись к Фою, он почувствовал себя крепким, как скала. Подняв арбалет, он спустил стрелу. Тетива зазвенела, стрела со свистом разрезала воздух, и первый солдат, пораженный в грудь, подпрыгнув, упал. Фой отошел в сторону, чтобы натянуть тетиву.
- Хороший выстрел, - сказал Мартин, становясь на его место, между тем как зрители в окнах одобрительно кричали. Фой снова выстрелил, но промахнулся, следующий же выстрел Мартина ранил солдата в руку и пригвоздил его к сломанной калитке. После этого стрелять уже нельзя было, так как испанцы подошли к башне.
- Отойдите к двери и помните, что я сказал вам, - приказал Мартин. - Прочь стрелы, холодная сталь сделает остальное.
Они оба стояли у открытой двери. Мартин, сняв со стены шлем, надел его на голову и подвязал под подбородком обрывком веревки, потому что шлем был слишком мал для него. В руке он держал меч «Молчание», высоко подняв его для удара; Фой стоял за ним, держа длинную пику обеими руками. Из собравшейся внизу толпы солдат доносился неясный гул, затем один голос прокричал команду, и на лестнице послышались шаги.
- Они идут, - сказал Мартин, повернувшись так, что Фой увидал его лицо. Оно преобразилось и было ужасно. Большая рыжая борода, казалось, горела, бледно-голубые глаза вращались и сверкали, как голубая сталь «Молчания», блестевшего в руках великана. В эту минуту Фой вспомнил свое видение. Вот оно уже исполнялось - мирный, терпеливый Мартин превратился в мстителя.
Один солдат достиг верхней ступени лестницы, наступил на разбросанную дробь и упал с шумом и проклятием. Но за ним следовали другие. Их сразу показалось четверо из-за угла. Они смело бросились вперед. Первый из них попал в щель от выломанной двери и вытянулся во всю длину. Мартин не обратил на него внимания, но Фой, прежде чем солдат успел вскочить, проколол его пикой, так что тот и умер на двери. Следующего ударил Мартин, и Фой увидал, как солдат вдруг сделался маленьким и раздвоился, но стоявший за ним так быстро подвинулся вперед, что Мартин не успел размахнуться мечом, а принял его концом меча и в следующую минуту уже стряхивал с лезвия мертвое тело.
После того Фой уже потерял счет. Мартин рубил мечом, а когда случалось, колол и пикой, пока, наконец, потеряв больше людей, чем думали, испанцы уже не отваживались наступать. Двое из них лежали мертвыми в дверях, другие скатились или были стащены вниз по лестнице, между тем как зрители при каждом новом убитом или раненом громкими криками выражали свою радость.
- Пока мы не ударили в грязь лицом, - сказал Мартин спокойно, - но если они опять полезут, мы должны быть хладнокровнее и не тратить так свою силу. Если бы я не так горячился, я бы еще уложил одного.
Однако испанцы, по-видимому, не намеревались повторить приступ; они достаточно познакомились с узкой лестницей и красным человеком, ожидавшим их с мечом при повороте на площадку. Правда, для нападающих позиция была невыгодна, так как они не могли стрелять из арбалетов или луков, а должны были идти на убой, как бараны. Будучи людьми осторожными, любящими жизнь, они стали совещаться внизу.
ГЛАВА XX. В Гевангенгузе
Резервуар под башней закрывался, когда в нем не было надобности, каменной крышкой. На ней солдаты устроили костер из дерева и щеп, которые были сложены в углу двора, и встали кругом, чтобы зажечь его. Мартин лег на пол и посмотрел на них сквозь щели, затем сделал знак Фою и что-то шепнул ему. Фой подошел к медным ваннам и зачерпнул из них два ведра расплавленного свинца. Снова Мартин взглянул вниз и, выждав минуту, когда большинство солдат собралось под башней, быстрым движением открыл трап, и расплавленная жидкость хлынула на стоявших внизу и поднявших головы вверх солдат. Двое упали, чтобы никогда больше не встать, между тем как другие разбежались с криком, срывая с себя горящее платье.
После того испанцы задумали другое: они обложили горючим материалом дубовые столбы, которые загорелись и комната вверху наполнилась дымом.
- Теперь нам приходится выбирать - быть изжаренными, как жаркое в печке, или сойти вниз, чтобы нас зарезали, как свиней.
- Что касается меня, я намереваюсь умереть здесь, - сказал Фой.
- И я также, герр Фой. Однако послушайте: мы не можем сойти вниз, потому что они поджидают нас; а не попытаться ли нам, свалившись вниз через трап, пробиться через огонь, а там, став спиной к спине, отбиваться?
Полминуты спустя из пылающего костра появились два человека с обнаженными мечами. Им удалось выбраться довольно благополучно из огня и достигнуть свободного пространства недалеко от калитки, где они остановились спиной к спине, вытирая слезившиеся глаза. Несколько секунд спустя на них набросилась толпа солдат, как свора собак на раненых медведей, между тем как из среды сотни зрителей неслись крики ободрения, сожаления и страха. Люди валились кругом борцов, но другие тотчас же занимали места своих товарищей. Борцы падали и снова поднимались, последний же раз встал только один гигант Мартин. Он поднялся медленно, отряхивая солдат, цеплявшихся за него, как крысоловка за крыс. Он встал, загородив собой тело своего товарища, и еще раз страшный меч завертелся в воздухе, поражая всех, к кому прикасался. Солдаты отступили, но один из них, подкравшись сзади, вдруг набросил плащ ему на голову. Тут пришел конец, и медленно-медленно враги одолели его, свалили и связали, а смотревшая толпа застонала и заплакала от горя.
Из конторы Адриан побежал в дом на Брее-страат.
- Что случилось?! - вскричала мать, когда он вбежал в комнату, где она была с Эльзой.
- Они идут за ним, - запыхавшись, проговорил он. - Где он? Пусть он… мой отчим… бежит скорее.
Лизбета закачалась и упала на стул.
- Откуда ты знаешь?
При этом вопросе голова у Адриана закружилась и сердце остановилось. Он прибегнул ко лжи.
- Я случайно подслушал, - сказал он. - Солдаты нападают на Фоя и Мартина в литейной, и я слышал, что они придут сюда за отчимом.
Эльза громко заплакала, а затем бросилась на Адриана, как тигрица, спрашивая:
- Отчего вы не остались с ними?
- Потому что первый мой долг - быть при отце и матери, - ответил он с оттенком своей прежней напыщенности.
- Дирка нет дома, - прервала его Лизбета тихим голосом, слышать который было страшно, - и не знаю, где он. Поди, отыщи его. Скорее! Скорее!
Адриан ушел и рад был, что мог бежать с глаз этих мучающихся женщин. Он искал Дирка во многих местах, но безуспешно, как вдруг гул голосов и двигавшаяся по улице толпа людей привлекли его внимание. Он подбежал, и вот какое зрелище представилось его глазам.
По широкой улице, ведущей к городской тюрьме, двигался отряд испанских солдат, и в центре его две фигуры, которые Адриан сразу узнал: это были его брат Фой и Красный Мартин. Несмотря на то, что буйволовая куртка Мартина была вся изрублена и изорвана и что шлема на нем уже не было, он сам, по-видимому, не получил серьезного повреждения, так как шел прямо и гордо, со связанными назад руками, между тем как испанский офицер держал острие меча, его собственного меча «Молчание», у шеи Мартина, угрожая заколоть его при первой попытке к бегству. Фой же находился в ином положении. Сначала Адриан подумал, что Фой умер, так как его несли на носилках. Кровь текла у него из головы и ног, а колет был весь в клочках от ударов сабель и штыков; и действительно, не будь на нем кольчуги, его уже давно не было бы в живых. Но Фой не умер: Адриан увидал, как он слегка повернул голову и поднял один раз руку.
За этой группой двигалась запряженная серой лошадью телега с телами убитых испанцев - сколько их было, Адриан не мог счесть, - а за телегой тянулся длинный ряд испанских солдат, из которых многие были серьезно ранены и тащились с помощью товарищей, а некоторых, подобно Фою, несли на носилках и дверях. Не удивительно, что Мартин выступал так важно, если за ним следовала такая богатая жатва его меча «Молчание». Кругом же этой процессии шумела и теснилась толпа лейденских граждан. Раздавались крики:
- Браво, Мартин! Молодец, Фой ван-Гоорль! Мы гордимся вами!
Кто-то из середины толпы крикнул:
- Освободить их! Убить собак инквизиции! В клочки испанцев!
В воздухе пролетел камень, за ним еще и еще; но по команде солдаты обернулись к толпе, и она отступила, так как у нее не было предводителя. Так продолжалось до самых ворот Гевангенгуза.
- Не дадим убить их! - снова закричал голос из толпы. - Освободим! - И толпа с ревом бросилась на солдат.
Но было уже поздно, солдаты сомкнулись вокруг арестованных и с оружием в руках пробились до ворот тюрьмы. Однако при этом они понесли значительную утрату: раненые и поддерживавшие их были отрезаны и вмиг перебиты все до одного. После этого испанцы, хотя и продолжали владеть крепостью и стенами Лейдена в действительности лишились своей власти над ним, и лишились безвозвратно. С этого часа Лейден стал свободен. Таков был первый плод борьбы Фоя и Мартина против подавляющего большинства.
Массивные дубовые ворота Гевангенгуза затворились за пленниками, замок щелкнул и болты были задвинуты, между тем как перед воротами продолжала бушевать разъяренная толпа.
Процессия вступила на подъемный мост над узким рукавом городского рва, оканчивавшийся узеньким проходом, ведущим на небольшой, обнесенный стенами двор, посреди которого возвышался трехэтажный дом, выстроенный в обыкновенном голландском стиле, но с узкими окнами, снабженными решетками. Направо от входа в сводчатый коридор, служивший арсеналом и весь увешанный оружием, дверь вела в залу суда, где допрашивали арестованных, а налево - в большое помещение со сводами и без окон, похожее на большой подвал. Это был застенок. Коридор выходил во двор, в глубине которого находилась тюрьма. На этом втором дворе процессию ожидали Рамиро и маленький человечек с красным лицом и свиными глазами, одетый в грязную куртку. Это был областной инквизитор, имевший полномочия от Кровавого Совета на основании различных указов и законов пытать и казнить еретиков.
Офицер, командовавший отрядом, выступил вперед, чтобы доложить о выполнении возложенного на него поручения.
- Что это за шум? - спросил инквизитор испуганным пискливым голосом. - Бунт в городе?
- А где же прочие? - перебил Рамиро, окинув взглядом поредевшие ряды.
- Умерли, - отвечал офицер, - некоторых убили рыжий великан и его спутник, а других - толпа.
Рамиро начал браниться и посылать проклятия, так как знал, что если весть о случившемся дойдет до Альбы и Кровавого Совета, он потеряет всякий кредит в их глазах.
- Трус! - кричал он, тряся кулаком перед лицом офицера. - Как ухитриться потерять столько солдат, арестовывая двух еретиков?
- Не моя вина, - довольно грубо отвечал офицер, возмущенный резкостью смотрителя, - виноваты толпа и меч этого великана, косивший нас, как траву. - Он подал Рамиро меч «Молчание».
- Меч по нем, - пробормотал Монтальво, - другому и поднять его не впору. Повесьте его в коридоре, он может понадобиться как вещественное доказательство. - А про себя он подумал: «Опять неудача, неудача, преследующая меня всякий раз, как замешивается Лизбета ван-Хаут».
Он отдал приказание, и арестованных повели вверх по узкой лестнице.
На первую площадку выходила крепкая дубовая дверь, которая вела в большое полутемное помещение. Посредине этого помещения шел проход, а по обеим сторонам его находились клетки из крепких дубовых брусьев шагов девяти или десяти в поперечнике, слабо освещенные высоко проделанными окошечками за железными решетками, - клетки, как бы предназначенные для диких зверей, но служившие помещением для человеческих существ, провинившихся против учения Церкви. Те, кому пришлось видеть еще существующую поныне в Гааге тюрьму инквизиции, могут представить себе весь ужас подобного помещения.
В одно из таких ужасных помещений втолкнули Мартина, а раненого Фоя грубо бросили на кучу грязной соломы, лежавшей в углу. Затем, заперев дверь засовами и замком, солдаты ушли.
Как только глаза Мартина привыкли к полумраку, он стал осматриваться. Удобств тюрьма предоставляла весьма мало, и построенная на некоторой высоте, она тем не менее поражала воображение еще больше всякого подземелья, предназначенного для подобной же цели. По счастливой случайности, однако, в одном углу этой клетки оказался большой кувшин с водой.
«Авось не отравленная», - подумал Мартин, и, взяв кувшин, стал жадно пить, так как от огня и жаркой битвы в нем, казалось, все пересохло внутри.
Утолив наконец жажду, он подошел к лежавшему в беспамятстве Фою и понемножку начал вливать ему в рот воду, которую тот глотал механически. Мартин осмотрел, насколько мог, его раны и увидал, что причиной его беспамятства служит рана на правой стороне головы, которая, наверное, оказалась бы смертельной, не будь на Фое шапки со стальной подкладкой, но в настоящем случае была неопасна, и нанесенный удар причинил только сильный ушиб и сотрясение.
Вторая глубокая рана была на левом бедре, однако хотя из нее сильно шла кровь, артерия не была задета. На руках и ногах были еще раны, и под кольчугой на теле оказалось много синяков от мечей и кинжалов, но ни одно повреждение не было серьезным.
Мартин обмыл раны как можно осторожнее, но дальше оказалось затруднение, так как на нем и на Фое было фланелевое белье, а фланель не годится для перевязки ран.
- Вам нужно полотно? - послышался женский голос из соседней клетки. - Подождите, я дам вам свою рубашку.
- Как я могу взять часть вашей одежды, мефроу, чтобы перевязать нашего раненого? - отвечал Мартин.
- Возьмите и не беспокойтесь, - отвечала незнакомка тихим, приятным голосом. - Мне она уже не нужна: меня сегодня казнят.
- Казнят сегодня? - проговорил Мартин.
- Да, -
отвечал голос, - во дворе или в подземелье, на площади они не смеют, боясь народа. Мне отрубят голову. Не счастливица ли я? Только отрубят голову!
- Боже, где же ты? - вырвалось у Мартина.
- Не печальтесь обо мне, - продолжал голос. - Я очень рада. Нас было трое - отец, сестра и я, и вы понимаете, мне хочется встретиться с ними. И лучше умереть, чем снова перенести все, что я перенесла. Вот вам полотно. Рубашка, кажется, в крови у горла, но все же пригодится вам, если вы разорвете ее на полосы.
В промежуток между дубовыми брусьями просунулась нежная дрожащая ручка, державшая сорочку.
При слабом свете Мартин увидал, что кисть ее была порезана и вспухла. Он заметил это и поклялся отомстить испанцам и монахам за эту нежную благодетельную ручку, что, по счастливому стечению обстоятельств, мог впоследствии выполнить блестяще. Взяв сорочку, Мартин на минуту остановился, раздумывая, следует ли предпринимать что-нибудь и не лучше ли дать Фою умереть.
- О чем вы раздумываете? - спросил голос из-за решетки.
- Я думаю, что, может быть, для моего господина было бы лучше умереть, и я дурак, что останавливаю кровь.
- Нет, нет, - возразил голос, - вы должны сделать все, что от вас зависит, а остальное предоставить Богу. Богу угодно, чтобы я умерла, и в том нет большой беды, ведь я только слабая девушка; а может быть, Богу будет угодно, чтобы этот молодой человек остался в живых и служил своему отечеству и вере. Перевяжите его раны, добрый человек!
- Может быть, вы правы, - отвечал Мартин. - Кто знает? Для каждого замка найдется подходящий ключ, если только суметь найти его.
Он наклонился над Фоем и начал перевязывать его раны полотняными бинтами, смоченными в воде, а потом снова одел его, даже надел кольчугу.
- А вы сами не ранены? - спросил голос.
- Слегка, сущие пустяки: несколько царапин и ушибов. Кожаная куртка сослужила службу.
- Расскажите мне, с кем вы сражались? - спросила девушка.
Пока Фой все еще лежал в беспамятстве, Мартин, чтобы скоротать время, рассказал о нападении на литейную башню, о борьбе с испанцами и о последней обороне на дворе.
- Какая ужасная оборона - двое против стольких солдат, - сказал голос, и в нем послышалось восхищение.
- Да, - согласился Мартин, - горячая была битва, самая горячая, какую я запомню. Что до меня, то я не горюю: они хорошо заплатили за мое грешное тело. Я еще не сказал вам, что народ напал на них, когда они вели нас сюда, и в клочки растерзал их раненых. Да, хорошую цену они заплатили за фрисского мужика и лейденского бюргера.
- Прости, Господи, их души! - проговорила незнакомка.
- Это как Ему будет угодно, - сказал Мартин, - и меня не касается: я имел дело только с их телами и…
В эту минуту Фой застонал, сел и попросил пить. Мартин подал ему кувшин.
- Где я? - спросил Фой. Мартин объяснил ему.
- Кажется, плохи наши дела, старина, - сказал Фой слабым голосом, - но раз мы пережили это, то, я думаю, мы переживем и остальное. - В голосе его прозвучала свойственная ему жизнерадостность.
- Да, мейнгерр, - раздался голосок из-за решетчатой перегородки, - и я тоже думаю, что вы переживете все остальное, и я молюсь, чтобы это было так.
- Кто это? - спросил Фой вяло.
- Тоже узница, - отвечал Мартин.
- Узница, которая скоро освободится, - снова раздался голос в темноте, так как тем временем совершенно стемнело.
Фой снова заснул или впал в беспамятство, и на долгое время воцарилась полная тишина, пока не раздался стук засовов у входной двери, и среди мрака показалось мерцание фонаря. В узком проходе послышались шаги нескольких людей, и один из них, отворив дверь клетки, наполнил кружку водой из кожаного меха и бросил, как собакам, несколько кусков черного хлеба и трески. Посмотрев на заключенных, сторож что-то пробормотал и пошел прочь, не подозревая, как он был близок к смерти, так как Мартин был взбешен. Однако он не тронул сторожа. Затем отворилась дверь соседней клетки и мужской голос сказал:
- Выходите!.. Пора!..
- Да, пора, и я готова, - отвечал тонкий голосок. - Прощайте, друзья. Господь с вами!
- Прощайте, мефроу, - отозвался Мартин, - желаю вам скоро быть у Бога. - Затем, как бы спохватившись, он прибавил: - Как ваше имя? Мне бы хотелось знать его.
- Мария, - отвечала она, и, запев гимн, пошла на смерть.
Ни Мартин, ни Фой никогда не видали ее лица, не узнали, кто была эта бедная девушка, одна из бесчисленного количества жертв ужаснейшей тирании, когда-либо виданной миром, одна из шестидесяти тысяч убитых Альбой. Несколько лет спустя, когда Фой жил свободным человеком на свободной земле, он построил церковь - Мария-кирка.
Длинная ночь протекла в тишине, прерываемой только стонами и молитвами узников в клетках или гимнами, которые пели выводимые на двор. Наконец по свету, пробившемуся через решетчатые окна, заключенные узнали, что наступило утро. При первых лучах его Мартин проснулся и почувствовал себя бодрым: и здесь его здоровая натура позволила ему заснуть. Фой также проснулся, и хотя все тело у него ныло, однако он подкрепился, так как был голоден. Мартин нашел куски хлеба и трески, и они проглотили их, запивая водой, после чего Мартин перевязал раны Фоя, наложив на них пластырь из хлебного мякиша, и, как мог, полечил и свои ушибы.
Было около десяти часов, когда двери снова отворились и вошедшие солдаты приказали заключенным следовать за собой.
- Один из нас не может идти, - сказал Мартин, - ну, да я это устрою. - Он поднял Фоя, как ребенка, на руки и пошел за тюремщиком из тюрьмы вниз, в залу суда.
Здесь за столом сидели Рамиро и краснолицый инквизитор с тоненьким голосом.
- Силы небесные с нами, - сказал инквизитор. - Какой волосатый великан! Мне даже быть с ним в одной комнате неприятно. Прошу вас, сеньор Рамиро, прикажите своим солдатам зорко следить за ним и заколоть при первом движении.
- Не бойтесь, сеньор, - отвечал Рамиро, - негодяй обезоружен.
- Надеюсь… Однако приступим к делу. В чем обвиняются эти люди? Ах да, опять ересь, как и в последнем случае, по свидетельству… ну, да это все равно… Дело считается доказанным, и этого, конечно, достаточно. А еще что? А, вот что! Бежали из Гааги с состоянием еретика, убили несколько солдат из стражи его величества, взорвали других на воздух на Гаарлемском озере, а вчера, как нам лично известно, совершили целый ряд убийств, сопротивляясь законному аресту. Арестованные, имеете вы что-нибудь возразить?
- Очень многое, - отвечал Фой.
- В таком случае, не беспокойте себя, а меня не заставляйте терять время, так как ничем нельзя оправдать вашего безбожного, возмутительного, преступного поведения. Друг смотритель, передаю их в ваши руки, и да сжалится Господь над их душами. Если у вас есть под рукой священник, чтобы исповедать их - если они хотят исповедаться - окажите им эту милость, а все прочие подробности предоставьте мне. Пытка? Конечно, к ней можно прибегнуть, если это может повести к чему-нибудь или очистить их души. Я же отправлюсь теперь в Гаарлем, потому что - скажу вам откровенно, сеньор Рамиро - не считаю такой город, как этот Лейден, безопасным местопребыванием для честного служителя закона: тут слишком много всякого темного люда. Что? Обвинительный акт не готов? Ничего, я подпишусь на бланке. Вы можете потом заполнить его. Вот так. Да простит вас Господь, еретики, да обретут ваши души покой, чего, к несчастью, не могу обещать вашим телам на некоторое время. Ах, друг смотритель, зачем вы заставили меня присутствовать при казни этой девушки сегодня ночью, ведь она не оставила после себя состояния, о котором стоило бы толковать, а ее белое лицо не выходит у меня из ума. О, эти еретики, как много они заставляют перестрадать нас, верующих. Прощайте, друг смотритель! Я думаю выйти задними воротами: кто знает, у главного входа может встретиться кто-нибудь из этого беспокойного люда. Прощайте и, если можете, смягчите правосудие милосердием.
Он вышел, Рамиро же, проводив его до ворот, вернулся. Сев на краю стола, он обнажил свою рапиру и положил на стол перед собой. Затем, приказав подать стул для Фоя, который не мог стоять на раненых ногах, он велел страже отойти, но быть наготове в случае надобности.
- Кроме него, ни одного сановника, - обратился он почти веселым голосом к Мартину и Фою. - Вы, вероятно, ожидали совсем иного! Ни доминиканца в капюшоне, ни писцов для записывания показаний, никакой торжественности - один только краснолицый судейский крючок, который трясется от боязни, как бы его не захватила недовольная толпа, чего я лично очень бы желал. Чего и ждать от него, когда он, насколько я знаю, обанкротившийся портной из Антверпена? Однако нам приходится считаться с ним, так как его подпись на смертном приговоре так же действительна, как подпись папы, или его величества короля Филиппа, или - в таких делах - самого Альбы. И вот ваш приговор подписан, вас все равно как уже нет в живых!
- Как не было бы и вас, если б я не был настолько неблагоразумен, чтобы не послушаться совета Мартина и выпустить вас из Гаарлемского озера, - отвечал Фой.
- Совершенно так, мой молодой друг, только с моим ангелом-хранителем вам не удалось справиться, и вот вы не послушались прекрасного совета. А теперь я хочу поговорить с вами именно о Гаарлемском озере.
Фой и Мартин переглянулись, ясно понимая, зачем они здесь, а Рамиро, искоса наблюдая за ними, продолжал тихим голосом:
- Оставим это и перейдем к делу. Вы спрятали сокровища и знаете, где они; мне же надо позаботиться, чем жить на старости лет. Я не жестокий человек и не желаю мучить или убивать кого-либо, кроме того, откровенно говоря, я чувствую уважение к вам обоим за ту ловкость, с какой вы увезли сокровища на вашей «Ласточке» и взорвали ее, причем вы, молодой господчик, сделали только одну маленькую ошибочку, которую сознаете, - он, улыбаясь, поклонился Фою. - Ваша вчерашняя оборона - также блестящий подвиг, и я даже занес ее подробности в свой личный дневник - на память.
Тут пришлось поклониться Фою, между тем как даже на невозмутимом, суровом лице Мартина мелькнула улыбка.
- Естественно, - продолжал Рамиро, - что я желаю спасти таких людей. Я желал бы отпустить вас отсюда на свободу, не тронув вас… - Он остановился.
- Как же это возможно, после того как нам смертный приговор подписан? - спросил Фой.
- Это даже вовсе не трудно. Мой друг портной - то есть инквизитор - несмотря на свои мягкие речи, жестокий человек. Он спешил и подписался под чистым бланком - большая неосторожность, как всегда. Судья может осудить или оправдать, и этот случай не исключение. Что может мне помешать заполнить бланк предписанием о вашем освобождении?
- Что же мы должны сделать для этого? - спросил Фой.
- Даю вам слово дворянина: если вы скажете мне, что мне надо, я в неделю устрою все свои дела, и тотчас по моему возвращению вы будете свободны.
- Конечно, нельзя не поверить такому слову, которому сеньор Рамиро, извините - граф Жуан де Монтальво, мог научиться на галерах! - не помня себя, воскликнул Фой.
Рамиро весь побагровел.
- Если бы я был другого сорта человек, вас за эти слова ожидала бы такая смерть, перед которой содрогнулся бы и мужественнейший человек. Но вы молоды и неопытны, поэтому я извиняю вас. Пора кончить этот торг. Что вы предпочитаете: жизнь и свободу или возможность - при теперешних обстоятельствах невероятную - когда-то кому-то получить спрятанные сокровища?
Тут в первый раз заговорил Мартин, медленно и почтительно:
- Мейнгерр, мы не можем сказать вам, где спрятаны сокровища, потому что не знаем этого. Откровенно говоря, никто, кроме меня, никогда и не знал этого. Я взял вещи и опустил их в узкий проток между двумя островами, который нарисовал на клочке бумаги.
- Отлично мой друг, а где же эта бумага?
- Вот в том-то и беда, зажигая фитили на «Ласточке», я впопыхах уронил бумажку, и она отправилась туда же… куда отправились ваши почтенные товарищи, бывшие на судне. Однако, я думаю, что если бы вам угодно было взять меня проводником, я мог бы показать вашему сиятельству то место; мне не хочется умирать, поэтому я был бы счастлив, если бы вы приняли мое предложение.
- Прекрасно, чистосердечный человек, - отвечал Рамиро с усмешкой, - ты рисуешь мне необыкновенно заманчивую перспективу. В полночь отправиться на Гаарлемское озеро - это все равно, что пустить тарантула с бабочкой! Мейнгерр ван-Гоорль, что вы имеете сказать?
- Только то, что все рассказанное Мартином - правда. Я не знаю, где деньги, так как я не присутствовал при том, как их опускали и как потерялась бумага.
- В самом деле? Я боюсь в таком случае, как бы мне не пришлось освежить вам немного память, но прежде я еще приведу вам один довод или два. Не приходило ли вам в голову, что от вашего ответа может зависеть другая жизнь? Имеет ли человек право обрекать своего отца на смерть?
Фой слушал, и как ни ужасен был намек, однако молодой человек почувствовал облегчение, так как ожидал услышать слова «вашу мать» или «Эльзу Брант».
- Вот мое первое убеждение - думаю, недурное, - но у меня еще имеется одно, еще более убедительное для молодого человека и наследника в будущем. Третьего дня вы обручились с Эльзой Брант - не удивляйтесь, люди в моем положении многое слышат; не пугайтесь, девицу не приведут сюда - она слишком драгоценна.
- Будьте добры объяснить мне ваши слова, - сказал Фой.
- С удовольствием. Видите ли, молодая девушка - богатая наследница, не правда ли? И удастся ли мне или не удастся узнать факты от вас, она, без сомнения, рано или поздно откроет местонахождение своего богатства. Конечно, муж разделит ее состояние. Я теперь человек свободный и могу быть представлен ювфроу Эльзе… Вы видите, мой друг, что есть и другие способы убивать собак, кроме как вешать их.
Сердце упало у Фоя при словах этого негодяя, этого дьявола, обманувшего его мать и бывшего отцом Адриана. Мысль сделать богатую наследницу своей женой была достойна его дьявольской изобретательности. И что могло помешать ему выполнить свой план? Эльза, конечно, возмутится, но в руках приспешников Альбы в эти дни были средства, с помощью которых они могли преодолеть несогласие молодой девушки или, по крайней мере, заставить сделать выбор между смертью и унижением. Расторжение браков с тем, чтобы заставить еретичку выйти за человека, домогающегося ее состояния, было делом обычным. Справедливости не стало в стране: люди были пешками и рабами своих притеснителей. И что оставалось им делать, как не уповать на Бога. Фой думал: стоит ли подвергаться мучению, рисковать смертью и браком против воли из-за золота. Он думал, что понял человека, сидящего перед ним, и что с ним можно вступить в торг. Он не был фанатиком, ужасы не доставляли ему удовольствия, ему не было дела до душ его жертв. Он обманул его мать, Лизбету, из-за денег и, вероятно, согласился отступиться за деньги. Почему не попытаться? Но сейчас же в уме Фоя встал другой, ясный и неопровержимый ответ. Не клялся ли он отцу, что ничто на свете не заставит его открыть тайну? Не клялся ли он в том же Гендрику Бранту, пожертвовавшему уже жизнью ради того, чтобы его сокровища не попали в руки испанцам, в уверенности, что со временем они какими-нибудь неисповедимыми путями послужат на пользу его отечеству? Нет, как ни велико было искушение, он обязан сдержать данное обещание и заплатить ужасную цену. Итак, Фой снова ответил:
- Напрасно вы искушаете меня: я не знаю, где деньги.
- Прекрасно, герр Фон вай-Гоорль, теперь исход для нас ясен, но все же я попытаюсь защитить вас от самих себя, - я еще некоторое время не стану заполнять бланка. - Затем он позвал:
- Сержант, попросите мастера Баптиста приступить к делу.
ГЛАВА XXI. Мартин трусит
Сержант вышел из комнаты и скоро вернулся в сопровождении «мастера» - высокого малого подозрительного вида, одетого в затасканное черное платье, с широкими заскорузлыми руками и коротко остриженными для проворности ногтями.
- Здравствуйте, профессор, - сказал Рамиро, - вот вам два субъекта. Начните с большого, время от времени вы будете доносить об успехе, и будьте уверены, что в случае, если он пожелает открыть то, о чем я хлопочу - подробности вас не касаются, это мое дело, - то немедленно позовите меня.
- Какой способ, ваше превосходительство, прикажете употребить?
- Предоставляю это вам. Разве я занимаюсь вашим поганым ремеслом? Мне все равно, лишь бы добиться результата.
- Не нравится мне этот молодец, - проворчал «профессор», кусая ногти. - Слышал я об этой бешеной скотине, он на все способен.
- Так возьмите с собой всю стражу: один голый негодяй немного сделает против девяти вооруженных. Да захватите также и молодого человека, пусть он посмотрит, что будет происходить, может быть, тогда он переменит свой взгляд. Только не трогайте его, не сказав мне. Мне же надо писать бумаги, и я останусь здесь.
- Не нравится мне этот малый, - повторил «профессор», - от одного вида его мороз у меня подирает по коже. Какие у него злые глаза. Я бы лучше начал с молодого.
- Ступайте и делайте, что я вам приказываю, - сказал Рамиро, свирепо смотря на него. - Стража, помогите палачу Баптисту.
- Ведите их, - приказал «профессор».
- Зачем употреблять силу, господин, - проговорил Мартин, - покажите дорогу, и мы сами пойдем. - Нагнувшись, он поднял Фоя со стула.
Процессия двинулась. Впереди шел Баптист с четырьмя солдатами, потом Мартин с Фоем и, наконец, еще четверо солдат. Они вышли из комнаты суда под своды коридора. Мартин, медленно шагая, осмотрелся и увидал, что на стене между прочим оружием висел его меч «Молчание». Большие ворота были заперты замками и засовами, но у калитки возле них стоял часовой, обязанность которого была впускать и выпускать людей, входивших и выходивших по делам. Под предлогом, что ему надо переложить Фоя на другую руку, Мартин внимательно, насколько позволяло время, рассмотрел калитку и заметил, что хотя она казалась задвинутой железными засовами вверху и внизу, но в действительности не была заперта, так как петли, в которые входили концы засовов, были пусты. Вероятно, часовой не считал нужным прибегать, пока стоял тут, к большому ключу, висевшему у него за поясом.
Сержант, сопровождавший узников, отворил массивную низкую дверь, отодвинув засов. По-видимому, это помещение когда-то служило тюрьмой, что подтверждал и засов снаружи. Несколько минут спустя Мартин и Фой были заперты в застенке Гевангенгуза, представлявшем из себя подвальное сводчатое помещение, освещенное лампами (дневной свет не проникал туда) и зловещим огнем, разведенным на полу. Обстановку помещения легко себе представить: интересующиеся подобными ужасами могут удовлетворить свое любопытство, осмотрев средневековые тюрьмы в Гааге и других местах. Опустим их, как предмет, недостойный описания, хотя эти ужасы, о которых нам в настоящее время даже неприятное говорить, были близко известны поколению, жившему всего три столетия тому назад.
Мартин опустил Фоя на какое-то ужасное приспособление, имевшее сходство со стулом, и обвел все кругом своими голубыми глазами. Между различными предметами, стоявшими у стен, один, по-видимому, особенно интересовал его. Это было ужасное орудие, но Мартин видел в нем только крепкую стальную полосу, которой удобно размозжить чью-нибудь голову.
- Разденьте-ка этого карлика, - обратился «профессор» к солдатам, - пока я приготовлю ему постельку.
Солдаты начали стаскивать платье с Мартина, но не насмехались над ним и не оскорбляли его, помня его вчерашние подвиги и чувствуя почтение к силе и выносливости этого огромного тела, находившегося в их руках.
- Он готов, - сказал сержант.
«Профессор» потер руки.
- Ну-ка пойдем, молодчик, - сказал он.
Нервы Мартина не выдержали; он задрожал.
- Скажите! Ему стало холодно в этой духоте, надо согреть его.
- Кто мог бы подумать, что такой большой человек, который так хорошо бьется, может оказаться таким трусом? - сказал сержант своим товарищам. - С ним, думаю, будет не труднее справиться, чем с рейнским лососем.
Мартин услыхал эти слова, и с ним сделался такой припадок дрожи, что даже пот выступил у него на всем теле.
Фой смотрел на него, открывши рот. Он не верил своим ушам. Почему это Мартин, если ему так страшно, делал ему особенные знаки глазами, закрыв их растопыренными пальцами руки? Совершенно так же блестели его глаза накануне, когда солдаты пытались взобраться на лестницу. Фой не мог разрешить загадку, но с этой минуты не спускал глаз с Мартина.
- Слышите, что нам говорит эта дамочка, герр Баптист? - сказал сержант. - Она обещает, - продолжил он, подражая голосу Мартина, - сказать все, что знает.
- В таком случае, мне нечего хлопотать. Побудьте с ним. Я пойду и доложу смотрителю: так мне приказано. Не одевайте его полностью, довольно и того, что на нем остается… осторожность не мешает.
Баптист пошел к двери и, проходя мимо Мартина, ударил его рукой по лицу, говоря:
- Вот тебе, трус!
Фой заметил, что при этом его товарищ вспотел еще сильнее и отшатнулся к стене.
Но, Боже мой! Что случилось? Дверь застенка отворилась, и вдруг со словами: «Ко мне, Фой!» - Мартин сделал движение, которое Фой едва успел уловить. Что-то пролетело в воздухе и упало на голову палача, вышедшего в коридор. Солдаты побежали к двери, но огромная железная полоса, брошенная им в лицо, положила двух из них на месте. Еще минута, рука обхватила Фоя, и в следующее мгновение Мартин стоял, растопырив ноги на теле мертвого «профессора» Баптиста.
Они были за дверями, но те не были заперты, так что с другой стороны шесть человек напирали на них изо всей силы. Мартин опустил Фоя на пол.
- Возьмите кинжал и займитесь привратником, - поспешно проговорил Мартин.
В одно мгновенье Фой выхватил кинжал из-за пояса убитого и обернулся. Привратник бежал к ним с поднятым мечом. Фой забыл, что он ранен, в эту минуту он опять крепко стоял на ногах. Он согнулся и прыгнул на привратника, как дикая кошка, как человек, вырвавшийся из когтей пытки. Борьбы не последовало: искусство, которому Мартин с таким терпением учил Фоя, пригодилось ему в эту минуту; меч пролетел над головой Фоя, между тем как длинный кинжал его пронзил горло привратника. Взглянув на него, Фой убедился, - что ему уже нечего бояться, и повернулся.
- Помогите, если можете, - с трудом проговорил Мартин, своим голым плечом налегавший изо всей силы на один из засовов калитки, стараясь просунуть его в задвижку.
Боже! Какая это была борьба! Голубые глаза Мартина, казалось, готовы были выйти из орбит, он раскрыл рот, и мускулы его тела выступали узлами. Фой поспешил к нему и изо всех сил пытался помочь. Он мало мог сделать, стоя на одной только ноге, так как раны на другой снова открылись, однако и этого оказалось достаточно: засов медленно-медленно вошел в скобу. Тяжелая дверь трещала под напором солдат изнутри, Мартин, не будучи в состоянии говорить, только смотрел на засов, который Фой левой рукой все дальше и дальше вдвигал в скобу. Засов заржавел от долгого бездействия и поддавался с трудом.
- Еще! - задыхаясь, проговорил Фой.
Мартин сделал такое усилие, что со стороны было страшно, и кровь закапала у него из ноздрей, но дверь подалась еще, и засов с шумом вдвинулся в каменную скобу.
Мартин отступил и с минуту качался, будто готовясь упасть. Затем, придя в себя, он бросился к мечу «Молчание», висевшему на стене, и перевязью обмотал правую руку выше кисти. После того он направился к двери комнаты суда.
- Куда ты?! - закричал Фой.
- Проститься с ним, - отвечал Мартин.
- Ты с ума сошел, - сказал Фой, - бежим, если можно. Дверь может поддаться. Слышишь, как они кричат.
- И впрямь, может быть, лучше бежать, - с сомнением в голосе согласился Мартин. - Садитесь мне на плечи.
Несколько секунд спустя двое часовых, стоявших у ворот тюрьмы, с изумлением увидали, как на них с криком бросился высокий рыжий человек, почти голый, размахивавший огромным мечом и несший на спине другого человека. Они пришли в такой ужас, что, не дожидаясь нападения и думая, что это дьявол, разбежались в разные стороны, между тем как человек с ношей вышел мимо них по маленькому подъемному мосту на улицу, начинавшуюся от городских ворот.
Придя в себя, солдаты бросились было в погоню, но кто-то из прохожих крикнул:
- Это же Мартин, Красный Мартин и Фой ван-Гоорль вырвались из тюрьмы.
И сейчас же в солдат полетел камень.
Помня судьбу, постигшую их товарищей накануне, солдаты вернулись под защиту тюремных сводов. Когда, наконец, Рамиро, которому надоело ждать, вышел из задней комнаты при зале суда, где что-то писал, он увидал палача и привратника лежащими мертвыми у калитки и услыхал отчаянные крики стражи из застенка, между тем как часовые у моста объявили, что не видали ровно никого.
Сначала им поверили и бросились обыскивать всю тюрьму от колокольной башни до самого глубокого подземелья, даже искали в воде рва, но когда правда открылась, им досталось от смотрителя, а еще хуже досталось стражам, из рук которых Мартин ускользнул, как угорь из рук рыбной торговки. Рамиро не помнил себя и начинал думать, что в конце концов напрасно вернулся в Лейден.
Однако у него в руках еще оставалась одна карта. В одном из помещений тюрьмы сидел еще узник. В сравнении с берлогой, куда были заключены Мартин и Фой, это помещение казалось даже хорошим: это была комната на нижнем этаже, предназначавшаяся для знатных политических заключенных или взятых в плен на поле битвы офицеров, за которых ожидали выкупа. Здесь было настоящее окно, хотя и заделанное двойной решеткой, выходившее на двор и тюремную кухню, стояла кое-какая мебель, и все было более или менее чисто. Заключенный в этой комнате был не кто иной, как Дирк ван-Гоорль, захваченный в ту минуту, как он возвращался домой после приготовлений к побегу своей семьи. Утром того же самого дня Дирка также допрашивал краснолицый суетливый экс-портной. И он также был приговорен к смерти, причем вид ее, как для Мартина и Фоя, был также предоставлен решению смотрителя. После того Дирка отвели обратно в занимаемую им комнату и заперли.
Через несколько часов в комнату вошел человек, которого до дверей провожали солдаты, и принес Дирку пищу и питье. Это был один из поваров и, как оказалось, словоохотливый малый.
- Друг, что случилось в тюрьме? - спросил его Дирк. - Отчего люди бегают по двору и кричат в коридоре? Не приехал ли принц Оранский в тюрьму, чтобы освободить нас? - Он грустно улыбнулся.
- Есть и такие, что освобождаются, не дожидаясь принца Оранского. Колдуны они… колдуны, и ничего больше.
Интерес Дирка был возбужден. Опустив руку в карман, он вынул золотой, который подал повару.
- Друг, - сказал он, - ты готовишь мне кушанье и ходишь за мной. Я захватил с собой несколько таких кружочков, и если ты будешь добр ко мне, они перейдут из моего кармана в твой. Понимаешь?
Повар кивнул головой, взял золотой и поблагодарил.
- Расскажи же мне, пока станешь убирать комнату, об этом побеге - заключенного интересуют и пустяки.
- Вот как было дело, мейнгерр, насколько я слышал: вчера в одной конторе захватили двух молодцов, должно быть, еретиков, с которыми пришлось много повозиться при аресте. Я не знаю, как их зовут, я здесь чужой, но видел, как их привели: один был молодой и, кажется, ранен в ногу и шею, а другой - рыжий, бородатый великан. Их допрашивали сегодня утром, а потом отправили с девятью стражами к «профессору», понимаете?
Дирк кивнул, этого «профессора» хорошо знали в Лейдене.
- И что же дальше? - спросил он.
- Дальше-то? Мать Пресвятая Богородица! Они убежали: великан, весь голый, унес на плечах молодого. Да, они убили «профессора» железной полосой и вышли из тюрьмы, как спелый горох из шелухи.
- Это невозможно, - сказал Дирк.
- Может быть, вам это лучше известно, чем мне; может быть, тоже невозможно, что они заперли испанских петухов снаружи, закололи привратника и проскользнули мимо часовых на мосту? Может быть, все это невероятно, однако все это случилось; и если не верите мне, спросите сами у часовых, почему они бросились бежать, когда увидали, что этот огромный голый человек идет на них, рыкая, как лев, и размахивая своим огромным мечом. Ну, теперь пойдет разборка, и всем нам достанется от смотрителя. Уж и теперь многие платятся своими спинами.
- А разве их не поймали за стенами тюрьмы?
- Поймали? Поймаешь их, когда сотни людей собрались вокруг них на улице! Теперь их и след, должно быть, простыл, и в Лейдене поминай их как звали. Однако мне пора идти, но если вам что-нибудь понадобится пока вы здесь, скажите мне, и я постараюсь достать вам то, за что вы такой щедрый.
Когда дверная задвижка закрылась за поваром, Дирк всплеснул руками и чуть не захохотал громко от радости. Мартин и Фой свободны, и если они снова не попадутся, тайна сокровищ останется тайной. Они никогда не достанутся Монтальво, в этом Дирк был уверен. А что касается его собственной судьбы, она мало тревожила его, особенно после того, как инквизитор сказал, что такого влиятельного человека, как он, не станут допрашивать. Это распоряжение было, впрочем, вызвано не милосердием, а осторожностью, так как инквизитору было известно, что Гаага, подобно другим голландским городам, находится накануне восстания, и он опасался, что народ мог выйти из всяких границ повиновения, если бы одного из самых богатых и уважаемых бюргеров стали мучить за его веру.
Увидав, как народ разорвал на клочки раненых испанских солдат и их носильщиков и как тяжелая дверь тюрьмы затворилась за Мартином и Фоем, Адриан отправился домой, чтобы сообщить печальную весть. Народ еще долго не расходился, и если бы подъемный мост над рвом не был поднят, так что не оказалось возможности перебраться через него, весьма вероятно, было бы произведено нападение на тюрьму. Теперь, однако, когда к тому же пошел дождь, толпа начала расходиться, рассуждая, захочет ли герцог Альба в эти дни ежедневных побоищ мстить за нескольких убитых солдат.
Когда Адриан вошел в верхнюю комнату, чтобы сообщить принесенное им известие, он нашел там одну только мать. Она сидела прямо на стуле, с руками, сложенными на коленях, и обратившись к окошку неподвижным, как бы изваянным из мрамора, лицом.
- Я не мог найти его, - сказал Адриан, - но Фой и Мартин взяты после отчаянного сопротивления, причем Фой ранен. Они в тюрьме…
- Я знаю все, - прервала его Лизбета холодным, глухим голосом. - Муж тоже взят. Кто-нибудь предал их. Да воздаст ему Господь! Оставь меня одну, Адриан.
Адриан повернулся и поплелся к себе в комнату. Упреки совести и стыд так тяжело лежали у него на сердце, что ему казалось, оно не выдержит. При всей своей слабости и злобе он никогда не намеревался сделать то, что произошло: теперь по его вине его брат Фой и человек, бывший его благодетелем и более всего на свете любимый его матерью, обречены на смерть, ужаснее которой ничего нельзя себе представить. Предатель провел эту ночь среди окружавшего его комфорта хуже, чем его жертвы в тюрьме. Три раза Адриан был готов покончить с собой; один раз он даже укрепил рукоять меча в полу и наставил его острие себе на грудь, но при первом уколе отшатнулся.
Лучше было бы для него, может быть, если бы он преодолел свою трусость: по крайней мере, он избавился бы от многих страданий и унижений, ожидавших его впереди.
Как только Адриан вышел, Лизбета встала, оделась и отправилась к своему родственнику ван-де-Верфу, теперь почтенному гражданину средних лет, избранному бургомистром Лейдена.
- Вы слышали? - спросила она.
- К несчастью, слышал, - отвечал он. - Это ужасно. Правда, что богатство Гендрика Бранта на дне Гаарлемского озера?
Она кивнула головой и ответила:
- Думаю, что так.
- Не могли ли бы они, открыв тайну, спасти себе жизнь?
- Может быть. Фой и Мартин могли бы это сделать, Дирк же ничего не знает: он отказался узнать. Но Фой и Мартин поклялись лучше умереть, чем открыть тайну.
- Почему?
- Потому что они дали такое обещание Гендрику Бранту, желавшему, чтобы его золото, скрытое от испанцев, могло сослужить службу его отечеству в будущем. Он и их убедил в необходимости этого.
- В таком случае, дай Бог, чтобы его желание исполнилось, - со вздохом сказал ван-де-Верф, - иначе было бы слишком тяжело думать, что еще жизни будут загублены из-за груды золота.
- Я знаю это, и я пришла к вам, чтобы спасти их.
- Каким образом?
- Каким образом? - воодушевляясь, ответила она. - Подняв город, произведя нападение на тюрьму и освободив их… Выгнав испанцев из Лейдена…
- И навлекши на себя судьбу Монса. Вы желали бы, чтобы город был отдан на разграбление солдатам Нуаркарма и дона Фредерика?
- Мне все равно; я желаю спасти мужа и сына! - в отчаянии проговорила она.
- Так может говорить женщина, но не патриотка. Лучше пусть умрут три человека, чем будет разорен целый город.
- Странно мне слышать от вас этот довод еврея Каиафы.
- Нет, Лизбета, не сердитесь на меня. Что я могу сказать? Правда, испанского войска в Лейдене немного, но новые силы отправлены из Гаарлема и других мест после вчерашних волнений при аресте Фоя и Мартина; через двое суток они будут здесь. Город не снабжен запасами на случай осады, горожане не привыкли владеть оружием, и пороху мало. Кроме того, в городском совете нет согласия. Перебить испанских солдат мы еще можем, но напасть на Гавенгенгуз - значило бы произвести открытое восстание и привлечь сюда армию дона Фредерика.
- Что же? Все равно рано или поздно дойдет до этого.
- Пусть же это случится позднее, когда мы будем более способны отразить ее. Не упрекайте меня, мне тяжелы были бы ваши упреки, так как я день и ночь работаю, подготовляя все к роковому часу. Я люблю вашего мужа и сына, сердце мое обливается кровью при виде вашего горя и постигшей их ужасной судьбы, но пока я не могу сделать ничего… ничего. Вы должны нести свой крест так же, как они свой, а я свой, мы все должны идти во мрак, пока Господь не прикажет заняться заре - заре свободы и возмездия.
Лизбета не отвечала: она встала и, качаясь, вышла из дома, между тем как ван-де-Верф, опустившись на стул, горько плакал и молился о ниспослании помощи и света.
ГЛАВА XXII. Встреча и разлука
Лизбета не закрыла глаз в эту ночь. Если бы даже горе дозволило ей спать, то не дало бы физическое состояние: она вся горела, и в голове стучало. Сначала она мало обращала на это внимания, но при первом свете холодного осеннего утра подошла к зеркалу и стала осматривать себя: на шее у нее оказалась опухоль величиной с орех. Лизбета догадалась, что заразилась чумой от фроу Янсен, и засмеялась коротким, сухим смехом: раз все любимые ею обречены на смерть, ей казалось лучше всего умереть и самой. Эльза еще не вставала, обессиленная горем, и Лизбета, запершись у себя в комнате, не впускала к себе никого, кроме одной женщины, выздоровевшей некоторое время тому назад от чумы, но и ей она не сказала ничего о своей болезни.
Около одиннадцати часов утра женщина вбежала к ней в комнату, крича:
- Они убежали!.. Убежали!..
- Кто? - в напряженном ожидании спросила Лизбета, вскочив со стула.
- Ваш сын Фой и Красный Мартин.
Она рассказала, как голый великан с обнаженным мечом в руке и Фоем на спине выбежал с ревом из тюрьмы и, под защитой толпы пробежав через город, направился к Гаарлемскому озеру.
Глаза Лизбеты засветились гордостью при этом известии.
- Верный, преданный слуга, ты спас моего сына, но мужа тебе не спасти, - проговорила она.
Прошел еще час, и служанка вошла снова, неся письмо.
- Кто принес его? - спросила Лизбета.
- Солдат-испанец.
Лизбета разрезала шелковый шнурок и прочла письмо. Оно было без подписи, и в нем значилось:
«Человек, пользующийся влиянием, шлет свой привет фроу ван-Гоорль. Если фроу ван-Гоорль желает спасти жизнь самого дорогого ей человека, ее просят, надев вуаль, последовать за подателем этого письма. Ей нечего бояться за свою собственную безопасность: это письмо служит ей гарантией».
Лизбета подумала с минуту. Может быть, это западня, даже очень вероятно, что это ловушка, чтобы захватить и ее. Ну, не все ли равно ей? Она предпочитала умереть с мужем, чем жить без него, и кроме того, зачем ей избегать смерти, когда чума уже у нее в крови? Но было еще нечто, худшее смерти. Она догадывалась, кто написал это письмо; после многих лет она узнала почерк, несмотря на видимое старание переделать его. Но хватит ли у нее сил встретиться с ним? Надо найти эти силы… ради Дирка!
Если она откажет и Дирк умрет, не будет ли она упрекать себя, если останется сама в живых, что не сделала всего, что было в ее власти?
- Дай мне плащ и вуаль, - приказала она служанке, - и скажи солдату, что я иду.
У дверей ее встретил солдат, почтительно отдавший ей честь, говоря:
- Мефроу, последуйте за мной, но на некотором расстоянии.
Солдат провел Лизбету переулками к заднему входу тюрьмы, двери которой таинственно перед ними отворились и снова затворились, причем Лизбета невольно спросила себя: придется ли ей когда-нибудь снова переступить порог этой калитки? На дворе ее встретил другой человек, она даже не обратила внимания, кто он был, и, сказав ей: «Пожалуйте, сударыня», провел по мрачным коридорам в маленькую комнату, меблированную столом и двумя стульями. Дверь отворилась, и Лизбета почувствовала, как будто у нее внутри что-то оборвалось и заболело, как от приема яда: перед ней стоял совершенно такой же, как прежде, хотя отмеченный временем и своей жизнью, человек, бывший ее мужем, - Жуан де Монтальво. Однако Лизбета не показала своего чувства, и лицо ее осталось бледно и неподвижно-сурово, к тому же, даже еще не взглянув на него, она уже знала, что он боится ее больше, чем она его.
Это была правда: в глазах этой женщины отражался такой ужас, что сердце Монтальво содрогнулось. Перед ним встала сцена его сватовства и снова зазвучали в его ушах ужасные слова, сказанные ею. Какое странное совпадение обстоятельств: и теперь опять, как тогда, целью переговоров была жизнь Дирка ван-Гоорля. В прежние дни она купила эту жизнь, отдав себя, свое состояние и - что хуже всего для женщины - навлекши на себя презрение своего бывшего жениха. Какую цену ей придется уплатить теперь? К счастью, многого уже нельзя требовать от нее! Он же в душе боялся этого торга с Лизбетой ван-Гоорль из-за жизни Дирка ван-Гоорля. В первый раз этот торг довел его до четырнадцатилетних каторжных работ на галерах. Чем кончится второй?
В ответ перед глазами Монтальво открывалась будто черная бездна, в безграничную глубину которой летел несчастный, представлявший из себя по сравнению с пролетаемым им пространством одну крошечную, незаметную точку. Точка перевернулась, и Монтальво узнал в ней самого себя.
Этот кошмар на мгновенье представился ему и тотчас же исчез. В следующую минуту Монтальво уже спокойно и вежливо раскланивался перед своей посетительницей, предлагая ей сесть.
- Очень любезно с вашей стороны, фроу ван-Гоорль, что вы так быстро отозвались на мое приглашение, - начал он.
- Может быть, вам, граф де Монтальво, угодно будет как можно короче сообщить мне, зачем вы вызвали меня, - сказала Лизбета.
- Конечно, я сам желаю этого. Позвольте прежде всего успокоить вас. В прошлом у нас обоих есть общие воспоминания: и неприятные и приятные. - Он положил руку на сердце и вздохнул. - Но все это уже умершее прошедшее, поэтому мы не станем касаться его.
Лизбета не отвечала, только вокруг ее рта легла несколько более суровая складка.
- Теперь еще одно слово, и я перейду к главному предмету нашего свидания. Позвольте мне поздравить вас с доблестным поступком вашего доблестного сына. Конечно, его храбрость и ловкость вместе с поддержкой, оказанной ему Красным Мартином, причинили мне много неприятностей и внесли осложнения в исполнение задуманного мною плана, но я старый солдат и должен признаться, что их вчерашняя оборона и сегодняшнее бегство из… из не совсем приятной обстановки взволновали во мне кровь и заставили мое сердце забиться сильнее.
- Я слышала… Не трудитесь повторять, - сказала Лизбета, - иного я не ожидала от них и благодарю Бога, что Ему угодно было продлить их жизнь, чтобы в будущем они могли страшно отомстить за любимого отца и хозяина.
Монтальво кашлянул и отвернулся, желая прогнать снова вставший перед его глазами кошмар - маленького человечка, летящего в пропасть.
- Да, они бежали; и я рад за них, какое убийство они ни замышляли бы в будущем. Да, несмотря на все их преступления и убийства в прошлом, я рад, что они ушли, хотя я обязан был удерживать их, пока мог, и если они попадутся, я снова должен буду сделать то же самое; но я не стану теперь дольше останавливаться на этом. Вам, вероятно, известно, что есть один господин, который не был так же счастлив, как они.
- Мой муж?
- Да, ваш почтенный супруг, к счастью для моей репутации как смотрителя одной из тюрем его величества, занимает помещение здесь наверху.
- И что же дальше? - спросила Лизбета.
- Не пугайтесь, мефроу: страх ужасно подрывает здоровье. Итак, возвращаюсь к предмету нашего разговора… - Тут он вдруг переменил тон. - Однако прежде мне необходимо объяснить вам, Лизбета, положение вещей.
- Какое положение вещей?
- Прежде всего то, что касается сокровищ.
- Каких сокровищ?
- Не теряйте времени, пытаясь обмануть меня. Я говорю о несметном богатстве, оставшемся после Гендрика Бранта и скрытом бежавшими Фоем и Мартином, - он застонал и заскрежетал зубами, - где-то на Гаарлемском озере.
- Какое отношение имеют к нашему разговору сокровища?
- Я требую его - вот и все.
- Так вам лучше всего стараться отыскать его.
- Я так и предполагаю и начну искать его… в сердце Дирка ван-Гоорля, - произнес он медленно, комкая своими длинными пальцами носовой платок, будто тот был живым существом, которое можно замучить насмерть.
Лизбета не моргнула, она ожидала этого.
- Не много вы найдете в этом источнике, - сказала она. - Никто ничего не знает теперь о наследстве Бранта. Насколько я могла понять, Мартин спрятал его и потерял бумагу. Таким образом, сокровища будут лежать на дне моря, пока оно не высохнет.
- Знаете, я уже слышал эту басню, да, от самого Мартина, и должен сказать, не совсем верю ей.
- Что же делать, если вы не верите? Вы должны помнить, что я всегда говорила правду, насколько она была мне известна.
- Совершенно верно: но другие не так добросовестны. Взгляните сюда…
Он вынул из кармана бумагу и показал ей. То был смертный приговор Дирку, подписанный инквизитором.
Лизбета машинально прочла его.
- Заметьте, - продолжал Монтальво, - что род казни предоставляется «на усмотрение нашего
любезного» и т.д., то есть на мое. Теперь потрудитесь выглянуть в это окно. Что вы видите перед собой? Кухню? Совершенно верно; приятный вид для такой прекрасной хозяйки, как вы. Посмотрите несколько выше. Что вы видите? Маленькое оконце за решеткой. Представьте себе, что из-за этой решетки человек, все более и более голодный, смотрит на то, что происходит в кухне, на то, как туда приносят припасы и через некоторое время выносят вкусное кушанье, между тем как он все больше и больше тощает и слабеет от голода. Как вам кажется, приятно положение этого человека?
- Вы дьявол! - воскликнула Лизбета, отшатнувшись от окна.
- Никогда не считал себя им, но если вы желаете иметь определение, то я трудолюбивый работник, испытавший много неудач и принужденный иногда прибегать к решительным средствам, чтобы обеспечить себя на старость. Уверяю вас, что я не желаю уморить кого бы то ни было с голоду; я желаю только найти сокровища Гендрика Бранта, и если ваш супруг не захочет помочь мне в этом, то я должен заставить его - вот и все. Дней через шесть или девять после того, как я примусь за него, я уверен, он заговорит: нет ничего, что было бы способнее заставить упитанного бюргера, привыкшего к изобилию во всем, открыть рот, как совершенное лишение пищи, которую он может только видеть и обонять. Приходилось вам когда-нибудь слышать историю очень старого господчика - Тантала? Удивительно применимы подобные вещи к надобностям и обстоятельствам настоящего.
Гордость Лизбеты была сломлена; в отчаянии несчастная бросилась к ногам своего мучителя, умоляя его о жизни мужа, заклиная его именем Бога и даже сына его Адриана. До того довел ее ужас, что она решилась молить этого человека именем сына, рождение которого было позором для нее.
Он попросил ее встать.
- Я желаю спасти жизнь вашего мужа, - сказал он. - Даю вам слово, что если он только скажет мне то, что мне надо, я спасу его, даже - хотя риск и велик - постараюсь способствовать его бегству. Теперь я попрошу вас пройти наверх и объяснить ему мои миролюбивые намерения. - Подумав минуту, он прибавил: - Вы сейчас упомянули имя Адриана. Это, вероятно, тот самый молодой человек, подпись которого стоит под этим документом? - Он подал Лизбете бумагу. - Прочтите его спокойно, спешить некуда. Добрый Дирк еще не умирает с голоду; мне сейчас донесли, что он прекрасно позавтракал, и будем надеяться, не в последний раз.
Лизбета взяла исписанные листы и взглянула на них. Вдруг она поняла, в чем дело, и поспешно пробежала листы до конца последней страницы, где стояла подпись. Увидав ее, она бросила сверток на пол, будто из него на нее устремилась змея и ужалила ее.
- Вам, кажется, тяжело видеть эту подпись, - с участием заговорил Монтальво, - и я не удивляюсь этому: мне самому приходилось испытывать подобные разочарования, и я знаю, как они оскорбляют благородные характеры. Я показал вам этот документ из великодушия, желая предостеречь вас от этого молодого человека, которого, как я мог понять, вы считаете моим сыном. Человек, способный выдать брата, может сделать шаг дальше и предать свою мать, поэтому советую вам не выпускать молодого человека из виду. Не могу не высказать вам также, что на вас в данном случае ложится большая вина: как можно проклинать ребенка еще до его рождения? Ведь вы помните, о чем я говорю? Проклятие обратилось местью против вас самой. Этот случай может служить предупреждением от увлечения минутной страстью.
Лизбета уже не слушала его; она думала, как никогда не думала перед тем. В эту минуту, как бы по вдохновению, ей пришли на память слова умершей фроу Янсен: «Я жалею, что раньше не подхватила чуму, тогда я отнесла бы ее ему в тюрьму, и с ним не сделали бы того, что произошло». Дирк в тюрьме и обречен на голодную смерть, потому что, вопреки убеждению Монтальво, он ничего не знал, а следовательно, не мог ничего и сказать. Она заражена чумой - симптомы хорошо знакомы ей, ее яд жжет ей жилы, хотя она еще в силах думать, говорить и ходить.
Лизбета не считала преступлением передать чуму мужу: лучше ему умереть от чумы в пять дней, а может быть, даже в два, что часто бывало с людьми полнокровными, чем умирать с голоду целых двенадцать дней и, может быть, еще при этом подвергаться мучениям пытки. Лизбета быстро решилась и сказала хриплым голосом:
- Что вы хотите, чтобы я сделала?
- Я желаю, чтобы вы убедили вашего мужа перестать упорствовать и сообщить тайну нахождения наследства Бранта. В таком случае я обещаю немедленно после того, как удостоверюсь в справедливости его слов, освободить его, а пока с ним будут обращаться хорошо.
- А если он не захочет или если не может?
- Я уже сказал вам, что будет в таком случае, и чтобы показать вам, что не шучу, я сейчас же подпишу приговор. Если вы не согласитель на выполнение моего поручения или если ваше вмешательство окажется безуспешным, я в вашем присутствии передам это распоряжение офицеру, и через десять дней вы узнаете о результате или сами сможете убедиться в нем.
- Я пойду, - сказала она, - но мы должны видеться наедине.
- Этого обыкновенно не допускается, - отвечал Монтальво, - но если вы удостоверите меня, что при вас нет оружия, то я сделаю исключение.
Написав приговор и засыпав песком из песочницы - Монтальво во всем любил аккуратность, - он сам, с соблюдением всевозможной вежливости, проводил Лизбету в тюрьму ее мужа и, впустив ее туда, обратился к Дирку ласковым тоном:
- Друг ван-Гоорль, привожу вам гостью, - запер дверь и сам остался ожидать извне.
Не станем описывать того, что произошло в тюрьме: сообщила ли или нет Лизбета мужу о своем ужасном, но вместе с тем спасительном намерении; рассказала ли ему о предательстве Адриана, что они говорили между собой на прощанье и как молились вместе в последней раз, - мы все это, преклонив голову, обойдем молчанием, предоставив читателю дополнить все подробности своим воображением.
Монтальво, потеряв терпение ждать, отпер дверь и увидал, что Лизбета и ее муж стоят рядом посреди комнаты на коленях, подобно изваяниям на каком-нибудь древнем мраморном памятнике. Услыхав шум, они поднялись. Дирк обнял жену последним долгим объятием и затем, выпустив ее, положил одну руку ей на голову, благословляя ее, а другой указал на дверь.
Так невыразимо трогательно было это немое прощание, что не только насмешка, но даже вопрос замер на губах Монтальво. Он не мог выговорить ни слова здесь.
- Пойдемте, - проговорил он наконец. И Лизбета вышла.
В дверях она обернулась и увидала, что муж ее все еще стоит посредине комнаты и из глаз его катятся слезы, но на лице сияет неземная улыбка, а одна рука поднята к небу. В таком положении он стоял, пока она ушла.
Монтальво и Лизбета вернулись в маленькую комнату.
- Я боюсь, на основании виденного, - заговорил Монтальво, - что ваши старания не увенчались успехом.
- Да, не увенчались, - отвечала она голосом умирающей, - тайна, которой вы допытываетесь, неизвестна ему, стало быть, он не может открыть вам ее.
- Очень сожалею, что не могу поверить вам, - сказал Монтальво, - стало быть… - Он протянул руку к колокольчику, стоявшему на столе.
- Остановитесь! - вскричала Лизбета. - Остановитесь ради самого себя. Неужели вы действительно решились на это ужасное бесполезное преступление? Подумайте, что здесь или там вам придется отвечать за него; подумайте, что я, женщина, обесчещенная вами, выступлю свидетельницей перед престолом Всевышнего против вашей обнаженной, содрогающейся души. Подумайте о том, как этот добрый, никому не сделавший зла человек, которого вы собираетесь убить, будет говорить Христу: «Вот он, мой безжалостный убийца»…
- Молчите! - загремел Монтальво, отскакивая к стене, будто стараясь избегнуть удара меча. - Молчи, злая колдунья-вещунья. Поздно, говорю тебе, поздно: руки мои слишком часто обагрялись кровью, на моем сердце слишком много грехов, в уме слишком много воспоминаний. Не все ли равно: одним преступлением больше? Пойми же, мне нужны деньги, деньги, чтобы иметь возможность доставлять себе наслаждения, чтобы счастливо прожить свои последние годы и умереть спокойно. Довольно я страдал и работал: я, теперешний нищий, хочу иметь богатство и отдыхать. Имей ты двадцать мужей, я капля за каплей вытянул бы их жизнь, чтобы добыть золото, которого жажду.
Пока он говорил под впечатлением страсти, прорвавшей оболочку обычной хитрости и сдержанности, его лицо изменилось. Лизбета, зорко наблюдавшая, не заметит ли она следа сострадания, поняла, что всякая надежда потеряна: перед ней было совершенно такое же лицо, как двадцать шесть лет тому назад, когда она сидела рядом с этим человеком во время бега. Точно так же глаза его, казалось, готовы были выкатиться из орбит, те же клыки сверкали из-под приподнятой губы, а над ней усы, теперь седые, поднялись к скулам. Он был как оборотень, имеющий способность при некоторых магических словах и знаках сбрасывать свою человеческую оболочку и превращаться в зверя. Лицо Монтальво превратилось в лицо хищника-волка, но на этот раз на лице волка, которое Лизбете суждено было увидеть вторично в жизни, был написан страх.
Припадок прошел, и Монтальво опустился на стул, с трудом переводя дух, Лизбета же, несмотря на весь свой смертельный страх, содрогнулась при виде этой открывшейся души, преследуемой дьяволом.
- У меня есть еще одна просьба, - сказала она. - Раз муж мой должен умереть, разрешите мне умереть вместе с ним. Неужели вы мне откажете и в этом, переполнив таким образом чашу ваших преступлений и заставив отойти последнего ангела Божиего милосердия?
- Откажу, - отвечал он. - Неужели я могу желать присутствия здесь женщины с таким дурным глазом, чтобы на мою голову обрушились все беды, которые вы мне сулите? Говорю вам, что я боюсь вас. Много лет тому назад ради вас я дал Пресвятой Деве обет, что никогда не подниму руки на женщину. Я свято исполнил свою клятву, и надеюсь, это зачтется мне. И теперь я исполняю свой обет, иначе и вам, и Эльзе не избегнуть бы пытки. Уходите и унесите с собой ваше проклятие. - Он схватил колокольчик и позвонил.
В комнату вошел солдат, отдал честь и ждал приказания.
- Передай этот приказ офицеру, которому поручен надзор за еретиком Дирком ван-Гоорлем. Здесь указан род его казни. Приказания строго выполнять и доносить мне каждое утро о состоянии заключенного. Стой, проводи фроу из тюрьмы.
Солдат снова отдал честь и направился к двери. Лизбета последовала за ним. Она не сказала больше ни слова, но, проходя мимо Монтальво, взглянула на него, и он понял, что и после ее ухода проклятие останется на нем.
Лизбета чувствовала, что чума вступает в свои права: голова и кости во всем теле страшно болели, между тем как несчастное сердце истекало кровью от горя. Однако сознание еще оставалось ясно и ноги еще могли двигаться. Дойдя до дома, Лизбета прошла наверх, в гостиную, и послала служанку за Адрианом, чтобы он пришел к ней.
В комнате она застала Эльзу, которая бросилась к ней навстречу, крича:
- Это правда?.. Правда?..
- Да, правда, что Фой и Мартин бежали.
- О, Господь милосерд! - с плачем сказала девушка.
- А муж мой в тюрьме и приговорен к смерти.
- О! - воскликнула девушка. - Какая я эгоистка!
- Вполне естественно: женщина прежде всего вспомнит о любимом человеке. Не подходи ко мне - у меня, кажется, чума.
- Я не боюсь ее, - отвечала Эльза. - Разве я не говорила, что я болела ею, еще когда была девочкой, в Гааге.
- Вот хоть одна хорошая весть среди всего тяжелого. Не говори ничего, вот идет Адриан, мне надо сказать ему несколько слов. Нет, не уходи, будет лучше, если ты узнаешь всю правду.
Адриан вошел в комнату, и наблюдательная Эльза заметила, что он очень изменился и казался совсем больным.
- Вы посылали за мной, матушка? - начал он, пытаясь сохранить свою обычную манеру говорить свысока, но, взглянув в лицо матери, замолчал.
- Я была в тюрьме, Адриан, - сказала Лизбета, - и имею кое-что сказать тебе. Как ты, может быть, уже слышал, твой брат Фой и наш слуга Мартин бежали неизвестно куда. Они бежали от мучений, худших, чем смерть, из застенка, убив негодяя, известного под именем «профессора», и заколов часового. Мартин унес раненого Фоя на спине.
- Я рад этому, - взволнованным голосом сказал Адриан.
- Молчи, лицемер! - крикнула на него мать, и он понял, что настала для него минута расплаты. - Мой муж, твой отчим, не бежал, он в тюрьме и приговорен к голодной смерти в виду кухни, находящейся против помещения, где я прощалась с ним.
- Боже мой! - воскликнула Эльза, а Адриан застонал.
- По счастливой или несчастной случайности мне пришлось видеть бумагу, в которой мой муж, твой брат Фой и Мартин осуждаются на смерть по обвинению в ереси, возмущении и убийстве королевских слуг, - заговорила Лизбета ледяным голосом, - а внизу стоит засвидетельствованная законными свидетелями твоя подпись… Адриан ван-Гоорль.
У Эльзы челюсть опустилась. Она смотрела на Адриана, как парализованная, между тем как он, схватившись за спинку стула, опирался на нее, покачиваясь взад и вперед.
- Что ты можешь сказать на это? - спросила Лизбета.
Для него, будь он более бесчестен, оставался один исход: отречься от своей подписи. Но это даже не пришло ему в голову, он пустился в несвязное, непонятное объяснение, так как гордость даже в эту ужасную минуту не позволяла ему открыть всю правду в присутствии Эльзы. Ледяное молчание матери приводило его в отчаяние, и он говорил, сам уже не зная что, и, наконец, совершенно замолчал.
- Из твоих слов я поняла, что ты подписал эту бумагу в доме Симона в присутствии некоего Рамиро, смотрителя городской тюрьмы, который показал документ мне, - сказала Лизбета, подняв голову.
- Да, матушка, я действительно подписал что-то, но…
- Я не желаю слышать ничего больше, - прервала Лизбета.
- Руководила тобой ревность или досада, природная злость или страх - все равно, ты подписал такой документ, прежде чем подписать который порядочный человек дал бы себя растерзать на куски. Ты же дал свое показание по доброй воле, я читала это, и приложил как доказательство отрубленный палец женщины Мег, который украл из комнаты Фоя. Ты убийца своего благодетеля и сердца своей матери, ты желал быть убийцей брата и Красного Мартина. Когда ты родился, сумасшедшая Марта, приютившая меня, советовала убить тебя, предсказывая, что ты принесешь много горя мне и всей моей семье. Я отказалась, и ты погубил нас всех, а главное - погубил свою собственную душу. Я не проклинаю тебя, не призываю бед на тебя, но предаю тебя в руки Господни, пусть Он поступит с тобой, как Ему будет угодно. Вот деньги, - она подошла к бюро и вынула из него тяжелый кошель с золотом, приготовленным на случай бегства, и сунула его в карман куртки Адриана, вытерев пальцы платком после прикосновения к нему. - Уходи отсюда и никогда больше не показывайся мне на глаза. Я родила тебя, ты плоть от плоти моей, но перед всем миром я отрекаюсь от тебя. Я не знаю тебя больше! Уходи, убийца!
Адриан упал на колени, он ползал у ног матери, пытаясь поцеловать край ее платья, а Эльза истерически рыдала, Лизбета же оттолкнула его ногой, говоря:
- Уходи, иначе я позову слуг и велю выбросить тебя на улицу!
Адриан поднялся и, шатаясь, как раненый, вышел из комнаты, из дома и, наконец, из города.
Когда он ушел, Лизбета взяла перо и написала крупными буквами следующее объявление:
«Объявление к сведению всех лейденских граждан. Адриан, названный ван-Гоорлем, по письменному доносу которого его отчим Дирк ван-Гоорль, его сводный брат Фой ван-Гоорль и слуга Красный Мартин приговорены в тюрьме к пытке, голодной смерти и обезглавливанию, не имеет более входа сюда. Лизбета ван-Гоорль».
Лизбета позвала слугу и приказала ему прибить это объявление над входной дверью, где каждый проходящий мог прочесть его.
- Сделано, - сказала она. - Перестань плакать, Эльза, и уложи меня в постель, откуда я, Бог даст, уже не встану.
Два дня спустя после описанных событий в Лейден приехал измученный и израненный человек - беглец, лицо которого носило отпечаток ужаса.
- Какие вести? - спрашивала толпа на площади, узнав его.
- Мехлин, Мехлин… - задыхаясь, проговорил он. - Я из Мехлина.
- Что же случилось с Мехлином? - спросил, выступая вперед, Питер ван-де-Верф.
- Дон Фредерик взял его, испанцы перебили всех от старого до малого: мужчин, женщин, детей. Я убежал; но на целую милю я слышал крики тех, кого убивали… Дайте мне вина…
Ему дали вина, и медленно, отрывистыми фразами он передал об одном из ужаснейших преступлений против Бога и себе подобных, когда-либо совершенных злыми людьми во имя Христа. Оно крупными буквами занесено на страницы истории, и нам не нужно передавать здесь его подробности.
Когда все стало известно, толпа лейденцев гневно загудела, послышались крики, требующие мщения. Горожане схватились за оружие, какое у кого было: бюргер - за меч, рыбак - за острогу, крестьянин - за пику, сейчас же нашлись предводители, и раздались крики:
- К Гевангенгузу!.. Освободим заключенных!..
Тысячи людей окружили ненавистное место. Подъемный мост был поднят - навели новый. Из-за стен в толпу было направлено несколько выстрелов, но затем оборона прекратилась. Толпа взломала массивные ворота и бросилась в тюремные камеры освобождать еще живых заключенных.
Испанцев и Рамиро в тюрьме не оказалось: они исчезли неизвестно куда. Кто-то крикнул:
- Где Дирк ван-Гоорль?.. Ищите его!..
Все бросились к камере, выходившей на двор, крича:
- Ван-Гоорль, мы здесь!
Взломали дверь и нашли его лежащим на соломенном матраце со сложенными руками и обращенным кверху лицом: его поразила не рука человека, а чумный яд.
Голодный и без ухода, он умер очень быстро.
Книга третья. ЖАТВА
ГЛАВА XXIII. Отец и сын
Выйдя из дома матери на Брее-страат, Адриан пошел наудачу; он чувствовал себя таким несчастным, что даже не был в состоянии подумать, что ему делать или куда идти. Он очутился у подножия большого холма, известного до нынешнего времени под именем «бурга», странного места с остатками круглой стены на вершине, как говорят, построенной еще римлянами. Он взобрался на холм и лег под одним из росших там дубов на выступе стены. Закрыв лицо руками, он пытался собраться с мыслями.
Но о чем мог он думать? Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо матери, такое ужасное в своем неестественном гневном спокойствии, что он смутно удивлялся, как мог он, отвергнутый сын, вынести этот взгляд Медузы, поразивший его душу. Зачем он остался в живых? Зачем он еще не умер, когда у него на боку есть шпага? Может быть, чтобы доказать, что он невиновен в этом ужасном преступлении? Он невиновен в нем. Ему и в голову не приходило предать Дирка ван-Гоорля, Фоя и Мартина в руки инквизиции. Он только сказал о них человеку, которого считал за астролога и мага, умеющего приготовлять напитки для привораживания женщин. Не его вина, если этот человек оказался членом Кровавого Судилища. Но зачем он говорил так много? Зачем подписал бумагу? Зачем не дал себя убить? Он подписал, и, как не объясняй, он уже никогда не посмеет взглянуть в лицо честному человеку, а тем более женщине, если правда известна ей. Стало быть, он остался в живых не потому, что был невиновен: в его собственных глазах его правота была весьма сомнительна, и не потому, чтобы испугался смерти. Правда, он всегда боялся смерти, но у молодого и впечатлительного человека бывают состояния, когда смерть кажется меньшим из зол. В таком состоянии он находился прошлую ночь, когда наставил было острие меча себе в грудь, но испугался прикосновения этого острия. Теперь это настроение миновало.
Он остался в живых, имея в виду отомстить: он убьет этого пса Рамиро, загипнотизировавшего его своими очками и своей дружеской речью, запугавшего его угрозой смерти до того, что он, как растерявшаяся девчонка, подписью обесчестил себя, он, всегда гордившийся своей испанской кровью, кровью рыцарей. Да, он убьет этого коварного пса, не остановившегося перед тем, чтобы, выпытав от него все, что было нужно, выдать его позор той, от кого его следовало скрывать всего тщательнее, и другим. Теперь Фой, если они когда-нибудь встретятся, плюнет ему в лицо. Фой честен и ненавидит всякую скрытность, он не может представить себе, до какого унижения нервы могут довести человека! А Мартин, всегда не доверявший ему и не любивший его? Он, если представится случай, с наслаждением разорвет его на клочки, как ястреб куропатку. А хуже всего, как отнесется к нему Дирк ван-Гоорль, человек, принявший его в свою семью, воспитавший его как родного, хотя он был сыном его соперника! Вот он сидит теперь в тюрьме; щеки его с каждым днем впадают все больше и больше, тело все больше и больше худеет, пока, наконец, не превратится в живой скелет; он сидит, смотря на кушанья, которые проносят мимо, и среди мучений долгой, ужасной агонии возносит молитвы к небу, прося воздать Адриану за все зло, причиненное им!
Адриан не мог дольше выносить этих мыслей, он лишился чувств и обрел то спокойствие, которое в наши дни испытывают люди, приготовляемые к ножу хирурга, спокойствие, от которого они часто просыпаются для более острых страданий.
Придя в себя, Адриан заметил, что ему холодно: наступил осенний вечер, и в воздухе чувствовался как бы мороз. Голод также давал себя знать; Адриан вспомнил, что и Дирк ван-Гоорль теперь, вероятно, голоден. Он решился пойти в город поесть и потом придумать, что ему делать.
Адриан отправился в лучшую городскую гостиницу и, сев к столу под деревьями перед домом, велел слуге подать кушанья и пиво. Бессознательно он принял свой обычный насмешливо-высокомерный тон испанского гидальго, но тотчас же, несмотря на свое расстройство, с негодованием заметил, что слуга не поклонился ему, а только приказал принести требуемое из дома и, повернувшись спиной к Адриану, заговорил с одним из посетителей.
Скоро Адриан заметил, что он служит предметом разговора: разговаривавшие косились на него и указывали на него пальцами.
Мало-помалу к двум собеседникам присоединилось еще несколько, и они начали рассуждать о чем-то, по-видимому, сильно интересовавшем всех. Собралась также дюжина мальчишек и несколько женщин, и все стали коситься и указывать на него. Адриану стало неловко, он начал сердиться, но, надвинув шляпу на глаза и скрестив руки на груди, сделал вид, что ничего не замечает. Слуга принес ему ужин, но так грубо сунул ему кушанья и пиво, что оно расплескалось по столу.
- Осторожнее, да вытри! - приказал Адриан.
- Сам вытри, - ответил слуга, дерзко поворачиваясь на каблуках.
Первым движением Адриана было встать, но он был голоден и решил прежде поужинать. Он взял кружку и стал жадно пить, как вдруг что-то упало на дно кружки, так что пиво снова расплескалось и залило его платье. Он опустил кружку и, схватившись за меч, спросил, кто смел помешать ему пить. Из толпы не раздалось ни шуток, ни насмешек, она казалась слишком серьезно настроенной, но голос из задних рядов крикнул:
- Это тебе за Дирка ван-Гоорля. Ему пища скоро понадобится.
Адриан понял. Все знали об его позоре, всему Лейдену было известно случившееся с ним. Слова замерли у него на губах и рука выпустила меч. Как ему было поступить? Сделать вид, что он относится с презрением к происшедшему? Он попробовал было приказать подать себе новую порцию, но слова не шли у него с языка. Толпа заметила его колебание и, выводя из него заключение об его виновности, разразилась криками и бранью.
- Предатель!.. Испанский шпион!.. Убийца!.. - раздалось со всех сторон. - Кто донес на нашего Дирка?.. Кто предал брата на пытку?..
Затем раздались еще более резкие ноты:
- Убить его!.. Повесить вниз головой!.. Побить камнями!.. Вырвать у него язык!..
Из толпы к нему протянулась длинная женская костлявая рука, и пронзительный голос закричал:
- Дай-ка нам подарочек, красавчик!
Адриан почувствовал, как у него вырвали клок волос. Это было уже слишком! Он должен был подняться и дать себя убить, но вдруг его охватил страх перед этими волками в человеческом образе. Быть растоптанным этими грубыми сапогами, быть разорванным на клочки этими грязными руками, очутиться повешенным за ноги - нет, он не мог покориться этому! Он выхватил меч и приготовился бежать.
- Держи его! - раздалось из толпы.
Он же рванулся вперед, налетев на мальчика, старавшегося задержать его, расставив руки.
Вид крови и крик раненого мальчика решили вопрос, и толпа ринулась на Адриана, но он был проворен и, прежде чем чья-то рука успела схватить его, он уже бежал по улице, преследуемый градом каменьев и грязи. Толпа бежала за ним, и началась одна из самых отчаянных травлей человека, когда-либо виданных Лейденом.
Адриан поворачивал из улицы в улицу, за один угол и за другой, а позади плотной массой бежали его преследователи. Несколько женщин протянули через улицу веревку, чтобы остановить его, - он перепрыгнул через веревку, как олень. Четыре человека пытались задержать его, забежав вперед, - он вырвался и побежал по Брее-страат. Здесь, на двери дома своей матери, он увидел бумагу и догадался, что это было. Толпа, однако, настигла его, к ней приставали все новые и новые лица. Теперь ему оставалось одно спасение - Рейн был близко, в этом месте он был широк и моста не было. Может быть, его преследователи не решатся полезть за ним в воду? Адриан бросился в реку и поплыл. За ним вдогонку полетели камни и куски дерева, но, к счастью Адриана, ночь стала быстро спускаться, и он скоро исчез из глаз толпы. До него долетели крики стоявших на берегу, возвещавшие, что он утонул.
Однако Адриан не утонул. Он с трудом выбрался через тинистую грязь на противоположный берег и, спрятавшись между старыми лодками и наваленным лесом, ждал, пока несколько придет в себя. Однако долго он не мог оставаться здесь: стало слишком холодно. Он потащился дальше в совершенной темноте.
Полчаса спустя, когда Симон-Мясник и его супруга, Черная Мег, уселись отдыхая от дневных трудов, за ужин, у дверей их дома раздался стук. Они выронили ножи и испуганно переглянулись.
- Кто это может быть? - проговорила Мег.
Симон покачал своей круглой головой.
- Я никого не жду, - сказал он, - и не люблю непрошеных гостей. В городе скверный дух!
- Поди посмотри! - приказала Мег.
- Ступай сама… - он добавил эпитет, способный взбесить самую кроткую женщину.
Мег отвечала ругательством и пустила металлическую тарелку в лицо мужу, но прежде чем ссора успела разгореться, снова у двери раздался стук колотушки и на этот раз все сильнее и сильнее. Черная Мег пошла отпереть, между тем как Симон спрятался за занавеску. Обменявшись несколькими словами шепотом с посетителем, Черная Мег пригласила его войти в комнату, ту самую роковую комнату, где Адриан подписал свой донос. Теперь при свете Мег узнала его.
- Симон, иди сюда, это наш графчик! - закричала она.
Симон вышел, и почтенная парочка, подперши бока руками, разразилась хохотом.
- Это наш дон… наш дон… - задыхаясь, повторял Симон.
Смех их, видавших Адриана высокомерным, в богатом платье, был вполне естествен при виде этого несчастного, стоявшего, прижавшись к стене, с волосами, слипшимися от грязи, разбитым виском, из которого сочилась кровь, в изорванном платье, пропитанном грязью и водой, в одном сапоге. С минуту беглец сносил их насмешки, но затем, обнажив меч, вдруг, не говоря ни слова, бросился на скотоподобного Симона. Тот побежал вокруг стола.
- Перестаньте смеяться, - закричал Адриан, - или познакомитесь с этим! Я теперь на все готов.
- Это заметно, - отвечал Симон, уже не смеясь, так как видел, что шутить дальше рискованно. - Что вам угодно, герр Адриан?
- Угодно, чтобы вы дали мне кров и пищу, пока мне вздумается оставаться здесь. Не бойтесь, у меня есть деньги, чтобы заплатить.
- Вы опасный гость, - вмешалась Мег.
- Знаю, - отвечал Адриан, - только, если я буду на улице, я буду еще опаснее: не я один замешан в доносе, и если меня захватят, то доберутся и до вас. Понимаете?
Мег кивнула. Она прекрасно понимала. Лейден становился опасным местопребыванием для людей, занимавшихся ее ремеслом.
- Постараемся устроиться, мейнгерр, - сказала она. - Пройдите наверх, в комнату мага, и переоденьтесь в его платье: оно будет вам впору, вы почти одинакового роста.
У Адриана дыхание сперло в горле.
- Он здесь? - спросил он.
- Нет, но комната за ним.
- Он заходит к вам?
- Думаю, что будет заходить, раз оставил комнату за собой. Вам нужно видеть его?
- Очень нужно!.. Но вы не говорите ему. Мое дело может подождать, пока мы встретимся. Высушите мое платье как можно скорее, я не люблю носить чужое.
Четверть часа спустя Адриан, обсохший и почистившийся, уже не похожий на беглеца, за которым гонится толпа, вернулся в гостиную.
Когда он вошел, одетый в платье Рамиро, Мег толкнула мужа и прошептала:
- Правда, похожи?
- Как два дьявола в аду, - отвечал Симон критически и прибавил: - Ужин готов, мейнгерр, садитесь и кушайте.
Адриан поел с аппетитом: мясо и вино были хорошие, а он был голоден. Ему доставило грустное удовольствие сознание, что он может еще наслаждаться чем-нибудь, будь то хоть еда и питье.
Поужинав, он передал хозяевам случившееся, или то, что считал нужным передать, и затем отправился спать, спрашивая себя, не убьют ли его хозяева во время сна, чтобы овладеть бывшим при нем кошельком с деньгами. Он даже надеялся на это и крепко проспал целых двенадцать часов.
Следующий день до самого вечера Адриан просидел в доме шпионов, отдыхая и раздумывая о своем падении. Черная Мег сообщала о происходившем в городе. От нее Адриан узнал, что мать его заболела чумой и что приговор о голодной смерти застал бездыханное тело Дирка ван-Гоорля. Он узнал также подробности бегства Фоя и Мартина, составлявшие предмет всеобщего разговора в городе. В глазах народа беглецы сделались героями, и кто-то даже сочинил на этот сюжет песенку, которую распевали на улицах. Два стиха ее относились к Адриану, и Черная Мег повторила их ему со скрытым злорадством. Да, брат его превратился в народного героя, а он, Адриан, стоявший бесконечно выше его, стал предметом всеобщего презрения. И во всем этом был виноват Рамиро.
Адриан ждал Рамиро. Ради этого он рисковал оставаться в Лейдене. Рано или поздно Рамиро заглянет в этот дом, и тогда… Адриан вынул свою рапиру, отпарировал и, наконец, прошипев угрозу, воткнул ее в пол, воображая, что горло Рамиро находится между острием оружия и досками. Конечно, в поединке, который неминуемо должен состояться, Рамиро, без сомнения искусно владеющий оружием, может взять верх, и под острием может очутиться горло Адриана. Но хотя бы и так? Ему все равно. Он решился показать себя Рамиро, а там пусть пойдет к дьяволу он сам, или Рамиро, или оба вместе.
Под вечер второго дня Адриан услыхал крики на улице, и вошедший Симон рассказал, что прибыл человек с дурными вестями из Мехлина. Пока он еще не знал подробностей и отправился разузнать их.
Прошло несколько часов, и снова раздались крики, на этот раз более определенные. Черная Мег пришла и рассказала об избиении жителей Мехлина и о восстании лейденцев, направившихся к городской тюрьме. Затем она снова убежала: где вода мутилась, там Черная Мег ловила рыбу.
Прошел еще час, снова кто-то отворил входную дверь ключом и осторожно запер, войдя.
«Симон или Мег», - подумал Адриан; но не будучи вполне уверен, он из предосторожности спрятался за занавеску.
Дверь комнаты отворилась, и вошел Рамиро. Теперь настал удобный случай для Адриана. Маг казался расстроенным. Он сел на стул и начал обтирать лоб шелковым платком, а затем, потрясая кулаком в воздухе, начал проклинать всех и вся, главное же - лейденских граждан. После того он снова погрузился в молчание и сидел, неопределенно смотря в пространство и крутя свои седые усы.
Теперь наступила минута, которой Адриану следовало воспользоваться: ему стоило выйти из-за занавески и приколоть Рамиро прежде, чем тот успеет подняться со стула. План имел много привлекательного, и Адриан привел бы его в исполнение, если бы его не остановило соображение, что убитый таким образом Рамиро никогда не узнает, за что он убит, а Адриан непременно желал, чтобы он знал это. Он желал не только отомстить Рамиро, но желал, чтобы тот знал, за что Адриан мстит ему. Кроме того, надо отдать справедливость Адриану, он предпочитал открытый поединок удару из-за угла: люди благородные бьются, а убийцы нападают сзади.
Выбрав удобный момент, Адриан вышел из-за занавески и стал между Рамиро и дверью, которую запер на задвижку, чтобы никто не прервал их свидания. При шуме Рамиро вздрогнул и поднял глаза. В минуту он понял свое положение, его загорелое лицо побледнело, так как он знал, что опасность велика, но он смело взглянул ей в лицо, как дворянин, стяжавший большую, разнообразную опытность на своем веку.
- Герр Адриан ван-Гоорль, - сказал он. - Я рад видеть своего ученика и друга, но позвольте вас спросить, зачем вы в этой тесной комнате, хотя времена, правда, неспокойные, и так угрожающе размахиваете обнаженной рапирой?
- Негодяй, ты знаешь, зачем! - отвечал Адриан. - Ты предал меня и моих родных, опозорил меня… В награду я убью тебя.
- Вижу, опять это дело ван-Гоорля, - сказал Рамиро. - Ни на полчаса мне нет от него покоя. Ну, прежде чем вы приступите к выполнению вашего намерения, вам, может быть, интересно будет узнать, что ваш почтенный батюшка, попостившись несколько дней, теперь, вероятно, находится на свободе, так как чернь взяла приступом Гевангенгуз. Однако я не могу скрыть, что он сильно страдает от чумы, которую ваша матушка, со свойственной ей находчивостью, передала ему, считая подобный конец для него более приятным, чем тот, который был назначен ему законом.
Все это медленно говорил Рамиро, все время стараясь встать так, чтобы свет из окна падал на его противника, между тем как он сам оставался в тени, что, как он знал по опыту, очень удобно при поединке.
Адриан не отвечал, но поднял меч.
- Одну минуту, молодой человек, - продолжал Рамиро, в свою очередь обнажая оружие и становясь в позицию. - Вы серьезно хотите драться?
- Да, - отвечал Андиан.
- Какой же вы глупец после того, - заявил Рамиро. - Почему вы в ваши годы ищете смерти? Ведь у вас против меня столько же шансов, сколько у крысы против терьера. Смотрите! - Он коварно направил свой меч прямо в сердце своему противнику, но Адриан был настороже и отпарировал удар.
- Я знал, что вы сделаете это, - сказал Рамиро, - я бы не промахнулся, но все ангелы знают, что я не желаю ранить вас. - Про себя же он подумал: «Молодец опаснее, чем я предполагал, теперь дело идет о жизни. Старая ошибка: слишком высоко наметил».
Но тут Адриан бросился на него как тигр, и в следующие полминуты в комнате не было ничего слышно, кроме звона стали и усиленного дыхания сражающихся.
Сначала удача была на стороне Адриана, он нападал ожесточенно, и его более старому противнику приходилось только обороняться. Отпарировав выпад Рамиро, Адриан слегка ранил его в левую руку. Царапина, видимо, разгорячила Рамиро: он перестал обороняться и начал нападать. Искусство и сила пришли ему на помощь. Адриану пришлось медленно отступать перед ним, пока уже двигаться почти было некуда в тесной комнате, и вдруг, споткнувшись или потеряв силы, он кубарем полетел к противоположной стене. С гортанным криком торжества Рамиро бросился к нему, намереваясь покончить с ним, пока Адриан еще не успел встать в позицию, но задел ногой за стул, опрокинутый во время борьбы, и во всю длину растянулся на полу.
Теперь настала очередь Адриана воспользоваться минутой. В одно мгновение он очутился возле Рамиро и приставил острие рапиры к его горлу. Однако он не заколол его сразу - не из сожаления, а из желания перед смертью помучить своего врага: подобно всем своим соплеменникам Адриан мог делаться мстительным и кровожадным, когда в нем просыпалась жажда мести. Рамиро быстро осознал свое положение. Физически он был беспомощен, потому что Адриан одной ногой наступил ему на грудь, а другой - на рукоять его меча и не отнимал острия от его горла. Приходилось пустить в ход хитрость.
- Готовьтесь умереть! - сказал Адриан.
- Еще рано, - отвечал Рамиро.
- Как это? - с изумлением спросил Адриан.
- Потрудитесь немного приподнять острие - оно колет меня. Благодарю вас. Теперь я вам объясню, почему я говорю так. Потому что вообще не принято, чтобы сын мог заколоть отца, как первую попавшуюся свинью…
- Сын?.. Отца?.. - спросил Адриан. - Разве?
- Да, мы имеем счастье состоять в таких священных отношениях друг с другом.
- Вы лжете! - закричал Адриан.
- Дайте мне встать и взяться за меч, тогда вы поплатитесь за это слово. Никто еще не говорил графу Жуану де Монтальво, что он лжет, оставаясь после того в живых.
- Докажите это, - сказал Адриан.
- В моем настоящем положении, до которого меня довела несчастная случайность, а не неумение, я не могу доказать ничего. Но если вы сомневаетесь, спросите у своей матери или у наших хозяев, или загляните в церковные книги Гроте-кирк, не найдете ли вы там под числом, которое я сообщу вам, запись о браке Жуана де Монтальво и Лизбеты ван-Хаут, от какового брака и родился сын Адриан. Я докажу вам это. Не будь я вашим отцом, разве спастись бы вам из рук инквизиции и разве не проколол бы я вас дважды в последние пять минут? Вы, правда, хорошо деретесь, но все же вам далеко до меня.
- Если вы даже отец мне, почему мне не убить вас, после того как вы угрозой заставили меня сделать, что хотели? Вы опозорили меня, из-за вас за мной гнались по улицам, как за бешеной собакой, из-за вас мать отреклась от меня! - Адриан смотрел так свирепо и так низко опустил меч, что Рамиро почти потерял надежду.
- На все это могут найтись объяснения в душе человека религиозного, - сказал он, - но я приведу вам один довод, касающийся вашей личной выгоды. Если вы убьете меня, проклятие, постигающее отцеубийцу, будет над вами и в здешней и в будущей жизни…
- Надо мной уже тяготеет более тяжелое проклятие, - начал было Адриан, но в голосе его послышалось колебание: Рамиро, искусно умевший играть людскими сердцами, затронул настоящую струну, и суеверие Адриана отозвалось.
- Будь благоразумен, сын мой, - снова начал Рамиро, - и останови свою руку, прежде чем совершить дело, которому ужаснется сам ад. Ты думаешь, что я враг тебе, но ты ошибаешься, все это время я старался делать тебе добро, но как я могу объяснить тебе все, лежа, как теленок под ножом мясника? Отложи в сторону мой меч и свой и дай мне сесть, тогда я сообщу тебе план, который послужит на пользу нам обоим. Или, если хочешь, то коли скорей! Я не намерен умолять тебя о жизни - это недостойно испанского гидальго. И что такое жизнь для меня, знавшего столько горя? Боже, Ты всевидящий, прими мою душу и, молю Тебя, прости этому юноше его ужасное преступление - он не в полном разуме и впоследствии раскается в своем поступке.
Рамиро выпустил из руки меч, уже бесполезный ему. Придвинув его к себе концом своего оружия, Адриан нагнулся и поднял его.
- Встаньте, - сказал он, снимая ногу. - Я могу убить вас после, если захочу.
Если бы он мог заглянуть в сердце своего отца, с трудом поднявшегося на ноги, он не стал бы откладывать своей мести.
«Здорово же ты напугал меня, мой друг, - подумал Рамиро, - но теперь опасность миновала, и если я не отплачу тебе, то твое имя не Адриан».
Встав и отряхнувшись, Рамиро уселся на стул и заговорил очень серьезно. Во-первых, он с самой убедительной чистосердечностью доказывал, что, заставляя Адриана действовать в своих интересах, он и не подозревал, что Адриан его сын. Конечно, доводы были не выдерживающими критики, но для Рамиро главное было выиграть время, а Адриан слушал. Рамиро рассказал, что только после того, как мать Адриана случайно, а вовсе не по его желанию увидала документ, которым уличался ее муж, он узнал, что Адриан ван-Гоорль ее сын, а также его, Рамиро, собственный. Однако, - поспешил он прибавить, - все это теперь уже старая история и не имеет никакого значения в настоящем. Благодаря волнению черни, заставившей его покинуть свой пост в крепости, он, Рамиро, находится временно в затруднительных обстоятельствах, Адриан же опозорен. Вот поэтому он хочет сделать Адриану одно предложение. Почему им не соединиться, почему естественной связи, существующей между ними и чуть было не порванной мечом - о чем оба они должны сожалеть, - не перейти в действительную нежную привязанность? Он, отец, имеет положение, большую опытность, друзей и виды на огромное состояние, которым, конечно, не может вечно пользоваться. На стороне же сына молодость, красота, приятные, изысканные манеры, образование светского человека, ум и честолюбие, которые поведут его далеко, а в ближайшем будущем доставят ему возможность приобрести расположение молодой особы, столь же доброй, как простота.
- Но она ненавидит меня, - сказал Адриан.
- Вот и видно, что ты еще неопытен, - со смехом сказал Рамиро. - Как легко юность приходит в восторг и впадает в уныние! Сколько я знаю счастливых браков, начавшихся подобной ненавистью! Дело это устроится, даю слово. Если ты хочешь жениться на Эльзе Брант, я помогу тебе, если не хочешь, никто тебя не заставляет.
Адриан задумался, и так как в нем была практическая жилка, то спросил:
- Вы говорили об огромном богатстве, на которое имеете виды. Что это за богатство?
- Я скажу тебе, - шепотом начал родитель, осторожно осматриваясь. - Я имею намерение отыскать огромные сокровища Гендрика Бранта - поиски его лежат в основе всех постигших меня теперь неприятностей. Видишь, как я был откровенен с тобой: ведь если ты женишься на Эльзе, все это богатство по закону будет твоим, и я могу только получить из него столько, сколько тебе угодно будет дать мне. В нашем гербе стоит девиз: «Вверься Богу и мне». Поэтому я предоставляю решение твоему чувству чести, которое никогда не ослабевало в роду Монтальво. Не все ли равно, кто законный владетель состояния, раз оно находится в семье?
- Конечно, все равно, - мельком ответил Адриан, - я не коммерческий человек.
- Ну и прекрасно! - продолжал Рамиро. - Однако мы заговорились, и если мне суждено жить, то есть дела, которыми я должен заняться. Ты слышал все, что я имел сказать, и меч в твоих руках, я тоже в твоих руках и отпущен только под честное слово. Прошу же тебя, реши скорее. Только если ты намереваешься прибегнуть к оружию, то позволь мне указать тебе, куда целиться, - я не желаю бесцельных мучений.
Он встал и поклонился вежливо и с достоинством. Адриан взглянул на него и поколебался.
- Я не доверяю вам, - сказал он, - вы
уже раз обманули меня и, думаю, обманете во второй раз. Я не особенно высокого мнения о людях, которые, переодетые и под чужим именем, устраивают западни, чтобы добыть свидетельство. Но я попал в плохое место, и у меня нет друзей. Я хочу жениться на Эльзе и вернуть себе положение, которое занимал в обществе, кроме того, вы сами понимаете, я не могу перерезать хладнокровно горло родному отцу, - Адриан бросил один из мечей.
- Я и не ожидал другого решения от такого благородного характера, сын мой Адриан! - заметил Рамиро, поднимая свой меч и вкладывая его в ножны. - Но теперь, прежде чем мы заключим окончательный союз, я должен предложить тебе два условия.
- Какие они? - спросил Адриан.
- Во-первых, чтобы между нами существовали такие дружеские отношения, какие должны существовать между сыном и отцом, - отношения, не допускающие никакой утайки. Второе условие может показаться тебе несколько тяжелым. Несмотря на то, что судьба вела меня по каменистому пути и неизвестно, что еще готовит мне в будущем, была всегда одна вещь, которую я всегда хранил свято и в чистоте и которая, в свою очередь, не раз в тяжелую минуту награждала меня за мою приверженность, - моя вера. Я католик и желал бы, чтобы сын мой был также католиком, эти ужасные заблуждения - поверь мне - так же опасны для души, как теперь они опасны для тела. Могу ли я надеяться, что ты, воспитанный, но не рожденный в ереси, согласишься учиться правилам истинной веры?
- Конечно, можете! - почти с увлечением воскликнул Адриан. - Надоели мне эти собрания, пения псалмов и постоянное опасение попасть на костер. С тех пор как помню себя, я всегда желал быть католиком.
- Твои слова делают меня счастливым человеком, - сказал Рамиро. - Позволь мне отпереть дверь: я слышу, наши хозяева возвращаются. Почтенный Симон и фроу Мег, прошу вас принять участие в веселом событии: этот молодой человек - мой сын, и в знак моей отеческой любви, которой он пожелал, я обнимаю и целую его в вашем присутствии.
Черная Мег, с изумлением смотревшая на Рамиро из-за плеча Адриана, вдруг увидала, что его единственный глаз быстро закрылся. Неужели дон Рамиро сделал ей знак?
ГЛАВА XXIV. Марта произносит проповедь и открывает тайну
Два дня спустя после своего примирения с отцом Адриан был принят в лоно католической Церкви. Приготовления были кратки: они состояли из трех свиданий с монахом, которого приводили ночью. Наставник нашел в своем ученике такую готовность воспринять его учение и такие способности, что по намеку Рамиро, которого его собственные соображения, не имевшие ничего общего с религией, заставляли желать скорейшего присоединения сына к католичеству, он объявил излишним продолжать период испытания. Поэтому в сумерки третьего дня - при тогдашнем настроении общества они не решались показываться днем, - Адриана отвели в баптистерию Гроте-кирке, где он исповедался в своих грехах аббату, отцу Доминику, что оказалось простой формальностью, так как список грехов, приготовленный Адрианом, был выслушан весьма быстро. Так, ко всем его винам перед родными, в том числе и преданию отчима, монах отнесся весьма легко; впоследствии Адриан узнал, что с церковной точки зрения подобные преступления считались скорее даже подвигами. Серьезно было принято только его отречение от еретических заблуждений, и, получив удовлетворительные ответы в этом отношении, исповедник дал раскаявшемуся грешнику полное отпущение.
Затем был совершен обряд крещения со всеми формальностями, какие были возможны по обстоятельствам. При церемонии присутствовало несколько священников; воспреемниками были его отец и Симон, получивший хорошую плату за труд. Во время совершения обряда произошло неожиданное событие. С самого начала на площади перед церковью слышался топот ног и раздавались голоса толпы, теперь же эта толпа начала стучать в дверь и бросать камни в цветные окна, разбивая чудные древние стекла. Вдруг в баптистерию вбежал один из прислужников и шепнул аббату что-то на ухо, от чего тот побледнел и поспешил окончить обряд.
- Что такое? - спросил Рамиро.
- К несчастью, сын мой, эти собаки-еретики увидали, как вы или наш новоприсоединенный брат, не знаю наверное кто из вас, вошел в это священное место, и теперь окружили церковь, требуя вашей крови, - отвечал монах.
- Так надо бежать! - сказал Рамиро.
- Сеньор, это невозможно, - вмешался дьячок, - все выходы охраняются ими. Слышите?..
В эту минуту раздался усиленный стук в дубовую дверь.
- Не может ли выше преподобие обратиться к ним с внушением? - спросил Рамиро. - Иначе… - Он пожал плечами.
- Будем молиться, - сказал один из монахов дрожащим голосом.
- Конечно!.. Только лучше бы прежде уйти. Вероятно, впрочем, в церкви найдутся потайные помещения, если же мы останемся здесь, нас перережут.
Тогда дьячок, весь дрожа, побелевшими губами прошептал:
- Идите за мной все. Постойте. Потушите огни.
Все свечи были погашены, и, взявшись за руки, они в темноте пошли за дьячком, не зная куда. Они пробирались по пустой церкви, где их шаги гулко раздавались среди тишины, составлявшей резкий контраст с шумом голосов снаружи и стуком в дверь. Один из монахов, толстый аббат Доминик, отстал от прочих и пробирался вперед, протягивая руку в пространство и взывая к остальным. Дьячок было отозвался, но Рамиро сердито приказал ему молчать, прибавив:
- Ты хочешь, чтобы всех нас растерзали из-за монаха?
Они продолжали идти, и крики Доминика слабели в отдалении и, наконец, совершенно покрылись ревом, раздававшимся снаружи.
- Здесь, - сказал дьячок, ощупав пол руками, и при слабом свете луны, проникшем в эту минуту через окно на хорах, Адриан увидал перед собой дыру в полу.
- Спускайтесь, там есть ступени, - сказал проводник. - Я задвину камень.
Один за одним они спустились по шести или семи узким ступеням в темное помещение.
- Где мы? - спросил один из монахов, когда дьячок, задвинув камень, присоединился ко всем.
- В фамильном склепе графа ван-Валькенберга, которого ваше преподобие похоронили три дня тому назад. К счастью, каменщики еще не заделали вход. Если вашему сиятельству душно, - обратился он к Адриану, - станьте на гроб почтенного графа: вам будет легче дышать.
Адриан задыхался; он воспользовался указанием, причем открыл, что над самой его головой находилась какая-то каменная резьба с мелкими отверстиями, вероятно, доски мраморной гробницы, находившейся в церкви над полом. Через эти отверстия был виден лунный свет, дрожавший на полу хоров. В то время как Адриан смотрел в одно из этих отверстий, он услыхал рядом с собой голос монаха:
- Слышите?.. Двери выломаны. Помоги нам, святой Панкратий. - И монах, опустившись на колени, начал усердно молиться.
Уступив ударам, большие двери с треском растворились, и толпа ворвалась в храм. Она хлынула с ревом и гулом, как поток, прорвавший плотину, с факелами, фонарями на шестах, топорами, секирами и мечами в руках, и дошла до дубового иконостаса чудной резной работы, перед которым, возвышаясь на шестьдесят футов над полом церкви, стояло Распятие с фигурами Пресвятой Девы и св. Иоанна по сторонам. Здесь вдруг величие и тишина святого места, с детства знакомого каждому, с его нишами, в которых отдавалось эхо, с его освещенными луной цветными стеклами, неугасаемыми лампадами, подобно огням рыбачьих лодок, мерцающим среди темных вод, казалось, охватили толпу. Как при священном голосе, раздавшемся среди темноты с неба, разбушевавшиеся волны и ветер утихли, так теперь при виде священных изображений Христа, стоящего с поднятыми руками над алтарем, распятого в терновом венце на кресте, молящегося до кровавого пота в саду Гефсиманском, восседающего за Тайной вечерей и произносящего заповедь: «Возлюбите друг друга, как Я возлюбил вас», возбужденная толпа вдруг стихла.
- Их нет здесь; уйдем! - раздался голос.
- Нет, они здесь, - возразил другой женский голос, в котором слышалась жажда мести. - Я следила за ними до самых дверей, я видела убийцу - испанца Рамиро, шпиона Симона, предателя Адриана и монахов, монахов, наших мучителей.
- Пусть их накажет Господь, - сказал первый голос, показавшийся знакомым Адриану. - Мы сделали довольно, разойдемся по домам.
Раздался ропот.
- Пастор прав. Слушайтесь пастора Арентца.
Более умеренные из толпы собирались разойтись, как вдруг с противоположного конца церкви раздался крик:
- Вот один из них. Ловите его!
Через минуту окруженный людьми с факелами появился аббат Доминик. Глаза его выступали из орбит, а разорванная ряса волочилась по полу. Измученный и испуганный, он бросился к подножию фигуры святого и молил о пощаде, пока десяток рук снова не поставили его на ноги.
- Выпустите его, - сказал пастор Арентц. - Мы боремся против Церкви, а не против ее служителей.
- Выслушайте сначала меня, - раздался женский голос, говоривший прежде, и все головы обратились к кафедре, где появилась седая костлявая старуха со сверкающими глазами, желтыми зубами и лицом, вытянутым вперед, как у лошади, а по обеим сторонам ее стояли две женщины с факелами в руках.
- Это «Кобыла»! - раздались возгласы. - Марта с моря. Продолжай, Марта. На какой текст будет твоя проповедь?
- Кто проливает кровь человеческую, того кровь также прольется, - отвечала она звучным, торжественным голосом, и тотчас же кругом водворилось полное молчание. - Вы называете меня «Кобылой», - продолжала она. - А знаете ли вы, почему мне дали это прозвище? Они назвали меня так, вытянув мне губы вперед и изуродовав клещами мое красивое лицо. А знаете ли, что они принудили меня сделать? Они заставили меня нести моего мужа на спине на костер, говоря, что кобыла для того и создана, чтобы на ней ездили. И знаете, кто сказал это? Этот самый монах, который теперь стоит перед вами.
Когда она произнесла эти слова, страшный крик ярости огласил своды церкви. Марта подняла руки, и снова водворилась тишина.
- Это сказал он, святой отец Доминик. Пусть он опровергнет мои слова. Что? Он не узнает меня? Может быть, и нет, время, горе, расстройство, горячие клещи изменили лицо фроу Марты ван-Мейден, которую называли Лилией Брюсселя. Взгляните на него теперь! Он вспомнил Лилию Брюсселя. Он вспомнил ее мужа и ее сына, которых он сжег. Да будет Бог судьей между нами. Сделайте с этим дьяволом, что Бог укажет вам!.. Где же другие? Где Рамиро, смотритель Гевангенгуза, много лет тому назад потопивший бы меня подо льдом, если бы фроу ван-Гоорль не купила мою жизнь, где он, приговоривший ее мужа, Дирка ван-Гоорля, к голодной смерти? Сделайте с ним, что Бог укажет вам!.. А где третий, полуиспанец, предатель Адриан, носивший фамилию ван-Гоорля, которого привели сегодня сюда, чтобы присоединить к католической церкви, и который подписал донос, послуживший обвинению Дирка ван-Гоорля и приведший в тюрьму его брата Фоя, откуда его спас Красный Мартин. Сделайте с ним, что Бог укажет вам!.. А четвертый, Симон-шпион, руки которого уже много лет обагряются кровью невинных? Симон-Мясник… шпион…
- Довольно, довольно! - ревела толпа. - Веревку, веревку! Повесить его на Распятии!
- Друзья мои, - закричал Арентц, - отпустите его. «Я воздам», - говорит Господь.
- Пусть так, а мы ему прежде дадим задаточек! - раздался голос. - Молодец, Ян… Куда взобрался!
Все подняли головы и увидали в шестидесяти футах над своими головами на одной из перекладин креста сидящего человека со связкой веревок за плечами и свечой, привязанной на лбу.
- Упадет, - сказал кто-то.
- Ну, вот. Это Ян, кровельщик, он может висеть в воздухе, как муха.
- Держите конец, - раздался тонкий голос сверху.
- Пощадите! - молил несчастный монах, когда палачи схватили его.
- А ты пощадил герра Янсена несколько месяцев тому назад?
- Я радел о спасении его души, - оправдывался доминиканец.
- А теперь мы порадеем о твоей душе, твоим же средством полечим тебя.
- Пощадите!.. Я вам укажу, где остальные.
- Где же? - спросил один человек, выступая вперед и отстраняя товарищей.
- Спрятаны в церкви… в церкви…
- Мы знали это, собака-предатель! Ну, спасайте его душу! «Лошадь для того, чтобы на ней ездили», - говорил ты. - А «ангел должен уметь летать», - говорим мы. - Ну, взвивайся!
Так кончил свою жизнь аббат Доминик в руках мстившей ему толпы. Она была свирепа и кровожадна, и читатель не должен думать, что все ужасы этих дней падали исключительно на голову инквизиции и испанцев. Приверженцы новой Церкви также совершали вещи, от которых мы приходим в ужас. В извинение им можно сказать только то, что они в сравнении со своими притеснителями были, как отдельные деревья в сравнении с лесной чащей, и что преследования, которым они подвергались, и страдания, которые испытывали, доводили их до сумасшествия. Если бы наших отцов, мужей и братьев сжигали на кострах, замучивали в подземельях инквизиции или избивали тысячами при разграблении городов; если бы наших жен и дочерей позорили, наши дома сжигали, достояние разграбляли, права попирали, дома опустошали, то не было бы ничего удивительного, если бы мы, даже в настоящие времена, сделались жестокими, когда бы дело коснулось нас. Благодаря Богу, насколько мы можем предвидеть, цивилизованное человечество никогда больше - разве только в случае какого-нибудь внезапного и ужасного общественного переворота - не подвергнется подобному испытанию.
Высоко в воздухе на одной из перекладин креста висел мертвый монах, подобно возмутившемуся матросу, вздернутому на мачту корабля, который он собирался предать. Но его смерть не успокоила ярости торжествующей толпы.
- Где другие? - кричали все. - Найдите других.
И люди бегали с факелами и фонарями по большой церкви; они побывали на хорах, обшарили ризницу, все часовни и, не найдя ничего, снова крича и жестикулируя, собрались в притворе.
- Приведите собак! - закричал голос. - Они чутьем найдут.
Собак привели, они с лаем бегали взад и вперед, но, сбитые с толку множеством людей и не зная, чего искать, ничего не нашли. Кто-то сорвал образ со стены, и в следующую минуту при криках «Долой идолов!» началось разрушение.
Фанатики устремились к алтарям и хранилищам церковной утвари. Вся резьба была отбита и разрублена топорами и молотами, занавесы, закрывавшие шкафы, были оторваны, в священные чаши влито было вино, приготовленное для таинства, и богохульники пили его с грубым хохотом. Они сложили посредине церкви костер и разжигали его священными изображениями, обломками резьбы и дубовых скамеек. В этот костер они стали бросать золотую и серебряную утварь: они пришли сюда не с целью грабежа, а мести, и плясали вокруг, между тем как со всех сторон раздавался треск падающих статуй и звон разбиваемых стекол.
Колеблющийся зловещий свет костра проник через решетчатую плиту гробницы, и Адриан увидал при нем лица своих товарищей по заключению. Что это была за картина! Весь склеп был заставлен полуистлевшими гробами, из которых местами выглядывали белеющие кости, только гроб, на котором он стоял, был еще покрыт ярким бархатом, а кругом эти лица! Монахи в полном облачении прижались по углам, сидя на полу и бормоча неизвестно что побледневшими губами, дьячок лишился чувств, Симон обхватил гроб, как утопающий обхватывает доску, а среди них стоял спокойный, насмешливо улыбающийся с обнаженной рапирой в руке Рамиро.
- Мы погибли, - завопил один из монахов, потеряв всякое самообладание. - Они убьют нас, как убили святого аббата.
- Нет, не погибли, - заметил Рамиро. - Мы в безопасности; но если ты посмеешь еще раз открыть свою пасть, то сделаешь это в последний раз. - Подняв меч, он пригрозил им и прибавил: - Молчите! Кто пикнет, тому конец!
Сколько времени продолжалось их заключение - час, два, три, - никто из заключенных не знал, но, наконец, буйство в церкви кончилось. Внутренность церкви со всеми ее богатствами и украшениями была опустошена, но к счастью, пламя не достигло крыши и стены не загорелись.
Мало-помалу иконоборцы устали, казалось, что и ломать больше нечего, и в дыму стало тяжело дышать. По два и по три человека они стали выходить из поруганного храма, и снова в нем водворилась торжественная тишина. Тонкие струйки дыма поднимались над тлевшим костром, по временам с треском обрушивался кусок надломленной лепной работы, и холодный осенний ветер врывался в выбитые окна. Дело было совершено, месть измученной толпы наложила свою печать на древнее здание, где молились ее предки в течение нескольких поколений, и снова тишина наполнила здание, и кроткие лунные лучи залили опустевшую святыню.
Один за одним, как привидения, вылезали беглецы из склепа, прокрадывались к маленькой двери баптистерии и с бесконечными предосторожностями выходили на улицу, где исчезали во тьме, ощупывая сердце, чтобы ощутить, бьется ли оно еще.
Проходя мимо Распятия, Адриан взглянул наверх, где над ниспровергнутой статуей Пресвятой Девы виднелся кроткий лик Спасителя. Там же, неподалеку, виднелось другое мертвое лицо, казавшееся необыкновенно маленьким и жалким на этой высоте, - искаженное ужасом лицо аббата Доминика, еще недавно возбуждавшего зависть, благоденствовавшего церковного сановника, несколько часов тому назад присоединившего его к святой Церкви. Никакое привидение не могло бы напугать Адриана так, как этот мертвец, но он стиснул зубы и, шатаясь, побрел дальше, следуя за слабым блеском меча Рамиро, вполне доверяясь последнему.
Еще прежде, чем занялся рассвет, Рамиро увел его из Лейдена.
После десяти часов вечера этого дня женщина, закутанная в грубый фрисский плащ, постучалась у дверей дома на Брее-страат и спросила фроу ван-Гоорль.
- Госпожа лежит при смерти от чумы, - отвечала служанка. - Уходи скорей из зараженного дома, кто бы ты ни была.
- Я не боюсь чумы, - сказала посетительница. - А ювфроу Эльза еще не легла спать? Скажите ей, что Марта по прозвищу «Кобыла», желает ее видеть.
Минуту спустя Эльза, бледная, утомленная, но, несмотря на это, такая же хорошенькая, как всегда, вошла в комнату, поспешно спрашивая:
- Что нового?.. Он жив?.. Как его здоровье?..
- Он жив, ювфроу Эльза, но не здоров: рана на бедре загноилась, и он не может ни ходить, ни даже стоять. Не бойтесь, время и чистые перевязки вылечат его, а лежит он в безопасном месте.
В избытке чувства Эльза схватила руку Марты и хотела поцеловать.
- Не дотрагивайтесь до нее - на ней кровь, - сказала Марта, отдергивая руку.
- Кровь? Чья кровь? - спросила Эльза, отшатнувшись.
- Чья кровь?.. - с глухим смехом спросила Марта. - Кровь многих испанцев. Где, вы думаете, кобыла скачет по ночам? Спросите у испанцев, плавающих по Гаарлемскому озеру. А теперь со мной Красный Мартин, и мы ходим вместе, захватывая добычу, где она попадется.
- Довольно! - сказала Эльза. - Изо дня в день все одно и то же - все только смерть. Я знаю, несчастье помрачило ваш рассудок, но… чтобы женщина решилась убивать…
- Женщина! Я не женщина, женщина умерла во мне вместе со смертью мужа и сына. Говорю вам, я не женщина - я меч Божий, которому суждено самому погибнуть от меча. Вот я и убиваю и буду убивать, пока меня саму не убьют. Посмотрите, кто висит в церкви на Распятии, - толстый аббат Доминик. Это я заставила вздернуть его сегодня, завтра вы услышите, как я превратилась в пастора и произнесла проповедь. И Рамиро, и Адриану, и Симону-шпиону - всем было бы то же, но я не могла найти их - значит, их час еще не настал. Но идолы свергнуты, образа сожжены, золото, и серебро, и драгоценные камни - все брошено в кучу мусора. Храм очищен и окурен, для того, чтобы Господь мог обитать в нем.
- Очищен кровью убитых священников и окурен дымом святотатства, - прервала ее Эльза. - О, как вы можете делать такие ужасные вещи и не бояться!
- Бояться! - повторила Марта. - Те, кто побывали в аду, уже не боятся ничего: я ищу смерти, и когда наступит день судный, я скажу Господу: «Что я сделала, чего мне не говорил голос, говорящий мне ныне? Кровь моего мужа и сына еще курится на земле. Она взывает к Тебе о мести».
Говоря так, она подняла кверху почерневшие руки и потрясала ими. Затем она продолжала:
- Они убили вашего отца, почему вы не убиваете их также? Вы малы, слабы и робки и не можете днем употреблять нож, как я, но есть яд. Я умею приготовлять из болотных трав совершенно светлую, как вода, и смертоносную, как рука смерти, отраву. Хотите, я принесу вам ее? Вы пугаетесь подобных вещей. И я когда-то была так же красива, так же любила и была так же любима, как вы, и делаю это в память своей любви. Нет, вам нечего браться за такие дела - довольно на них и меня. Я - меч, но и вы также меч, хотя и не знаете этого; да и вы, такая нежная и кроткая, меч-мститель, умерщвляющий людей; я по-своему, вы по-своему, мы обе отплачиваем полной мерой тем, кому суждено умереть. Каждая вещь из сокровища Гендрика Бранта - вашего наследства - обагрена кровью. Говорю вам, все убийства, лежащие на мне, только песчинки в полном стакане по сравнению с теми, которые будут совершены из-за вашего сокровища. Я вижу, что пугаю вас. Но не бойтесь, ведь говорит не кто иной, как сумасшедшая Марта, и сегодня в церкви мне привиделось такое, чего я не видала уже много лет.
- Скажите мне еще что-нибудь о Фое и Мартине, - просила Эльза, не помнившая себя от страха.
При этих словах в Марте произошла перемена; она ответила уже не крикливо, а спокойным голосом.
- Они довольно благополучно дошли до меня пять дней тому назад: Мартин принес Фоя на себе. Я увидала издали его по бороде. Слушая его рассказ, я хохотала, как никогда в жизни.
- Повторите мне их рассказ.
Марта рассказала, что знала, и Эльза слушала ее, сложив руки, как на молитве.
- Молодцы… молодцы! - проговорила она. - Мартин выбил дверь, а Фой, слабый и раненый, убил часового. Слыхано ли что-нибудь подобное?
- Люди становятся отчаянными храбрецами, когда избегли пытки, - мрачно отвечала Марта. - Ну, теперь, когда испанцев выгнали отсюда, Фой вернется домой, как только силы позволят ему, пока же он еще не может подняться, и Красный Мартин ходит за ним. Однако долго ему нельзя оставаться так: я слышала, что испанцы собираются с большим войском осадить в скором времени Гаарлем, и тогда нам уже будет не безопасно оставаться на островах, да я и сама уйду к гаарлемцам помогать им.
- А Фой и Мартин вернутся?
- Думаю, да, если их не захватят.
- Захватят? - Эльза схватилась за сердце.
- Времена опасные, ювфроу Эльза. Может ли кто-нибудь, кто дышит утром воздухом, сказать, чем он будет дышать вечером? Времена тяжелые, и владыка теперь - смерть. Сокровища Гендрика Бранта не позабыты, не забыли и о тех, кому известно, где они. Рамиро выскользнул из моих рук сегодня и, наверное, ищет сокровища где-нибудь далеко от Лейдена.
- Сокровища! О, эти трижды проклятые сокровища! - воскликнула Эльза, вздрогнув, как от дуновения ледяного ветра. - Когда мы избавимся от них!
- Не избавитесь, пока не настанет время. Отец ваш хлопотал не о том, чтобы сохранить наследство для вас. Послушайте: известно вам, где скрыты сокровища? - Ее голос опустился до шепота.
Эльза отрицательно покачала головой, говоря:
- Я не знаю, где оно спрятано, и не желаю знать.
- Все же лучше бы сказать вам: нас троих, которым известна тайна, могут убить. Я не укажу вам места, но скажу, где найти ключ к тайне.
Эльза вопросительно взглянула на нее, и Марта, нагнувшись вперед, шепнула ей на ухо:
- Он в рукояти меча «Молчание». Если Красного Мартина захватят или убьют, разыщите его меч и отверните рукоять. Понимаете?
Эльза кивнула и отвечала:
- А если Мартин лишится меча?
Марта пожала плечами.
- Тогда, значит, прощай и сокровища, то есть если меня убьют. На все Божья воля; но, во всяком случае, вы наследница, хотя бы по имени, и должны знать, где искать сокровища, которые могут оказать со временем хорошую службу и вам и вашему отечеству. Я не даю вам бумаги, только указываю, где искать ее, а теперь мне пора в путь, чтобы дойти к морю до рассвета. Что передать вашему жениху, ювфроу?
- Я напишу ему несколько слов, если вы можете подождать. Пока покушайте.
- Хорошо, пишите, а я пока поем. Любовь для молодежи, а пища для стариков, а за то и другое - благодарение Богу.
ГЛАВА XXV. Красная мельница
После недельного пребывания на Красной мельнице, и она сама, и ее окрестности начали надоедать Адриану. В девяти или десяти голландских милях к северо-западу от Гаарлема находится местность, называемая Фельзен, лежащая на песчаных дюнах к югу от канала, известного теперь под именем Северного морского канала. В то время, к которому относится наш рассказ, канал представлял из себя большую осушительную канаву, а Фельзен был малонаселенное село. Вся местность была вообще слабо населена, потому что несколько лет тому назад здесь прошла испанская армия, убивая, сжигая, опустошая, так что осталось весьма мало жителей, которые едва содержали в порядке ветряные мельницы и осушительные каналы. Голландия - земля, отвоеванная у болот и моря, и если воду постоянно не откачивать, каналы не прочищать, то земля весьма быстро снова превращается в болото, и хорошо еще, если океан, прорвавшись через слабую преграду, воздвигнутую рукой человека, не образует здесь обширной соленой лагуны.
В былые времена Красная мельница была насосной станцией, откачивавшей, когда ее огромные крылья работали, воду с плодородных лугов в большую канаву, соединенную системой шлюзов с Северным морем. Во времена нашего рассказа возвышенные берега канала еще существовали, но луга уже снова превратились в болото, среди которого на небольшом земляном пригорке поднималась узкая и высокая ветряная мельница, деревянная, на каменном фундаменте, которую далеко было видно со всех сторон среди пустынных окрестностей. Поблизости не было других строений, никакой скотины не паслось у подножия мельницы, она стояла мертвой среди мертвого ландшафта. Налево от нее отделенный широким илистым каналом, откуда во время половодья густая болотная вода разливалась по равнине, начинался ряд бесплодных песчаных дюн, поросших редкой травой, торчавшей, как щетина на спине дикого кабана, а за дюнами ревел, стонал и плакал океан, когда ветер и непогода вздымали его недра. Против мельницы не более как в пятидесяти шагах проходил широкий канал, заключенный в высокие берега и выливавший день за днем миллионы галлонов своей воды в море. Насыпные берега, однако, начинали ослабевать: на них виднелись пространства, где, казалось, прошел гигантский плуг, выворотив бурую землю среди зеленой поверхности; в других местах вода, во время зимних наводнений ища себе выхода, перерезала мягкую насыпь, однако не настолько разрушив ее, чтобы она не могла исполнять своего назначения.
Слева и сзади тянулись опять болота, только на горизонте виднелись башни Гаарлема да местами, на больших расстояниях, церковные башни, болота же служили пристанищем всякой местной птице, а летом всю ночь напролет в них квакали лягушки.
В такое-то убежище Симон и Черная Мег отвели Рамиро и его сына Адриана в ту достопамятную ночь, когда аббат Доминик был повешен после того, как Адриан получил от него отпущение грехов и крещение. Он ничего не спрашивал: он был слишком потрясен нравственно и физически, жизнь для него была в эти дни ужасающей фантасмагорией, полной мрака, из которой появлялись мстительные фигуры с обагренными кровью руками и раздавались голоса, обрекающие его на погибель.
Беглецы нашли на обширном нижнем этаже мельницы несколько кое-как меблированных комнат. Мельница, насколько Адриан мог понять, была обитаема контрабандистами или ворами, или вообще какими-то темными личностями, с которыми Симон и Черная Мег состояли в союзе и которые знали, что здесь рука закона не достигнет их, хотя, надо сказать, что в правление Альбы в Нидерландах закона не существовало, и бояться его приходилось только людям богатым или тем, кто осмеливался молиться Богу по-своему.
- Зачем мы пришли сюда, отец? - несмело спросил Адриан.
Рамиро пожимал плечами, оглядывая все кругом своим единственным глазом, и отвечал:
- Нас привели сюда наши проводники и друзья, Симон и его жена уверяют меня, что только здесь мы в безопасности, и, клянусь св. Панкратием, после того, что мы видели в церкви, я склонен верить этому. Каким жалким казался отец Доминик, когда он висел, как черный паук, на своей веревке! У меня мороз подирает по коже, когда я вспомню о нем.
- А долго мы проживем здесь?
- Пока дон Фердинанд возьмет Гаарлем и толстые голландцы - те, по крайней мере, которые останутся в живых, - станут лизать наши сапоги, умоляя о пощаде. - Он заскрежетал зубами и прибавил: - Ты играешь в карты? Прекрасно, сыграем партию. Вот карты, игра развлечет нас. Ставлю сто гульденов.
Они начали играть, и Адриан выигрывал, после чего отец, к его удивлению, стал платить ему.
- Зачем это? - спросил он.
- Порядочные люди всегда должны платить карточные долги.
- А если нечем?
- В таком случае следует вести аккуратный счет и выплатить при первой возможности. Помни, что все можно забыть, но проигрыш в карты - долг чести. Никто не может обвинить меня, что я остался ему должен хотя бы один гульден из проигранных денег, что же до других долгов, то, боюсь, их за мной наберется порядочно.
Когда игра кончилась в этот вечер, Адриан оказался в выигрыше около четырехсот флоринов. На следующий день его выигрыш дошел до тысячи, на которые отец выдал ему форменную расписку, но на третий вечер счастье изменило или, может быть, Рамиро играл внимательнее, и Адриан проиграл две тысячи гульденов.
Он заплатил их, вернув отцу его расписку и отдав все золото из кошелька, данного ему матерью, так что теперь у него не осталось ни гроша.
Дальнейший ход событий можно угадать. При каждой игре ставки увеличивались, так как, не будучи в состоянии заплатить, Адриан относился равнодушно к тому, сколько он проиграет. Кроме того, его слегка волновало обращение с такими крупными суммами. Через неделю он проиграл королевское состояние. Тогда, встав из-за стола, отец предложил ему подписать обязательство, пригласив женщину, появившуюся неизвестно откуда для домашних работ на мельнице, подписаться в качестве свидетельницы.
- К чему эта комедия? - спросил Адриан. - Чтобы заплатить по этому обязательству, не хватило бы даже наследства Бранта.
Отец насторожил уши.
- В самом деле?.. А я так думаю, что хватило бы. К чему?.. Кто знает?.. Ты можешь со временем разбогатеть; недаром великий император говорил: «Фортуна - женщина, сберегающая свою милость для молодых». А тогда, как честный человек, вероятно, ты пожелаешь заплатить свой старый игорный долг.
- Конечно, пожелал бы заплатить, если бы мог, - зевая, отвечал Адриан, - но теперь, кажется, и говорить об этом не стоит.
Он встал и вышел на свежий воздух.
Отец задумчиво смотрел ему вслед.
«Надо пользоваться обстоятельствами, - рассуждал он, - у милого сынка, кажется, не осталось ни гроша за душой, и хотя бы ему и надоело жить здесь, он не может убежать. Он должен мне столько, иметь сколько мне никогда и во сне не снилось, стало быть, если бы ему удалось стать мужем Эльзы Брант и законным наследником ее состояния, то какие бы ни возникли между нами неприятности, я получу свою часть совершенно чистым, порядочным путем. Если же, с другой стороны, окажется необходимым мне самому жениться на Эльзе, чего «Боже избави!», то, по крайней мере, никто не останется в убытке, и Адриан даже будет в выигрыше, взяв несколько ценных уроков у одного из самых искусных игроков Испании. Теперь же нам необходимо оживить это скучное место присутствием самой красавицы. Наши почтенные друзья должны вернуться скоро со своей ношей, по крайней мере надеюсь, что будет так, иначе в нашем деле возникнут большие осложнения. Надо припомнить, все ли предусмотрено, в таком деле малейший промах… Он католик, следовательно, может заключить законный брак без предварительного оглашения, - хорошо, что я вспомнил этот пункт закона. Я достану священника, скромного человека, который не станет вслушиваться, если девице вздумается ответить «нет», и совершит, чего от него требует его обязанность. Да, кажется, все предосторожности приняты. Я тщательно посеял семя, Провидению остается взрастить его. Пора тебе, Жуан, успеть в чем-нибудь и успокоиться, довольно ты поработал, и годы дают себя знать, да, даже очень дают себя знать!»
Когда Адриан затворил за собой дверь, ноябрьский день подходил к концу, и через желтые снеговые облака время от времени прорывался луч заходящего солнца, падая на длинные, как руки скелета, крылья мельницы, в которых с завыванием свистел ветер. Адриан предполагал пройтись, но ему показалось слишком сыро на лугу, и, перебравшись через канал по наложенным от одной насыпи до другой доскам, он пошел по песчаным дюнам. Даже летом, когда воздух был тих, все цвело и жаворонки заливались в воздухе, эти холмы со своими изборожденными ветром скатами из бледного песка, резкими очертаниями, небольшими каменными утесами и вершинами, поросшими жесткой травой, производили фантастическое впечатление. Теперь же, под мрачным зимним небом, нельзя было представить себе более пустынного, более унылого места: нигде не было видно следа человека, и за исключением одинокого кулика, заунывный голос которого доносился до слуха Адриана с моря, все животные и птицы попрятались неизвестно куда. Только голос природы слышался во всем своем величии: свистел и завывал ветер, и океан шумел глухо и непрестанно.
Адриан дошел до высшей точки дюн, откуда открылся вдруг вид на скрытое до тех пор море - необозримое пространство аспидного цвета с подымающимися на нем холмами и уходящими вглубь долинами, всюду изборожденное белыми пенистыми валами. При подобном состоянии души, а на душе у Адриана все еще было неспокойно, другой, может быть, нашел бы некоторого рода утешение в этом зрелище, так как созерцание явлений природы во всем их величии невольно берет верх над нашими чувствами и заставляет умолкать мятежное волнение нашей души. По крайней мере, так бывает с теми, кто умеет читать наставления, начертанные на лице природы, и умеет слышать то, что она изо дня в день говорит нам, но такое понимание дано только людям, которые обладают ключом к пониманию природы или жаждут приобрести его.
Адриан же чувствовал, что однообразие окрестных песчаных холмов, величественный океан с бушующим над ним ветром и, главное, расстилающаяся повсюду пустыня только еще больше расстраивают его нервы, и без того напряженные до последней возможности.
Зачем отец привел его в это отвратительное болото, примыкающее к бесконечному морю? Чтобы спасти свою и его жизнь от разъяренной черни? Это он еще понимал, но, кроме того, здесь таилось и еще что-то, какой-то непонятный для него заговор, выполнить который теперь отправился негодяй Симон и его достойная подруга. А пока ему приходилось сидеть тут, играя в карты с этим Рамиро, посланным судьбою ему в отцы. Кстати, почему это он оказался таким любителем карточной игры? И что значат все эти глупости с расписками? Да, приходится сидеть тут, не забывая ни на минуту своего позора, лица своей матери, когда она оттолкнула его и выгнала из дома, тоскуя о той, которую он надеялся приобрести и потерял навеки, и постоянно видя перед собой привидение Дирка ван-Гоорля!
Адриан содрогнулся, волосы у него стали дыбом и губы затряслись: для него, при его расшатанных нервах, привидение человека, которого он предал, не было игрой воображения; просыпаясь ночью, он видел его у своей постели, обезображенного чумой и истощенного голодом, и поэтому он даже боялся спать один, особенно на этой старой мельнице, где все скрипело, где бегали крысы и каждая доска, казалось, рассказывала о крови и смерти. Боже! В эту минуту ему показалось, что этот самый голос доносится до него с моря. - Нет, это, вероятно, кулик, но, во всяком случае, пора идти «домой» - так приходится называть это место, где даже нет священника, у которого можно было бы исповедаться и найти поддержку.
Слава Богу! Ветер несколько улегся, но зато пошел густой снег и началась метель, так что Адриан с трудом мог разглядеть тропинку. Каково было бы умирать здесь, замерзая на этих песчаных холмах и чувствуя, что рядом находится дух ван-Гоорля, не спуская с тебя ввалившихся, голодных глаз. Пот выступил на лбу Адриана при этой мысля, и он пустился бежать к берегу большого канала, который, как он знал, должен был вывести его к мельнице. Тропинка поросла травой, и идти было нелегко, так как наступила уже полная темнота, и мокрые хлопья, летевшие прямо в лицо, покрыли дорожку скользким белым налетом. Плотно завернувшись в плащ, Адриан пробирался вперед, пока ему не показалось, что мельница уже недалеко, и он остановился, пытаясь оглядеться.
В это самое мгновение снег перестал на минуту, и при слабом свете сумерек Адриан мог увидеть, что сделал хорошо, остановившись. Как раз против того места, где он стоял, в нескольких шагах от него нижняя часть насыпи сползла, смытая с каменного основания постоянным медленным течением воды. Если бы он сделал еще шаг дальше, он бы неминуемо полетел в грязь, откуда еще неизвестно, удалось ли бы ему выбраться. Как бы то ни было, он в полумраке взобрался на каменное основание, еще державшееся на деревянных сваях, обнаженных, но пока еще не снесенных постоянно подмывающим их течением. Дорога была не из особенно приятных, так как направо расстилалось грязное болото, а налево, доходя почти до уровня насыпи, протекал темный, вздувшийся от дождей канал, изливавший свои воды в море.
«В следующий разлив и этого не останется, - подумал Адриан, - и тогда болото превратится в озеро, и плохо придется тому, кто окажется в это время обитателем Красной мельницы».
Он вышел на твердую землю, где шагах в пятистах на сумрачном небе вырисовывался призрачный силуэт мельницы с ее гигантскими крыльями, Адриан пошел к ней по тропинке, проложенной по небольшой насыпи, и очень изумился, услыхав плеск весел в канале и мужской голос, говоривший:
- Слава святым! Доехали! Высаживайтесь скорее!
Адриан, которого все пережитое сделало трусливым, остановился в тени высокого берега канала и увидал, как из лодки поднялись три фигуры или, скорее, две, так как двое вышедших на берег тащили или вели третьего между собой.
- Постой, пока я расплачусь, - раздался голос, показавшийся Адриану знакомым.
Затем послышался звон монеты вперемежку с проклятиями по адресу погоды и расстояния. Снова раздался плеск весел - лодка отчалила, но вместе с тем послышался нежный голос, говоривший в испуге:
- Друзья, у вас есть жены и дочери, неужели вы оставите меня в руках этих негодяев? Ради Бога, сжальтесь надо мной!
- Позор!.. И такая красивая девушка, - проворчал другой хриплый бас. Но рулевой крикнул:
- Знай свое дело. Марш, Ян! Мы сделали, на что подрядились, и получили деньги, а свои любовные дела пусть они уж устраивают сами. Прощайте! Ну, живо! Отчаливай!
Лодка повернула и исчезла в темноте.
На минуту сердце замерло у Адриана, бросившись вперед, он увидал перед собой Симона-Мясника и Черную Мег, а между ними что-то закутанное в платки.
- Что это? - спросил он.
- Вам бы, кажется, следовало знать, что, герр Адриан, - отвечала Мег, хихикая, - ведь мы этот тючок привезли из Лейдена, не щадя расходов, вам на удовольствие.
Из тючка поднялась голова, и слабый свет упал на бледное, испуганное личико Эльзы Брант.
- Да воздаст вам Бог за это злое дело, Адриан, названный ван-Гоорлем! - произнес слабый голос.
- За какое дело? - проговорил он. - Я ничего не понимаю, Эльза Брант, ничего не знаю!
- Не знаете, а между тем все сделано от вашего имени, и вы ждете меня здесь, меня же схватили, когда я вышла пройтись, и эти чудовища притащили меня сюда. Неужели у вас нет сердца, и вы не боитесь суда, что можете говорить так?
- Освободите ее, - приказал Адриан, бросаясь на Мясника, в руке которого, так же как в руках Мег, сверкнул нож.
- Отстаньте со своими глупостями и отойдите, герр Адриан. Если вам нужно что-нибудь сказать, скажите своему отцу, графу. Пропустите: мы устали и иззябли!
Взяв Эльзу под руки, они прошли мимо Адриана, которому пришлось отстраниться, так как он был без оружия.
И какую пользу могло бы принести его вмешательство теперь, когда лодка уехала и они были одни среди полнейшего безлюдия, в местности, где не было другого приюта, кроме этой полуразвалившейся мельницы? Адриан поник головой и побрел за Симоном и его женой по тропинке. Теперь он наконец понял, зачем они все жили на Красной мельнице.
Симон отворил дверь и вошел, но Эльза отшатнулась на пороге. Она даже попыталась оказать некоторое сопротивление, но негодяй толкнул ее так, что она споткнулась и упала лицом вниз. Этого Адриан не мог уже снести. Рванувшись вперед, он ударил Мясника изо всей силы кулаком в лицо, и в следующую минуту оба покатились по полу, борясь из-за ножа, который Симон не выпускал из руки.
Всю свою жизнь Эльза не могла забыть этой сцепы. Позади нее - открытая дверь, в которую, прямо ударяясь ей в лицо, летели снежные хлопья; впереди - большая круглая комната на нижнем этаже мельницы, освещенная только огнем торфа, пылавшего в очаге, и роговым фонарем, спускавшимся с потолка с балками из темного массивного дуба. И в этой неуютной, почти лишенной всякой мебели комнате перед очагом на грубом деревянном стуле сидел человек - Рамиро, испанская ищейка, затравивший ее отца, ненавистный больше всего на свете Эльзе, - и спал, другие же двое - Адриан и шпион - катались по полу, а между ними сверкал нож.
Такова была картина, представившаяся глазам Эльзы.
Рамиро проснулся от шума, и на лице его отразился испуг, будто от виденного им страшного сна. Но в следующую минуту он осознал происходившее.
- Кто еще поднимет руку, того я проколю насквозь! - заявил он холодным ровным голосом, вынимая шпагу. - Встаньте, сумасшедшие, и говорите, в чем дело.
- Дело в том, что эта скотина сейчас сбил с ног Эльзу Брант, - запыхавшись, заявил Адриан. - И я учу его за это.
- Он врет! - шипел Симон. - Я ее только подтолкнул вперед, и вы сами сделали бы так же, если б вам пришлось целые сутки возиться с такой дикой кошкой. С ней было труднее справиться, чем с любым мужчиной…
- Понимаю, - прервал Рамиро, совершенно овладев собою, - девичье жеманство, вот и все, а со стороны молодого человека - страх влюбленного, и тебе, почтеннейший Симон, вероятно, в былые дни приходилось испытывать то же. - Он взглянул на Черную Мег. - Не обижайтесь: молодежь всегда останется молодежью.
- И молодежи можно всегда всадить нож между ребер, если она вовремя не одумается… - проворчал Симон, выплевывая кусок сломанного зуба.
- Сеньор, зачем меня
привезли сюда вопреки всяким законам и справедливости? - перебила Симона Эльза.
- Законам? Кажется, таковых уже не существует в Нидерландах. Справедливость? В войне и любви все дозволено - вы сами согласитесь, ювфроу. А что касается причины, то, думаю, надо спросить Адриана: он знает больше, чем я.
- Он говорит, что не знает ничего, сеньор.
- Ах, он плут! Неужели он утверждает это? Ну, его не переспоришь. Я, не рассуждая, принимаю его слова на веру и советую вам сделать то же. Не трудитесь давать объяснения, мы все понимаем, - обратился он к Адриану, а затем приказал вошедшей служанке: - Отведи ювфроу в лучшую комнату, какая есть. Да смотрите все, чтоб с ней обращались хорошо, иначе, случись что с ней через вас или через нее самое, клянусь, вы заплатите мне своей кровью до последней капли. Смотрите же!
Женщины - Мег и другая - кивнули головами и пригласили Эльзу следовать за ними. Она с минуту постояла в нерешимости, смотря на Рамиро и Адриана, затем, грустно опустив голову, повернулась и не говоря ни слова пошла по дубовой лестнице, начинавшейся возле очага.
- Отец, - начал Адриан, когда они остались одни, - ведь я должен так называть вас…
- Нет ни малейшей надобности, - перебил его Рамиро, - не все случившееся нуждается в полном дневном освещении… Ну, что ты хотел сказать?
- Что значит все это?
- Сам желал бы объяснить тебе. Но, кажется, это значит, что без малейшего усилия с твоей стороны - ты мне кажешься удивительно ненаходчивым - твои любовные дела принимают неожиданно счастливый поворот.
- Я ни при чем во всем этом. Умываю руки.
- Все равно. Могут найтись люди, которые подумают, что сразу твои руки не отмоешь. Выслушай меня, глупый, - он оставил насмешливый тон. - Ты влюблен в эту куклу, и я велел привезти ее сюда, чтобы женить тебя на ней.
- А я отказываюсь жениться на ней против ее воли.
- Как тебе угодно. Но кто-нибудь да женится на ней - ты или я.
- Вы? - вырвалось у Адриана.
- Совершенно верно. Откровенно говоря, подобная перспектива вовсе не улыбается мне. В мои годы прошедшего достаточно. Но надо думать о материальных выгодах, и если ты отказываешься, то я могу заменить тебя. Понимаешь, что руководит мною?
- Нет. Что?
- Таким образом получается право на наследство Гендрика Бранта. Конечно, мы бы могли оружием или другим путем захватить это богатство; но не лучше ли было бы приобрести его для нашей семьи законным путем, получив на то разрешение высшей власти? Теперь страна в волнении; но не всегда будет так: кто-нибудь, в конце концов, должен будет уступить, и снова водворится порядок. Тогда может возбудиться вопрос - ведь богатые всегда бывают предметом зависти. Если же наследница замужем за католиком и верноподданным короля, то кто может оспаривать права, освященные законами божескими и человеческими? Подумай об этом хорошенько. Выбирай, кем желаешь иметь Эльзу - мачехой или женой!
Весь охваченный бессильным бешенством, мучимый совестью, Адриан начал раздумывать. Всю ночь он продумал, ворочаясь на своем соломенном матраце, где крысы свили себе гнезда, между тем как на дворе завывала метель. Если он не женится на Эльзе, на ней женится его отец, и не могло быть вопроса, какой из двух исходов будет для нее лучшим. Эльза - жена этого злого, циничного, истрепанного искателя приключений с таким ужасным прошлым! Этого нельзя допустить! В таком случае ее жизнь была бы адом, с ним же, может быть, после некоторого периода бурь и сомнений она будет счастлива: ведь он молод, красив, симпатичен и любит ее! Вот в том-то и главное. Адриан любил Эльзу настолько, насколько была способна его натура, и мысль, что она может достаться другому, была для него ужасна. Если бы этим человеком был Фой, его сводный брат, было бы тяжело, но что им будет Рамиро - этого Адриан не мог вынести.
Эльза не вышла к завтраку на следующее утро, отец же и сын опять сошлись.
- Ты бледен, Адриан, - сказал Рамиро. - Погода, вероятно, не давала тебе спать ночью, и я не спал, хотя в твои годы был способен спать и при шуме битвы. Ну, что же? Поразмыслил ли ты о нашем разговоре? Мне неприятно приставать к тебе с этими семейными делами, но время не терпит, надо решить что-нибудь.
Адриан смотрел в окно на непрерывно падающий снег. Наконец он обернулся и сказал:
- Да, лучше уж пусть я женюсь на ней, хотя, думаю, что подобное преступление не останется без возмездия.
- Какой ты предусмотрительный молодой человек! - отвечал отец. - При всем твоем разгильдяйстве я замечаю в тебе задатки здравого смысла. Что же касается возмездия, то, собственно говоря, тебе нельзя не позавидовать…
- Замолчите! - гневно перебил его Адриан. - Вы забываете, что при подобных сделках бывают две стороны: я должен получить ее согласие, а просить его не стану.
- Не станешь? В таком случае, я попрошу его и сумею получить. Ну, теперь слушай: мы заключили договор, и ты потрудишься сдержать его или взять на себя все последствия - каковы бы они ни были. Я подведу эту девицу к алтарю, то есть к этому столу, и ты обвенчаешься с нею, после чего можешь поступить, как тебе будет угодно: можешь жить со своей женой или раскланяться с ней и удалиться - мне все равно, лишь бы вы были женаты. Уж мне надоели все эти разговоры, прошу тебя оставить меня с ними в покое.
Адриан посмотрел на него, хотел что-то сказать, но передумал и вышел из дому на снег.
«Наконец убрался!» - подумал отец и, призвав Симона, вступил с ним в продолжительное совещание.
- Понял? - спросил он наконец.
- Понял, - мрачно ответил Симон. - Я должен разыскать монаха, ожидающего в указанном месте, и вечером привести его сюда. Нелегкое это дело для христианской души в такую погоду!
- А что получишь? Помни, что получишь!
- Все это отлично; да хоть бы задаточек дали…
- Получишь! Такому работнику не жалко и дать, - согласился Рамиро и, вынув из кармана кошелек, данный Лизбетой Адриану, с усмешкой - действительно, в этом была комическая сторона - отсчитал Симону порядочную сумму.
Симон посмотрел на деньги и, решив, что вряд ли удастся сегодня выклянчить еще что-нибудь, спрятал их в карман, затем, закутавшись в толстый фрисский плащ, он отворил дверь и исчез среди метели.
ГЛАВА XXVI. Жених и невеста
Весь день снег шел не переставая ни на один час, наступила ночь, и большие мягкие хлопья падали на землю тихо, как пух, так как ветер прекратился. Адриан встречался с отцом только за едой, предпочитая проводить остальной день на дворе, на снегу, или под старым навесом позади мельницы, чем оставаться в обществе этого ужасного человека, вечно насмехающегося и принуждающего его совершить великое преступление.
За завтраком на следующий день Рамиро осведомился у Черной Мег, отдохнула ли ювфроу Эльза от своего путешествия настолько, чтобы позавтракать вместе с ними. Мег отвечала, что Эльза положительно отказывается выходить из своей комнаты и говорить что-либо, кроме самого необходимого.
- В таком случае, мне надо самому переговорить с нею, - сказал Рамиро. - Пойдите и скажите ювфроу, что я шлю ей свой привет и сам поднимусь к ней еще до обеда.
Мег отправилась выполнить поручение, а Адриан взглянул на отца подозрительно.
- Успокойся, мой друг, - обратился к нему отец, - хотя мы и увидимся наедине, но тебе нет причины ревновать. Помни, что пока я только запасная стрела в колчане, запасной актер, выучивший на всякий случай свою роль, но могущий оказаться полезным.
Каждое слово Рамиро резало Адриана, но он не отвечал: он уже понял, что ему никогда не сравниться с отцом в речах.
Эльза выслушала послание, как выслушивала все остальное, молча. Три дня тому назад, когда было объявлено, что Лизбета ван-Гоорль окончательно вне опасности после той страшной болезни, которая за это время несколько раз грозила ей смертью, Эльза Брант, все время ухаживавшая за ней, решилась выйти прогуляться. Город в этот вечер положительно душил ее, и, чувствуя, что ей необходим чистый деревенский воздух, она вышла за городские ворота и пошла вдоль городского рва, не замечая, что за ней следят. Когда начало смеркаться, она остановилась на минуту, смотря в сторону Гаарлемского озера, мысленно переносясь к любимому человеку, которого надеялась увидеть дня через два или три.
Но тут вдруг что-то покрыло ее голову, и она очутилась в темноте. Она очнулась в лодке, где рядом с ней, карауля ее, поместились двое негодяев, в которых она узнала лиц, напавших на нее в день ее приезда в Лейден.
- По какому праву вы схватили меня и куда вы меня везете? - спросила она.
- Нам заплатили за это, и мы везем вас к Адриану ван-Гоорлю, - был ответ.
Эльза поняла и замолчала.
Таким образом ее привезли в пустынный разбойничий пригон, где ее ждал Адриан, встретивший ее, как она была убеждена, ложью. Теперь, без сомнения, настал конец. Ее, любившую всей душой его брата, насильно обвенчают с человеком, которого она ненавидела и презирала, обвенчают с пустым, ничтожным предателем, который не остановился из-за ревности, жажды мести или жадности - она не знала, из-за чего собственно - перед тем, чтоб предать своего благодетеля, мужа своей матери, в руки инквизиции.
Что ей делать? Бежать казалось невозможным с третьего этажа мельницы, стоявшей среди занесенного снегом болота, вдали от всякого жилья, из-под надзора двух женщин, не спускавших с нее своих свирепых глаз. Нет, оставалось только одно бегство: в объятия смерти. Но и это исполнить было трудно: у нее не было оружия, а женщины день и ночь караулили ее: пока одна наблюдала за ней, другая спала. Да и умирать Эльзе не хотелось при ее красоте, молодости и любви к жизни. К тому же с детства она была приучена смотреть на самоубийство, как на грех. Она решила положиться на Бога и, как ни казалось невозможным, бороться до конца. И у беспомощного человека иногда находятся друзья. Решившись, она ради сохранения сил стала принимать пишу и пить вино, которые ей приносили, но отказывалась выходить из комнаты и говорить что-либо, кроме самого необходимого, сама между тем зорко наблюдала за всем происходившим.
На второе утро ее пребывания на мельнице ей передали поручение Рамиро, на которое она ничего не ответила, и в назначенное время Рамиро явился и с поклоном остановился в дверях.
- Вы позволите войти, ювфроу? - спросил он.
И Эльза, поняв, что наступила решительная минута, приготовилась принять его.
- Вы здесь хозяин, - отвечала она голосом холодным, как падавший на дворе снег. - К чему же еще насмешки?
Он приказал женщинам уйти и, когда они остались наедине с Эльзой, отвечал:
- Ничего подобного мне и в голову не приходило, ювфроу; дело слишком серьезное, чтобы говорить пустые фразы.
Еще раз поклонившись, он сел на стул возле очага, где горел огонь.
Тогда Эльза встала, ей казалось, что стоя она будет чувствовать себя сильнее.
- Потрудитесь объяснить, в чем это дело, сеньор Рамиро. Меня привезли сюда, чтобы допрашивать, еретичка ли я?
- Да, отчасти. Вы еретичка перед богом любви и приговорены судом быть… не сожженной на костре, но… предстать перед алтарем…
- Ничего не понимаю.
- Я объясню вам. Мой сын Адриан - в общем порядочный молодой человек, ведь вам известно, что Адриан, мой сын, имел несчастье или, скажем, счастье серьезно полюбить вас, между тем как вы обнаружили такой недостаток вкуса, или, может быть, наоборот, что отдали свое расположение другому. При таких обстоятельствах Адриан, малый неглупый и находчивый, прибегнул к старинному средству для достижения своего желания. Он здесь, и вы здесь, сегодня вечером, я думаю, прибудет сюда и священник. Я не стану вдаваться в подробности того, как все кончится, это частное дело, в которое я не имею права вмешиваться, и только могу, как отец и доброжелатель, поздравить…
Эльза сделала нетерпеливое движение головой, будто желая остановить весь этот поток слов.
- Что заставляет вас так хлопотать о ненавистном для бедной девушки браке? - спросила она. - Какая вам может быть из этого выгода?
- Я замечаю, что передо мной деловая женщина, - весело отвечал Рамиро, - одаренная весьма редким качеством - здравым смыслом. Я буду откровенен. Ваш покойный батюшка имел огромное состояние, которое теперь перешло к вам как его единственной дочери и наследнице. По закону, который я сам считаю несправедливым, это состояние перейдет к вашему мужу, кого бы вы ни выбрали. Стало быть, как скоро вы станете женой Адриана, оно перейдет к нему. Я отец Адриана, и обстоятельства сложились так, что он очень много должен мне, следовательно, как он сам убедился, этот союз принесет выгоду нам обоим. Но деловые подробности скучны, поэтому я не стану дольше останавливаться на них.
- Богатство, о котором вы говорите, сеньор Рамиро, исчезло.
- Исчезло, но я имею причины надеяться, что оно будет отыскано.
- В таком случае, здесь главную роль играют деньги?
- Что меня касается лично - да. За чувства Адриана я не могу отвечать: кто знает тайну чужого сердца!
- Стало быть, если бы деньги отыскались или отыскалось указание, как найти их, не было бы надобности в женитьбе?
- Что меня касается, никакой.
- А если деньги не отыщутся, а я откажусь выйти за герра Адриана, или он откажется жениться на мне, что тогда?
- Это задача. Но я вижу и решение ее, или, по крайней мере, половины ее. В таком случае, брак все-таки состоится, но с другим женихом.
- С другим женихом? Кто же он?
- Ваш покорнейший слуга и обожатель.
Эльза содрогнулась и отступила на шаг.
- Ах, мне не следовало так низко кланяться: вы увидали мои седые волосы, а молодость не любит седины.
Негодование Эльзы росло, и она отвечала:
- Не ваша седина заставила меня отшатнуться, седина для многих почетный венец, но…
- Но что касается меня, то вы думаете иначе. Будьте милы и не высказывайте мне ваших соображений. Когда действительность так ужасна, какая нужда еще ухудшать ее беспощадными словами?
Несколько минут продолжалось молчание, которое Рамиро, смотревший в окно, прервал замечанием, что «снег идет необыкновенно густо по времени года», а затем снова наступила пауза. Наконец, Рамиро заговорил:
- Насколько я понял, ювфроу Эльза, вы сделали намек, который может повести к удовлетворительному для нас обоих решению вопроса. Местонахождение сокровищ в точности не известно, вы упомянули об указании. Вы можете доставить подобное указание?
- А если могу, что тогда?
- Тогда, после небольшого путешествия в интересную, но малоизвестную часть Голландии, вы можете вернуться к своим друзьям так же, как уехали от них, то есть незамужней.
Эльза боролась с собой, и как она ни старалась скрыть это, следы борьбы отразились у нее на лице.
- Вы поклянетесь в этом? - шепотом спросила она.
- Конечно.
- Поклянетесь ли вы, что если вы получите это указание, вы не станете принуждать меня выйти за герра Адриана или за вас, что вы отпустите меня?
- Клянусь перед Богом.
- Зная, что Бог отомстит вам, если вы нарушите клятву, вы все-таки клянетесь?
- Клянусь. К чему эти излишние повторения?
- В таком случае… - Она нагнулась к нему и продолжала хриплым шепотом: - Веря, что вы, даже вы не решитесь нарушить такую клятву, потому что и вам, даже вам должна быть страшна смерть и возмездие - вечная мука, я даю вам указание: оно спрятано в мече «Молчание».
- Что это за меч «Молчание»?
- Большой меч Красного Мартина.
Рамиро ударил себя по колену.
- И подумать только, что целый день этот меч висел на стене Гевангенгуза! Позвольте попросить у вас более подробного объяснения. Где меч?
- Где и Красный Мартин. Больше я ничего не знаю. Я могу вам сказать одно: план места, где скрыты сокровища, в мече.
- Или был там. Я верю вам, но чтобы овладеть тайной, скрытой в мече человека, вырвавшегося из застенка Гевангенгуза, надо быть Геркулесом. Сначала надо отыскать Красного Мартина, затем овладеть его мечом, что, думаю, будет стоить жизни не одному человеку. Очень благодарен за ваше указание, но опасаюсь, что без брака мы все же не обойдемся.
- Вы же поклялись! - в отчаянии воскликнула Эльза. - Вы поклялись перед Богом.
- Совершенно верно, и приходится предоставить на усмотрение высшей власти, о которой вы упоминаете, дальнейший образ действия. Она, вероятно, сама позаботится о своих делах, мне же надо подумать о своих. Надеюсь, что сегодня около семи часов вечера священник прибудет и жених будет готов.
Эльза не выдержала.
- Дьявол! - закричала она. - Ради спасения своей чести я изменила завещанию отца, выдала тайну, за которую Мартин готов был умереть под пыткой, и предала его на травлю. Господи, прости меня и помоги мне!
- Без сомнения, первая часть вашей мольбы будет услышана, потому что искушение для вас было действительно немалое, я, как человек более опытный, только перехитрил вас, вот и все; предоставляю вам самой устраиваться с Богом. До свидания, до вечера!
Он с поклоном вышел из комнаты.
Эльза же в отчаянии, сгорая от стыда, бросилась на постель и горько зарыдала.
Около полудня она встала, услыхав на лестнице шаги женщины, приносившей ей еду, и, чтобы скрыть заплаканное лицо, стала смотреть в решетчатое окно. Вид из него открывался унылый: ветер и снег перестали и сменились дождем. По уходе прислужницы Эльза умылась и, несмотря на полное отсутствие аппетита, стала есть, зная, что это необходимо для сохранения сил.
Прошел еще час, и у дверей снова послышался стук. Эльза содрогнулась, думая, что вернулся Рамиро, чтобы мучить ее. Она почувствовала некоторое облегчение, когда увидала, что то бы Адриан. Один взгляд на его расстроенное лицо и один звук его нетвердых шагов пробудили в ней надежду. Ее женский инстинкт подсказал ей, что теперь она уже имеет дело не с беспощадным, ужасным Рамиро, смотревшим на нее только как на пешку в игре, которую ему необходимо выиграть, а с молодым человеком, любящим ее, стало быть, находящимся в ее руках, кроме того, пристыженным и растерявшимся, на совесть которого она, стало быть, могла подействовать. Встав, она подошла к нему и, хотя она была небольшого роста, а Адриан высок, ей показалось, будто она на голову переросла его.
- Что вам угодно? - спросила она.
В прежние дни Адриан ответил бы каким-нибудь изысканным комплиментом или громкой фразой, вычитанной в романах, да, правду сказать, он даже и обдумывал нечто подобное, когда, как полуголодная собака, отыскивающая себе пристанище, бродил вокруг мельницы. Но теперь ему было не до риторики и галантности.
- Отец мой пожелал, - неуверенно начал он, - то есть я хочу сказать, что я пришел к вам поговорить о нашем браке.
Вдруг нежные черты Эльзы приняли ледяное выражение, а глаза, по крайней мере так показалось Адриану, засверкали.
- О браке? - сказала она странным голосом. - Сколько в вас должно быть низости, что вы решаетесь произнести это слово. Называйте задуманное вами, как хотите, но не произносите священного слова «брак».
- Я тут ни в чем не виноват, - ответил он сумрачно, видимо, задетый ее словами. - Вы знаете, Эльза, что я и прежде предлагал вам стать моей женой с соблюдением всей святости брака…
- Да, - прервала она его, - и потому что я не хотела слушать вас, потому что вы не нравитесь мне, потому что вы не могли завоевать меня, как мужчина завоевывает девушку, вы устроили западню и увезли меня сюда, надеясь грубой силой получить то, на что я не хотела согласиться добровольно. Во всех Нидерландах, кажется, не найдется другого такого презренного человека, как Адриан, получивший фамилию ван-Гоорль, незаконный сын Рамиро-галерника.
- Я уже говорил вам, что это неправда, - сердито возразил он. - Я ни при чем в вашем похищении. Я ничего не знал о нем, пока не увидел вас здесь.
Она засмеялась горьким смехом.
- Не трудитесь оправдываться, если бы вы поклялись перед лицом самого Бога, я бы не поверила вам. Вспомните, что вы предали брата и благодетеля, и после того можете догадаться, как я отношусь к вашим словам.
Адриан глубоко вздохнул, и этот вздох пробудил в душе Эльзы некоторую надежду.
- Я уверена, что вы не решитесь на такое злое дело. Кровь Дирка ван-Гоорля на ваших руках; неужели вы хотите еще иметь и мою смерть на своей душе? Говорю вам верно, клянусь Создателем, что, прежде чем действительно стать вашей женой, я умру, а может быть, не станет вас, или нас обоих. Понимаете?
- Понимаю, но…
- Но что? К чему это преступление? Ради спасения вашей души откажитесь принять в нем участие.
- Если я откажусь, отец женится на вас.
Это была стрела, пущенная наудачу; но она попала в цель, потому что вдруг силы и красноречие, казалось, покинули Эльзу. Она подбежала к Адриану, сложив руки умоляющим жестом, и бросилась на колени.
- Помогите мне бежать, - молила она, - и я буду благословлять вас всю свою жизнь.
- Невозможно, - отвечал он. - Как бежать из этого места, где за вами следят? Говорю вам, это невозможно.
- В таком случае, - и в глазах Эльзы вспыхнул дикий огонь, - убейте его и освободите меня. Он дьявол. Он ваш злой гений. Вы сделали бы богоугодное дело. Убейте его и освободите меня.
- Я бы не прочь, - отвечал Адриан, - и чуть было уже однажды не сделал этого; но, не погубив свою душу, я не могу убить отца. Это ужаснейшее из преступлений. На исповеди…
- В таком случае, - прервала она его, - если уж необходимо проделать этот гнусный фарс, то клянитесь, что вы пощадите меня.
- Трудно предъявлять такое требование человеку, любящему вас больше всего на свете, - отвечал он, отворачиваясь.
- Вспомните, - продолжала она, и снова в ее взгляде вспыхнул недобрый огонек, - что вам недолго удастся любить живую женщину и, может быть, нам обоим придется предстать с решением этого дела перед престолом Всевышнего. Дайте мне клятву.
Он колебался.
Она же думала: «Что он теперь ответит? Что, если «нет, лучше, в таком случае, я уступлю вас Рамиро».
К счастью, однако, подобная мысль не пришла Адриану.
- Поклянитесь, - умоляла его Эльза. - Поклянитесь! - Она ухватилась рукой за полу его плаща и обратила к нему свое бледное лицо.
- Приношу эту жертву как искупление своих грехов, - ответил Адриан. - Я отпущу вас на все четыре стороны.
Эльза вздохнула с облегчением. Она не доверяла обещаниям Адриана, но видела по крайней мере возможность выиграть время.
- Я так и думала, что не напрасно обращусь…
- К такому забавному ослу, - докончил насмешливый голос из-за двери, которая, как теперь только заметила Эльза, неслышно перед тем отворилась.
- Любезный мой сын и будущая дочь, как мне благодарить вас за развлечение, которым вы оживили один из самых скучных вечеров, которые мне приходилось переживать? Не принимай такого угрожающего вида, мой мальчик; вспомни, что ты сейчас говорил этой молодой девице о преступлении против отца. Какие трогательные планы для будущего! Душа Дианы и самопожертвование… О, нет, кажется, между всеми героями древности не подберешь подходящего сравнения. А теперь до свидания, я иду встретить человека, которого вы оба ожидаете с таким нетерпением.
Он ушел, и минуту спустя, не говоря ни слова - что можно было сказать в его положении? - Адриан стал спускаться по лестнице вслед за отцом, чувствуя себя еще более несчастным и уничтоженным, чем полчаса тому назад.
Прошло еще два часа. Эльза сидела у себя в комнате под надзором Черной Мег, следившей за ней, как кошка следит за мышью в мышеловке. Адриан искал убежища в помещении, где спал, на верхнем этаже. Это была неуютная, пустая комната, где прежде хранились жернова и другие мельничные принадлежности, теперь же гнездились пауки и крысы, за которыми постоянно гонялась худая черная кошка. Под потолком проходили жерди, концы которых уходили в темноту, а из дырявой крыши постоянно падала каплями вода с монотонным, непрерывным звуком колотушки, ударяющей о доску.
В жилой комнате нижнего этажа находился один Рамиро. Фонарь не был зажжен, и только отблеск огня, горевшего в очаге, освещал фигуру сидящего в задумчивом ожидании человека. Наконец до его тонкого слуха донесся звук извне, приказав прислужнице зажечь лампу, он встал и отворил дверь. Через завесу неперестававшего дождя мелькал свет фонаря. Еще минута, и человек, несший его, - Симон - появился в сопровождении двух других людей.
- Вот он, - сказал Симон, кивая на стоявшую позади него фигуру, с толстого фрисского плаща которой вода стекала потоками. - А вот другой лодочник.
- Хорошо, - отвечал Рамиро. - Прикажи ему и прочим подождать под навесом, куда вынеси им водки, они нам могут понадобиться.
Послышались переговоры и ругательства, после чего лодочник, ворча, ушел.
- Войдите, отец Фома, - обратился Рамиро к прибывшему. - Пожалуйте, и прошу вашего благословения…
Не отвечая, монах откинул назад капюшон плаща, и показалось грубое, злое, красное лицо с воспаленными от невоздержания глазами.
- Извольте, сеньор Рамиро, или как вас там теперь именуют, хотя, собственно говоря, стоили бы вы проклятия за то, что заставляете священное лицо ехать ради какого-то вашего дьявольского замысла по такой погоде, когда разве только собаке впору быть на дворе. Будет наводнение, вода уже вышла из берегов канала и все более прибывает от тающего снега. Говорю вам, будет такой потоп, какого мы не видали много лет.
- Тем больше причин, святой отец, поскорее окончить наше небольшое дельце, но, вероятно, вы пожелаете прежде выпить глоток чего-нибудь?
Отец Фома кивнул головой, и Рамиро, налив водки в кружечку, подал ему. Монах одним глотком осушил кружечку.
- Еще! - сказал он. - Не бойтесь. Все в свое время. Вот, прекрасно. Ну, в чем дело?
Рамиро отвел его в сторону, и они несколько минут разговаривали наедине.
- Отлично, - заявил наконец монах, - рискну исполнить ваше желание; в настоящее время на такие вещи смотрят довольно легко, когда дело касается еретиков. Но прежде деньги на стол: я не принимаю ни бумаг, ни обещаний.
- Ах вы, духовные отцы, - со слабой усмешкой проговорил Рамиро, - сколькому нам, светским, приходится учиться у вас и в духовных, и в житейских вещах.
Со вздохом он вынул кошель и отсчитал требуемую сумму, затем прибавил: - С вашего позволения, мы прежде просмотрим бумаги. Они при вас?
- Вот они, - отвечал монах, вынимая несколько документов из кармана. - Но ведь они еще не обвенчаны, знаете, ведь прежде чем церемония совершится, мало ли что может произойти.
- Совершенно верно. Мало ли что может случиться или прежде, или после, но мне кажется, в данном случае вы можете засвидетельствовать акт прежде совершения церемонии: вам может вдруг понадобится уехать, и таким образом вы избавитесь от лишней задержки. Потрудитесь написать свидетельство.
Отец Фома колебался, между тем как Рамиро тихонько побрякивал золотыми и проговорил:
- Ведь было бы досадно, отец, если бы вы совершили такое трудное путешествие задаром.
- Что вы еще задумали? - проворчал монах. - Ну, в конце концов, все это одна формальность. Назовите мне имена.
Рамиро назвал имена, и отец Фома записал их, прибавив несколько слов и свою подпись.
- Готово: для всех, кроме одного папы, достаточно.
- Простая формальность, - сказал Рамиро, - конечно, но свет придает такое значение этой формальности, и поэтому, я думаю, надо будет, чтобы эту бумажку нам подписали свидетели - не я, так как я здесь заинтересованное лицо, а кто-нибудь посторонний.
Позвав Симона и служанку, Рамиро приказал им подписаться под документом.
- Бумага подписана вперед, и деньги вперед, - продолжал он, вручая деньги монаху, - а теперь еще стаканчик за здоровье жениха и невесты, тоже вперед. Вы ведь тоже не откажетесь, уважаемый Симон и любезная Абигайль… Ночь такая холодная!
- А водка крепкая, - заплетающимся языком проговорил монах, испытывая действие третьего приема чистого спирта. - Однако к делу! Мне надо выбраться отсюда еще до наводнения.
- Совершенно верно. Будьте добры, господа, пригласите моего сына и ювфроу. Лучше прежде ювфроу, вы все трое можете быть ее провожатыми. Невесте иногда вдруг случается заупрямиться - понимаете? О сеньоре Адриане не беспокойтесь. Я хочу дать ему кое-какие советы и поэтому сам схожу за ним.
Минуту спустя отец и сын стояли лицом к лицу. Адриан потрясал кулаком и неистово бранил холодного, невозмутимого Рамиро.
- Дурак ты, - сказал Рамиро, когда Адриан замолчал. - И подумаешь, что такой осел, годный только, чтобы его колотили да заставляли носить чужие тяжести, способный только оглашать воздух своим ослиным криком и брыкаться на воздух, мог родиться от меня! Не делай, пожалуйста, таких рож - ты в моих руках, как ты там ни ненавидишь меня. Ты телом и духом мой раб - больше ничего. Ты потерял единственный шанс, который имел, когда захватил меня в Лейдене. Теперь ты уже не смеешь обнажить оружия против меня, любезнейший Адриан, боясь за свою душу, а если б и посмел, то я приколол бы тебя. Ну, идешь?
- Нет, - отвечал Адриан.
- Подумай минуту. Если ты не женишься на ней, не пройдет и получаса, как я стану ее мужем, и тогда… - Он нагнулся к Адриану и шепотом докончил фразу.
- Дьявол! - проговорил Адриан и пошел к двери.
- Что? Передумал? Флюгер! Это преимущество всех утонченных натур… Но ты ведь без колета, и позволь посоветовать тебе пригладить волосы. Хорошо. Ну, идем. Ступай ты вперед - так будет лучше.
Когда они сошли в комнату нижнего этажа, невеста была уже там, ее с двух сторон поддерживала Черная Мег и другая женщина. Эльза была бледна, как смерть, и вся дрожала, но, несмотря на то, смело смотрела в глаза присутствовавшим.
- Итак, приступим, - бормотал полупьяный монах. - Мы имеем согласие обеих сторон.
- Я не согласна! - закричала Эльза. - Меня завезли сюда силой. Призываю всех в свидетели, что все, что происходит здесь, делается против моей воли. Призываю Бога на помощь!
Священник обратился к Рамиро:
- Как же обвенчать их ввиду такого заявления? Если б она молчала, это еще было бы возможно.
- Я уже подумал о подобном затруднении, - отвечал Рамиро и сделал знак Симону и Черной Мег, которые, пройдя сзади, завязали платком рот Эльзе так, что она не могла уже говорить и только в состоянии была дышать через нос.
Она попробовала было сопротивляться, но затем смирилась и обратила умоляющий взор на Адриана, который выступил вперед и собирался что-то сказать.
- Ты помнишь, между чем должен выбирать? - спросил его отец тихо, и он отступил.
- Мне кажется, что мы можем считать ответ жениха или по крайней мере его молчание за согласие, - сказал монах.
- Можете, - ответил Рамиро.
После этого началось венчание. Эльзу потащили к столу. Три раз она бросалась на землю, и три раза поднимали ее, но, наконец, утомленные тяжестью ее тела, ей не препятствовали оставаться на коленях. Она так и осталась в этой позе, как осужденная, молящаяся на эшафоте. Это была сцена грубого насилия, каждая подробность которой запечатлелась в памяти Адриана. Круглая комната с каменными стенами, наполовину освещенная лампой и огнем массивного дубового очага, наполовину остававшаяся в темноте; невеста, скорее похожая на покойницу, с повязкой на бледном, измученном лице, краснолицый монах, бормочущий отвислыми губами молитвы, читая их по книге и стоя чуть не спиной к невесте, чтобы не видать ее борьбы и позы; две ужасные старухи; плосколицый Симон, ухмыляющийся около очага, и, наконец, Рамиро, следящий циничным, насмешливым, торжествующим, но вместе с тем несколько тревожным взглядом своего единственного глаза за ним, Адрианом, - такова была картина. Кроме того, еще одно обстоятельство обратило на себя внимание Адриана и еще сильнее встревожило его - звук, который, как он думал в эту минуту, был слышен ему одному, отдаваясь в его голове, - тихое, протяжное завывание, похожее на завывание ветра, мало-помалу перешедшее в рев.
Церемония окончилась. Монаху удалось надеть кольцо на палец Эльзы, и до тех пор, пока брак не был расторгнут законным судом, она должна была считаться женой Адриана. Платок сняли, руки отпустили, физически она стала свободна, но, как она сама сознавала, в эти дни и на той земле, где господствовало насилие, она была скована более крепкой цепью, чем та, какую мог сковать из стали самый искусный мастер.
- Поздравляю, сеньора, - обратился к ней отец Фома. - Вам было нехорошо во время церемонии, но таинство…
- Перестань насмехаться, богохульник! - крикнула на него Эльза. - Да поразит Божья месть прежде всего тебя!
Сдернув кольцо с пальца, она бросила его на дубовый стол, по которому оно покатилось; после того, отвернувшись с жестом отчаяния, она бросилась к себе в комнату.
Красное лицо отца Фомы побледнело, и желтые зубы застучали.
- Проклятие девушки, да еще в час ее венчания, не пройдет даром! - пробормотал он, крестясь. - Несчастье неминуемо, а может быть, и смерть… да, смерть, клянусь св. Фомой. И это ты заставил меня сделать такое дело, ты, галерник, каторжник!
- Я предупреждал вас, отец, еще в Гааге, - отвечал Рамиро, - рано или поздно такие вещи, - он указал на бутыль с водкой - действуют на нервы. Хлеб и вода в продолжение сорока дней - вот, что я советую, отец Фома…
Он не успел докончить своих слов, как дверь с шумом отворилась и в комнату вбежали с выражением ужаса на лицах оба лодочника.
- Скорей, скорей! - кричали они.
- Что случилось? - завопил монах.
- Большой канал вышел из берегов. Слышите? Вода идет сюда; мельницу снесет.
Праведный Боже, это было верно! В открытую дверь доносился рев воды - тот самый шум, который Адриан слышал перед тем, и сквозь мрак виднелись пенистые гребни огромных водяных масс, стремившихся через все увеличивающуюся промоину в плотине канала на затопленную уже низменную равнину.
Отец Фома бросился к двери с отчаянным криком:
- Лодку! Лодку!
Рамиро стоял минуту, раздумывая, затем приказал:
- Приведите ювфроу. Не ты, Адриан, - она скорее умрет, чем пойдет за тобой, - но ты, Симон, и Мег. Скорее!
Симон и Мег ушли.
- Возьмите этого господина и посадите в лодку, - приказал Рамиро лодочникам, указывая на Адриана. - Держите его, если он вздумает бежать. Я сейчас приду с ювфроу. Ступайте, нельзя терять ни минуты.
Лодочники утащили Адриана, несмотря на его сопротивление.
Рамиро остался один, времени, как он справедливо заметил, нельзя было терять, и снова он на несколько секунд глубоко задумался. Лицо его то краснело, то бледнело, наконец, он принял решение. «Я неохотно делаю это, нарушая, таким образом, свой обет, но случая нельзя упустить. Она обвенчана, но впоследствии могла бы оказаться для нас большой помехой и довести нас даже до суда и галер, так как за ее богатством гонятся еще другие, - рассуждал он, весь дрожа, - заодно отделаемся и от шпионов, и от их свидетельств!..»
С быстрой решимостью Рамиро выскочил из двери, запер ее снаружи железным болтом и со всех ног пустился бежать к лодке.
Возвышенная дорожка уже на три фута была покрыта водой, так что он едва мог пробираться по ней. Вот наконец и лодка; он вскочил в нее, и в эту минуту лодку понесла вперед на своем хребте огромная волна. Вся плотина подалась сразу, и переполненная дождями, снегом и притоком со стороны стекающих вод, большая вода опустошающим потоком хлынула на равнину.
- Где Эльза? - закричал Адриан.
- Не знаю, я не мог найти ее, - отвечал Рамиро. - Гребите изо всех сил, мы можем съездить за ней завтра… прихватим тогда и монаха.
Наконец холодное зимнее солнце поднялось над водяной пустыней, представлявшей теперь довольно спокойную поверхность. Рамиро на вчерашней лодке направлялся сквозь утренний туман к тому месту, где должна была стоять Красная мельница.
Ее уже не было, над водой возвышались только остатки красного кирпичного фундамента, но деревянная часть была снесена первой же налетевшей волной.
- Это что такое? - спросил один из гребцов, указывая на темный предмет, плывший среди обломков деревьев и пучков камыша, прибитых водой к фундаменту.
Лодка направилась к этому предмету. Он оказался телом отца Фомы, который, вероятно, оступился, направляясь к лодке, и попал в глубокую воду.
- Гм! - Проклятие девушки! - пробормотал Рамиро. - Заметьте, друзья, как иногда совпадение случайных обстоятельств может повести к суеверию. Постойте-ка! - Обхватив мертвеца одной рукой, он другою обшарил его карманы и с улыбкой удовольствия нащупал в одном из них кошелек с тем самым золотом, которое он отсчитал монаху накануне вечером.
- О, Эльза, Эльза! - горевал Адриан.
- Успокойся, мой сын, - обратился к нему Рамиро, когда лодка повернула назад, предоставив отцу Фоме покачиваться на легкой ряби водной поверхности, - ты лишился жены, характер которой, впрочем, сулил тебе мало счастья в будущем, но зато у меня сохранился документ о вашем браке, составленный вполне по форме и подписанный свидетелями, и ты - наследник Эльзы.
Он не прибавил, что он, в свою очередь, считает себя наследником сына. Но Адриан подумал об этом и даже при всем своем расстройстве не мог не задать себе вопроса: долго ли еще ему, ближайшему родственнику Рамиро, украшать собою этот мир?
«Вероятно, пока от меня еще можно ждать какой-нибудь прибыли», - решил он.
ГЛАВА XXVII. Что Эльза увидела при лунном свете
Читатель помнит, что за несколько недель до принудительного брака Эльзы на Красной мельнице Мартин, бежавший с Фоем из тюрьмы, отнес его в убежище тетки Марты на Гаарлемском озере. Здесь Фой проболел довольно долго, и даже одно время его жизнь находилась в опасности от ран на ноге, грозивших ему гангреной, но в конце концов его молодые силы, крепкое сложение и лечение Марты помогли ему оправиться. Как только силы позволили, он уехал в Лейден, где мог показаться совершенно безопасно, так как испанцев оттуда выгнали.
Как усиленно билось его молодое сердце, когда он, еще несколько бледный и не вполне окрепший после перенесенной болезни, подходил к знакомому дому на Брее-страат, где жили его мать и невеста. Он готовился свидеться с ними, зная, что Лизбета уже вне опасности, а Эльза ухаживает за ней.
Лизбету, превратившуюся от горя и болезни в старуху, он действительно нашел, но Эльзы не было. Она исчезла. Накануне вечером она вышла подышать воздухом и не вернулась. Никто не мог сказать, что с ней сталось. По всему городу только и толков было, что об этом исчезновении, а мать его была близка к помешательству, опасаясь всего самого худшего.
Пытались искать в разных направлениях, но нигде не могли найти ни малейшего следа. Кто-то видел, как Эльза вышла за городские ворота, но затем она исчезла. Некоторое время Фой ничего не мог сообразить, но мало-помалу он успокоился и начал размышлять. Достав из кармана письмо, принесенное ему Мартой в вечер сожжения церкви, он стал перечитывать его, надеясь найти в нем какое-нибудь указание, так как могло случиться, что Эльзе понадобилось совершить небольшое путешествие по своим личным делам. Письмо было очень нежное; Эльза высказывала свою радость по поводу его спасения, сообщала о событиях в городе, о смерти его отца в тюрьме и заканчивала так:
«Дорогой Фой, мой жених, я не могу прийти к тебе, потому что должна ухаживать за твоей матерью; я думаю, что ты сам пожелал бы этого, точно так же как я считаю это своим долгом. Надеюсь, однако, что скоро и ты будешь с нами. Но кто в состоянии поручиться в наше ужасное время, что может случиться? Поэтому, Фой, что бы ни постигло нас, прошу тебя помнить, что и в жизни, и в смерти я твоя, твоя, мертвая или живая; умри ты, а я останься жива, или умри я, а ты останься жив, я навеки останусь верной тебе и в жизни, и в смерти, и при всем, что бы ни случилось. Теперь пока прощай, до свидания в скором будущем или тогда, когда все земное перестанет существовать для нас с тобою. Да будет с тобой благословение Божие и моя любовь; когда ты не будешь спать ночью или встанешь утром, вспоминай обо мне и молись так же, как то делает твоя невеста Эльза. Марта ждет. Прощай, дорогой, ненаглядный!»
Здесь не было ни малейшего намека на какое-либо путешествие, стало быть, если Эльзе пришлось куда-нибудь отправиться, то вопреки ее желанию.
- Что ты думаешь, Мартин? - спросил Фой, смотря на него озабоченными ввалившимися глазами.
- Рамиро… Адриан… украли, - ответил Мартин.
- Почему ты так думаешь?
- Видели третьего дня, что Симон бродил за городом, а на реке стояла какая-то подозрительная лодка. Ювфроу вышла за город, об остальном можно догадаться.
- Зачем она могла понадобиться им? - хриплым голосом спросил Фой.
- Кто знает? - сказал Мартин, пожимая плечами. - По-моему, могут быть две причины. Предполагают, что состояние Бранта, когда оно будет найдено, перейдет к ней - вот поэтому-то она и могла понадобиться вору Рамиро; Адриан же влюблен в нее - и естественно, ему хотелось заполучить ее. Знаем мы эту парочку и всего можно ожидать от нее.
- Убью их обоих, попадись они мне в руки, - заявил Фой, скрежеща зубами.
- И я, само собой разумеется, только прежде надо поймать их и отыскать ее, что одно и то же.
- Как это сделать, Мартин?
- Не знаю.
- Подумай.
- И то стараюсь, герр Фой, а вы-то не думаете. Вы говорите слишком много, помолчите.
- Ну что же, придумал что-нибудь? - спросил Фой через полминуты.
- Нет пользы раздумывать, герр Фой. Придется бросить все это и отправиться к Марте. Никто, кроме нее, не в состоянии выследить их. Здесь нам ничего не узнать.
Они вернулись на остров Гаарлемского озера и рассказали Марте свою грустную повесть.
- Поживите здесь денек-другой и не теряйте терпения, - сказала она. - Я отправлюсь на поиски.
- Ни за что мы не останемся здесь, и мы идем с вами, - заявил Фой.
- Как хотите, но дело предстоит трудное. Мартин, приготовь-ка эту большую лодку.
Прошло две ночи, и было около часа пополудни третьего дня венчания Эльзы. Снег перестал, и его сменил постоянный частый дождь. На северном краю Гаарлемского озера спрятанная в камышах - частью скрываясь от непогоды, а частью от испанцев - стояла большая лодка, в которой находились Фой и Мартин. Марты с ними не было: она отправилась в корчму на некотором расстоянии, чтобы попытаться собрать какие удастся сведения. Сотни крестьян в этих местах знали и любили ее, хотя многие и не признались бы в этом открыто, и от них-то Марта надеялась узнать что-либо о месте пребывания Эльзы, если только ее не увезли прямо во Фландрию или даже в Испанию.
Целых два дня она уже употребила на розыски, но пока без всякой тени успеха. Фой и Мартин сидели в лодке, мрачно переглядываясь, и на Фоя действительно было жалко смотреть.
- О чем вы думаете, герр Фой? - спросил Мартин.
- Думаю, что если бы мы и нашли ее теперь, было бы уже поздно; то, что они хотели сделать - убить ее или выдать замуж - они уже исполнили.
- Успеем погоревать об этом, когда
найдем ее, - проговорил Мартин, не зная, что сказать, кроме этого, и прибавил: - Слышите?.. Кто-то идет.
Фой раздвинул камыши и выглянул на проливной дождь.
- Верно, - сказал он, - идет Марта, а с ней еще кто-то.
Мартин выпустил рукоять меча «Молчание». В эти дни рука и оружие не должны были находиться далеко друг от друга. Через минуту Марта и ее спутник вошли в лодку.
- Кто это? - спросил Фой.
- Мой знакомый, Март Ян.
- Узнали что-нибудь?
- Да, Март Ян кое-что знает.
- Говори скорее! - с нетерпением обратился Фой к пришедшему.
- Мне не станут мстить? - спросил Март Ян, недурной малый, хотя и попавший в плохую компанию, и подозрительно взглянул на Фоя и Мартина.
- Ведь я же тебе обещала, - сказала Марта, - а разве случалось Кобыле нарушать свое слово?
Март Ян рассказал все, что ему было известно: как он находился в числе гребцов, отвозивших две ночи тому назад Эльзу или молодую особу, подходившую к ней по описанию, на Красную мельницу, недалеко от Фельзена, и как ее охраняли мужчина и женщина, которые не могли быть не кем иными, как Симоном и Мег. Он рассказал об ее мольбе во имя их жен и дочерей, обращенной к лодочникам, причем, слушая его, Фой плакал от страха и бешенства и даже Марта заскрежетала зубами. Только Мартин столкнул лодку с отмели и направил ее к глубокой воде.
- Это все? - спросил Фой.
- Все, мейнгерр. Больше я ничего не знаю, но могу объяснить вам, где это место.
- Проводи нас! - заявил Фой.
Лодочник начал отнекиваться, ссылаясь на дурную погоду, на болезнь ожидающей его жены и т.п. Он даже пытался было выскочить из лодки, но Мартин поймал его и, бросив обратно в лодку, сказал:
- Ты один раз мог съездить на мельницу, отвозя девушку, про которую знал, что ее увезли силой, можешь вторично съездить, чтобы освободить ее. Сиди смирно и управляй рулем, а не то я брошу тебя на съедение рыбам.
После этого Март Ян выказал полную готовность направить лодку к Красной мельнице, до которой можно было, по его словам, добраться к сумеркам.
Все послеполуденное время они плыли то под парусом, то на веслах, пока в сумерки, еще прежде чем показалась мельница, не началось наводнение, такое наводнение, какого десятки лет не бывало в той местности, и волны не начали их бросать из стороны в сторону. Но Март Ян хорошо умел держать курс, он обладал инстинктом, врожденным у тех, предки которых снискивали себе пропитание на бурных волнах, и поэтому плыл не сбиваясь к намеченной цели.
Один раз Фою показалось, что он слышит голос, взывающий о помощи, но призыв не повторился, и они поплыли дальше. Наконец небо прояснилось, и месяц осветил такую водную поверхность, какую разве Ною пришлось видеть из ковчега, только на этой поверхности носились вещи, какие вряд ли приходилось видеть Ною: стога сена, мертвый и тонущий скот, домашняя утварь и даже гроб, вымытый с какого-нибудь кладбища, и только вдалеке мелькали бесплодные вершины дюн.
- Мельница должна быть недалеко, - сказал Март Ян, - повернем.
Они повернули и стали грести усталыми руками, так как ветер вдруг утих.
Теперь мы вернемся несколько назад. Из комнаты, где совершилось ее венчание, Эльза побежала к себе наверх и заперла дверь. Через несколько минут она услыхала стук и голоса Симона и Мег, просившие ее отворить. Она не отозвалась, стук прекратился, и тут Эльза в первый раз услыхала гул и рев прибывающей воды. Время шло как в каком-то кошмаре, пока вдруг не раздался треск ломающегося дерева. Эльза заметила, что вся мельница стала оседать. Она уступила напору волн в тех местах, которые были старее всего, верхняя узкая часть ее рухнула, красная крыша повисла, как пригнутое ветром к земле дерево. Эльза в ужасе бросилась к двери, ища лестницу. Но вода уже поднималась по ступенькам: путь был отрезан. Но в комнате была еще лестница, которая вела на бывший чердак, теперь лежавший под острым углом. Эльза взобралась на эту лестницу, так как вода лилась в двери, - деваться было некуда. Под самой крышей оказался люк. Эльза вползла в него и очутилась как раз в месте прикрепления гигантских мельничных крыльев.
Ветер задул фонарь, который она успела захватить с собой. Эльза схватилась за стержень, к которому были прикреплены лопасти крыла. Тут она заметила, что деревянная крыша, опираясь еще на кирпичный фундамент, качается во все стороны, как лодка на бушующем море. Вода подходила к ней, Эльза слышала это по всплескам волн, хотя не видала воду и она еще не смочила ее ног.
Часы протекали; сколько времени прошло, Эльза не могла определить; но наконец тучи несколько разошлись, выглянул месяц, и при его свете она увидела нечто ужасное. Вся окрестность была покрыта водой, до крыши она не доходила всего на несколько футов и все еще продолжала подниматься. Эльза заметила, что на крыше изнутри были маленькие выступы вроде ступенек, которые вели к слуховому окну. Кое-как она добралась до этого окна. Отсюда можно было кое-что рассмотреть. Очень близко, но все же отделенные пространством футов в пятнадцать волнующейся желтой воды, виднелись остатки каменного фундамента, за которые хватались две человеческие фигуры - Симон и Мег. Они также увидали Эльзу и стали звать на помощь, но Эльза не могла помочь им. Без сомнения, то был сон: ничего подобного не могло случиться наяву.
Вода все больше и больше заливала фундамент, пространство, на котором держались два существа, становилось все меньше и меньше. Скоро оно сделалось слишком тесным для обоих. Они начали ссориться, браниться, и их разъяренные скотские лица почти соприкасались между собой, между тем как сами они, скорчившись, стояли на руках и коленях. Вода еще поднялась; они продолжали стоять в том же положении, и Симон головой толкнул Мег. Но Мег была еще сильна, она ответила на толчок толчком, и в следующую минуту, как кошка, вспрыгнула Симону на спину, придавив его. Он пытался стряхнуть ее, но не мог, не решаясь разжать рук, которыми держался, он повернулся своим плоским ужасным лицом и укусил жену в ногу. Мег громко вскрикнула от боли - этот крик услыхал Фой, - затем выхватила нож из-за пазухи - Эльза видела, как он сверкнул при лунном свете, - и стала наносить им удары.
Эльза закрыла глаза. Когда она снова открыла их, женщина осталась одна на узком карнизе, распластавшись, как лягушка. Так она лежала с минуту, как вдруг карниз стал опускаться и исчез, затем он снова вынырнул, а Мег продолжала держаться за него, вся мокрая, воя от ужаса. Карниз снова скрылся под водой, на этот раз глубже, и когда всплыл опять, то на нем уже никого не было; нет, впрочем, было одно существо - полудикая черная кошка, бродившая по мельнице, Черная Мег же исчезла без следа.
Стало страшно холодно, так как дождь сменился морозом. Не случись так, что на Эльзе было надето теплое зимнее платье, обшитое мехом, совершенно сухое, она, наверное, поплатилась бы здоровьем. Она совершенно ослабела и лишилась сознания. Ей показалось, что все - ее насильственное замужество, наводнение, смерть Симона и Мег - все это было не более как сон, кошмар, проснувшись от которого она окажется лежащей в своей теплой постели на Брее-страат. Да, это не что иное как кошмар, иначе как могла снова повториться та ужасная борьба, которой Эльза была свидетельницей, а между тем Эльза снова увидала Симона, кусающего ногу своей жены, только его плоское лицо сменилось кошачьей головой, горящие глаза которой устремились на нее. А Мег продолжала наносить ему удары между лопаток, и вдруг она начала расти, принимая гигантские размеры, лицо ее поднялось из воды и подплыло к ней на расстояние фута. Эльза чувствовала, что должна неминуемо упасть, но решилась прежде закричать о помощи, так закричать, чтобы мертвые услыхали ее. Но не лучше ли удержаться от крика? Крик может вернуть Рамиро, лучше молча присоединиться к уже умершим. Но что такое говорит голос, голос Мег, однако очень сменившийся? Он ободряет ее, говорит, что слышанный ею звук вовсе не происходит от ударов ножа, а от весел. Вероятно, это Рамиро приехал в лодке, чтобы схватить ее. Нет, она не дастся в руки ему или Адриану, она лучше бросится в воду, отдавшись на волю Божию. Раз, два, три - и все кончено…
Вдруг Эльза увидала, что на нее падает свет, и почувствовала, что кто-то целует ее в лоб и губы. Она в ужасе подумала, что это Адриан, и наполовину открыла глаза. Но как странно: ее целовал вовсе не Адриан, а Фой. Без сомнения, это все еще продолжение сна, а так как во сне или наяву Фой имел полное право целовать ее, то она и не противилась. Затем ей показалось, что она слышит знакомый голос Красного Мартина, который спрашивает у кого-то, за сколько времени можно доплыть до Гаарлема при попутном ветре, на что другой голос отвечает: «За три четверти часа».
Как странно, почему Мартин сказал в Гаарлем, а не в Лейден?.. После того другой, также знакомый голос, сказал:
- Она приходит в себя.
Кто-то влил ей в горло вина, и Эльза, уже не будучи дольше в состоянии переносить неизвестность, совсем открыла глаза. Тут она увидела перед собой Фоя, живого Фоя.
Она глубоко вздохнула и снова начала терять сознание от радости и слабости, но Фой обнял ее и прижал к груди. Тогда она вспомнила все.
- О, Фой, Фой! - воскликнула она. - Ты не должен целовать меня.
- Почему? - спросил он.
- Потому что… потому что… я замужем.
Вдруг его счастливое лицо омрачилось.
- Замужем? - с усилием проговорил он. - За кем?
- За твоим братом, Адрианом.
Он растерянно смотрел на нее и медленно спросил:
- Ты убежала из Лейдена, чтобы обвенчаться с ним?
- Как вы смеете задавать мне такой вопрос?! - вскричала Эльза, вся вспыхнув.
- Может быть, ты потрудишься в таком случае объяснить все?
- Тут нечего объяснять. Я думала, ты все знаешь. Они увезли меня силой в ночь перед наводнением и силой обвенчали.
- Подожди же, друг Адриан, попадешься ты мне! - скрежеща зубами, проговорил Фой.
- Надо быть справедливым, - продолжала Эльза, - он, кажется, вовсе не особенно желал жениться на мне, но другого исхода не было, так как иначе меня обвенчали бы с Рамиро…
- И он, этот добрый, мягкосердечный человек, пожертвовал собой, - насмешливо перебил ее Фой.
- Да, - сказала Эльза.
- А где же твой пожертвовавший собой… Не могу выговорить, кто…
- Не знаю; предполагаю, что они с Рамиро спаслись в лодке; а может быть, он утонул.
- В таком случае, ты стала вдовой раньше, чем того ожидала, - сказал Фой более веселым тоном, подвигаясь к Эльзе.
Но Эльза несколько отодвинулась, и Фой с ужасом заметил, что как ни ненавистен ей ее брак, она все-таки признает его.
- Не знаю, - отвечала она. - Думаю, что мы со временем что-нибудь услышим о нем, и тогда, если он окажется в живых, я стану хлопотать, чтобы освободиться от него. А пока, мне кажется, я его законная жена, хотя никогда больше не увижу его. Куда мы едем?
- В Гаарлем. Испанцы стягиваются вокруг города, и мы не можем даже пытаться пробиться через их линию. Позади нас испанские лодки. Скушай что-нибудь и выпей глоток вина, а потом расскажи нам все случившееся.
- Один вопрос, Фой. Как вы нашли меня?
- Мы слышали два раза женский крик: один раз вдали, другой раз ближе, и, поехав на звук, увидали что-то висящее из опрокинувшейся мельницы футах в трех или четырех над водой. Мы знали, что тебя отвезли на мельницу, нам сказал это этот человек. Ты узнаешь его? Но мы долго не могли найти мельницы впотьмах и при разливе.
Немного подкрепившись, Эльза рассказала свою историю слушателям, собравшимся под парусом, между тем как Март Ян управлял рулем. Когда она кончила, Мартин сказал что-то шепотом Фою, и, как бы повинуясь одному общему побуждению, все четверо опустились на колени на лавки лодки и возблагодарили Бога за избавление молодой беззащитной девушки от такой ужасной опасности через ее друзей и ее нареченного жениха. Окончив простую, но сердечную благодарственную молитву, они встали, и Эльза не воспротивилась, когда Фой взял ее руку.
- Скажи, милая, правда, что ты считаешь действительным этот насильственный брак? - спросил он.
- Выслушайте меня, прежде чем ответить, - вмешалась Марта. - Это вовсе не брак, так как никого нельзя обвенчать без его согласия, а ты не давала своего согласия.
- Это не брак, - повторил за Мартой Мартин, - а если он считается браком, то меч мой рассечет его.
- Это вовсе не брак, - сказал Фой, потому что, хотя мы и не стояли с тобой перед алтарем, но сердца наши соединены, стало быть, ты не можешь стать женой другого.
- Милый, - ответила Эльза, - и я так же убеждена, что это не брак, но священник произнес слова венчания надо мной и надел мне на палец кольцо, таким образом, перед законом, если еще есть закон в Нидерландах, я жена Адриана. Стало быть, прежде чем я могу стать твоей женой, все случившееся должно быть предано гласности, и я должна обратиться к закону, чтобы он освободил меня.
- А если закон не может или не захочет этого сделать, что тогда, Эльза?
- Тогда, мой милый, наша совесть будет чиста, и мы станем сами себе законом. Пока же придется подождать. Ты доволен теперь, Фой?
- Нет, - мрачно возразил Фой, - возмутительно, чтобы подобный дьявольский замысел мог разлучить нас, хотя бы на один только час. Однако и в этом, как во всем остальном, я послушаюсь тебя, милая.
- Перестаньте говорить о женитьбе и замужестве, - раздался резкий голос Марты. - Теперь перед нами другое дело. Взгляни туда, девушка. Что ты видишь? - Она указала на берег. - Призраки амаликитян, тысячами идущих на избиение нас и наших братьев, сынов Божиих. Взгляни назад. Что ты видишь? Корабли тиранов стремятся окружить город сынов Божиих. Наступит день смерти и опустошения, и, прежде чем солнце зайдет, тысячи людей перейдут через врата смерти, а между этими тысячами, может быть, и мы. Поднимем же знамя свободы, обнажим оружие на защиту правды, опояшемся мечом справедливости и возьмем себе в защиту щит надежды. Сражайтесь за свободу страны, родившей вас, за память Христа, Царя, умершего за вас, за веру, в которой вы выросли, бейтесь, и только когда битва будет выиграна, но не раньше, тогда думайте о мире и любви. Не смотрите на меня с таким испугом, дети. Я, сумасшедшая скиталица, говорю вам, что вам нечего бояться. Кто защитил тебя в тюрьме, Фой ван-Гоорль? Какая рука сохранила твою жизнь и честь, когда ты очутилась среди дьяволов на Красной мельнице, Эльза Брант? Вы это хорошо знаете; и я, Марта, говорю вам, что эта самая рука защитит вас до конца. Да, я знаю это. Тысячи и десятки тысяч будут падать вокруг вас, но вы переживете и голод и болезни, стрелы будут пролетать мимо вас, и меч злодея не коснется вас. Я - другое дело, наконец мой час приближается, и я рада; вам же, Фой и Эльза, я предсказываю много лет земных радостей.
Так говорила Марта, и слушателям ее казалось, что ее возбужденное обезображенное лицо светилось вдохновением, и никому из них, знавших ее историю и веривших в то, что пророческий дух может проявляться в избранниках, не показалось странным открывшееся перед ней видение будущего. Слова Марты успокоили ее слушателей, и на некоторое время они перестали думать об опасности.
А опасность между тем была большая. По роковому стечению обстоятельств наши друзья избегли одной опасности, чтобы попасть в другую, еще большую, так как случилось, что именно десятого декабря 1572 года они попали как раз в кольцо испанской армии, стягивавшейся вокруг обреченного на погибель города Гаарлема. Спасение было невозможно: никакое существо, не обладавшее крыльями, не могло прорваться сквозь эту цепь судов и солдат. Единственным убежищем являлся город, где им пришлось остаться до конца осады, одной из самых ужасных осад. У них оставалось одно утешение: что они встретят смерть вместе и что с ними есть два любивших их человека - Марта, «бич испанцев», и Мартин, свободный фрис, богатырь, как бы дарованный им Богом щит.
Бывшие жених и невеста улыбнулись друг другу и смело поплыли к воротам Гаарлема, которые скоро должны были затвориться.
ГЛАВА XXVIII. Возмездие
Прошло семь месяцев, семь самых ужасных месяцев, которые когда-либо приходилось переживать людским существам. Во все это время - при снеге, и морозах, и зимних туманах, при ледяных весенних ветрах, и теперь, в самый разгар летней жары, - Гаарлем был осажден тридцатитысячной испанской армией, состоявшей большей частью из опытных, старых солдат под начальством дона Фредерика, сына Альбы, и других полководцев. С этим дисциплинированным войском приходилось бороться маленькому четырехтысячному гарнизону Гаарлема, состоявшему из голландцев, немцев, небольшого числа англичан и шотландцев и двадцатитысячного населения - мужчин, женщин и детей. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц между этими двумя неравными силами шла борьба, сопровождавшаяся с обеих сторон проявлениями геройства, но также и жестокости, которую мы в наше время назвали бы чудовищной. В ту эпоху военнопленные не могли ждать пощады, и тот мог считать себя счастливым, кому не приходилось умирать медленной смертью повешенного за ноги на глазах своих сограждан.
Стычек происходило без числа, люди гибли массами, из одних только жителей умерло двенадцать тысяч, так что окрестности Гаарлема превратились в одно огромное кладбище, и даже рыба в озере была отравлена трупами. Приступы, вылазки, засады, военные хитрости, смертельные стычки на льду между солдатами на коньках, отчаянные морские сражения, попытки штурма, взрывы мин и контрмин, при которых гибли тысячи, - все это сделалось обычными событиями дня.
К этому присоединились еще другие ужасы: мороз при недостатке топлива, различные болезни, всегда развивающиеся во время осады, и самое худшее из бедствий - голод. Неделю за неделей, по мере того как затягивалась осада, запасы пищи уменьшались, и наконец, совсем истощились. Травы, росшие на улице, остатки на кожевенных заводах, все отбросы, кошки и крысы - все было съедено. На высокой башне собора уже много дней развевался черный флаг, долженствовавший известить принца Оранского в Лейдене, что в Гаарлеме царствует мрачное отчаяние. Были сделаны последние попытки прийти извне на помощь осажденным; но Баттенберг был разбит и умер, так же как владетельные князья Клотингена и Карлоо, потерявшие до шестисот человек. Надежды не оставалось!
Начали строить отчаянные планы: оставить детей, женщин и больных в городе, а всем способным носить оружие попытаться пробиться через ряды осаждающих. Надеялись, что испанцы сжалятся над безоружными - как будто чувство жалости было доступно этим людям, которые впоследствии вытаскивали раненых и больных к дверям госпиталей и здесь хладнокровно их убивали и вообще совершали повсюду такие зверства, которые перо отказывается описать. Старинная хроника говорит: «Но женщины поняли это и, собравшись вместе, подняли такой ужасный крик, что каменное сердце должно было тронуться, и не оказалось возможным бросить их».
Затем составился другой план: взяв всех женщин и беспомощных в середину каре вооруженных людей, выйти из города и биться с врагом, пока не падет последний человек. Услыхав это и опасаясь того, что могли произвести эти доведенные до отчаяния люди, испанцы склонились на переговоры. Они сообщили жителям Гаарлема, что те останутся безнаказанными, если заплатят двести сорок тысяч флоринов. Не имея ни пищи, ни надежды, несчастные, защищавшиеся до того, что их четырехтысячный гарнизон насчитывал теперь всего девятьсот человек, сдались.
В половине первого рокового дня, 12 июля, ворота растворились, и испанцы, сколько их осталось в живых, с доном Фердинандом во главе, при барабанном бое, развевающихся знаменах и с обнаженным, отточенным для убийства оружием в руках вступили в город Гаарлем. В глубокой нише между двумя кирпичными колоннами собора стояло четверо знакомых нам людей. Война и голод оставили их в живых, хотя они разделяли общую участь всех жителей. Фой и Мартин принимали участие в каждом предприятии, как бы опасно оно ни было, и бились или стояли на часах всегда рядом, и испанцы близко познакомились с тяжестью меча «Молчание» и руки рубившего их рыжебородого великана.
Марта тоже не теряла времени в бездействии. Во все время осады она состояла адъютантом при вдове Хасселер, сражавшейся с тремястами женщинами день и ночь бок о бок с их братьями и мужьями. И Эльза, несмотря на свое нежное сложение и робкий характер, не позволявший ей принимать участие в сражениях, нашла применение своим силам: она рыла рвы и помогала класть стены, так что ее нежные ручки загрубели и растрескались.
Как все они изменились! Фой, имевший всегда юношески-цветущее лицо, теперь имел вид человека средних лет. Высокий Мартин напоминал гигантский скелет, на котором висело платье, или, скорее, лохмотья его и вытертая буйволовая куртка, а его голубые глаза светились из глубоких впадин над огромными выдавшимися скулами. Эльза сделалась совсем маленькой, как ребенок. Ее кроткое личико утратило красоту и возбуждало жалость, и вся округленность ее фигуры исчезла: она стала походить на исхудалого мальчика. Из всех четверых Марта, одетая мужчиной, изменилась меньше всего. За исключением того разве, что ее волосы совершенно поседели, а лицом она стала еще больше напоминать лошадь, так как желтые зубы еще больше выставлялись изо рта, лишенного губ, а худые, сухие руки стали походить на руки египетской мумии.
Мартин опирался на свой большой меч и вздыхал.
- Проклятые трусы, - бормотал он, - зачем они не выпустили нас, чтобы мы могли умереть сражаясь? Только безумные глупцы могут отдать себя на произвол испанцев.
- О, Фой! - воскликнула Эльза, порывисто обнимая своего бывшего жениха, - ты ведь не отдашь меня им? Если уж на то пойдет, ты убьешь меня, не правда ли? Иначе мне придется самой убить себя, а я трусиха, Фой, я боюсь сделать это.
- Хорошо, - сказал он хриплым, неестественным голосом. - Но Господи, если ты есть, сжалься над нею… сжалься…
- Не богохульствуй, не сомневайся! - прервала Фоя Марта. - Разве не произошло все, как я сказала тебе прошлой зимой в лодке? Разве ты не состоял под покровительством и не найдешь его до конца? Только не богохульствуй и не сомневайся.
Ниши, где они находились, не было видно с большой площади проходящим, но в ту минуту, как Марта говорила, человек восемь или девять победоносных испанцев вышли из-за угла и заметили группу скрывавшихся в притворе.
- Тут смазливенькая девушка, - сказал командовавший отрядом сержант, - вытащите-ка ее, молодцы.
Несколько человек выступили вперед, намереваясь исполнить его приказание, но тут Фой не вспомнил: он не убил Эльзу, как она просила его, а бросился на говорившего, и через минуту меч его на фут вышел из горла, пронзив его насквозь. За ним с негромким криком последовал Мартин с обнаженным мечом «Молчание», за Мартином - Марта со своим большим ножом. В несколько минут все было кончено: пять человек лежали на земле - трое убитых и двое тяжело раненных.
- Еще прибавка к счету, - проговорила Марта, нагибаясь над ранеными, между тем как их товарищи спешили скрыться за углом.
Наступила минутная тишина. Яркое летнее солнце светило на лица и вооружение убитых испанцев, на обнаженный меч Фоя, наклонившегося над Эльзой, прижавшейся в углу ниши и закрывшей лицо руками, на ужасные голубые глаза Мартина, сверкавшие яростью. Затем снова послышались шаги, и появился отряд испанцев, предводительствуемый Рамиро и Адрианом.
- Вот они, капитан, - сказал один из солдат, один из бежавших. - Прикажите пристрелить их?
Рамиро взглянул сначала как бы мельком, но затем пристально. Наконец-то они попались ему! Уже давно он узнал, что Фой и Красный Мартин спасли Эльзу на Красной мельнице, и теперь, после долгих поисков, птицы попались в его сети.
- Нет, зачем! - отвечал он. - Над такими отчаянными людьми должен быть назначен особый суд.
- Куда же мы можем посадить их? - недовольным голосом спросил сержант.
- Я заметил, что при доме, где мы поселились с сыном, прекрасный погреб; пока их можно посадить туда, то есть всех, кроме дамы, о которой уже позаботится сам сеньор Адриан, так как это, оказывается, его жена.
Солдаты, не стесняясь, захохотали.
- Я повторяю, жена его, которую он искал уже много месяцев, - продолжал Рамиро, - и стало быть, с ней надо обращаться почтительно. Понимаете?
Солдаты, по-видимому, поняли, по крайней мере ни один из них не отвечал. Они уже успели заметить, что их начальник не любит возражений.
- Ну, вы, сдавайте оружие! - обратился Рамиро к Фою и Мартину.
Мартин подумал с минуту, видимо, рассуждая, не лучше ли будет броситься на испанцев и умереть сражаясь. И в эту минуту ему, как он говорил впоследствии, пришла на память старинная народная пословица: «Не считай игру проигранной, пока не выиграешь», и, истолковав ее так, что только мертвый никогда не может надеяться выиграть, он отдал меч.
- Давай его сюда, - сказал Рамиро. - Это замечательный меч, и он мне понравился.
Солдаты передали ему меч, и он повесил его себе через плечо. Фой смотрел то на свой меч, то на стоявшую на коленях Эльзу. Вдруг ему пришла мысль, и он взглянул в лицо Адриану, своему брату, с которым он виделся в последний раз, когда тот прибежал в контору предупредить его и Мартина. Он знал, что Адриан с отцом сражаются в рядах испанцев, но им ни разу не пришлось встретиться. Даже тут, в эту критическую минуту, Фоя поразила мысль о том, что Адриан, при всей своей низости, потрудился предостеречь их и тем дал возможность организовать свою защиту в литейной башне.
Фой взглянул на брата. Адриан был в мундире испанского офицера, в латах поверх стеганой куртки и в стальном шлеме, украшенном истрепанными перьями. Лицо его изменилось: в его красивых чертах не было и тени прежней надменности, он похудел и выглядел запуганным, как животное, дрессированное с помощью голода и хлыста. Фою показалось, что сквозь печать позора и падения он уловил на лице брата какое-то особенное выражение, как бы желание сделать что-либо хорошее, мелькнувшее, подобно солнечному лучу из-за черных туч. Может быть, Адриан, в конце концов, не так еще дурен, может быть, он действительно такой, каким его всегда считал Фой, - пустой, взбалмошный, бесхарактерный, рожденный, чтобы быть всегда игрушкой, а считающий себя главой, но ни в коем случае не злой. Кто знает? Но и в худшем случае, не лучше ли Эльзе стать женой Адриана, чем погибнуть, и погибнуть от руки любящего ее человека?
Эта мысль мелькнула в уме Фоя, как молния, пронизывающая тучи, и он бросил свой меч солдату, который подхватил его. В эту минуту его взгляд встретился с взглядом Адриана, и ему показалось, что он читает в этом взгляде благодарность и обещание.
Всех забрали, и, расталкивая толпу пинками и ударами солдаты повели их по улицам павшего города в одно из зданий, еще не вполне разрушенное ядрами, в дом, стоявший в некотором отдалении от стен, которые представляли груду развалин, и городских ворот, где происходили такие ужасные сцены, в дом, принадлежавший прежде одному из зажиточнейших граждан Гаарлема. Здесь Фоя и Эльзу разлучили. Она уцепилась за него, но ее оторвали и потащили на верхний этаж, между тем как его, Мартина и Марту заперли в темном погребе.
Через некоторое время дверь погреба приотворилась, чья-то рука - не было видно, чья - просунула воды и кушанья, хорошего кушанья, такого, какого они не ели уже много месяцев: мяса, хлеба, сухих селедок было так много, что они не могли съесть все сразу.
- Может быть, кушанье отравлено, - сказал Фой, жадно нюхая принесенное.
- Какая корысть отравлять нас, - сказал Мартин. - Поедим сегодня, а завтра - смерть.
Как истощенные голодом животные, принялись они за еду, а затем, несмотря на все свои несчастья и опасения, уснули крепким сном.
Через несколько минут, как им показалось, в действительности же через девять часов, дверь снова отворилась, и вошел Адриан с фонарем в руке.
- Фой, Мартин, вставайте и пойдем со мной, если хотите остаться живы.
Они в минуту совершенно проснулись.
- Идти за тобой, за тобой? - проговорил Фой, запинаясь.
- Да, - спокойно отвечал Адриан. - Конечно, может случиться, что вам и не удастся убежать, но если вы останетесь здесь, что ожидает вас? Рамиро, мой отец, скоро вернется, и тогда…
- Сумасшествие вверяться вам! - прервал его Мартин, и презрение, слышавшееся в его голосе, больно отозвалось в сердце Адриана.
- Я знал, что ты подумаешь это, - сказал он покорно, - но что же остается делать? Я могу вывести вас из города. У меня уже приготовлена лодка для вашего бегства. Я рискую собственной жизнью, что же я могу сделать больше? Почему вы колеблетесь?
- Потому что не доверяем тебе, - возразил Фой, - и, кроме того, я не уйду без Эльзы.
- Я предвидел это, - отвечал Адриан. - Эльза здесь. Эльза, подите сюда, покажитесь.
Эльза спустилась по лестнице в погреб, уже изменившаяся Эльза, так как и ее накормили, и в ее глазах светилась надежда. Необузданная радость наполнила сердце Фоя. Почему она смотрит так? Она же подбежала к нему, обхватила руками его шею и поцеловала его, а Адриан не сделал никакого движения и только отвернулся.
- Фой, - поспешно заговорила она, - он в конце концов честный человек, только очень несчастный. Пойдем скорее, воспользуемся случаем бежать прежде, чем вернется дьявол. Теперь он в совете офицеров, обсуждающих, кто должен быть казнен, но он скоро вернется, и тогда…
Оставив всякое колебание, заключенные двинулись в путь.
Они вышли из дома, и никто не остановил их, так как сторож ушел, чтобы принять участие в грабеже. У ворот разрушенной стены стоял часовой, но он или не обратил внимания на проходящих, или был пьян, или подкуплен. Адриан сказал ему пароль, и, кивнув головой, солдат пропустил его с его спутниками.
Через несколько минут они дошли до берега Гаарлемского озера, где в камышах стояла лодка.
- Садитесь и уезжайте, - сказал Адриан.
Они вошли в лодку и взялись за весла, между тем как Марта начала отталкивать ее от берега.
- Адриан, что будет с вами? - спросила Эльза.
- Зачем вам беспокоиться об этом? - ответил он с горькой усмешкой. - Я иду на смерть, и моя кровь будет платой за вашу свободу. Я ваш должник.
- Нет! - воскликнула она. - Поедемте с нами.
- Да, - поддержал ее Фой, хотя снова почувствовал приступ ревности, - поедем с нами, брат.
- Ты от души приглашаешь меня? - спросил Адриан нерешительно. - Подумайте, я могу выдать вас.
- Если так, то почему вы не сделали этого теперь? - спросил Мартин. - И, вытянув свою огромную костлявую руку, схватил Адриана за ворот и перетащил его в лодку.
Лодка отчалила.
- Куда мы едем? - спросил Мартин.
- Предполагаю, что в Лейден, - сказал Фой, - если только возможно будет добраться без паруса и оружия, что, кажется, весьма невероятно…
- Кое-какое оружие я положил в лодку, - прервал его Адриан, вынимая из трюма простую тяжелую секиру, пару испанских мечей, нож, небольшой топор, арбалет и несколько железных полос.
- Недурно, - сказал Мартин, гребя левой рукой, а правой размахивая большой секирой. - А все же жаль моего «Молчания», который проклятый Рамиро отнял у меня и повесил себе на шею. И что он нашел в нем? Он слишком велик для такого карлика.
- Не знаю, - сказал Адриан, - но когда в последний раз я видел его, он возился над его рукоятью с отверткой. Он давно говорил об этом мече. Во время осады он предлагал большую награду тому, кто убьет тебя и принесет ему меч.
- Возился над рукоятью с отверткой? - переспросил Мартин. - Ах, Бог мой, я и забыл… Карта-то, карта! Какой-нибудь негодяй сказал ему, что карта того места, где скрыты сокровища, спрятана в рукояти. Вот почему ему понадобился мой меч.
- Кто же мог сказать ему это? - спросил Фой. - Тайна была известна только тебе, мне да Марте, а мы не такие люди, чтобы проговориться. Как? Выдать тайну сокровищ Гендрика Бранта, из-за которых он умер и хранить которую мы поклялись?.. Да этого никто и подумать не смеет!
Марта слышала и взглянула на Эльзу, и под ее вопросительным взглядом бедная девушка вся вспыхнула, хотя, к счастью, никто при плохом освещении не мог видеть ее румянца. Она чувствовала, что должна говорить, чтобы снять подозрение с других.
- Мне следовало сказать это раньше, - тихо проговорила она, - но я забыла, то есть я хочу сказать, что мне было ужасно стыдно… Я выдала тайну меча «Молчание».
- Ты? Откуда ты узнала ее? - спросил Фой.
- Тетушка Марта сказала мне в тот вечер, когда был сожжен собор в Лейдене, а вы бежали.
Мартин проворчал.
- Женщина доверилась женщине, да еще в такие годы. Какое сумасшествие!..
- Сам ты сумасшедший, тупоголовый фрис, - сердито перебила его Марта, - где тебе учить тех, кто умнее тебя! Я сказала ювфроу, думая, что всех нас может не стать и будет лучше, если она будет знать, где найти ключ к тайне.
- Женское рассуждение, - невозмутимо отозвался Мартин, - и оказалось оно никуда не годным: потому что если бы нас не стало, ювфроу вряд ли бы пришлось добыть мой меч. А каким образом ювфроу сказала такую вещь Рамиро?
- Я сказала потому, что струсила, - рыдая, отвечала Эльза. - Ты знаешь, Фой, я всегда была трусихой и всегда ею останусь. Я выдала тайну, чтобы спасти себя.
- От чего? - нерешительно спросил Фой.
- От замужества.
Адриан, видимо, страдал, и Фой, видя это, не мог устоять против искушения нажать больнее.
- От замужества? Насколько я понял - вероятно, Адриан может разъяснить мое недоумение - церемония была все-таки совершена.
- Да, - слабым голосом ответила Эльза, - была, я пыталась откупиться от Рамиро, сказав ему тайну, что служит вам доказательством моего ужаса при одной мысли о подобном замужестве.
Адриан глубоко вздохнул, а Мартин как будто поперхнулся.
- Мне так досадно, - смущенно продолжала Эльза. - Я не хочу обижать Адриана, особенно после того, как он был так добр к нам.
- Оставь в стороне Адриана с его добротой и досказывай, как все было, - сказал Фой.
- Рассказ не долог. Рамиро поклялся перед Богом, что если я дам ему ключ к тайне, он отпустит меня, а потом… когда я попалась в ловушку и опозорила себя, он сказал, что этого недостаточно и что меня все-таки обвенчают.
Тут Фой и Мартин прямо расхохотались.
- Что же ты ждала от него, глупая девочка? - спросил Фой.
- О, Мартин, простишь ли ты меня? - спросила Эльза. - Я сейчас же поняла, какую постыдную вещь я сделала, и увидала, что Рамиро станет преследовать вас, вот почему я все боялась сказать вам. Прошу вас, верьте мне, я сказала только потому, что страх и стыд заставили меня потерять голову. Прощаете вы меня?
- Ювфроу, - отвечал фрис, усмехаясь своей флегматичной улыбкой, - если бы Рамиро не знал меня и вы предложили бы ему мою голову на блюде, чтобы подкупить его, я не только простил бы вас, но сказал бы, что вы поступили хорошо. Вы - девушка, и вам пришлось защищать себя от ужасной вещи; стало быть, кто станет осуждать вас?..
- Я! - воскликнула Марта. - Меня Рамиро мог бы разорвать на куски раскаленными щипцами, прежде чем я сказала бы ему.
- Совершенно верно, - возразил ей Мартин, желавший поквитаться с ней, - только я сомневаюсь, чтобы Рамиро пожелал дать себе этот труд ради того, чтоб убедить вас выйти замуж. Ну, не сердитесь, по пословице: «У тупоголового фриса что на уме, то на языке».
Не найдясь, что ответить, Марта снова обратилась к Эльзе.
- Отец ваш умер из-за этих сокровищ, - сказала она, - и Дирк ван-Гоорль также; жених ваш и его слуга попали в застенок, я также кое-что сделала ради сохранения этого богатства, а вы при первом щипке выдали тайну. Правду говорит Мартин, что я сошла с ума, доверившись вам.
- Как жестоко с вашей стороны говорить так! - плача, проговорила Эльза в ответ на горькие упреки Марты. - Но вы забываете, что никого из вас не принуждали выходить замуж… Ах, Боже мой, зачем я говорю это!.. Я хотела сказать: не принуждали стать женой одного человека, когда… - ее взгляд упал на Фоя, и она решилась договорить, надеясь, что он станет на ее сторону, - когда вы очень любили другого…
- Конечно, нет, - сказал Фой, - тебе нечего объяснять дальше.
- Напротив, еще очень много, - продолжала Марта, - меня не проведешь сладкими словами. Но что теперь делать? Мы приложили все старание, чтобы спасти сокровища; неужели же в конце концов придется лишиться их?
- Как лишиться их? - переспросил Мартин очень серьезно. - Вспомните, что уважаемый Гендрик Брант говорил нам в тот вечер в Гааге. Он надеялся, что тысячи и десятки тысяч людей благословят то золото, которое он вверил нам.
- Я помню это и все его завещание, - подтвердил Фой, думая об отце и часах, проведенных им самим и Мартином в тюрьме. - Затем, взглянув на Марту, он кротко прибавил: - Тетушка Марта, хотя вас называют сумасшедшей, но вы самая умная из нас. Посоветуйте, что делать?
Марта подумала с минуту и отвечала:
- Несомненно, что, узнав о нашем бегстве, Рамиро поспешит взять лодку и отправиться на место, где скрыты сокровища, так как догадается, что иначе мы опередим его. На рассвете или часом позже он будет здесь. - Она остановилась.
- Вы думаете, что мы должны поспеть на остров раньше его?
Марта кивнула утвердительно.
- Если окажется возможным; но без стычки не обойдется.
- Да, наверное, - согласился Мартин. - Что же, я не прочь еще раз помериться с Рамиро. Этот двуязычный негодяй завладел моим мечом. Я хочу отнять его…
- Опять прольется кровь, - прервала его Эльза. - Я надеялась, что мы, по крайней мере на этот раз, спокойно отправимся в Лейден, где находится принц. Я до смерти боюсь крови, Фой. Мне кажется, я не вынесу и умру…
- Слышите, что она говорит? - спросил Фой.
- Слышим, - отвечала Марта, - но нечего обращать внимания на ее слова. Она много перенесла и ослабела духом. Я же, хотя и предвижу, что смерть ждет меня, говорю: поедемте туда, и не бойтесь.
- Я не боюсь, - заявил Фой. - Ни за какие сокровища на свете я не допущу, чтобы Эльза подверглась опасности, если она сама не желает того. Пусть она решает.
- Как ты добр ко мне! - проговорила Эльза и, подумав минуту, прибавила: - Фой, обещаешь ты мне одну вещь?
- После того как Рамиро давал тебе клятвенное обещание, я удивляюсь, как ты решаешься просить что-нибудь, - отвечал Фой, стараясь казаться веселым.
- Обещаешь ли ты мне, - продолжала она, не обращая внимания на его шутку, - что в случае моего согласия отправиться не в Лейден, а на поиски сокровищ, и если мы останемся после этого живы, ты увезешь меня из этой страны, где проливается столько крови, где столько убийств и мучений, увезешь в какую-нибудь землю, где народ живет спокойно и не принужден видеть постоянно убийства? Я многого прошу, но обещай мне это, Фой!
- Обещаю, - сказал Фой, которому самому стали невыносимы все повторявшиеся изо дня в день ужасы.
И кто из выдержавших осаду Гаарлема мог чувствовать иначе?
Фой сидел у руля; но теперь Марта взяла руль у него из рук. С минуту она всматривалась в звезды, блестевшие ярче по мере того, как месяц скрывался, затем сделала несколько поворотов и примолкла.
- Я опять голоден, - сказал Мартин, - мне кажется, я целую неделю могу есть без перерыва.
Адриан, усердно налегавший на весло, поднял голову и ответил:
- В трюме есть вино и еда, я приготовил. Может быть, Эльза прислужит тем, кто захочет есть.
Эльза, сидевшая без дела, отыскала провизию и обнесла гребцов, которые поели с аппетитом, не отрываясь от работы. После нескольких месяцев голодания вкусное кушанье и хорошее вино доставляют неописуемое наслаждение.
Когда, наконец, голод был утолен, Адриан прервал молчание, обращаясь к Фою:
- Брат, ввиду неизвестности, ожидающей нас, я, отверженный и презренный между вами, желал бы кое-что сказать тебе, если ты только пожелаешь выслушать меня.
- Говори, - отвечал Фой.
Адриан начал с самого начала и рассказал все, что случилось с ним: как сначала им овладели суеверие, тщеславие и любовь; как шпионы записали все сказанное им в порыве безумной откровенности, как угрозами заставили его подписать бумагу, имевшую такие роковые последствия. Он рассказал, как за ним гналась толпа по улицам Лейдена, точно за бешеной собакой, после того как мать выгнала его из дома, как он искал убежища в вертепе Симона, дрался с Рамиро и был побежден ловким напоминанием, что он готовился пролить кровь отца. Он рассказал о том, как он был принят в лоно римско-католической веры, об ужасной сцене в церкви и бегстве на Красную мельницу. Он рассказал также о похищении Эльзы, в котором, несмотря на свою любовь к ней, он не был виновен, и о том, как, наконец, он был принужден жениться на ней, чтобы спасти ее от Рамиро, хотя сам хорошо знал, что подобный брак ничего не значит, как во время наводнения отец увез его с мельницы, предоставив, как он после узнал, Эльзу ее судьбе, так как уже не ожидал от нее больше никакой для себя выгоды. Наконец, упавшим голосом он сообщил о своей жизни во время осады, о жизни, по его сравнению похожей на жизнь какого-то проклятого духа; как он был произведен в офицеры, когда ряды испанцев начали редеть, и как по утонченной злобе Рамиро был принужден распоряжаться казнями и избиением пленных голландцев.
Наконец ему улыбнулась удача: Рамиро, думая, что теперь Адриан уже никак не может пойти против него, оставил его с Эльзой, между тем как сам отправился по делам и, кстати, похлопотать, чтобы на его долю пришлась также часть награбленного имущества. Со своими пленниками он намеревался покончить завтра. Он, Адриан, пользуясь своею властью, освободил заключенных и приготовил для них лодку. Вот все, что он хотел сказать, и к сказанному желал только добавить, что отказывается от всяких прав на свою названную жену и просит у всех прощения.
Фой дослушал до конца. Затем, выпустив на минуту весло, обнял Адриана и проговорил своим обычным веселым голосом:
- Вот я и оказался прав! Ты знаешь, Адриан, я всегда стоял за тебя, несмотря на твой характер и странности. Я никогда не считал тебя за негодяя, но и не думал же я, что ты такой осел!
Приниженный и разбитый, Адриан не нашелся, что ответить на подобную характеристику. Он только сильнее налег на весло и вздохнул, а по его красивому бледному лицу покатились слезы стыда и раскаяния.
- Ну, перестань, старина, - принялся утешать его Фой. - Благодаря тебе случилось много дурного, но теперь, тоже благодаря тебе, все, надеюсь, пойдет хорошо. Мы квиты и забудем все остальное.
Бедняга Адриан взглянул на Фоя и Эльзу, сидевших рядом.
- Да, брат, для тебя с Эльзой все, может быть, пойдет хорошо, но не для меня: я продал себя дьяволу… и не получил условленной платы…
После этого все некоторое время молчали, все чувствовали, что положение слишком трагично, чтобы можно было разговаривать, заблуждения, даже злое намерение Адриана - все сглаживалось его полной неудачей и искупалось
постигшим его возмездием.
Сероватый свет летнего утра занимался над поверхностью большого озера-моря. Позади солнечные лучи преломлялись на золотой короне башни собора, возвышавшейся над Гаарлемом, павшим городом, и его патриотами, ожидавшими смерти от меча убийц. Сидевшие в лодке взглянули и содрогнулись. Не будь Адриана, они находились бы теперь в плену, а что это значило, было всем хорошо известно. Если бы у них оставалось еще какое-нибудь сомнение, оно бы рассеялось при виде водной поверхности, усеянной остовами полусожженных кораблей, остатками побежденного флота Вильгельма Молчаливого, напоминавшими о последних отчаянных усилиях освободить погибавший от голода город. По временам их весла касались чего-то мягкого - тел утонувших и убитых людей, иногда в полном вооружении.
Наконец лодка выехала из этого морского кладбища, и Эльза могла смотреть кругом без содрогания. Потянулись острова, поросшие роскошными летними травами, зеленевшими и цветшими так, как будто никакой испанец не топтал их ногами в продолжение долгих зимних месяцев осады и мора. Сотни этих островков появлялись со всех сторон, но Марта направляла лодку средь их лабиринта, как по прямой дороге. Когда солнце взошло, она поднялась в лодке и, прикрыв глаза рукой, стала всматриваться вдаль.
- Вот это место, - сказала она, указывая на маленький островок, весь заросший болотной травой, от которого нечто вроде природной плотины более чем в шесть футов ширины вдавалось в виде длинного языка в середину тинистого болота, населенного куликами и водяными курочками с их красноносым потомством.
Мартин также встал. Он оглянулся назад и сказал:
- На горизонте виднеется парус. Это Рамиро.
- Без сомнения, - спокойно отвечала Марта. - У нас еще полчаса работы впереди. Гребите сильнее, отталкивайтесь веслом о дно, мы обогнем остров и пристанем в болоте на том краю. Они вряд ли увидят нас там, и я знаю место, где мы можем быстро проскользнуть.
ГЛАВА XXIX. Адриан возвращается домой
Лодка причалила к острову, и все сидевшие в ней, кроме Эльзы, оставшейся в лодке на страже, перебрались на берег вброд через грязь, под которой оказалось каменистое дно. По тропинкам, проложенным выдрами, они через густые камыши дошли до середины острова. Здесь, на месте, которое указала Марта, росла густая группа камышей. В ней помещалось гнездо дикой утки с только что вылупившимися утятами, при виде людей мать слетела с него с отчаянными криками.
Под гнездом должны были находиться сокровища.
- Этого места никто не трогал, - сказал Фой, осторожно поднимая, несмотря на всю поспешность, с которой необходимо было действовать, гнездо с птенцами и относя его в сторону, чтобы старая утка могла найти его, - он любил всех животных и старался не делать им вреда.
- Нам нечем копать, - заявил Мартин, - нет даже камня.
Марта молча пошла к росшему вблизи ивняку и, срезав меньшим из топоров, находившихся в лодке, самые толстые из стволов, вернулась с ними к товарищам. С помощью этих заостренных кольев и топоров все принялись усердно копать, пока, наконец, кол Фоя не ударился о дно бочонка.
- Сокровища здесь! Налегайте, друзья!
Все принялись работать еще энергичнее, и вот три из пяти зарытых бочонков были выкопаны из грязи.
- Давайте спрячем прежде это, - сказал Мартин. - Помогите мне, герр Фой.
Один за одним с величайшим усилием докатили бочонки до лодки и с помощью Эльзы подняли их туда. Подходя с третьим бочонком, они увидали, что она, вся бледная, всматривается во что-то поверх перистых метелок камыша.
- Что там такое, дорогая? - спросил Фой.
- Парус… парус, который гнался за нами!..
Они оставили бочонок и стали смотреть поверх островка. Действительно, на расстоянии не более девятисот футов от места стоянки лодки виднелся высокий белый парус. Мартин откатил бочонок в сторону.
- Я надеялся, что они не найдут, - проговорил он, - но Марта рисует карты хорошо, слишком хорошо. Это оттого, что она еще до замужества рисовала картины.
- Что теперь делать? - спросила Эльза.
- Не знаю, - отвечал Мартин, и в эту минуту подбежала Марта, также заметившая лодку. - Если мы будем пытаться убежать, они нагонят нас, - продолжал он, - веслам не выдержать против паруса.
- Неужели же мы опять попадемся в их руки! - воскликнула Эльза.
- Бог даст, нет, - успокоила ее Марта. - Послушай, Мартин… Она стала что-то шептать ему на ухо.
- Хорошо, - отвечал он, - если это возможно, но надо ловить минуту. Времени терять нельзя. А вы, ювфроу, пойдете с нами: вы поможете нам перекатить последние два бочонка.
Они побежали к яме, из которой Фой и Адриан с великими усилиями только что вынули последний бочонок, они тоже видели парус и знали, что каждая минута дорога.
- Герр Адриан, - сказал Мартин, - у вас арбалет и железные полосы; вы стреляете лучше нас обоих: помогите мне защитить тропинку.
Адриан понял, что Мартин сказал это не потому, что считал его за хорошего стрелка, а потому, что не доверял ему и не желал упускать его из виду; однако он ответил:
- С удовольствием, насколько смогу.
- Прекрасно, - сказал Мартин, - вы же, герр Фой и ювфроу Эльза, уложите остальные бочонки в лодку, пусть потом ювфроу спрячется в камыше, наблюдая за нею, а вы вернетесь помогать нам. Ювфроу, если парус обогнет остров, дайте нам знать.
Мартин и Адриан направились к концу косы и присели в высокой траве, между тем как Фой и Эльза, прилагая отчаянные усилия, покатили бочонки к лодке и погрузили их, забросав бочонки сверху камышом, чтобы не привлечь внимания испанцев.
Парусная лодка приближалась. На руле сидел Рамиро, держа на коленях развернутую бумагу, на которую он постоянно взглядывал. На перевязи у него висел меч «Молчание».
«Не далее как через полчаса, - раздумывал про себя Мартин, не желавший и теперь делиться своими мыслями с Адрианом, - или мой меч вернется ко мне, или меня уже не будет в живых. Их одиннадцать, все здоровые молодцы, а нас всего трое, да две женщины…»
Как раз в эту минуту среди окружающей тишины до них донесся по воде голос Рамиро, скомандовавшего:
- Спусти парус! Место здесь - вот шесть островков и против них остров в форме селедки, а вот и коса, обозначенная словом «Остановка». Хорошо нарисовано, надо отдать справедливость…
Следующие замечания потерялись в скрипе блока при спуске паруса.
- Мель, сеньор, - доложил один из людей, измеряя глубину багром.
- Хорошо, - отвечал Рамиро, выбрасывая якорь, - перейдем на берег вброд.
В это мгновение солдат, державший багор, вдруг упал в воду вниз головой, пораженный в сердце стрелой, пущенной из арбалета Адрианом.
- Ага, они поспели сюда раньше нас! - сказал Рамиро. - Ну, причаливай.
Другая стрела просвистела в воздухе и вонзилась в мачту, не причинив вреда. После того уже выстрелов не было: впопыхах Адриан сломал механизм арбалета, слишком сильно натянув его, и он стал негоден к употреблению. Испанцы с Рамиро во главе спустились в воду и направились к земле, как вдруг почти у конца косы из густого камыша поднялась гигантская фигура Красного Мартина в буйволовой куртке, размахивавшего большой секирой над головой, а позади него показались Фой и Адриан.
- Клянусь святыми! - воскликнул Рамиро. - Мой флюгер-сынок здесь и на этот раз сражается против нас! Ну, флюгерок, последний раз ты повертишься по ветру. - Он направился прямо к косе и скомандовал: - На берег!
Но ни один из солдат не отважился подойти, боясь секиры Мартина. Люди стояли в воде, нерешительно посматривая, они были храбрые солдаты, но, зная о подвигах и силе гиганта-фриса, не отваживались подступиться к нему, хотя он и был изнурен голодом. Кроме того - в этом не было никакого сомнения - занимаемая им позиция была гораздо выгоднее.
- Не помочь ли вам выбраться на землю, друзья? - насмешливо предложил Мартин. - Нечего вам оглядываться направо и налево, ил везде очень глубок.
- Арбалет! Пристрелить его из арбалета! - раздались голоса; но подобного оружия не оказалось в лодке; испанцы, собравшись наскоро и не предполагая встретиться с Красным Мартином, захватили с собой только мечи да ножи.
Рамиро остановился на минуту; он видел, что штурм этой косы, даже если он возможен, будет стоить многих жизней, и вдруг приказал:
- Назад, на борт!
Люди повиновались.
- Поднять якорь; весла! - раздалась дальнейшая команда.
- Хитер! - заметил Фой. - Он знает, что наша лодка должна быть где-нибудь здесь, и намеревается искать ее.
Мартин кивнул, и в первый раз на лице его отразился испуг. Затем, как только лодка испанцев начала огибать остров, все трое мужчин направились к своей лодке и сели в нее, оставив Марту на косе на тот случай, если бы испанцам вздумалось вернуться и снова попытаться высадиться.
Едва они успели войти в лодку, как показался Рамиро со своими людьми, и громкие крики возвестили, что беглецы открыты.
Испанцы подошли так близко, как только смели, то есть на несколько сажен, и бросили якорь, не решаясь плыть по илистому месту в своем тяжелом катере, на котором потом трудно было бы повернуть назад. Не имея при себе оружия для стрельбы и зная своих противников, они не решались на открытое нападение. Положение было неловкое и могло затянуться. Наконец Рамиро поднялся и бросился к голландцам.
- Господа и ювфроу, - я, кажется, вижу среди моих противников также мою маленькую пленницу с Красной мельницы, - посоветуемся об одном деле. Как мы, так и вы, кажется, совершили поездку сюда с одной и той же целью. Не так ли? Мы желали приобрести кое-какие вещи, которые для мертвых не имели бы значения. Как вам - или некоторым из вас - известно, я человек, который не любит насилия: я не желаю преждевременной смерти ни одному из вас, даже не желаю причинить вам ни малейшего страдания, если этого возможно избегнуть. Но дело идет о деньгах, ради приобретения которых я перенес много неприятностей и опасностей, и скажу кратко, я овладею этими сокровищами; вы же, вероятно, будете рады, если вам удастся убраться невредимыми. Я предлагаю вам следующее: пусть один из нас под надежной охраной переберется на вашу лодку и посмотрит, не спрятано ли что-нибудь под этими камышами. Если лодка окажется пуста, мы отойдем на некоторое расстояние и пропустим вас, то же самое мы сделаем, если в лодке есть груз и вы его выбросите в воду.
- Это все ваши условия? - спросил Фой.
- Нет еще, почтенный герр ван-Гоорль. Среди вас я вижу молодого человека, которого вы, вероятно, увезли против его воли, - именно моего возлюбленного сына Адриана. В его собственных интересах, так как он едва ли будет желанным гостем в Лейдене, я предлагаю высадить этого молодого человека на берег в таком месте, где мы могли бы видеть его. Что вы ответите?
- Можете убираться за ним в пекло! - отвечал Мартин, а Фой прибавил:
- Какого другого ответа вы можете ждать от людей, вырвавшихся из ваших когтей в Гаарлеме?
При этих словах, которые Мартин подтвердил кивком головы, Марта, также подползшая к ним через камыш, схватила секиру и вдруг куда-то исчезла.
- Грубый ответ от грубых людей естественно ожесточенных ходом политических событий, в которых я, хотя и замешанный в них волей судьбы, ровно ни при чем, - отвечал Рамиро. - Но я еще раз предлагаю вам взвесить все. У вас, вероятно, нет запаса провизии, у нас же ее вдоволь. Скоро наступит темнота, и мы воспользуемся ею, кроме того, я надеюсь получить подкрепление. Следовательно, в выжидательной игре все карты у меня в руках, а ваш пленник Адриан может засвидетельствовать вам, что я играю в карты недурно.
Футах в восьми от катера в густой заросли кустов в эту самую минуту вынырнула подышать воздухом выдра - большая седоголовая выдра. Один из испанцев увидел расходившиеся по воде круги и, подняв камень из балласта, бросил в животное. Выдра исчезла.
- Мы давно гоняемся друг за другом, но еще ни разу не померились с вами силами, от чего вы, такой храбрый человек, вероятно, не отказались бы, - скромно начал Мартин. - Не угодно ли вам, сеньор Рамиро, выйти на берег и, не обращая внимания на мое низкое происхождение, помериться со мной? Преимущество будет на вашей стороне - у вас есть оружие, а у меня ничего, кроме старой буйволовой куртки, у вас мой большой меч, а у меня ровно ничего нет в руках. Несмотря на это, я рискую и даже предлагаю сделать ставку на сокровище Гендрика Бранта.
Услыхав вызов, испанцы, в том числе и сам Рамиро, разразились хохотом. Мысль, что кто-нибудь добровольно отдастся в лапы гиганта-фриса, одно имя которого наводило страх на тысячи осаждавших Гаарлем, показалась всем крайне забавной.
Однако вдруг хохот прекратился и все с изумлением устремили взгляд в воду, как собаки-крысоловки, смотрящие на землю, под которой они чуют мышей. Вдруг все закричали, перегнулись через борты и начали колоть кого-то в воде своими мечами. Оттуда же среди криков и шума постоянно слышался мерный стук, похожий на стук тяжелого молотка о толстую дверь.
- Пресвятая Богородица! - закричал кто-то в катере. - Дно пробивают!..
Некоторые начали поспешно приготовлять запасное дно, между тем как другие продолжали еще с большим ожесточением наносить удары по поверхности воды.
На тихой воде показались пузыри, и ряд их протянулся от катера к лодке. Вдруг футах в шести от нее из воды выросла странная и страшная фигура голой, похожей на скелет женщины, она была покрыта тиной и травой, вся истекала кровью от ран на спине и боках, но все еще крепко держала секиру в руках.
Она поднялась, тяжело дыша, стоная по временам от боли, но продолжая грозить своим оружием пораженным ужасом испанцам.
- Я отплатила тебе, Рамиро! - Ступай ко дну или выходи на землю помериться с Мартином.
- Молодец, Марта! - заревел Мартин, втаскивая умирающую в лодку, между тем как катер начал наполняться водой и погружаться.
- Для нас одно спасение, - закричал Рамиро, - в воду и на них! Здесь не глубоко.
Соскочив в воду, доходившую ему до шеи, он двинулся вброд.
- Отчаливайте! - крикнул Фой, и все налегли на весла. Но золото было тяжело, и лодка глубоко врезалась в ил; не было никакой возможности сдвинуть ее. Мартин с каким-то крепким фрисским ругательством перескочил через нос и, напрягая всю свою силу, старался стащить лодку с места, но она не двигалась. Испанцы подходили: вода была им уже только по пояс, и их мечи сверкали на солнце.
- Рубите их! - приказал Рамиро. - Ну же!
Лодка вся дрожала, но не трогалась.
- Слишком тяжел груз, - проговорила Марта и, собравши последние силы, поднялась и бросилась прямо на шею ближайшему испанцу. Она обхватила его своими костлявыми руками, и оба пошли ко дну. Через секунду они показались на поверхности, затем снова скрылись, и сквозь поднявшуюся тину можно было разглядеть, как они боролись на дне озера, пока оба не стихли.
Облегченная лодка двинулась с места и с помощью Мартина пошла вперед по вязкому илу. Он еще раз рванул ее, и она вышла на чистую воду.
- Влезай скорей! - кричал Фой, направляя свою пику в одного из испанцев.
- Нет, не удастся ему! - закричал Рамиро, бросаясь к Мартину с дьявольской злостью.
Мартин на секунду остановился, потом нагнулся, и меч его противника скользнул по его кожаной куртке, не причинив ему вреда. Затем он вдруг протянул руку, схватил Рамиро поперек тела и, как мальчик, играющий мячом, бросил его в лодку, где он растянулся на бочонках с сокровищами.
Мартин схватился за нос уходившей от него лодки, крича:
- Гребите, герр Фой, гребите!
Фой, употребляя отчаянные усилия, греб, пока последний из испанцев не остался футов на десять позади. Даже Эльза схватила железную полосу и ударила ею по рукам солдата, пытавшегося задержать лодку, и заставила его выпустить борт - об этом подвиге она с гордостью рассказывала потом всю свою жизнь. После того все помогли Мартину взобраться в лодку.
- Теперь, испанские собаки, можете докапываться до сокровищ Бранта и питаться утиными яйцами, пока дон Фердинанд не пошлет за вами.
Островок скрылся среди массы других островков. Не было видно ни одного живого существа, кроме обитавших на островках животных и птиц, и не было слышно ни звука, кроме их голосов да шума ветра и воды. Беглецы были одни и в безопасности, а вдали перед ними вырисовывались на фоне неба церковные башни Лейдена, куда они направляли свой путь.
- Ювфроу, - заговорил Мартин, - в трюме есть еще бутылка вина, недурно бы промочить горло.
Эльза, сидевшая у руля, встала и нашла вино и чарку из рога, наполнив чарку, она подала ее прежде всего Фою.
- За твое здоровье, - сказал Фой, выпивая чарку, - и в память тетушки Марты, которая спасла нас всех. Она умерла, как того желала, унеся за собой испанца, и память о ней будет жить вечно.
- Аминь, - проговорил Мартин.
Но тут ему пришла еще мысль: оставив свои весла - он сразу греб двумя, между тем как у Фоя и Адриана было по одному, - он нагнулся к Рамиро, лежавшему без чувств на бочонках с драгоценностями и деньгами, и снял с него свой меч «Молчание».
- Он здорово хватился головой и пролежит еще некоторое время спокойно, - заметил он, - но когда придет в себя, все-таки может наделать нам хлопот: такие кошки живучи. Ну, сеньор Рамиро, не говорил ли я вам, что еще раньше получаса я или верну свой меч, или сам отправлюсь туда, где он уже не будет мне нужен!
Он нажал пружину у рукоятки и осмотрел углубление.
- Дарственная запись в целости, - сказал он. - Недаром я так рассвирепел, стараясь отнять свой меч.
- Не удивительно, особенно, когда ты увидел его на Рамиро, - заметил Фой, бросая взгляд на Адриана, который продолжал грести и теперь, когда все успокоилось, и который имел самый несчастный, убитый вид. Очень может быть, что он думал о приеме, ожидавшем его в Лейдене.
С минуту все гребли в молчании. Все пережитое ими за последние сутки и предыдущие месяцы во время войны и осады надорвало их нервы. Даже теперь, избегнув опасности и снова имея в своих руках скрытые сокровища, захватив в плен негодяя, сделавшего им столько зла и горя, и видя перед собой дом, где они могли надеяться найти надежный приют, они не могли прийти в себя. Когда столько людей умерло вокруг, когда приходилось идти на такой риск, им казалось почти невероятным, что они могут остаться в живых и добраться невредимые, хотя и утомленные, до такой пристани, где всем им можно будет жить, не разлучаясь, еще много лет.
Фою все еще казалось несбыточным, чтобы так горячо любимая им девушка, чуть было не погибшая для него, сидела рядом с ним, здравая и невредимая, готовая стать его женой, когда он того пожелает. Несбыточным и слишком прекрасным казалось и то, что его брат, этот заносчивый, порывистый, слабохарактерный мечтатель Адриан, рожденный, чтобы быть игрушкой других и нести бремя их преступлений, вырвался еще не слишком поздно из опутавших его сетей и, раскаявшись в своих грехах и заблуждениях, доказал, что он мужчина и более не раб своих страстей и себялюбия. Фою, всегда любившему брата и знавшему его лучше, чем кто-либо, было тяжело думать, что Адриан мог быть в душе таким, каким его рисовали его поступки.
Таковы были мысли Фоя, но Эльза также думала - о чем, не трудно догадаться. Оба они молчали, как вдруг Эльза, сидевшая у руля, увидела, что Адриан выпустил весло, и, широко взмахнув руками, уткнулся в спину сидевшего перед ним Мартина, а на том месте, где он только-что сидел, появилось ненавистное лицо Рамиро с выражением такой злобы, которая в состоянии исказить только лицо сатаны, когда он видит, что душа грешника ускользает от него.
Рамиро пришел в себя и сидел, так как ноги у него были спутаны перевязью меча, в руке у него блестел тонкий нож.
- Вот тебе, - сказал он с коротким смехом, - вот тебе, флюгер! - и он два раза повернул нож в ране.
Но Мартин уже бросился на него, и через пять секунд Рамиро лежал связанный на две лодки.
- Приколоть его? - спросил Мартин Фоя, нагнувшегося с Эльзой над Адрианом.
- Нет, - мрачно ответил Фой, - пусть его судят в Лейдене. Какую глупость мы сделали, что не обыскали его!
Рамиро еще более побледнел.
- Удача на вашей стороне, - сказал он хриплым голосом, - вы одолели благодаря этой собаке-сыну, предавшему меня. Надеюсь, он еще помучается, прежде чем умрет, как должен умереть… Это мне наказание за то, что я нарушил клятву, данную Пресвятой Деве, и поднял руку на женщину. Он содрогаясь взглянул на Эльзу и продолжал: - Удача на вашей стороне, прикончите же меня сразу. Я вовсе не желаю являться в таком виде перед вашими соплеменниками.
- Завяжи ему рот, - приказал Фой Мартину, - чтоб он не отравлял нашего слуха.
Мартин повиновался весьма охотно; он повалил Рамиро на бочонки с теми самыми богатствами, к обладанию которыми он так стремился и ради которых принял столько греха на душу. Рамиро понимал, что теперь он совершает свое последнее путешествие навстречу смерти и всего, что его ожидает по ту сторону рокового порога жизни.
Они проезжали мимо островка, где много лет тому назад был поворот во время большого санного бега, когда Рамиро вез в своих санях лейденскую красавицу Лизбету ван-Хаут. Рамиро видел ее перед собой такую, какой она была в тот день, и видел, как этот бег, который ему не удалось выиграть, был предзнаменованием его погибели. Вот теперь голландец снова победил его на этом самом месте, и этому голландцу - сыну Лизбеты от другого отца - помог его родной сын, лежавший теперь пораженным насмерть рядом с тем, кто дал ему жизнь… Его отведут теперь к Лизбете, он знал это, и она будет судить его - его будет судить женщина, которой он принес столько зла и которой даже тогда, когда она казалась вполне в его власти, он боялся больше всего на свете… После того как он в последний раз встретит ее взгляд, наступит конец. Какой это будет конец для одного из участников осады Гаарлема, для человека, погубившего Дирка ван-Гоорля, для отца, всадившего кинжал в спину сына за то, что этот сын вернулся на сторону родных и избавил их от ужасной смерти?.. И почему снова теперь перед его глазами встало видение, то самое видение, которое явилось ему в ту минуту, когда после многих лет он встретился с Лизбетой в Гевангенгузе, - видение жалкого маленького человека, падающего в бесконечное пространство, в пропасть, из глубины которой навстречу ему поднимаются две огромные, ужасные руки, чтобы схватить его?..
Так же как и его сын, Рамиро был суеверен, кроме того, его ум, значительная начитанность в молодые годы и наблюдения над людьми - все привело его к убеждению, что смерть - стена, в которой много дверей, что по эту сторону стены мы можем двигаться, прозябать или спать, но каждый из нас должен пройти через назначенный ему выход прямо в уготованное ему место. Если так, то куда он попадет и кто встретит его за вратами смерти?..
Так плыл Рамиро в этот ясный летний вечер по пенящимся волнам, и в душе его вставали все муки ада, какие только может придумать воображение.
В несколько часов, проведенных в лодке до прибытия в Лейден, Рамиро, по мнению Эльзы, постарел на двадцать лет.
Маленькая лодка была сильно нагружена, и ветер дул противный, так что только к вечеру они добрались до шлюза, где их окликнули часовые, спрашивая, кто едет и куда.
Фой встал и сказал:
- Едут Фой ван-Гоорль, Красный Мартин, Эльза Брант, а также раненый и пленный, бежавший из Гаарлема, а едем мы в дом Лизбеты ван-Гоорль на Брее-страат.
Их пропустили; на набережной, у конца шлюза, они встретили многих, которые благодарили Бога за их освобождение и расспрашивали их, какие вести они привезли.
- Пойдемте к дому, на Брее-страат, - сказал Фой, - и я расскажу вам все с балкона.
Переезжая из канала в канал, они доехали до пристани у дома ван-Гоорлей и через маленькую дверку, выходившую на канал, вошли в дом.
Лизбета ван-Гоорль, оправившаяся от болезни, но постаревшая и никогда уже не улыбавшаяся после всего перенесенного ею, сидела в кресле в большой гостиной своего дома на Брее-страат - той самой комнате, где еще девушкой она прокляла Монтальво и откуда менее года тому назад прогнала с глаз долой его сына, предателя Адриана. Возле нее стоял стол с серебряным колокольчиком и два медных подсвечника с еще не зажженными свечами. Она позвонила, и вошла та самая служанка, которая вместе с Эльзой ухаживала за нею во время ее болезни.
- Что это за шум на улице? - спросила Лизбета. - Я слышу гул голосов. Вероятно, новые вести из Гаарлема?
- К несчастью, да, - отвечала служанка. - Один беглец говорит, что испанцам надоело резать людей, и вот они связывают несчастных пленных и бросают их в море.
Лизбета тяжело вздохнула.
- Фой там, - проговорила она, - и Эльза Брант, и Мартин, и еще много друзей. Господи, когда же всему этому будет конец?
Она опустила голову на грудь, но скоро, снова выпрямившись, приказала:
- Зажги свечи: здесь так темно, а в темноте я вижу тени всех моих умерших.
Зажженные свечи замигали в большой комнате, как две звезды.
- Кто это идет по лестнице? - спросила Лизбета. - Как будто несут что-то тяжелое. Отвори входную дверь и впусти того, кого Богу угодно послать нам.
Служанка распахнула входную дверь, и в нее вошли люди, несшие раненого, за ними Фой и Эльза и, наконец, Мартин, который толкал перед собой еще какого-то человека. Лизбета встала со своего кресла взглянуть, что это такое.
- Вижу я сон или действительно ангел Господень вывел тебя, моего Фоя, из ада в Гаарлеме? - проговорила она.
- Да, это мы, матушка, - отвечал Фой.
- Кого же вы привезли с собой? - спросила она, указывая на покрытого плащом раненого.
- Адриана, матушка… Он умирает.
- Так прикажи его унести отсюда, Фой: я не хочу видеть его ни живого, ни умирающего, ни мертвого… - Тут ее взгляд упал на Мартина и человека, которого тот держал. - Мартин, - начала она, - это кто?..
Мартин услыхал и вместо ответа повернул своего пленника так, что слабый свет из балконной двери упал прямо тому на лицо.
- Что это? - воскликнула Лизбета. - Жуан де Монтальво и его сын Адриан здесь… в этой комнате… - Она прервала начатую фразу и обратилась к Фою: - Расскажи мне все по порядку!
В общих словах Фой сообщил ей все, что было необходимо, и закончил свой рассказ словами:
- Матушка, сжалься над Адрианом! С самого начала у него не было злого умысла; он спас всех нас и сам теперь умирает: его заколол этот человек.
- Приподнимите его, - приказала Лизбета.
Ее приказание исполнили, и Адриан, не произнесший ни слова с той минуты, как нож пронзил его, проговорил едва слышным голосом:
- Матушка, возьми свои слова обратно и прости меня… перед смертью…
Заледеневшее от горя сердце Лизбеты оттаяло; она наклонилась к сыну и сказала так, чтобы все могли слышать:
- Приветствую тебя в родном доме, Адриан. Ты прежде заблуждался, но ты загладил свою вину, и я горжусь, что могу назвать тебя своим сыном. Хотя ты и отрекся от веры, в которой родился, я призываю на тебя благословение Господне. Да наградит тебя Бог, мой дорогой Адриан.
Она поцеловала холодеющие губы Адриана, Фой и Эльза также поцеловали его на прощанье, прежде чем его, счастливо улыбающегося, отнесли в комнату, его собственную комнату, где через несколько часов смерть положила конец его страданиям.
Когда Адриана унесли, на несколько минут водворилась полная тишина. Затем, не ожидая ничьего приказания, по собственному соображению, Мартин начал подвигаться по длинной комнате, вполовину неся, вполовину волоча своего пленника Рамиро. Гигант-фрис казался какой-то огромной двигательной машиной, которую ничто не могло остановить. Пленник упирался каблуками и откидывался назад, но Мартин как бы даже не замечал его сопротивления. Он продолжал идти, пока не остановился против дубового кресла перед сидевшей в нем седой женщиной с холодным лицом, освещенным светом двух свечей. Она взглянула и содрогнулась, потом спросила:
- Мартин, зачем ты привел сюда этого человека?
- На суд ваш, Лизбета ван-Гоорль, - отвечал он.
- Кто поставил меня судьей над ним?
- Мой хозяин, Дирк ван-Гоорль, ваш сын Адриан и Гендрик Брант. Их кровь делает вас судьей над ним.
- Я не стану судить его, пусть его судит народ.
В эту минуту со двора донесся гул голосов.
- Хорошо, пусть его судит народ, - согласился Мартин, направляясь к балкону, как вдруг отчаянным усилием Рамиро вырвался из его рук и, бросившись к ногам Лизбеты, припал к ним.
- Что вам надо? - спросила она, отодвигая кресло так, чтобы Рамиро не касался ее.
- Пощади! - задыхаясь, молил он.
- Пощадить? Смотрите, дочь и сын, этот человек просит пощады, которой сам никому не давал. Молите о пощаде Бога и народ, Жуан де Монтальво!
- Пощади, пощади! - твердил он.
- Девять месяцев тому назад я так же молила именем Христа пощадить ни в чем не повинного человека, и что вы отвечали мне, Жуан де Монтальво?
- Вы были моей женой, - старался он умилостивить ее, - неужели это не имеет для вас значения как для женщины?
- Вы были моим мужем, имело ли это значение для вас как для мужчины? Вот мое последнее слово. Отведи его, Мартин, к тем, кто имеет дело с убийцами.
Монтальво взглянул на Лизбету таким взглядом, который она два или три раза видела прежде: один раз - когда он проиграл на бегах, в другой раз - когда Лизбета молила его за жизнь мужа. Перед ней было не человеческое лицо: оно носило выражение, какое могло быть только у зверя или дьявола. Глаза его остановились, седые усы поднялись кверху, скулы выступили углом.
- Ночь за ночью мы проводили в одной комнате, и я мог бы убить вас, но я пощадил вас, - поспешно говорил Монтальво.
- Меня пощадил Господь, Жуан де Монтальво, ради того, чтобы мы дожили до этого часа, пусть Он пощадит вас и теперь, если на то будет Его воля. Я не судья вам. Он судит и народ.
Лизбета при этих словах встала.
- Стойте! - закричал он, скрежеща зубами.
- Нет, я иду принять последний вздох того, кого вы убили: моего и вашего сына.
Он встал на колени, и его глаза в последний раз встретились с глазами Лизбеты.
- Помните вы, - сказала Лизбета спокойным голосом, - те слова, которые я сказала вам много лет тому назад, в тот день, когда вы купили меня ценой жизни Дирка? Я думаю, что эти слова исходили не от меня…
Она прошла мимо него в широко открытую дверь.
Красный Мартин стоял на балконе, крепко держа Рамиро. Внизу кишела густая толпа, наступила полная темнота, и только кое-где пылали факелы или теплился фонарь, освещая бледные лица, так как лунный свет, ярко падавший на Мартина, едва достигал улиц. Все увидали, как высокий, худой, длинноволосый фрис вышел со своей ношей на балкон, и раздался такой крик, что сотряслись даже крыши Лейдена. Мартин протянул руку, и водворилось глубокое молчание.
- Граждане Лейдена, - заговорил фрис громким басом, раскатившимся по всей улице, - я имею сказать вам несколько слов. Знаете вы этого человека?
Снизу раздалось громкое: «Да!»
- Он испанец, - продолжал Мартин, - благородный граф Жуан де Монтальво, много лет тому назад принудивший одну из гражданок Лейдена, Лизбету ван-Хаут, ради приобретения ее состояния выйти за него замуж, когда он уже был женат, купив ее ценой жизни ее жениха, Дирка ван-Гоорля.
- Мы знаем это! - раздалось в ответ.
- Впоследствии он за это пошел на галеры. Когда он вернулся, кровожадный Альба сделал его смотрителем здешней тюрьмы, где он уморил вашего согражданина и бывшего бургомистра Дирка ван-Гоорля. Потом он силой увез Эльзу Брант, дочь Гендрика Бранта, убитого инквизиторами в Гааге. Я со своим хозяином, Фоем ван-Гоорлем, освободил ее. Затем он свирепствовал вместе с испанцами, состоя капитаном в их армии, при осаде Гаарлема, который пал три дня тому назад и жителей которого они умерщвляют сегодня, связывая их по двое и бросая в озеро.
- Убить его! Бросай его вниз! - раздалось из толпы. - Выдай его нам, Красный Мартин!
Снова фрис поднял руку, и снова наступила тишина - внезапная, ужасная тишина.
- У этого человека был сын, моя хозяйка, Лизбета ван-Гоорль, к своему горю и позору, была его матерью. Этот сын, раскаявшись, спас нас от гибели в Гаарлеме, и благодаря ему мы трое: Фой ван-Гоорль, Эльза Брант и я остались в живых. Этот человек и его испанцы нагнали нас на Гаарлемском озере, где мы победили их с помощью Марты-Кобылы, той самой Марты, которую испанцы некогда заставили нести ее мужа на спине к костру. Мы победили испанцев, но она умерла: ее закололи в воде, как на охоте закалывают выдру. Сына своего, герра Адриана, этот человек убил ударом ножа сзади, и он уже умер или умирает здесь в доме. Мой хозяин и я привели этого человека, теперь называющегося Рамиро, на суд женщины, мужа и сына которой он убил. Но она не пожелала судить его. Она сказала: «Выведите его к народу, пусть народ судит его». Так судите же его теперь!..
И сильным размахом, напрягши всю свою гигантскую силу, Мартин перебросил сопротивлявшегося Рамиро через перила балкона, держа его на весу над головами толпы.
Поднялись крики, раздался рев ярости и ненависти; все потянулись к Рамиро, как собаки тянутся к волку, сидящему на стене.
- Отдай его нам! Отдай нам! - раздавалось со всех сторон.
Мартин громко захохотал.
- Так возьмите же его, возьмите и судите, как знаете!
Одним размахом он бросил завертевшееся в его руках тело в самый центр толпы на улице.
Толпа сомкнулась, как вода смыкается над лодкой, идущей ко дну в водовороте. С минуту раздавались крики, свистки, возгласы, затем все стали расходиться, обмениваясь короткими, отрывистыми фразами. А на каменной мостовой лежало что-то ужасное, бесформенное, что-то, некогда бывшее человеком.
Так граждане Лейдена судили и казнили благородного испанца графа Жуана де Монтальво.
ГЛАВА XXX. Две сцены
Сцена первая
Прошло несколько месяцев, и при Алькмааре, небольшом, державшем себя геройски городке на севере страны, счастье испанцев отвернулось от них. Полные стыда и ярости войска Филиппа и Вальдеса направились к Лейдену, и с ноября 1573 г. до конца марта 1574 г. город находился в осаде. Затем войска были отозваны для борьбы с Людвигом Нассауским, и осада была снята до тех пор, пока храбрый Людвиг и брат его Генрих с четырьмя тысячами солдат не были разбиты Альбой в роковой битве при Мук-Хите. Теперь победоносные испанцы снова угрожали Лейдену.
В начале мая по большой, совершенно пустой комнате ратуши этого города ходил взад и вперед, бормоча что-то про себя, человек средних лет. Он был невысок и худощав, с карими глазами, русой бородой и седеющими волосами над высоким лбом, изборожденным морщинами от напряженного мышления. Это был Вильгельм Оранский по прозвищу Молчаливый, один из величайших и благороднейших людей, когда-либо живших на свете, человек, призванный Богом для освобождения Голландии и навеки сокрушивший иго религиозного фанатизма, тяготевшего над тевтонской расой.
В это майское утро он был глубоко озабочен. В прошлом месяце двое его братьев пали от меча испанцев, и теперь эти испанцы, с которыми он боролся в продолжение многих тяжелых лет, шли на Лейден.
- Деньги! - бормотал Вильгельм про себя. - Дайте мне денег, и я еще спасу город. На деньги можно выстроить корабли, можно выставить больше людей, купить пороху. Деньги, деньги, деньги… а у меня нет ни дуката! Все ушло до последнего гроша, даже драгоценности матери и посуда с моего стола. Ничего не осталось, и кредита нет.
В эту минуту в комнату вошел один из секретарей.
- Вы везде побывали, граф? - спросил принц.
- Везде, ваше высочество.
- И результат?
- Бургомистр ван-де-Верф обещает сделать все от него зависящее, и на него можно положиться. Но денег мало; они все ушли из страны, и вновь их негде достать.
- Знаю, - со вздохом проговорил Оранский, - не испечешь хлеба из крошек, валяющихся под столом. Расклеена прокламация, приглашающая всех добрых граждан жертвовать и давать взаймы все, что они могут, в этот час нужды?
- Расклеена, ваше высочество.
- Благодарю вас, граф. Можете идти, больше нечего делать. Сегодня ночью поедем верхом в Дельфт.
- Ваше высочество, - заговорил секретарь, - пришли два человека, желающие видеть вас.
- Известные кому-нибудь люди?
- Да, ваше высочество, всем известные. Один - Фой ван-Гоорль, выдержавший осаду Гаарлема и бежавший потом оттуда; он сын почтенного бюргера, Дирка ван-Гоорля, которого уморили в тюрьме, а другой - великан-фрис, прозванный Красным Мартином, слуга ван-Гоорля, о подвигах которого ваше высочество уже, вероятно, слыхали. Они вдвоем защищались в литейной башне против сорока или пятидесяти испанцев и побили их изрядное число.
Принц кивнул головой.
- Знаю. Красный Мартин - Голиаф и молодец. Что им нужно?
- Точно не знаю, - сказал секретарь с улыбкой, - но они привезли с собой рыбную тележку: фрис вез ее, впрягшись в дышло, как лошадь, а герр ван-Гоорль подталкивал сзади. Они говорят, что в тележке боевые запасы для службы отечеству.
- Почему они не отвезли их бургомистру или еще кому-нибудь из властей?
- Не знаю, ваше высочество, они объявили, что передадут то, что привезли, только вашему высочеству.
- Уверены вы в этих людях, граф? Вы знаете, - прибавил он, улыбаясь, - мне приходится быть осторожным.
- Вполне уверен, их многие знают здесь.
- В таком случае, пришлите их, может быть, они имеют что-нибудь сообщить.
- Ваше высочество, они желают ввезти и тележку.
- Пусть ввезут, если она пройдет в дверь, - отвечал принц со вздохом, так как его мысли были далеко от почтенных граждан с их тележкой.
Большая двойная дверь растворилась, и появился Красный Мартин, не такой, каким он был после осады Гаарлема, а каким был всегда: аккуратно одетый и с бородой еще длиннее и рыжее, чем прежде. В эту минуту он был занят странным делом: через его грудь проходила широкая лошадиная подпруга, прикрепленная к оглоблям, и с помощью нее он вез тележку, покрытую старым парусом. Груз, должно быть, был тяжел, так как, несмотря на всю силу Мартина и помощь Фоя, тоже не слабого, толкавшего тележку сзади, они с трудом перекатили ее колеса через маленький порог при входе в комнату.
Фой затворил двери; затем тележку вывезли на середину комнаты; здесь Фой остановился и поклонился. Картина была до того странная и необъяснимая, что принц, забыв на минуту свои заботы, рассмеялся.
- Вам смешно, ваше высочество? - спросил Фой несколько горячо, вспыхнув до корней своих белокурых волос, - но когда вы выслушаете нашу историю, я уверен, вы перестанете смеяться.
- Мейнгерр Фой ван-Гоорль, - сказал принц серьезно и вежливо, - будьте уверены, что я смеялся не над такими храбрыми людьми, как вы и ваш слуга, Мартин-фрис, над теми людьми, которые могли выдержать натиск испанцев в литейной башне, которые вырвались из Гаарлема и сумели захватить одного из дьяволов армии дона Фредерика. Мне показался смешон ваш экипаж, а не вы. - Он слегка поклонился сначала одному, потом другому.
- Может быть, его высочество думает, что человек, исполняющий работу осла, и сам должен быть ослом! - проговорил Мартин, и принц снова засмеялся шутке.
- Ваше высочество, я на минуту попрошу вашего внимания и не по пустому делу, - заговорил Фой. - Ваше высочество, может быть, слыхали о некоем Гендрике Бранте, умершем в тюрьме инквизиции?
- Вы говорите о золотых дел мастере и банкире, которого считали за богатейшего человека во всех Нидерландах?
- Да, ваше высочество, о том, чье богатство исчезло.
- Да, помню, исчезло… Говорили, впрочем, что кто-то из наших соотечественников бежал с этим богатством… - Он снова вопросительно взглянул на парус, покрывавший тележку.
- Вам передали это совершенно верно, ваше высочество, - продолжал Фой, - Красный Мартин, я и лоцман, убитый впоследствии, увезли богатство Гендрика Бранта с помощью женщины, жившей на островах, тетушки Марты, прозванной Кобылой, и спрятали его в Гаарлемском озере, где и нашли его после нашего бегства из Гаарлема. Если вам будет угодно узнать как, я расскажу вам впоследствии: это длинная история. Эльза Брант была также с нами…
- Она единственная дочь Гендрика Бранта, стало быть, наследница всего состояния? - перебил принц.
- Да, ваше высочество, и моя невеста…
- Я слышал об этой девице и поздравляю вас… Она в Лейдене?
- Нет, ваше высочество, все ужасы, пережитые ею во время осады Гаарлема, и многое, случившееся с ней лично, подорвали ее физические и нравственные силы, поэтому когда испанцы грозили в первый раз осадой нашему городу, я отправил ее и матушку в Норвич, где они могут спать спокойно.
- Вы поступили очень предусмотрительно, герр ван-Гоорль, - со вздохом ответил принц, - но сами вы, по-видимому, остались?
- Да, мы с Мартином подумали, что долг обязывает нас дождаться конца войны. Когда Лейден освободится от испанцев, тогда и мы поедем в Англию, но не раньше.
- Когда Лейден освободится от испанцев… - Принц снова вздохнул и прибавил: - Оба вы, молодой человек, заслуживаете моего уважения, однако я опасаюсь, что при подобном положении дел, ювфроу в конце концов не будет почивать совершенно беззаботно в Норвиче.
- Каждый из нас должен нести свою долю бремени, - грустно ответил Фой. - Я буду сражаться, она не будет спать.
- Я предвидел, что иначе не может рассуждать человек, в свое время и сражавшийся, и не спавший… Будем надеяться, что скоро наступит время, когда вам обоим можно будет отдохнуть вместе… Доканчивайте ваш рассказ.
- Конец близок. Сегодня утром мы прочли вашу прокламацию на улицах и из нее точно узнали то, о чем слышали прежде: что вы сильно нуждаетесь в деньгах для морской войны и защиты Лейдена. Услыхав, что вы еще в городе и считая вашу прокламацию за призыв и ясное приказание, которых мы ждали, мы привезли вам богатство Гендрика Бранта. Оно в этой тележке.
Принц поднес руку ко лбу и отступил на шаг.
- Вы не шутите, Фой ван-Гоорль? - спросил он.
- Нисколько, уверяю вас.
- Но постойте, вы не можете распоряжаться этим богатством: оно принадлежит Эльзе Брант.
- Нет, ваше высочество, я по закону могу распоряжаться им, так как отец мой был назначен Брантом его наследником и душеприказчиком, а я унаследовал его права. Кроме того, хотя известная доля назначена Эльзе, она желает - ее письменное, засвидетельствованное заявление при мне, - чтобы все деньги до последнего дуката пошли на нужды отечества по моему усмотрению. Отец ее, Гендрик Брант, всегда был того мнения, что его состояние в свое время пойдет на пользу его родины. Вот копия завещания, в котором он выражает волю, чтобы мы употребили его деньги «на защиту нашей страны, на борьбу за свободу веры и на уничтожение испанцев, каким же образом и когда - это нам укажет Господь». Передавая мне это завещание, он сказал: «Я уверен, что тысячи и десятки тысяч моих
соотечественников будут жить, благословляя золото Гендрика Бранта». Думая так же и в убеждении, что Бог, надоумив его, в свое время укажет и нам свою волю, мы поступали согласно его воле и ради сохранения сокровищ были готовы идти на смерть и пытку. Теперь, как предрек Брант, наступило время, теперь мы понимаем, зачем все так случилось и зачем мы, я и этот человек, остались в живых. Мы предоставляем вам все сокровища в целости, до последнего флорина, не взяв и суммы, завещанной из этого богатства Мартину.
- Вы шутите! Вы шутите! - повторял принц.
По знаку Фоя Мартин подошел к тележке и снял парусину, при этом обнаружилось пять покрытых грязью бочонков с маркой Б на каждом из них. Тут же наготове лежали молоток и долото. Положив оглобли тележки на стол, Мартин влез в тележку и несколькими сильными ударами молотка выбил дно первого попавшегося под руку бочонка. Под дном показалась шерсть, Мартин снял ее - не без опасения в душе, как бы не произошло какой-нибудь ошибки, - и затем, не имея терпения дольше ждать, высыпал содержимое бочонка на пол.
Это оказался бочонок, заключавший драгоценные камни, в которые Брант, предвидя смутное время, постепенно превращал свое крупное недвижимое имущество. Теперь они сверкающим ручьем, переливаясь красными, зелеными, белыми и голубыми огнями, полились из заржавевших от сырости ящиков (кроме драгоценных жемчугов, заключенных в плотно закупоренной медной шкатулочке) и со звоном рассыпались по полу.
- Кажется, драгоценных камней всего один бочонок, - сказал спокойно Фой, - в других, более тяжелых, золотые монеты. Вот, ваше высочество, опись, сверившись с которой вы можете убедиться, что мы ничего не утаили.
Но Вильгельм Оранский не слушал его, он смотрел на драгоценности и говорил про себя:
- Корабельный флот, войско, запасы, средства для подкупа сильных и приобретения помощи, свобода, богатство, счастье для Нидерландов, вырванных из когтей испанцев! Благодарю Тебя, Господи, направившего сердца людей к спасению нашего народа от грозной опасности…
В приливе радости и облегчения великий принц закрыл лицо руками и заплакал.
Таким образом, в ту минуту, когда Лейден был при последнем издыхании, богатство Гендрика Бранта пошло на уплату жалованья солдатам и на постройку флота, который благодаря ниспосланному сильному ветру получал в надлежащее время возможность двинуться по затопленным лугам к стенам Лейдена, и принудил испанцев снять осаду, подписав смертный приговор испанскому владычеству в Голландии. Недаром, стало быть, пролилась кровь предусмотрительного Бранта и Дирка ван-Гоорля, недаром перенесла Эльза на Красной мельнице ужаснейший страх, какой только способна перенести женщина, не напрасно Фой и Мартин оборонялись в литейной башне, в тюрьме и во время осады, не напрасно тетушка Марта, бич испанцев, нашла себе могилу в водах Гаарлемского озера!
Вероятно, из этого рассказа можно было бы сделать и другие выводы, применимые к нашей настоящей жизни, но предоставляем читателю самому догадываться о них.
Сцена вторая
Лейден был наконец освобожден; Фой и Мартин вступили с криками радости и с руками, обагренными кровью врагов, в город, на его обезлюдевшие от голода улицы. Испанцы, оставшиеся в живых, бежали из своих затопленных фортов и траншей.
Место действия переносится из залитой кровью, разоренной, но торжествующей Голландии в спокойный город Норвич, в уютный домик с высокой крышей, недалеко от собора, где уже около года назад поселились Лизбета ван-Гоорль и Эльза Брант. Они благополучно прибыли в Норвич осенью 1573 года, перед самым началом первой осады Лейдена, и прожили здесь двенадцать долгих месяцев, полных страха и тревог.
Вести или, скорее, слухи о происходившем в Нидерландах по временам достигали до них, даже два раза приходили письма от самого Фоя, но последнее из них пришло уже много недель тому назад, перед самым тем временем, когда железное кольцо осады сомкнулось вокруг Лейдена. В это время Фой и Мартин, как сообщало письмо, находились не в городе, а с принцем Вильгельмом Оранским в Дельфте, занятые снаряжением флота, который строился и вооружался для освобождения города.
После того долгое время не было никаких известий, и никто не мог сказать, что случилось, хотя ходил ужасный слух, что Лейден взят, разграблен, сожжен, а все его жители перебиты.
Лизбета и Эльза жили ни в чем не нуждаясь, так как фирма «Мунт и Броун», с которой Дирк вел дела, оказалась честной, и состояние, вверенное ей когда начали собираться тучи, было выгодно помещено ею и приносило хороший доход. Но что могли сделать все удобства жизни для бедных сердец, знавших только один страх!
Однажды вечером обе женщины сидели в гостиной нижнего этажа или, скорее, Лизбета сидела, так как Эльза стояла возле нее на коленях, положив голову на ручку кресла, и плакала.
- О, это слишком жестоко… невыносимо! - с рыданием говорила она. - Как вы, матушка, можете быть такой спокойной, когда Фоя, может быть, уже нет в живых?
- Если сын мой умер, Эльза, то такова воля Божья, и я спокойна, потому что покоряюсь теперь так же, как много лет тому назад, Его воле, а не потому, что я не страдала. Мать так же может чувствовать, как и невеста.
- Зачем я рассталась с ними! - жаловалась Эльза.
- Ты сама просилась уехать, дитя мое, что касается меня, то я бы осталась в Лейдене, чтобы пережить там и хорошее, и дурное.
- Правда, во мне нет мужества; но и он желал этого.
- Он желал этого - стало быть, все к лучшему, станем терпеливо ждать исхода. Пойдем ужинать.
Они сели за ужин вдвоем, но стол был накрыт на четверых, как будто ожидались гости. Однако никого приглашенных не оказалось, но такова была фантазия Эльзы.
- Фой и Мартин могут приехать и рассердиться, если им покажется, что мы вовсе не ждали их, - говорила она.
И в последние три или четыре месяца на стол всегда ставилось четыре прибора, чему Лизбета не препятствовала: и в ее душе жила надежда, что Фой может вернуться неожиданно.
В один такой вечер Фой вернулся, а вместе с ним вернулся и Красный Мартин, перепоясанный своим мечом «Молчание».
- Послушай! - вдруг сказала Лизбета. - Я слышу шаги сына на лестнице. Должно быть, в конце концов слух матери более чуток, чем слух невесты.
Но Эльза уже не слушала ее; Эльзу уже держал в своих объятиях Фой, прежний Фой, только несколько возмужавший и с большим шрамом на лбу.
- Да, - как бы про себя проговорила Лизбета со слабой улыбкой на бледном, все еще красивом лице, - первый поцелуй сына для невесты!
Через час, два или три - кто считал время в эту ночь, когда столько надо было выслушать и рассказать, - все стали на колени: Лизбета впереди, за ней, рука в руке, Фой и Эльза, а за ними, как охраняющий их великан, Мартин, и Лизбета прочла вечернюю благодарственную молитву.
«Всемогущий Боже! - начала она мягким, звучным голосом. - Твоя десница взяла у меня через мой грех моего мужа, но вернула мне сына, будущего мужа этой девушки, и теперь для нас, как и для нашего отечества за морем, из мрака отчаяния восходит заря мира. Да будет над нами вовеки Твоя воля, а когда наш час придет, да поддержит нас рука Твоя. За все горькое и сладкое, за зло и добро, за прошедшее и настоящее мы, Твои слуги, прославляем Тебя, благодарим и восхваляем Тебя, Господа наших отцов, творящего над нами Свою волю, памятуя то, что мы забыли, и провидя то, чего еще нет. Благодарим и прославляем Тебя, Господа живых и мертвых, сохранившего нас в продолжение многих ужасных дней до этого радостного часа. Аминь».
Все повторили за ней: «Благодарим и прославляем Тебя, Господа живых и мертвых. Аминь».
По окончании молитвы все поднялись с колен, и теперь, когда разлуки и страха уже не существовало, молодые люди прижались друг к другу со всей любовью и надеждой, свойственными их прекрасной юности.
Лизбета же сидела молча в своем новом доме, вдали от той земли, где она родилась, и ее наболевшее сердце перенеслось к мысли о мертвых.
Генри Райдер Хаггард
Клеопатра
Повесть о крушении надежд
и мести потомка египетских
фараонов Гармахиса,
написанная его собственной рукой
Посвящение
Дорогая мама, я давно мечтал посвятить Вам какой-нибудь из моих романов и наконец остановил свой выбор на этом опусе в надежде, что, несмотря на все его несовершенства и самую суровую критику, которую он, возможно, вызовет у Вас и у всей публики, Вы его примете.
Желаю, чтобы мой роман «Клеопатра» доставил Вам хотя бы часть той радости, которую испытывал я, когда трудился над ним, и чтобы, читая его, Вы увидели конечно же неполную, но все же достоверную картину жизни таинственного Древнего Египта, чьей славной историей Вы так горячо интересуетесь.
Ваш любящий и преданный сын
Г.Райдер Хаггард
21 января 1889 г.
От автора
Многие историки, изучающие этот период античности, считают гибель Антония и Клеопатры одним из самых загадочных среди трагических эпизодов прошлого. Какие злые силы, чья тайная ненависть постоянно отравляли их благоденствие и ослепляли разум? Почему Клеопатра бежала во время битвы при мысе Акциум и почему Антоний кинулся за ней, бросив свой флот и войско, которое Октавиан разбил и уничтожил? Сколько вопросов, сколько загадок, — кто знает, быть может, в этом романе мне удалось хоть часть их разгадать.
Однако я прошу читатель не забывать, что повествование ведется не устами нашего с вами современника, а как бы от лица древнего египтянина, потомка фараонов, который пламенно любил свою отчизну и пережил крушение всех своих надежд; не простодушного невежды, который наивно обожествлял животных, но образованнейшего жреца, посвященного в сокровенные глубины тайных знаний, свято верившего, что боги Кемета воистину существуют, что человек может вступать с ними в общение, и что мы живем вечно, переходя в загробное царство, где нас осуждают за содеянное зло или оправдывают, если мы его не совершали; ученым, для которого туманная и порой примитивная символика, связанная с культом Осириса, была всего лишь пеленой, специально сотканной, чтобы скрыть тайны Священной Сущности. Мы не знаем, какую долю истины постигали в своих духовных исканиях жаждующие ее, — быть может, истина и вовсе не давалась им, но о стремящихся к ней, как стремился царевич Гармахис, рассказывается в истории всех крупных религий, и, как свидетельствуют священные тексты на стенах древних гробниц, дворцов и храмов, их было немало и среди тех, кто поклонялся египетским богам, в особенности Исиде.
Как ни досадно, но чтобы написать роман о той эпохе, пришлось хотя бы бегло набросать фон происходящих в нем событий, ибо лишь с его помощью оживет перед глазами читателя давно умершее прошлое, явится во всем блеске, прорвавшись сквозь мрак тысячелетий, и даст ему возможность прикоснуться к забытым тайнам. Тем же, кого не интересуют верования, символы и обряды религии Древнего Египта, этой праматери многих современных религий и европейской цивилизации, а увлекает лишь сюжет, я в должным пониманием рекомендую воспользоваться испытанным приемом — пропустить первую часть романа и начать сразу со второй.
Что касается смерти Клеопатры, мне кажется наиболее убедительной та версия, согласно которой она принимает яд. Плутарх пишет, что не сохранилось достоверных сведений о том, каким именно способом она лишила себя жизни, хотя молва приписывала ее смерть укусу гадюки. Но ведь она, насколько нам известно, покинула этот мир, доверившись искусству своего врача Олимпия, этой таинственнейшей личности, а чтобы врач избрал столь экзотическое и ненадежное средство для человека, который решил умереть, — нет, это более чем сомнительно.
Вероятно, следует упомянуть, что даже во времена царствования Птолемея Эпифана на египетский трон посягали потомки египетских фараонов, одного из которых звали Гармахис. Более того, у многих жрецов имелась книга пророчеств, где утверждалось, что после владычества греков бог Харсефи сотворит «царя, который придет и будет править». Поэтому вы, надеюсь, согласитесь, что описанная мною повесть о великом заговоре, участники которого хотели уничтожить династию Македонских Лагидов и посадить на трон Гармахиса, не так уж невероятна, хотя исторических подтверждений у нее нет. Зато есть все основания предполагать, что за долгие века, пока Египет угнетали чужеземные властители, его патриоты не раз составляли такие заговоры. Но история древнего мира рассказывает нам очень мало о борьбе и поражениях порабощенного народа.
Песнопения Исиды и песнь Клеопатры, которые вы встретите на страницах этого романа, автор записал прозой, а стихами переложил мистер Эндрю Ланг, он же перевел с греческого плач по умершим сирийца Мелеагра, который поет Хармиана.
Вступление
Недавно в одной из расщелин голого скалистого плато в Ливийской пустыне, за абидосским храмом, где, по преданию, похоронен бог Осирис, была обнаружена гробница, и среди прочей утвари в ней оказались свитки папируса, на которых изложены эти события. Гробница огромная, но больше ничего примечательного в ней нет, если не считать глубокой вертикальной шахты, которая ведет из вырубленной в толще скалы молельни для родственников и друзей усопших в погребальную камеру. Глубина этой шахты футов девяносто, не меньше. Внизу, в погребальной камере, было найдено всего три саркофага, хотя там могло бы поместиться еще несколько. Два из этих саркофагов, в которых, вероятно, покоились останки верховного жреца Аменемхета и его жены — отца и матери героя этого повествования, Гармахиса, — мародеры-арабы, нашедшие гробницу, взломали.
Они не только взломали саркофаги — варвары растерзали и сами мумии. Руки этих осквернителей праха разорвали на части земную оболочку божественного Амснемхета и той, чьими устами, как свидетельствуют надписи на стенах, вещала богиня Хатхор, — разобрали по костям скелеты, ища сокровища, быть может спрятанные в них, — и, кто знает, наверно, даже продали эти кости, по распространенному у них обычаю, за несколько пиастров какому-нибудь дикарю-туристу, который обязательно должен чем-нибудь поживиться, пусть даже ради этого совершится святотатство. Ведь в Египте несчастные живые находят себе пропитание, разоряя гробницы великих, живших прежде них.
Так случилось, что немного времени спустя в Абидос приплыл один из добрых друзей автора, врач по профессии, и встретил там арабов, ограбивших гробницу. Они открыли ему по секрету, где она находится, и рассказали, что один саркофаг так и стоит нераспечатанным. Судя по всему, в нем похоронен какой-то бедняк, объяснили они, вот они ни не стали вскрывать гроб, тем более что и времени было в обрез. Мой друг загорелся желанием осмотреть внутренние помещения усыпальницы, в которую еще не хлынули праздные бездельники туристы, он дал арабам денег, и они согласились провести его туда. Что было дальше, расскажет он сам, в своем письме ко мне, которое я привожу слово в слово:
«Ту ночь мы провели возле храма Сети и еще до рассвета тронулись в путь. Меня сопровождал косоглазый разбойник по имени Али — я прозвал его Али-Баба (это у него я купил перстень, который посылаю Вам) — и несколько его коллег-воров, — весьма избранное общество. Примерно через час после того, как поднялось солнце, мы достигли долины, где находится гробница. Это пустынное, заброшенное место, здесь целый день палит безжалостное солнце, раскаляя разбросанные по долине огромные рыжие скалы, так что до них невозможно дотронуться, а песок так просто обжигает ноги. Идти по такой жаре стало невозможно, поэтому мы сели на ослов и двинулись дальше верхом по пустыне, где единственным живым существом кроме нас был стервятник, парящий высоко в синеве.
Наконец мы приблизились к гигантскому утесу, стены которого тысячелетие за тысячелетием раскаляло солнце и шлифовал песок. Здесь Али остановился и объявил, что гробница находится под утесом. Мы спешились и, поручив ослов попечению паренька-феллаха, подошли к подножию утеса. У самого его основания чернела небольшая нора, в которую человек мог лишь с трудом протиснуться, да и то ползком. Оно и неудивительно — лаз прорыли шакалы, потому что не только вход в гробницу, но и значительная часть вырубленного в скале помещения были занесены песком, и этот-то шакалий лаз и помог арабам обнаружить усыпальницу. Али опустился на четвереньки и вполз в нору, я за ним и вскоре оказался в помещении, где после путешествия в удушающей жаре под слепящим солнцем было темно хоть глаз выколи и холодно. Мы зажгли свечи, и, дожидаясь, пока внутрь вползет все изысканное общество грабителей могил, я стал осматривать подземелье. Оно было просторное и напоминало зал, вырубленный внутри скалы, причем в дальнем его конце почти не было песка. На стенах — рисунки, изображающие культовые церемонии и явно относящиеся к временам Птолемеев, среди действующих лиц сразу привлекает к себе внимание величественный старец с длинной седой бородой, он сидит в резном кресле, сжимая в руке жезл
[194]. Перед ним проходит процессия жрецов со священными предметами. В правом дальнем углу зала шахта, ведущая в погребальную камеру, — квадратный колодец, пробитый в черной базальтовой скале. Мы привезли с собой крепкое бревно и теперь положили его поперек устья колодца и привязали к нему веревку. После чего Али — он хоть и мошенник, но смелости ему не занимать, нужно отдать ему должное, — сунул в карман на груди несколько свечей, взялся за веревку и, упираясь босыми ногами в гладкую стенку колодца, стал с удивительной скоростью спускаться вниз. Несколько мгновений — и он канул в черноту, только веревка подрагивала, удостоверяя, что он благополучно движется. Наконец веревка перестала дергаться, и из глубины шахты до нас еле слышным всплеском долетел голос Али, возвестившего, что все в порядке, он спустился. Потом далеко внизу засветилась крошечная звездочка. Это он зажег свечу, и свет вспугнул сотни летучих мышей, они взметнулись вверх и нескончаемой стаей понеслись мимо нас, бесшумные, как духи. Веревку вытянули наверх, настал мой черед, но я не рискнул спускаться по ней на руках, я обвязал конец веревки вокруг пояса, и меня начали медленно погружать в священные глубины. Надо признаться, чувствовал я себя во время путешествия не слишком приятно, ибо жизнь моя была в буквальном смысле в руках грабителей, оставшихся наверху: одно их неверное движение — и от меня костей не соберешь. К тому же в лицо мне то и дело тыкались летучие мыши, вцеплялись в волосы, а я летучих мышей терпеть не могу. Я вздрагивал и дергался, но через несколько минут ноги мои все-таки коснулись пола, и я оказался в узком проходе рядом с героическим Али, мокрый от пота, сплошь облепленный летучими мышами, с ободранными коленками и руками. Потом к нам ловко, как матрос, спустился по веревке еще один из наших спутников; остальные, как мы условились, должны были ждать наверху.
Теперь можно было трогаться в путь. Али со свечой — конечно, у всех у нас были свечи — повел нас по длинному, высотой футов пять, проходу. Но вот проход расширился, и мы вступили в погребальную камеру — жара здесь была как в преисподней, нас обняла глухая, зловещая тишина, я в жизни ничего подобного не испытывал. Дышать было нечем. Камера представляет собой квадратную комнату, вырубленную в скале, без росписей, без рельефов, без единой статуи.
Я поднял свечу и стал рассматривать комнату. На полу валялись крышки гробов, взломанных арабами, и то, что осталось от двух растерзанных мумий. Рисунки на этих крышках саркофагов были удивительной красоты, мне это сразу бросилось в глаза, но я не знаю иероглифов и потому не смог прочесть надписей. Вокруг останков мужчины и женщины — я догадался, что это именно мужчина и женщина
[195], — были разбросаны бусины и пропитанные благовонными маслами полосы полотняных пелен, в которые когда-то завернули мумии. Голова мужчины была оторвана от туловища. Я поднял ее и стал рассматривать. Лицо было тщательно выбрито — насколько я могу судить, его брили уже после смерти, — золотая маска изуродовала черты, плоть ссохлась, и все равно лицо поражало величественной красотой. Это было лицо старика с таким спокойным и торжественным выражением смерти, вселяющее такой благоговейный ужас, что мне стало не по себе, хотя, как Вы знаете, я давно привык к покойникам, и я поспешил положить голову на пол. С головы другой мумии бинты сорвали не полностью, но я не стал ее освобождать от обрывков, мне и без того было ясно, что когда-то это была статная красивая женщина.
— А вот третий мумия, — сказал Али, указывая на большой массивный саркофаг в углу, который, казалось, туда просто бросили, потому что он лежал на боку.
Я подошел к саркофагу и стал его рассматривать. Сделан он был добротно, но из простого кедра, и ни единой подписи на нем, ни одного изображения божества.
— Никогда такой не видал, — заметил Али. — Скорей, скорей хоронить. Нет мафиш
[196], нет финиш
[197]. Барасать сюда и оставлять на бок.
Я глядел на простой, без украшений саркофаг и чувствовал, как во мне разгорается неудержимый интерес. Меня так потряс вид поруганных останков, что я решил не трогать третий гроб, но сейчас желание узнать, что тут произошло, взяло верх, и мы принялись за дело.
Али прихватил с собой молоток и долото и, поставив саркофаг как положено, принялся вскрывать его с ловкостью опытного грабителя древних гробниц. Через несколько минут он обратил мое внимание на еще одну неожиданную особенность. Обычно в крышке саркофага делают четыре деревянных шипа, по два с каждой стороны: когда крышку опускают, они входят в специальные отверстия, высверленные в нижней части, и там их закрепляют намертво шпеньками из дерева твердых пород. Но у этого саркофага было восемь таких шипов. Видимо, кто-то решил, что этот саркофаг надо запереть особенно надежно.
Наконец мы с великим трудом сняли массивную крышку, толщиной не меньше трех дюймов, и увидели мумию, залитую чуть не до половины благовонными маслами, — довольно странная деталь.
Али уставился на мумию, выпучив глаза, да и неудивительно. Я тоже в жизни не видел ничего подобного. Обычно мумии покоятся на спине, прямые и вытянутые, точно деревянные скульптуры, а эта лежала на боку, и, несмотря на пелены, в которые она была завернута, ее колени были слегка согнуты. Но это еще не все: золотая маска, которую, по обычаю тех времен, положили на ее лицо, была сброшена и буквально придавлена традиционным головным убором.
Сам собой напрашивался неумолимый вывод: лежащая перед нами мумия отчаянно билась в саркофаге после того, как ее туда положили.
— Чуданой мумуия. Когда покойника хоронили, он был живой, — сказал Али.
— Что за чепуха! — возразил я. — Как это мумия может быть живой?
Мы извлекли тело из саркофага, чуть не задохнувшись от поднявшейся тысячелетней пыли, и увидели какой-то предмет, наполовину залитый благовониями, — нашу первую находку. Это оказался свиток папируса, небрежно свернутый и обмотанный полотняным бинтом, в какие была запеленута мумия, — судя по всему, свиток сунули в саркофаг в последнюю минуту пред тем, как закрыть его крышкой
[198].
При виде папируса глаза Али алчно сверкнули, но я схватил его и положил в карман, потому что мы заранее договорили: все, что мы найдем в гробнице, принадлежит мне. Потом мы принялись распеленывать мумию. Бинты обматывали ее толстым слоем, — необычно широкие полосы прочного грубого полотна, кое-как сшитые одна с другой, иногда даже просто связанные узлом, и складывалось впечатление, что трудились над мумией в страшной спешке и с большим напряжением сил.
Над лицом выступал высокий бугор. Но вот мы освободили голову от бинтов и увидели второй свиток папируса. Я хотел взять его, но не тут-то было. Видимо, папирус приклеился к плотному, без единого шва савану, в который покойного сунули с головой, точно в мешок, и под ногами завязали, как крестьяне завязывают мешки. Саван этот, тоже густо пропитанный благовонными маслами, по сути и был мешок, только сотканный в виде платья. Я поднес свечу поближе к папирусу и понял, почему он не отстает от савана. Благовонные масла загустели и намертво схватили свиток.
Вынуть его из гроба было невозможно, пришлось оторвать наружные листы
[199].
Наконец мне удалось извлечь свиток, и я положил его в карман, туда же, где был первый.
Мы молча продолжали нашу зловещую работу. С великой осторожностью разрезали саван-мешок, и нам открылась мумия лежащего в саркофаге мужчины. Между его коленями был зажат третий свиток исписанных листов папируса. Я схватил его и спрятал, потом осветил свечой мумию и стал внимательно рассматривать. Любой врач с одного взгляда определил бы, какой смертью умер этот человек.
Мумия не слишком ссохлась. Ее, без сомнения, не выдерживали положенные семьдесят дней в соляном растворе, и потому лицо изменилось не так сильно, как у других мумий, даже выражение сохранилось. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь одно: не приведи Бог еще когда-нибудь увидать ту муку, которая застыла в чертах покойного. Даже арабы в ужасе отшатнулись и забормотали молитвы.
И еще деталь: разреза на левой стороне живота, через который бальзамировщики вынимают внутренности, не было; лицо тонкое, породистое, вовсе не старое, хотя волосы седые; сложение могучее, плечи необычайно широкие, — видимо, человек этот обладал огромной физической силой. Но рассмотреть его как следует мне не удалось, потому что под действием воздуха ненабальзамированный труп, с которого сняли погребальные пелены, начал на глазах обращаться в прах, и через несколько минут от него остался лишь череп, похожие на паклю волосы да несколько самых крупных костей скелета. Я заметил, что на берцовой кости — не помню, правой или левой ноги — был перелом, очень неудачно вправленный. Эта нога была короче другой, наверное, на целый дюйм.
Больше ни на какие находки надеяться не приходилось, я немного успокоился и тут только почувствовал, что едва жив от усталости после пережитого волнения и вот-вот задохнусь в этой жаре от запаха рассыпавшейся в прах мумии и благовоний.
Мне трудно писать, корабль наш качает. Письмо это я, конечно, пошлю почтой, а сам поплыву морем, однако я надеюсь прибыть в Лондон не позже чем через десять дней после того, как Вы его получите. Когда мы встретимся, я расскажу Вам о восхитительных ощущениях, которые я испытал, поднимаясь из погребальной камеры по шахте, о том, как этот мошенник из мошенников Али-Баба и его доблестные помощники пытались отнять у меня свитки и как я их перехитрил.
Папирусы, конечно, мы отдадим расшифровать. Вряд ли в них содержится что-то интересное, наверняка очередной вариант «Книги мертвых», но чем черт не шутит. Как Вы догадываетесь, в Египте я не стал распространяться об этой моей небольшой экспедиции, дабы не привлекать к своей особе интереса сотрудников Булакского музея. До свидания, мафиш-финиш, — это любимое словечко моего доблестного Али-Бабы.»
В скором времени после того, как я получил это письмо, его автор сам прибыл в Лондон, и на следующий же день мы с ним нанесли визит нашему другу, известному египтологу, который хорошо знал и иероглифическое, и демотическое письмо. Можете себе представить, с каким волнением мы наблюдали, как он искусно увлажняет и развертывает листы папируса и потом вглядывается и загадочные письмена сквозь очки в золотой оправе.
— Хм, — наконец произнес он, — что это — пока не знаю, во всяком случае, не «Книга мертвых». Подождите, подождите! Кле… Клео… Клеопатра… Господа, господа, клянусь жизнью, здесь рассказывается о человеке, который жил во времена Клеопатры, той самой роковой вершительнице судеб, потому что рядом с ее именем я вижу имя Антония, вот оно! О, да тут работы на целые полгода, может быть, даже больше! — Эта заманчивая перспектива так вдохновила его, что он забыл обо всем на свете и, как мальчишка, принялся радостно скакать по комнате, то и дело пожимал нам руки и твердил: — Я расшифрую папирус, непременно расшифрую, буду трудиться день и ночь! И мы опубликуем повесть, и клянусь бессмертным Осирисом: все египтологи Европы умрут от зависти! Какая благословенная находка! Какой дивный подарок судьбы!
И так оно все и случилось, о вы, чьи глаза читают эти строки: наш друг расшифровал папирусы, перевод напечатали, и вот он лежит перед вами — неведомая страна, зовущая вас совершить по ней путешествие!
Гармахис обращается к вам из своей забытой всеми гробницы. Воздвигнутые временем стены рушатся, и перед вами возникают, сверкая яркими красками, картины жизни далекого прошлого в темной раме тысячелетий.
Он показывает вам два разных Египта, на которые еще в далекой древности взирали безмолвные пирамиды, — Египет, который покорился грекам и римлянам и позволил сесть на свой трон Птолемеям, и тот, другой Египет, который пережил свою славу, но свято продолжал хранить верность традициям седой древности и посвящать верховных жрецов в сокровенные тайны магических знаний, Египет, окутанный загадочными легендами и все еще помнящий свое былое величие.
Он рассказывает нам, каким жарким пламенем вспыхнула в этом Египте, прежде чем навсегда погаснуть, тлеющая под спудом любовь к стране Кемет и как отчаянно старая, освященная самим Временем, вера предков боролась против неотвратимо наступавших перемен, которые несла новая эпоха, накатившая на страну, точно воды разлившегося Нила, и погребла в своей пучине древних богов Египта.
Здесь, на этих страницах, вам поведают о всемогуществе Исиды — богини многих обличий, исполнительнице повелений Непостижимого. Пред вами явится и Клеопатра — эта «душа страсти и пламени», женщина, чья всепобеждающая красота созидала и рушила царства. Вы прочтете здесь, как дух Хармианы погиб от меча, который выковала ее жажда мести. Здесь обреченный смерти царевич Гармахис приветствует вас в последние мгновенья своей жизни и зовет проследовать за ним путем, который прошел он сам. В событиях его так рано оборвавшейся жизни, в его судьбе вы, может быть, увидите что-то общее со своей. Взывая к нам из глубины мрачного Аменти
[200], где его душа по сей день искупает великие земные преступления, он убеждает нас, что постигшая его участь ожидает всякого, кто искренне пытался устоять, но пал и предал своих богов, свою честь и свою отчизну.
КНИГА ПЕРВАЯ. ИСКУС ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о рождении Гармахиса, о пророчестве Хатхор и об убийстве сына кормилицы, которого солдаты приняли за царевича
Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, все, о чем я здесь рассказываю, — святая правда.
Я, Гармахис, по праву рождения верховный жрец храма, который возвиг божественный Сети — фараон Египта, воссоединившийся после смерти с Осирисом и ставший правителем Аменти; я, Гармахис, потомок божественных фараонов, единственный законный владыка Двойной Короны и царь Верхнего и Нижнего Египта; я, Гармахис, изменник, растоптавший едва распустившийся цветок нашей надежды, безумец, отринувший величие и славу, забывший глас богини и с трепетом внимавший голосу земной женщины; я, Гармахис, преступник, павший на самое дно, перенесший столько страданий, что душа моя высохла, как колодец в пустыне, навлекший на себя величайший позор, предатель, которого предали, властитель, который отказался от могущества и тем самым навеки лишил могущества свою родину; я, Гармахис, узник, приговоренный к смерти, — я пишу эту повесть и клянусь тем, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что каждое слово этой повести — правда.
О мой Египет! О дорогая сердцу страна Кемет, чья черная земля так щедро питала своими плодами мою смертную оболочку, — я тебя предал! О Осирис! Исида! Гор! Вы, боги Египта, и вас всех я предал! О храмы, пилоны которых возносятся к небесам, хранители веры, которую я тоже предал! О царственная кровь древних фараонов, которая течет в этих иссохших жилах, — я оказался недостойным тебя! О непостижимая сущность пронизывающего мироздание блага! О судьба, поручившая мне решить, каким будет ход истории! Я призываю вас в извечные свидетели: вы подтвердите, что все, написанное мною, — правда.
Подняв взгляд от своего папируса, я вижу в окно зеленые поля, за ними Нил катит свои воды, красные, как кровь. Солнце ярко освещает далекие скалы Аравийской пустыни, заливает светом дома и улицы Абидоса. В его храмах, где меня предали проклятью, жрецы по-прежнему возносят моления, совершают жертвенные приношения, к гулким сводам каменных потолков летят голоса молящихся. Из моей одинокой камеры в башне, куда я заточен, я, чье имя стало олицетворением позора, смотрю на твои яркие флаги, о Абидос, — как весело они полощутся на пилонах у входа в храмовый двор, я слышу песнопения процессии, которая обходит одно святилище за другим.
Абидос, обреченный Абидос, мое сердце разрывается от любви к тебе и от горя! Ибо скоро, скоро твои молельни и часовни погребут пески пустыни. Твои боги будут преданы забвенью, о Абидос! Здесь воцарится иная вера, и все твои святыни будут поруганы, на стенах твоей крепости будут перекликаться центурионы. Я плачу, плачу кровавыми слезами: ведь это я совершил преступление, которое обрушит на тебя все эти беды, и мой позор во веки веков неискупим. Читайте же, что я совершил.
Я родился здесь, в Абидосе, — я, пишущий эти строки Гармахис. Отец мой, соединившийся ныне с Осирисом, был верховный жрец храма Сети. В тот самый день когда я родился, родилась и царица Египта Клеопатра. Детство я провел среди этих полей, смотрел, как трудятся на них простые люди — земледельцы, бродил, когда мне вздумается, по огромным дворам храма. Мать свою я не помню, она умерла, когда я еще был младенцем. Но наша старая служанка Атуа рассказывала мне, что, перед тем как умереь — а было это во времена правления царя Птолемея Авлета, и это прозвище означает «флейтист», — она взяла из шкатулки слоновой кости золотого урея, — символ власти египетских фараонов, и возложила его мне на лоб. И все, кто это видел, решили, что она впала в транс и повинуется воле богов и этот ее пророческий жест означает, что скоро наступит конец царствованию Македонских Лагидов и скипетр фараонов вернется к истинным, законным правителям Египта.
В это время домой вернулся мой отец, верховный жрец Аменемхет, чьим единственным ребенком я был, ибо ту, которая была его женой, чудовище Секхет, не знаю за какое злое деяние, долгие годы карало бесплодием, — так вот, когда пришел отец и увидел, что сделала умирающая, он воздел руки к небу и возблагодарил Непостижимого за то знамение, которое он ему явил. И пока он молился, богиня Хатхор
[201] вдохнула силы в умирающую, так что та поднялась со своего ложа и трижды простерлась перед колыбелью, в которой я спал с золотым уреем на лбу, и стала вещать устами моей матери:
— Славься в веках, плод моего лона! Славься в веках, царственный младенец! Славься в веках, будущий фараон Египта! Хвала и слава тебе, бог, который освободит нашу страну от чужеземцев, слава тебе, божественное семя Нектанеба, потомок вечноживущей Исиды! Храни чистоту души, и ты будешь править Египтом, ты восстановишь истинную веру, и ничто тебя не сломит. Но если ты не выдержишь посланных тебе испытаний, то да падет на тебя проклятье всех богов Египта и всех твоих венценосных предков, кто правил страной со времен Гора и сейчас вкушает покой в Аменти, на полях Иалу. Да будет тогда жизнь твоя адом, а когда ты умрешь и предстанешь пред судом Осириса, пусть он и все сорок два судьи Аменти признают тебя виновным и Сет и Секхет терзают тебя до тех пор, пока ты не искупишь своего преступления и в храмах Египта вновь не воцарятся наши истинные боги, хотя их имена будут произносить наши далекие потомки; пока жезл власти не будет вырван из рук самозванцев и сломлен и все до единого угнетатели не будут изгнаны навек из нашей земли — пока кто-то другой не совершит этот великий подвиг, ибо ты в своей слабости оказался недостойным его.
Лишь только мать произнесла эти слова, пророческое вдохновение тотчас же оставило ее, и она рухнула мертвая на колыбель, в которой я спал. Я проснулся и заплакал.
Отец мой, верховный жрец Аменемхет, задрожал, объятый ужасом, — его потрясло прорицание Хатхор, которое она вложила в уста моей матери, к тому же в словах этих содержался призыв к преступлению против Птолемеев — к государственной измене. Ему ли было не знать, что если слух о происшедшем дойдет до Птолемеев, фараон тотчас же пошлет своих стражей убить ребенка, которому напророчили столь выдающуюся судьбу. И мой отец затворил двери и заставил всех, кто находился в комнате, поклясться священным символом своего сана, Божественной Триадой, и душой той, которая лежала бездыханная на каменных плитах пола, что никогда и никому они не расскажут о том, чему сейчас оказались свидетелями.
Среди присутствующих была кормилица моей матери, которая любила ее, как родную дочь, — старуха по имени Атуа, а женщины такой народ, что даже самая страшная клятва не удержит их язык за зубами — не знаю, может быть, раньше они были иначе устроены, может быть, в будущем смогут укротить свою болтливость. И вот недолгое время спустя, когда Атуа свыклась с мыслью, что мне уготован великий жребий, и страх ее отступил, она рассказала о пророчестве своей дочери, которая после смерти матери стала моей кормилицей. Они в это время шли вдвоем по дорожке в пустыне и несли обед мужу дочери, скульптору, который ваял статуи богов и богинь в скальных гробницах, — так вот, посвящая дочь в тайну, Атуа заклинала ее свято беречь и любить дитя, которому суждено стать фараоном и изгнать Птолемеев из Египта. Дочь Атуа, моя кормилица, была ошеломлена этой вестью; конечно же, она не смогла сохранить ее в тайне, она разбудила ночью мужа и шепотом ему все рассказала и этим обрекла на гибель и себя, и своего сына — моего молочного брата. Муж рассказал своему приятелю, а приятель был Птолемеев доносчик и сразу же сообщил обо всем фараону.
Фараон сильно встревожился, ибо хоть он и глумился, напившись, над египетскими богами и клялся, что единственный бог, перед которым он преклоняет колени, — это римский Сенат, но в глубине его души жил неодолимый страх перед собственным кощунством, мне рассказал об этом его врач. Оставаясь ночью один, он в отчаянии принимался вопить, взывая к великому Серапису, который на самом деле вовсе не истинный бог, а лжебог, к другим богам, терзаемый ужасом, что его убьют и его душе придется нескончаемо мучиться в загробном царстве. Но это еще не все: когда трон под ним начинал шататься, он посылал в храмы щедрые дары, советовался с оракулами, из которых особенно чтил оракула с острова Филе. Поэтому, когда до него дошел слух, что жене верховного жреца великого древнего храма в Абидосе открылось перед смертью будущее и богиня Хатхор предрекла ее устами, что сын ее станет фараоном, он смертельно перетрусил и призвал к себе самых доверенных лиц из своей охраны: его телохранители были греки и не боялись совершить святотатство, поэтому Авлет приказал им плыть в Абидос, отрубить сыну верховного жреца голову и привезти ему эту голову в корзине.
Однако Нил в это время года сильно мелеет, а у барки, в которой плыли солдаты, была слишком глубокая осадка, и так случилось, что она села на мель неподалеку от того места, где начинается дорога, ведущая через скалистое нагорье в Абидос, а тут еще разыгрался такой сильный северный ветер, что барка могла в любую минуту опрокинуться и утонуть. Солдаты фараона принялись звать крестьян, которые трудились на берегу, поднимая наверх воду, просили подъехать к ним на лодках и снять с барки, но крестьяне увидели, что это греки из Александрии, и пальцем не шевельнули, чтобы их спасти, — ведь египтяне ненавидят греков. Тогда солдаты стали кричать, что прибыли по приказу фараона, но крестьяне продолжали заниматься своим делом, спросили только, что это за приказ. Тогда приплывший с солдатами евнух, который от страха напился до полной потери разума, прокричал в ответ, что им приказано убить сына верховного жреца Аменемхета, которому напророчили, что он станет фараоном и изгонит из Египта греков. Крестьяне поняли, что медлить больше нельзя, и стали спускать лодки, хотя и не могли взять в толк, какое фараону дело до сына Аменемхета и почему он должен стать фараоном. Но один из них, тоже земледелец и к тому же смотритель каналов, был родственник моей матери и, когда она произносила перед смертью свои пророческие слова, находился рядом с ней, в ее покое, и потому сейчас он со всех ног бросился к нам, и не прошло и часу, как он вбежал в наш дом у северной стены великого храма, где я спал в отведенном мне покое в колыбели. Отец мой в это время был в священной области захоронений, которая находится по левую сторону от большой крепости, а фараоновы солдаты быстро приближались верхом на ослах. Наш родственник, задыхаясь, прохрипел старой Атуа, чей длинный язык навлек на нас такое несчастье, что вот-вот в дом ворвутся солдаты и убьют меня. Атуа и наш родственник в растерянности уставились друг на друга: что делать? Спрятать меня? Солдаты перевернуть все вверх дном и рано или поздно найдут. И тут наш родственник увидел в раскрытую дверь играющего во дворе ребенка.
— Женщина, спросил он, — чей это ребенок?
— Это мой внук, — ответила Атуа, — молочный брат царевича Гармахиса, сын моей дочери, которая обрушила на нас это горе.
— Женщина, — произнес он, — ты знаешь, что тебе велит твой долг, выполняй же его! — И указал ей на ребенка: — Я повелеваю тебе священным именем Осириса!
Атуа задрожала и едва не лишилась чувств — ведь мальчик был плоть от ее плоти, и все-таки она овладела собой, вышла во двор, взяла ребенка, вымыла его, облачила в шелковые одежды и положила в мою колыбель. А меня раздела, измазала всего в пыли, так что моя светлая кожа стала совсем темной, и посадила во дворе на землю, чему я несказанно обрадовался.
Родственник удалился в храм, и очень скоро к дому подъехали солдаты-греки и спросили старую Атуа, здесь ли живет верховный жрец Аменемхет. Она сказала, что да, здесь, пригласила их войти и подала им молока и меда утолить жажду.
Они все выпили, и тогда евнух, который тоже приехал с солдатами,
спросил Атуа, кто там лежит в колыбели, не сын ли Аменемхета, и она ответила: «Да, это его сын», и принялась рассказывать солдатам, что мальчика ожидает великое будущее, ему предсказали, что он возвысится над всеми и будет править державой.
Но солдаты-греки захохотали, а один из них схватил младенца и отсек ему голову мечом, евнух же вытащил печать фараона, чьим именем было совершено злодейство, и показал ее старой Атуа, велев передать верховному жрецу, что без головы даже царю править державой затруднительно.
Солдаты вышли во двор, и тут один из них заметил меня и крикнул товарищам: «Эй, глядите-ка, у этого чумазого плебея куда более аристократический вид, чем у царевича Гармахиса», солдаты остановились, раздумывая, не прикончить ли заодно и меня, но им претило убивать детей, и они ушли, унося с собой голову моего молочного брата.
Немного погодя с базара вернулась мать убиенного младенца, и когда она и ее муж увидели его труп, они бросились на старую Атуа и хотели ее убить, а меня отдать солдатам фараона. Но тут появился мой отец, ему все рассказали, и он повелел схватить мою кормилицу и ее мужа и ночью тайно заточить в одну из темниц храма. Больше их никто никогда не видел.
Как я сейчас скорблю, что волею богов остался жив, а меч фараонова палача казнил ни в чем не повинное дитя.
Людям было сказано, что я — приемный сын верховного жреца Аменемхета, он усыновил меня после того, как фараон приказал умертвить его возлюбленного сына Гармахиса.
Глава II, повествующая о том, как Гармахис нарушил запрет отца, как он победил льва и как старая Атуа рассеяла подозрения фараонова соглядатая
После этого Птолемей по прозвищу Флейтист оставил нас в покое и больше не посылал в Абидос солдат искать ребенка, которому предсказано восшествие на царский престол: ведь принес же евнух голову моего молочного брата в его мраморный дворец в Александрии и открыл корзину, чтобы показать ее, когда фараон, упившись кипрским вином, играл на флейте в окружении своих танцовщиц.
Птолемей захотел рассмотреть голову получше и приказал евнуху поднять ее за волосы и поднести к нему. Фараон захохотал и ударил ее по щеке сандалией, а одной из девушек повелел увенчать новоявленного фараона цветами. Сам, же кривляясь, преклонил колено и стал глумиться над головой несчастного младенца. Но острая на язык девушка не могла вынести такого святотатства и сказала Птолемею — я обо всем этом узнал через много лет, — что он поступил правильно, преклонив колено, ибо это дитя — истинный фараон, величайший из всех царивших когда-либо фараонов, и имя его — Осирис, а трон его — в царстве мертвых, Аменти.
Услыхав эту отповедь, Птолемей Флейтист затрясся от страха, ибо совершил много зла и безумно страшился предстать пред судьями Аменти. Ответ девушки был, несомненно, дурным предзнаменованием, и он приказал казнить дерзкую — пусть отныне служит тому владыке, чье имя она только что произнесла. Прогнал всех остальных девиц и больше не играл, взял флейту в руки только утром, когда снова напился. Жители Александрии сочинили об этом эпизоде песню, ее и по сей день народ распевает на улицах.
Вот два первых куплета:
Птолемей Флейтист -
Знаменитый музыкант,
Мир не знал еще такого:
Флейту сделали ему
Чудища из царства смерти -
Над убитыми играть.
Сладкозвучна его флейта
Как ночных лягушек пенье,
В смрадных заводях Аменти
Жабы заждались его.
Из болот зловонных жижу
В кубки налили Флейтисту.
Летел год за годом, но я был еще слишком мал и не ведал, какие события потрясают Египет; не буду описывать их сейчас, ибо слишком краток срок, отпущенный мне судьбой, расскажу лишь о тех, в которых принимал участие я сам.
Итак, я рос, а мой отец и мои наставники открывали мне знания, в которые наш народ был посвящен с глубокой древности, и рассказывали о наших богах то, что доступно разумению ребенка. Я был высок и крепок и хорош собой, волосы черные, как у богини Нут, глаза голубые, как лотосы, а кожа белая, как алебастровые изваяния в святилищах. Я не опасаюсь, что меня укорят в тщеславии, ибо давно утратил то, что красило меня когда-то. А как я был силен! Никто из моих сверстников в Абидосе не мог победить меня в борьбе, никто так искусно не владел копьем и пращой. И я страстно мечтал убить на охоте льва, однако тот, кого я называл отцом, запретил мне и думать об охоте, ибо жизнь моя слишком драгоценна и рисковать ею так бездумно — непростительное преступление. Я почтительно склонился перед ним и попросил объяснить, что означают его слова, но старый жрец лишь нахмурился и ответствовал, что боги откроют мне их смысл, когда исполнятся сроки. Я не стал более настаивать и ушел, но в душе у меня кипел гнев, потому что один юноша в Абидосе убил со своими товарищами льва, который напал на стадо его отца, и вот этот юноша, завидуя моей красоте и силе, стал всем внушать, что я трус, хоть и скрываю это, потому что на охоте убиваю из пращи только шакалов и антилоп. А мне как раз исполнилось шестнадцать лет, и я считал себя взрослым — настоящим мужчиной.
И случиться же такому совпадению, что когда я в горькой обиде шел от верховного жреца, мне повстречался этот самый юноша, окликнул меня и стал с издевкой рассказывать, будто узнал от окрестных крестьян, что в тридцати стадиях от Абидоса, возле канала, который проходит мимо храма, живет в прибрежных зарослях огромный лев. И, продолжая насмехаться надо мной, предложил пойти с ним и помочь ему убить льва, но если мне милее общество старух, которые без конца завивают и расчесывают мне волосы, тогда, конечно, он справится со зверем и без меня. Я вскипел от оскорбления и чуть не бросился на него с кулаками, однако же сдержал себя и, забыв о запрете отца, ответил: что ж, я составлю ему компанию, если он решится пойти на льва один, и пусть он сам удостоверится, трус я или нет.
В одиночку у нас на львов не охотятся, это все знают, обычно собираются пять-шесть мужчин и насмешник сразу же отказался, так что настал мой черед издеваться над ним. Он не выдержал и побежал домой за луком и стрелами, захватил также острый нож. А я взял свое копье — тяжелое, с древком из тернового дерева и серебряной фигурной рукояткой, чтобы не выскальзывало из рук, и мы вдвоем направились к логову льва, шагали рядом и молчали. Когда мы наконец пришли к тому месту, о котором он говорил, солнце стояло уже довольно низко; нам не потребовалось долго искать следы льва, мы сразу же увидели их на берегу канала в глине, они вели в густые заросли тростника.
— Ну что, хвастун, — спросил я, — ты пойдешь по следу впереди или я? — И шагнул вперед, показывая, что хочу идти первым.
— Нет, нет, ты с ума сошел! — закричал он. — Зверь прыгнет на тебя и разорвет. Мы вот как сделаем. Я сейчас начну стрелять в заросли. Может, он спит, и стрелы разбудят его. — И он наугад послал в густой тростник стрелу.
Как это случилось — не знаю, но только стрела попала прямо в спящего льва, он желтой молнией сверкнул средь тростников и встал прямо перед нами — грива дыбом, глаза горят, в боку трепещет стрела. Лев издал такой яростный рык, что, казалось, земля содрогнулась.
— Стреляй! — крикнул я своему спутнику. — Скорей, он сейчас прыгнет!
Но мужество оставило задиру, у него даже челюсть отвисла от страха, пальцы разжались, и лук упал на землю; он с диким воплем кинулся наутек, оставив меня лицом к лицу со львом. Я стоял и ждал смерти, ибо хотя я окаменел от испуга, у меня и в мыслях не мелькнуло бежать, а лев вдруг припал к земле и гигантским прыжком перемахнул через меня, даже не задел, — и ведь хоть бы чуть-чуть взял в сторону! Едва коснувшись земли, он снова прыгнул — прыгнул прямо на спину хвастуну и с такой силой ударил его своей могучей лапой по голове, что снес полчерепа, только мозги брызнули. Задира упал на землю бездыханный, а лев замер над его телом и зарычал. Я обезумел от ужаса и, сам не понимая, что делаю, сжал копье и занес, чтобы метнуть. Пока я его заносил, лев взвился на задние лапы, так что его голова оказалась выше моей, и ринулся на меня. Все, сейчас он превратит меня в кровавое месиво, но я собрал все свои силы и вонзил расширяющийся стальной наконечник льву в горло, он отпрянул, ослепленный болью, и лапа лишь слегка задела меня, оставив неглубокий след когтей. Лев упал на спину, чуть не насквозь пронзенный моим тяжелым копьем, потом поднялся с воплем душераздирающей боли и высоко прыгнул в воздух — чуть не в два человеческих роста, колотя по копью передними лапами. Снова прыгнул и снова упал на спину — ужасное, непереносимое зрелище. Кровь хлестала из раны багровой струей, зверь с каждым мигом слабел, он уже не мог подняться, вопль перешел в мычанье, в жалобный стон… по телу прошла судорога — он умер. Теперь мне нечего было бояться, но я не мог шевельнуться от страха, меня начала бить дрожь — ведь я же был еще совсем зеленый юнец.
Я в оцепенении глядел на труп несчастного, который дразнил меня трусом, на мертвого льва, и не заметил, как ко мне подбежала какая-то женщина — это оказалась старая Атуа, которая когда-то отдала убийцам своего родного внука, чтобы спасти меня, хотя я до сих пор этого не знал. Она собирала на берегу лекарственные травы, ибо славилась искусством врачевания; о том, что здесь живет лев, она и слыхом не слыхала, ведь львы очень редко появляются там, где люди возделывают землю, они в основном обитают в пустыне и в Ливийских горах, и сейчас она издали увидела, как из зарослей выскочил лев и как какой-то мужчина его убил. Подбежав, она узнала меня и склонилась передо мной в почтительном поклоне, потом простерлась ниц, называла венценосным владыкой, который достоин самых высоких почестей, любимцем богов, избранником Божественной Триады, мало того — величайшим из фараонов, избавителем Египта!
Я решил, что от пережитого страха она повредилась в рассудке, и спросил, почему она ведет такие странные речи.
— Ну да, я убил льва, разве это такой великий подвиг? С чего ты меня так превозносишь? Мало ли охотников, на счету которых не один десяток львов? А божественный Аменхотеп, вступивший в сияние Осириса, в былые времена убил своей собственной рукой больше сотни. Об этом рассказывается на священном скарабее, который висит в покоях моего отца, как будто ты не знаешь. Да он и не единственный, кто так отличился. Чем же ты так восхищаешься, о неразумная женщина?
Все это я произнес в крайнем удивлении, потому что со свойственной молодости самонадеянностью счел свою победу над львом пустяком, не заслуживающим внимания. Но Атуа продолжала петь мне дифирамбы и восхвалять в столь пышных выражениях, что рука не поднимается запечатлеть их на папирусе.
— О царственный отрок, — восклицала она, — сбылось пророчество твоей матери! Поистине, устами ее вещала великая чарами Хатхор, о дитя, зачатое от бога! Я растолкую тебе это знамение, слушай же. Этот лев — Рим, он рычит на нас из Капитолия, а тот, кого лев убил — Птолемей, македонское семя, заполнившее землю царственного Нила, точно зловредные сорняки; и вот ты с помощью Македонских Лагидов сокрушишь льва — Рим. Македонский ублюдок накинется на римского льва, и лев его растерзает, а ты повергнешь в прах льва, и страна Кемет вновь будет свободна — слышишь, свободна! Храни же свои помыслы в чистоте, как повелели тебе боги, о наследник царского трона, надежда кеми! Бойся погубительницы-женщины, и все, что я сказала, исполнится. Кто я? Всего лишь жалкая, несчастная старуха, у которой душа иссохла от горя. Я совершила тяжкий грех, проболтавшись о том, что должно было остаться тайной, и за свое преступление заплатила страшной ценой — жизнью моего внука, плотью от моей плоти, кровью от крови моей, я отдала его собственными рукам палачам и никогда не роптала. Но крупица мудрости нашего народа еще жива во мне, и боги, для которых мы все равны, не отвращают свой лик от страдальцев, и потому мать всего сущего Исида говорила со мной, говорила вчера ночью, — это она повелела мне идти сюда собирать травы и растолковать тебе знамение, которое явила. Помни: пророчество сбудется, если только тебе удастся противостоять величайшему искушению, которое тебя ожидает. Подойди сюда, о государь! — И она подвела меня к берегу канала, где синяя глубокая вода, казалось, застыла, точно зеркало. — Вглядись в свое отражение. Разве это чело не создано для того, чтобы носить корону Верхнего и Нижнего Египта? Разве не сверкает в этих добрых глазах величие рожденных царствовать? Разве не создал творец всего сущего Птах этого благородного юношу, чтобы носить царский наряд и вызывать благоговение народа, который будет видеть в нем бога?
— Да постой, куда же ты! — вдруг закричала она пронзительно и хрипло, как старая карга. — Я сейчас… до чего же глупый мальчишка! Рана, нанесенная львом, страшна и опасна, как укус ядовитой змеи, ее нужно обработать, иначе она покроется гноем, у тебя начнется лихорадка, день и ночь будут мерещиться львы и змеи, змеи и львы. Уж я-то знаю, кому и знать, как не мне. Недаром же я безумная. Запомни: все в этом мире находится в равновесии — безумие наполовину состоит из мудрости, а мудрость из безумия. Ха-ха-ах-ха! Даже фараон не знает, где кончается мудрость и начинается безумие. Ну что стоишь и глазеешь на меня? Видел бы, какой у тебя дурацкий вид, — ни дать, ни взять кошка в жреческом одеянии, как говорят в Александрии. Сейчас я прибинтую к ранам травы, и через несколько дней они заживут, даже шрама не останется. Знаю, больно, но придется потерпеть. Клянусь тем, кто покоится на острове Филе и в Абидосе — или, как его раньше называли наши божественные властители, в Абаде, — а также во всех своих других священных могилах, — так вот, клянусь Осирисом, которого мы все увидим гораздо раньше, чем нам хотелось бы, кожа твоя будет нежной и гладкой, как лепестки цветов, которые мы кладем на алтарь Исиды в вечер новолуния, позволь мне только приложить к ранам эти растения.
— Разве я не права, добрые люди? — обратилась она к небольшой толпе, которая незаметно для меня собралась, пока она вела свои пророческие речи. — Я произносила над ним заклинания, чтобы усилить действие трав, ха-ах-ха-ха! Заклинания — великая сила. Если не верите, приходите ко мне все, чьи жены бесплодны; вы обскребаете одну за другой все колонны в храме Осириса, но мой заговор излечит их быстрее, обещаю. Они станут рожать каждый год, как зрелые пальмы. Но для каждого недуга потребен особый заговор, и для каждого человека тоже, и все их нужно знать, вот так-то. Ха-ах-ха-ха!
Что за чепуху она несет? Я провел рукой по лбу, не понимая, снится мне все это или происходит наяву. Потом посмотрел на собравшихся и увидел в толпе седого мужчину, — он так и впился взглядом в старую Атуа. Позже мне рассказали, что это Птолемеев осведомитель, тот самый, кто донес фараону о пророчестве моей матери и из-за кого солдаты фараона чуть не отсекли мне голову, когда я был младенцем, и после этого я понял, почему Атуа начала молоть такую несуразицу.
— Странные заговоры ты произносишь, старуха, — проговорил соглядатай. — Если я не ослышался, ты говорила о фараоне и о короне Верхнего и Нижнего Египта, о юноше, сотворенном Птахом, чтобы носить ее, так ведь?
— Конечно, ибо таковы слова заговора, дурья твоя башка! Есть ли у нас сейчас что-то более священное, чем жизнь божественного фараона Птолемея Флейтиста, — да продлят извечные боги его дни, — чья музыка чарует нашу счастливую страну? Есть ли для нас что-то более священное, чем корона Верхнего и Нижнего Египта, которую он носит, — он, столь же великий, как Александр Македонский? Кстати, ты у нас все знаешь: удалось ли вернуть его плащ, который Митридат Евпатор увез на остров Кос? Ведь последним, кто его надевал, был, кажется, Помпей, когда праздновал свою победу, — нет, вы только представьте себе: Помпей посмел обрядиться в одеяние великого Александра! Петух в павлиньих перьях беспородный пес рядом с царственным львом! Да, кстати, коль уж мы заговорили о львах, — взгляните на этого юношу: он убил копьем льва, убил сам, один, и вся ваша деревня должна радоваться, потому что лев был свирепый, вон какие у него клыки и когти; конечно, я темная, глупая старуха, но меня от одного их вида в дрожь бросает, — того и гляди, закричу. Ведь этого-то, другого юношу лев убил, лежит, бедняжка, и никогда не встанет. Он теперь Осирис
[202], душа его отлетела, остался бездыханный труп, а всего несколько минут назад он говорил, смеялся, двигался. Надо скорей нести его к бальзамировщикам, а то на солнце он раздуется и живот лопнет, не надо будет и разрез делать. Родные не станут на него слишком тратиться. Заплатят за то, чтобы продержали семьдесят дней в соляном растворе, — и все, хватит с него. Ах-ха-ха-ах! Ну и разболталась я, а ведь скоро стемнеет. Берите этого бедняжку, да и льва тоже. А ты, внучок, не снимай повязку из трав, раны и не будут болеть. Хоть я и сумасшедшая, но мне открыто, то что неведомо другим, да, да, мой внук, поверь мне! Какое счастье, что его святейшество верховный жрец усыновил тебя, когда наш фараон — да прославит в веках его божественное имя Осирис — отнял жизнь у его родного сына; до чего же ты красив, до чего силен. Разве тот, настоящий Гармахис, смог бы убить льва, как убил ты? Никогда, клянусь извечными богами! Если у кого и есть отвага, так это у простолюдинов, да, да, я знаю, что говорю!
— Уж больно много ты знаешь, старуха, да и язык у тебя без костей, — проворчал доносчик; Атуа рассеяла все его подозрения. — Что ж, твоему внуку и вправду смелости не занимать. Берите покойного и несите в Абидос, а вы двое останьтесь, поможете мне снять со льва шкуру. Пришлем ее потом тебе, охотник, — продолжал он, обращаясь ко мне, — но не гордись — ты ее не заслужил: так на львов охотятся только глупцы, а глупцу не миновать того, что он заслужил, — гибели. Никогда не поднимай руку на сильного, пока не убедишься, что ты сильнее его.
Я повернулся и пошел домой, размышляя, что все это значит.
Глава III, повествующая о неудовольствии Аменемхета о молитве Гармахиса и о знамении, которое явили ему всемогущие боги
Сначала сок растений, которые старая Атуа приложила к моим ранам, жег их, будто огнем, но мало-помалу боль утихла. Это были поистине чудодейственные травы, потому что через два дня раны зажили, а очень скоро исчезли и следы от шрамов. Но сейчас меня не оставляла мысль, что я нарушил слово, данное верховному жрецу Аменемхету, которого я называл отцом. Я ведь еще не знал, что он и в самом деле мой отец, мне столько раз рассказывали, как его родного сына убили — я уже писал об этом здесь — и как он с благословения богов усыновил меня и с любовью воспитал, чтобы я, когда настанет срок, стал одним из жрецов храма. Я весь извелся от угрызений совести, и я боялся старого Аменемхета, — он был ужасен в гневе, а речь его, когда он отворял уста, была суровым, беспощадным гласом мудрости. И все равно я решился пойти к нему, признаться в своем проступке и принять кару, которой ему будет угодно меня подвергнуть. И вот, держа в руке окровавленное копье, с кровоточащими ранами на груди, я прошел по двору огромного храма к покоям, в которых жил верховный жрец. Это просторное помещение, уставленное величественными статуями богов, днем свет проникает сюда сквозь отверстие, сделанное в массивной каменной крыше, ночью его освещает висячий бронзовый светильник. Я бесшумно вошел в этот зал, ибо дверь была лишь притворена, и, откинув тяжелый занавес, замер, не смея шевельнуться. В висках гулко стучало.
Светильник уже горел, потому что наступила темнота, и в его свете я увидел старого жреца, который сидел в кресле из слоновой кости и эбенового дерева, а на мраморном столе перед ним лежали свитки с мистическими текстами «Книги мертвых». Но он их не читал, он спал, его длинная белая борода лежала на столешнице — казалось, он умер. Неяркий свет висячего светильника выхватывал из темноты его лицо, свиток папируса, золотой перстень на его руке с выгравированными символами Непостижимого, все остальное растворялось в сумраке. Свет падал на его бритую голову, на белое одеяние, кедровый посох — знак власти верховного жреца, на кресло из слоновой кости с ножками в виде лап льва. Какой могучий лоб у моего приемного отца, какие царственные черты, как темны глазницы глубоко посаженных глаз под белыми бровями. Я смотрел на него и вдруг почувствовал, что весь дрожу, ибо от него исходило сверхчеловеческое величие. Он так долго жил среди богов, столько времени провел в их обществе и так проникся их божественной мудростью, так глубоко постиг тайны, о существовании которых мы, простые смертные, лишь едва догадываемся, что уже сейчас, не перейдя черты, отделяющей эту жизнь от загробной, он почти возвысился до всеблагости Осириса, а у людей это вызывает великий страх.
Я стоял, не в силах отвести от него взгляда, а он вдруг открыл свои черные глаза, но на меня не посмотрел, даже головы в мою сторону не повернул, однако же увидел, что я здесь, и произнес:
— Почему ты ослушался меня, мой сын? — спросил он. — Как случилось, что ты пошел охотиться на льва? Ведь я запретил тебе.
— Как ты узнал, отец, что я охотился на льва? — в страхе прошептал я.
— Как я узнал? Ты что же, думаешь, все нужно видеть собственными глазами или слышать от других и нет иных путей познания? Эх, невежественное дитя! Разве не был мой дух с тобой, когда лев прыгнул на твоего спутника? Разве не молился я тем, кто защищает тебя, чтобы твое копье пронзило горло льва, когда ты поднял его и метнул? Так почему же все-таки, мой сын, ты нарушил мою волю?
— Этот хвастун дразнил меня, — ответил я, — вот я и решил доказать, что не трус.
— Да, мой Гармахис, знаю; и я прощаю тебя, потому что ты молод, а молодая кровь горяча. Но теперь выслушай меня, и пусть твое сердце впитает каждое мое слово, как жаждущий песок впитывает воды Сихора, когда на небосклоне загорается Сириус
[203]. Так слушай же. Этот задира был послан тебе судьбой, как искус, дабы испытать силу твоего духа, и видишь — ты не выдержал испытания. И посему назначенный тебе срок отодвигается. Прояви ты сегодня твердость, которой от тебя ждали, и ты бы уже знал, какой путь тебе предначертан. Но ты оказался не готов, — стало быть, время твое еще не настало.
— Отец мой, я ничего не понимаю, — проговорил я.
— Ты помнишь, что говорила тебе Атуа на берегу канала?
Я повторил Аменемхету старухины слова.
— И ты поверил ей, мой сын Гармахис?
— Конечно, нет! — воскликнул я. — Как можно верить таким бредням? Она была просто не в себе. Ее все считают помешанной.
И тут он в первый раз посмотрел на меня, стоящего у занавеса в темноте.
— О нет! — вскричал он. — О нет, мой сын, ты ошибаешься. Она не сумасшедшая, и говорила с тобой у канала не она, говорил голос Той, которая никогда не лжет. Наша Атуа — правдиворечивая прорицательница. Узнай же, мой сын, для какой миссии избрали тебя боги Египта, и горе тебе, если ты по слабодушию не выполнишь их предначертания! Итак, внимай же мне: ты вовсе не дитя простолюдинов, которого я якобы усыновил и хочу сделать жрецом нашего храма, ты — мой родной сын, и жизнь твою спасла наша Атуа, та самая старуха, которую ты назвал безумной. Но это еще не все, Гармахис: мы с тобой последние потомки царской династии Египта, единственные законные наследники того самого фараона Нектанеба, которого персидский царь Ох изгнал из Египта. Но персы пришли и ушли, их место заняли македонцы, и вот уже почти триста лет эти узурпаторы Лагиды носят нашу корону, оскверняют нашу прекрасную страну Кемет, глумятся над нашими богами. Но слушай же, слушай дальше: две недели назад наш Птолемей Авлет, этот жалкий музыкантишка, прозванный Флейтистом, который хотел убить тебя, умер; а евнух Потин, тот самый, что приплыл когда-то сюда с палачами, чтобы они отсекли тебе голову, нарушил волю покойного царя и возвел на трон его сына, Птолемея Нового Диониса. Поэтому его сестра Клеопатра, прославившаяся необычайной красотой и необузданностью нрава, бежала в Сирию, где она, если я не ошибаюсь, надеется собрать войско и пойти войной на своего брата, потому что, согласно воле отца, они должны были стать со-правителями. А тем временем, мой сын, на наш богатый, но неспособный защитить себя Египет зарится Рим, он словно коршун, который высмотрел на высоте добычу и выжидает, когда можно будет кинуться на жертву и вонзить в нее когти. И вот еще что ты должен помнить: египетский народ не желает больше терпеть иго чужеземцев, людям ненавистно воспоминание о персах, в их сердцах клокочет ярость, когда в Александрии на базарах их называют македонцами. Страна волнуется и бурлит, она уже не может жить под пятой греков и нависшей тенью Рима.
Разве Лагиды не превратили нас в рабов? Разве не убивают они наших детей, не отнимают в своей ненасытной алчности все, что вырастили на полях крестьяне? Разве не пришли в упадок наши храмы? Разве не надругались эти греческие святотатцы над нашими великими извечными богами, не извратили изначальную сущность истины, не отняли у Владыки Вечности его подлинное имя, не осквернили его, назвав Сераписом и нарушив связь с Непостижимым? Разве не взывает Египет о свободе? Неужели он будет взывать напрасно? О нет, мой сын, ибо у него есть избавитель, и этот избавитель — ты. Я уже стар, и потому передаю мое право на трон тебе. Твое имя уже произносят шепотом в святилищах по всей стране, жрецы и простой народ клянутся в верности нашими священными символами тому, кто будет им явлен. Но время еще не настало, ты пока недостаточно силен — такой жестокий ураган ломает хрупкие ростки. Не далее как сегодня тебе было послано испытание, и ты его не выдержал.
Тот, кто решил посвятить себя служению богам, Гармахис, должен восторжествовать над слабостями плоти. Его не должны задевать оскорбления, не должны привлекать никакие земные соблазны. Тебе уготован высокий жребий, но ты должен понять его смысл. Если же ты не поймешь, то не сможешь выполнить свое назначение, и тогда на тебя падет мое проклятье, проклятие нашего Египта, проклятие наших поверженных и оскверненных богов! Знай: в переплетении событий, из которых складывается история мира, бессмертные боги порой прибегают к помощи простых смертных, которые повинуются их воле, как меч повинуется искусной руке воина. Но позор мечу, если он сломается в разгар битвы, — его выбросят ржаветь, и он рассыплется в прах, или переплавят в огне, чтобы выковать новый. И потому ты должен очиститься сердцем, ты должен возвыситься и укрепиться духом, ибо ты избранник судьбы, Гармахис, и все радости простых смертных для тебя презренная суета. Твой путь — путь триумфатора, если ты победишь, путь славы, которая переживет века. Если же ты потерпишь поражение — горе, горе тебе!
Он умолк и склонил голову, потом снова заговорил:
— Обо всем этом ты в подробностях узнаешь позже. Сейчас же тебе предстоит многое постичь. Завтра я дам тебе письмо, и ты поплывешь по Нилу, мимо белостенного Мемфиса в Ана. Там, под сенью хранящих свои тайны пирамид, в храмах которых ты тоже по праву рождения должен стать верховным жрецом, ты проживешь несколько лет и глубже проникнешь в сокровищницу нашей древней мудрости. А я останусь здесь, ибо срок мой еще не исполнился, и с помощью богов буду плести паутину, в которую ты поймаешь гадючье отродье Лагидов и покончишь с ним.
Подойти ко мне, мой сын, подойди и поцелуй меня в лоб, ибо ты — моя надежда, надежда всего Египта. Будь тверд, и судьба вознесет тебя к орлиным высотам славы, где ты пребудешь вовек. Но если ты изменишь своему долгу, если обманешь наш порыв к свободе, то я отрекусь от тебя, страна Кемет предаст тебя проклятью, и твоя душа будет терпеть жесточайшие муки, пока в медленном течении времени зло снова не обратится в добро и Египет не станет наконец-то свободным.
Я приблизился к отцу, дрожа, и поцеловал его в лоб.
— О отец, пусть все кары богов обрушатся на меня, если я тебя предам! — воскликнул я.
— Нет, ты предашь не меня! — загремел его голос. — Ты предашь тех, чьи повеления я исполняю. А теперь ступай, мой сын; вникни в мои слова, пусть они достигнут сокровенных глубин твоего сердца; вбери в себя все, что тебе будет явлено, обогатись сокровищами мудрости, чтобы приготовиться к битве, которая тебе предстоит. Не страшись за себя — ты надежно огражден от всего внешнего зла; единственный враг, который может нанести тебе вред, это ты сам. Я все сказал, ступай.
И я ушел, переполненный волнением. Ночь, казалось, застыла в неподвижности, в дворах храма не было ни единого служителя, ни единого молящегося. Я быстро миновал их и оказался у подножия пилона, что возвышается возле наружного входа. Жаждая одиночества и словно бы стремясь приблизиться к небу, я стал подниматься по лестнице массивного пилона, двести ступеней — и вот я на площадке наверху. Положил руки на парапет и огляделся вокруг. В этот миг над Аравийскими горами показался красный край полной луны, ее лучи упали на башню, где я стоял, на стены храма, осветили каменные изваяния богов. Потом холодный свет стал заливать возделанные поля, где уже поспевала пшеница, небесный светильник Исиды поднимался из-за гор, медленно озаряя долину, по которой катит свои воды отец земли Кемет — Сихор.
Вот яркие лучи коснулись поцелуем легких волн, и те заулыбались в ответ, еще миг — и вся долина, река, храм, город, скалистое нагорье засияли в белом свете, ибо выплыла в небо великая матерь Исида и набросила на землю свой лучезарный покров. Картина была прекрасна, как волшебное видение, и бесконечно торжественна, точно я уже был в потустороннем царстве. Как горделиво возносились в ночь храмы Абидоса! Никогда еще они не казались мне столь величественными — эти бессмертные святыни, над которыми не властно само Время. И мне предстоит царствовать в этой залитой лунным светом стране, на меня возложен долг оберегать эти дорогие сердцу святыни, благоговейно чтить их богов; я избран сокрушить Птолемеев и освободить Египет от чужеземного ига! В моих жилах течет кровь великих фараонов, которые спят в своих гробницах в Долине Царей в Фивах, ожидая дня, когда их душа воссоединится с телом! Какая высокая судьба, не снится ли мне это? Меня захлестывала радость, я сложил перед собой руки и, стоя на верхней башне, стал с неведомым доселе пылом молиться многоименному и многоликому.
— О Амон, — взвывал я, — царь всех богов, владыка вечности, властитель истины, творец всего сущего, расточитель благ, судья над сильными и убогими, ты, кому поклоняются все боги и богини и весь сонм небесных сил, ты, сотворивший сам себя до сотворения времен, дабы пребыть во веки веков, — внемли мне!
[204] О Амон-Осирис, принесенный в жертву, дабы оправдать нас в царстве смерти и принять в свое сияние; всемудрый и всеблагой, повелитель ветров, времени и царства мертвых на западе, верховный правитель Аменти, — внемли мне! О Исида, великая праматерь-богиня, мать Гора, госпожа волхвований, небесная мать, сестра, супруга, внемли мне! Если я поистине избран вами, извечные боги, дабы исполнить вашу волю, явите мне знамение, и пусть оно свяжет мою жизнь с жизнью горней. Прострите ко мне руки, о премудрые, могущественные, позвольте мне увидеть ваши сияющие лики. Услышьте, о услышьте меня! — И я упал на колени и поднял глаза к небу.
И в этот миг луну скрыло облако, ночь сразу стала темной, все звуки смолкли, даже собаки далеко внизу, в городе, перестали лаять, мир окутала вязкая тишина, она все сгущалась, давя смертельной тяжестью. Душу мне наполнил священный ужас, я чувствовал, что волосы на голове шевелятся. Вдруг мощная башня словно бы дрогнула и закачалась у меня под ногами, в лицо ударил порыв ветра, и голос, исходящий, казалось, из глубин моего сердца, произнес:
— Ты просил явить тебе знамение, Гармахис? Не пугайся — вот оно.
Лишь только голос умолк, моей руки коснулась прохладная рука и вложила в нее какой-то предмет. Лунный лик выглянул из-за облака, ветер стих, башня перестала качаться, и ночь вновь засияла во всем своем великолепии.
Я посмотрел на то, что лежало в моей руке. Это был полураскрывшийся бутон священного цветка — лотоса, от него исходило кружащее голову благоухание.
Я в изумлении глядел на бутон, а он вдруг — о, чудо! — поднялся с моей ладони и растворился в воздухе.
Глава IV, повествующая о том, как Гармахис отправился в Ана и встретился со своим дядей, тамошним верховным жрецом Сепа; о его жизни в Ана и о том, что поведал ему Сепа
На рассвете меня разбудил один из жрецов храма и велел готовиться к путешествию, о котором вчера говорил отец, потому что как раз сегодня в Ана, который греки переименовали в Гелиополис, отплывает барка. Я поплыву на ней с жрецами мемфисского храма Птаха, которые привезли к нам, в Абидос, мумию одного из знатнейших горожан Гелиополиса и похоронили в усыпальнице, сооруженной неподалеку от могилы благодетельного Осириса.
Я стал готовиться и вечером, получив от отца письма и сердечно простившись с ним и со всеми жрецами и служителями нашего храма, кто был мне дорог, дошел до берега Сихора, спустился к пристани и сел на судно. Дул попутный южный ветер. Стоящий на носу кормчий с шестом в руках приказал морякам отвязать от деревянных тумб канаты, которые удерживали барку у причала, и тут я увидел старую Атуа, она, задыхаясь, бежала к барке со своей корзиной целебных трав, наконец доковыляла и, крикнув: «Прощай, сынок, да пребудет с тобою милость богов!» — кинула в меня сандалию — на счастье; я поймал ее и хранил потом долгие годы.
Барка отчалила. Нам предстояло шесть дней плыть по прекраснейшей в мире реке, останавливаясь на ночлег в каком-нибудь удобном месте. Но когда мы отдалились от пристани, когда из глаз скрылся пейзаж, который я видел каждый день с тех пор, как появился на свет, когда я оказался один среди совершенно незнакомых лиц, сердце мое сдавила такая тоска, что я готов был заплакать, и только стыд помог мне удержаться от слез. Не буду здесь описывать чудеса, которые довелось мне увидеть по пути, ведь это только я смотрел на них впервые, всем остальным они известны с тех времен, когда Египтом правили его истинные боги. Однако жрецы, с которыми я плыл, относились ко мне очень почтительно и подробно рассказывали обо всем, что нам встречалось.
На седьмой день утром мы приплыли в Мемфис — Город Белых Стен. Там я три дня отдыхал после путешествия, и жрецы красивейшего в мире храма, посвященного творцу всего сущего — Птаху, развлекали меня и показывали этот дивный, сказочно прекрасный город.
Верховный жрец и двое его приближенных тайно отвели меня в священное обиталище бога Аписа — быка, в обличье которого всемогущий Птах живет среди людей. Бык был черный, с белой квадратной звездочкой на лбу, на крупе белая отметина, формой напоминающая орла, во рту под языком выпуклость, очень похожая на скарабея, кисточка на конце хвоста черно-белая, между рогами пластинка из чистого золота. Я вступил в святилище и совершил обряд поклонения богу, а верховный жрец и его приближенные стояли в стороне и внимательно наблюдали. Когда я закончил ритуал и произнес слова, которые мне было велено произнести, бог опустился на колени и лег возле меня. Верховный жрец и двое его спутников, которые, как я потом узнал, были знатнейшие вельможи Верхнего Египта, приблизились ко мне и склонились в низком поклоне, ошеломленные знамением. Да, много, много удивительного видел я в Мемфисе, но, увы, мне не отпущено времени все это описать.
На четвертый день приехали несколько жрецов из Ана, чтобы отвести меня к моему дяде Сепа, который был верховным жрецом тамошнего храма. Я попрощался со всеми, кто был так добр ко мне в Мемфисе, мы переправились на другой берег, сели на ослов и двинулись в путь.
Сколько нам встретилось по дороге нищих селений, разоренных сборщиками налогов. Но видел я не только эти селения, передо мной впервые в жизни возникло это величайшее из чудес света — пирамиды, а перед пирамидами изображение Хор-эм-ахета, тот самый сфинкс, кого греки называют Гармахисом, храмы божественной праматери Исиды, расточительницы здравия и радости, Осириса, владыки праведности и царства мертвых на западе, божественного Менкаура, храмы, в которых я, Гармахис, согласно священному праву рождения, должен стать верховным жрецом. Я смотрел на пирамиды, и дух захватывало от их величия; как искусно были вырезаны рельефы на белом песчанике, как ослепительно сверкал красный сиенский гранит
[205], посылая лучи солнца обратно в небо. В те времена я еще ничего не знал о сокровищах, которые скрыты в третьей по величине из этих пирамид — о, если бы мне никогда не знать этой страшной тайны!
День начал клониться к вечеру, и тут впереди показался Ана. После Мемфиса меня поразило, что город такой маленький. Он стоит на возвышении, в ожерелье озер, питаемых каналом. Дальше, за городом, — храм бога Ра посреди огромной площади, окруженной стенами.
У ворот мы спешились, и под сводами колоннады нас встретил мужчина невысокого роста, но благородной наружности, с бритой головой и темными глазами, которые мерцали, точно далекие звезды.
— Приветствую тебя! — воскликнул он голосом густым и зычным, который никак не вязался с его тщедушным обликом. — Приветствую тебя, о путник! Я — Сепа, отворяющий уста богов.
— А я — Гармахис, — ответил я, — сын Аменемхета, верховного жреца и правителя священного города Абидоса. Я привез тебе письма от отца, о Сепа.
— Входи, — промолвил он. — Входи же! — Его мерцающие глаза внимательно меня разглядывали. — Добро пожаловать, мой сын! — И он повел меня в один из покоев во внутреннем помещении храма, затворил дверь, пробежал глазами письма, которые я ему отдал, и вдруг бросился мне на шею и крепко обнял.
— Будь благословен, — воскликнул он, — будь благословен, сын моей сестры, надежда Кемета! Наконец-то боги услышали мои молитвы и даровали мне счастье узреть твое лицо. Теперь я передам тебе мудрость, которой из всех египтян владею, быть может, один лишь я. Мне дозволено посвящать в нее только избранных. Но тебе предназначена великая судьба, и твои уши услышат изреченное богами.
Он снова обнял меня, потом сказал, что сейчас мне нужно пойти совершить омовение и подкрепиться едой, а завтра утром мы продолжим беседу.
И мы ее не только продолжили, — мы подолгу беседовали чуть не каждый день все годы, пока я жил в Ана, так что пожелай я записать все сказанное дядей Сепа, во всем Египте не нашлось бы столько папируса. Я должен еще так много поведать вам, а времени у меня осталось так мало, поэтому я опущу события нескольких последующих лет.
Жизнь моя шла установленной чередой. Вставал я на рассвете, шел в храм на богослужение и потом весь день до вечера посвящал занятиям. Я изучил все религиозные ритуалы и постиг их смысл, узнал, как появились боги и богини, как возник потусторонний мир. Мне стали понятны тайны движения звезд, путь, который проходит среди них земля. Меня посвятили в древние знания, которые называются волхованиями, в науку толкования снов, я овладел искусством приближаться духом к Всемудрому. Мне объяснили язык священных символов, связь их внешних очертаний и сокровенной сути. Я познал извечные законы добра и зла, тайну, которую несет в себе человек. И еще я постиг тайны пирамид — о, если бы мне никогда их не знать! Я прочел летописи, в которых рассказывалось о делах и днях всех фараонов, начиная с первых царей, правящих после Гора; я овладел искусством врачевания, изучил все тонкости и хитрости дипломатии, историю стран мира, и в первую очередь Греции и Рима. Я достиг совершенства во владении греческим языком и латынью — когда я приехал в Ана, я уже немного знал их, — и все то время, что я там прожил, все долгие пять лет, и руки мои, и помыслы были чисты, ни люди, ни боги не могли бы обвинить меня в том, что я совершил что-то дурное или лелею в душе зло; я без устали трудился, чтобы вобрать в себя все эти знания и стать достойным судьбы, которую мне предначертали.
Два раза в год отец мой Аменемхет присылал мне письма, полные заботы и любви, и дважды в год я отвечал ему, неизменно спрашивая, не считает ли он, что настало время завершить мои труды? Но срок ученичества все длился, длился, и я начал тяготиться этой жизнью, меня охватывало нетерпение, ведь я уже был взрослый мужчина, и не просто по годам — я был ученый муж и, конечно, жаждал деятельности, которой должна быть наполнена жизнь мужчины. Я даже порой сомневался, что мне и вправду предсказано стать венценосцем, — не досужие ли это выдумки мечтателей, принимающих желаемое за действительность? Да, в моих жилах течет кровь фараонов, я это знал, ибо мой дядя Сепа, жрец храма, показал мне хранящуюся ото всех в тайне пластину из сиенского гранита, на которой мистическими символами были выгравированы все до единого имена царей в той последовательности, как они правили. Но что толку от того, что я — законный наследник царского престола, когда моя держава, мой Египет обращен в раба и, постыдно пресмыкается перед погрязшими в роскоши Македонскими Лагидами, пресмыкается так давно, что, может быть, ему уже не хватит сил стереть с лица угодливую улыбку, расправить плечи и, сбросив ненавистное иго, гордо посмотреть в глаза миру со счастливой улыбкой свободного человека?
Вспоминал я и о том, как молился на крыше пилона в Абидосском храме, как боги ответили на мой призыв, и снова меня охватывали сомнения — во сне то было или наяву?
Однажды вечером, устав от занятий, я пошел прогуляться в священную рощу, что находится среди садов храма, и там, погруженный в глубокую задумчивость, чуть не столкнулся со своим дядей Сепа, который тоже медленно шел и о чем-то размышлял.
— Это ты, Гармахис? — крикнул он своим зычным голосом. — Почему так печально твое лицо? Не смог решить задачу, которую я тебе задал?
— Нет, милый дядя, — отвечал я, — задачу я как раз решил, она оказалась совсем не трудной, но ты прав: я в самом деле опечален. Такая тяжесть на сердце, я истомился в этом уединении, мне кажется, меня вот-вот раздавит груз знаний, которые я постиг. Что пользы копить силы, если их нельзя применить?
— Как ты нетерпелив, Гармахис, — ответил он, — это все неразумие юности. Ты жаждешь изведать вкус битвы; тебе наскучило смотреть, как волны набегают на берег, — тебя манит броситься в кипящее бурное море и померяться силами с разъяренной стихией. Значит, ты хочешь покинуть нас, Гармахис? Все карнизы нашего храма залеплены ласточкиными гнездами, и когда птенцы выросли, они улетают, — так и ты, мой Гармахис. Что ж, пусть будет по-твоему: твое время настало, лети. Я научил тебя всему, что знаю
сам, и, мне кажется, ученик превзошел учителя. — Он умолк и вытер свои черные блестящие глаза — так огорчила его предстоящая разлука.
— А куда же я направлюсь, о мой дядя? — радостно спросил я. — Вернусь в Абидос, где меня посвятят в таинства богов?
— Да, ты вернешься в Абидос, а из Абидоса поедешь в Алесандрию. В Александрии, о Гармахис, ты займешь трон твоих предков. Слушай же, как обстоят сейчас дела в стране.
Ты знаешь, конечно, что когда этот предатель, евнух Потин, нарушил волю покойного Авлета и сделал единоличным правителем Египта его сына Птолемея Диониса, его сестра, царица Клеопатра, бежала в Сирию. Ведомо тебе и то, что она вернулась, как и подобает царице, с огромным войском и заняла Пелузий, а как раз в это время могущественный Цезарь, великий из великих, избранник судьбы, плыл с небольшим флотом к нам, в Александрию, преследуя Помпея, которого разбил в кровавом сражении при Фарсале. Но когда Цезарь приплыл в Александрию, Помпей уже был мертв, его подло лишили жизни по приказу Птолемея Диониса военачальник Ахилл и командующий римскими легионами в Египте Луций Септимий; когда он прибыл, в Александрии страшно перепугались, хотели даже перебить его ликторов. Но Цезарь, как ты знаешь, захватил юного царя Птолемея Нового Диониса Двенадцатого и его сестру Арсиною и объявил, что распускает войска Клеопатры и войско Птолемея, которым командовал Ахилл, — они расположились друг против друга близ Пелузия и готовились к сражению. Но Ахилл презрел приказ Цезаря и двинулся на Александрию, осадил ее центральные кварталы с царским дворцом и гаванью — цитадель Бруцеум, и долгое время никто не знал, кто же будет править в Египте. Наконец Клеопатра решила, что надо действовать и придумала план — нужно признаться, весьма дерзкий. Оставив свои войска в Пелузии, она подплыла вечером в лодке к Александрии и вдвоем с сицилийцем Аполлодором сошла на берег. Аполлодор завернул ее в драгоценные сирийские ковры и велел отнести ковры в подарок Цезарю. Когда во дворце развернули рулон, внутри оказалась прекраснейшая в мире молодая женщина, к тому же на редкость умная и образованная. И эта юная красавица покорила великого Цезаря — даже горькая мудрость прожитых лет не смогла защитить его от ее чар, и это безумство едва не стоило ему жизни, едва не отняло славу, добытую в бесчисленных войнах.
— Глупец! — прервал я дядю Сепа. — Презренный глупец! Ты называешь его великим — да разве истинно великий человек поддастся уловкам коварной женщины? И это Цезарь, одно слово которого изменяло ход истории! Цезарь, который мановением руки посылал в бой сорок легионов и покорял народы и страны! Цезарь, с его холодным, ясным умом, с его проницательностью, этот прославленный герой попался в сети вероломной женщины! Нет, теперь я знаю: римлянин, которым ты так восхищаешься, был вылеплен из того же теста, что и все смертные, он был ничтожен и слаб!
Сепа внимательно поглядел на меня и покачал головой.
— Не суди так поспешно, Гармахис, умерь свою запальчивость и гордыню. Ведь ты же знаешь: все воинские доспехи скрепляются ремнями, и горе воину, если меч врага их рассечет. Запомни навсегда: нет силы более могущественной, чем женщина во всей ее слабости. Она — высшая повелительница. Она является нам в самых разных обличьях и не гнушается никакими хитростями, чтобы найти путь к нашему сердцу; она мгновенно проницает все и вся, но терпеливо ждет своего часа; она не отдается во власть страсти, как мужчина, но искусно управляет ею, как опытный наездник конем: если надо — натянет поводья, если можно — отпустит. Как для талантливого полководца нет неприступной крепости, так для нее нет сердца, которое бы она не заполонила. Ты молод, твоя кровь пылает огнем? Она будет неутомима в любви, ласки ее не иссякнут. Ты честолюбив? Она подстегнет твою жажду власти и укажет дорогу к вершинам славы. Ты устал, твои силы на исходе? Она даст тебе отдохновение. Ты споткнулся, упал? Она поднимет тебя и утешит, представив поражение блистательной победой. Да, Гармахис, все это подвластно женщине, ибо всегда и во всем Природа — ее верная союзница, а женщина, лаская, поддерживая и утешая тебя, часто лишь играет роль, преследуя свою собственную тайную цель, к которой ты не имеешь никакого отношения. Вот так-то, милый Гармахис: женщина правит миром. Ради нее ведутся войны; ради нее мужчина расточает свои силы, дабы одарить ее богатствами; ради нее он совершает подвиги и преступления, ради нее добивается славы и власти, а женщина рассеянно отворачивается и уходит к другому — ты ей больше не нужен. Она смотрит на тебя и улыбается, как Сфинкс, и ни один-единственный мужчина не разгадал загадку этой улыбки, не проник в тайну ее души. Напрасно ты смеешься над моими словами, Гармахис: поистине велик тот, кто способен противостоять чарам женщины, которая незаметно обволакивает нас и торжествует победу, когда мы и не подозреваем, что повержены.
Я расхохотался.
— Как вдохновенно ты произнес свою проповедь, мой несравненный дядя Сепа, — можно подумать, и тебя опалял огонь этих неодолимых искушений. Нет, за меня ты можешь быть спокоен, мне не страшны женщины со всем их коварством; они не влекут меня, я не желаю даже думать о них, и что бы ты ни говорил, я утверждаю: Цезарь был глупец. Я бы на его месте мгновенно укротил эту распутницу — приказал бы снова закатать ее в ковры и сбросил по дворцовой лестнице прямо в море.
— Молчи! Молю тебя, молчи! — закричал он. — Не искушай судьбу! Да отвратят от тебя боги беду, которую ты накликал на себя, и да сберегут твердость духа и неуязвимость, которыми ты похваляешься. Эх, дорогое мое дитя, ты еще совсем не знаешь жизни, — да, ты красив, как бог, кто сравнится с тобой в силе и ловкости, кто проник в такие глубины знаний, у кого такой дар красноречия, и все равно ты — всего лишь дитя. Мир, в который тебе предстоит вступить, отнюдь не святилище божественной Исиды. Но его можно изменить! Моли богов, чтобы твое ледяное сердце никогда не растаяло, и ты обретешь славу и счастье, а Египет — освобождение. А теперь позволь мне продолжить мой рассказ, — видишь, Гармахис, даже в столь важных поворотах истории решающую роль играет женщина. Брат Клеопатры, Птолемей Дионис, которого Цезарь освободил, предательски восстал против него. Но Цезарь с Митридатом разбили его войска, а сам Птолемей бежал. Он хотел переправиться на тот берег Нила, однако его собственные солдаты, бежавшие вместе с ним, стали цепляться за борта, пытались влезть в лодку и, конечно же, перевернули ее, и Птолемея постиг бесславный конец.
Когда война кончилась, Цезарь объявил младшего сына Птолемея Авлета, Нового Диониса Тринадцатого, соправителем Клеопатры и ее официальным мужем, хотя она только что родила ему сына, Цезариона, а сам отправился в Рим, увез с собой сестру Клеопатры, прекрасную царевну Арсиною, которая должна была идти в цепях за его колесницей во время триумфального шествия по улицам Рима. Но великий Цезарь умер. Он убивал — и его тоже убили, и, умирая, он проявил поистине царственное величие духа. Слушай же дальше. Наша царица, Клеопатра, если дошедшие до меня слухи не лгут, отравила своего брата и супруга, а маленького сына Цезариона посадила рядом с собой на трон, который удерживает с помощью римских легионов и, как говорят люди, Секста Помпея Младшего, занявшего в ее душе и постели место Цезаря. Но в стране кипит недовольство, зреет гнев против нее. По всем городам жители Кемета говорят об избавителе, который должен прийти. Этот избавитель ты, Гармахис. Грядет твой час. Скоро, скоро исполнятся сроки. Возвращайся в Абидос, постигни последние тайны, в которые посвятили нас боги, предстань перед теми, по чьему сигналу грянет гроза. И вот тогда действуй, Гармахис, — отомсти за наш Кемет, освободи страну от римлян и греков и займи принадлежащий тебе по закону трон твоих божественных предков, стань нашим фараоном. Вот для какой доли ты рожден, о царевич!
Глава V, повествующая о возвращении Гармахиса в Абидос; о церемонии Мистерий, посвященных смерти и воскресению Осириса; о призываниях Исиды и о напутствии Аменемхета
На следующий день я обнял моего доброго дядю Сепа и покинул Ана; меня сжигало нетерпение — скорее бы вернуться в Абидос. Не буду описывать свое путешествие, скажу только, что в положенный срок я без приключений вернулся туда, где не был пять лет и один месяц, вернулся не зеленым юнцом, каким его покинул, а зрелым мужем, который постиг науки, созданные людьми, и проник в тайны древней мудрости Египта, дарованной нам богами. Наконец-то я снова увидел родной край, увидел знакомые лица, хотя, увы, многих, кого я ожидал встретить, не было — их души отлетели в царство Осириса. Вокруг расстилались поля, среди которых прошло мое детство, мы приближались к храму, вот и его пилоны, из ворот уже вышли жрецы приветствовать меня, собралась целая толпа народу, впереди стояла старая Атуа, она почти не изменилась за долгие пять лет, прошедшие с того дня, когда она кинула мне вслед сандалию на счастье, только время провело своим резцом еще несколько морщин на ее лбу.
— Гармахис, мой дорогой Гармахис! — воскликнула она. — Наконец-то ты вернулся, наконец мы тебя дождались! До чего же ты красив, еще красивей, чем прежде! И какой сильный, мужественный! Какие могучие плечи, какое благородное лицо! И я когда-то нянчила тебя — как не гордиться старухе! Но ты что-то бледный, эти жрецы в Ана наверняка морили тебя голодом. Забудь их наставления: богам не угодны ходячие скелеты. Как говорят в Александрии: «На пустой желудок ни одна умная мысль в голову не придет». Ах, кукую радость подарили нам боги, какое счастье. Добро пожаловать в свой дом, добро пожаловать! — И, едва я слез с осла, бросилась меня обнимать.
Но я отстранил ее.
— Где отец? Где мой отец? — вскричал я. — Почему его нет здесь?
— Не тревожься о нем, любимый внучек, — отвечала она, — его святейшество здоров; он ожидает тебя в своих покоях. Идем же к нему. О, благословенный день! Ликуй, Абидос!
И я пошел, вернее, побежал к покоям, которые уже описывал, и за столом увидел моего отца Аменемхета, он сидел в той же позе, что и в вечер нашей последней встречи, но как же он постарел! Я приблизился к нему, опустился на колени и поцеловал его руку, а он благословил меня.
— Посмотри на меня, сын мой, — сказал он, — позволь моим старым глазам вглядеться в твое лицо и прочесть твои мысли.
Я поднял к нему голову, и он долго не отрывал от меня внимательного взгляда.
— Да, я проник в твою душу, — наконец произнес он, — твои помыслы чисты и твоя мудрость глубока; ты не обманул моих надежд. О, каким одиночеством были наполнены для меня эти годы, но я не напрасно посылал тебя в Ана. Расскажи же мне о своей тамошней жизни, твои письма были так скупы, а сердцу отца драгоценно все, что касается сына, тебе это пока неведомо.
И я начал свой рассказ; уже давно настала ночь, а мы все не могли наговориться. Перед тем как проститься, он мне сказал, что теперь я должен готовиться к посвящению в последние таинства, которые открываются лишь избранникам богов.
И целые три месяца я готовился к великому событию, как того требуют веками чтимые обычаи. Я не ел мяса. Все дни проводил в святилищах, постигая тайны Великого Жертвоприношения и скорбь Благословенной Матери. Во время ночных бдений я молился перед алтарями. Мой дух возносился к Богу, я чувствовал, что между мною и Непостижимым установилась связь, земля и все земные радости стали казаться пустой, ничтожной суетой. Я больше не жаждал славы среди людей, мое сердце парило высоко над этим желанием, точно раскинувший крылья орел, оно было глухо к воплям страждущих, а красота земли не наполняла его восторгом. Ибо надо мной простирался бездонный небесный свод, по которому начертанным им путем движутся извечные звезды, определяя судьбы людей, где на своих огненных тронах восседают великие божества, наблюдая, как по сферам мироздания катится колесница Провидения. О блаженные часы медитации! Может ли тот, кто хоть раз изведал счастье, которое вы дарите, желать возврата на землю, где мы пресмыкаемся во прахе? О низменная плоть, как властно ты влечешь нас в бездну! Почему мне не удалось избавиться от тебя тогда, чтобы моя освобожденная душа устремилась к Осирису!
Три месяца искуса даже не пролетели, а промчались; близился день, когда я воистину соединюсь с Матерью Всего Сущего. Как жаждал я увидеть твой светлый лик, о Исида, — трепетнее, чем Ночь ждет встречи с Рассветом, пламеннее чем влюбленный томится по своей прекрасной невесте. И даже сейчас, после того, как я тебя предал, когда ты недосягаемо далеко от меня, о божественная, душа моя рвется к тебе и я знаю, что ты по-прежнему… Но мне запрещено приподнимать завесу и рассказывать о том, что хранилось в тайне с сотворения мира, и потому позвольте мне продолжить мое повествование и с благоговением описать события того священного утра.
Семь дней продолжалось великое празднество, семь дней разыгрывались мистерии, посвященные тому, как олицетворение тьмы и зла Сет преследовал и наконец предательски умертвил Владыку Праведности Осириса, как Великая Матерь Исида оплакивала мужа, как ликовал мир, когда родился сын Осириса, божественный младенец Гор, который отомстил за отца и занял свое место среди сонма богов. Мистерии разыгрывались в строгом соответствии с древними канонами. По священному озеру плавали лодки, жрецы стегали себя плетьми перед святилищами, ночью по улицам носили изображения богов.
И вот на седьмой день, когда солнце опустилось к горизонту, в храмовом дворе снова собралась огромная процессия, и хор стал петь о горе Исиды и о том, как зло было отомщено. Потом мы молча вышли из ворот и двинулись по улицам города. Служители храма прокладывали нам путь в толпе; впереди шествовал мой отец Аменемхет в парадном одеянии верховного жреца и с посохом из кедрового дерева в руке. Шагах в десяти от него в полном одиночестве шагал я, облаченный в одежды из чистого льна, как подобает тому, кто готовится принять посвящение; далее следовали жрецы в белых балахонах, с флагами на шестах и священными символами. За главными жрецами выступали младшие жрецы, они несли священную барку, потом следовали певцы и плакальщицы, а дальше извивалась нескончаемая траурная процессия, все были в черном, потому что Осирис умер. Мы в молчании прошли по улицам города и вернулись к храму. Когда отец мой, верховный жрец Аменемхет, вступил в храмовый двор через главный вход между пилонами, мелодичный женский голос запел священное песнопение:
Горе, о, горе: умер Осирис!
Скорбите, люди, скорбите, великие боги!
Светоч творенья угас.
Солнце померкло,
Тьма пеленою окутала мир.
Рыдает Исида над телом любимого мужа.
Плачьте, о звезды, плачьте, светила,
Плачьте, дети Сихора, — ваш повелитель мертв!
Нежный голос поющей умолк, но огромная толпа подхватила скорбные слова погребального гимна:
Несем свою скорбь мы в залы великого храма,
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ,
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»
Замерли печальные голоса хора, и снова вступила певица:
Плачут, скорбя вместе с нами, привратные башни,
Плачут священные рощи,
Плачут озера,
Плачет божественный храм,
Плачут семь его древних святилищ.
Плачут вечные стены,
Плачут, обнявши друг друга,
Изваянья небесных сестер — Исиды и Нефтиды.
И снова воззвал тысячеголосый хор:
Несем свою скорбь мы в залы великого храма,
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ.
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!»
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!»
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!
Опять звучит нежный, проникающий в самое сердце голос:
Супруг возлюбленный, мой повелитель,
Мрак и холод в царстве Аменти тебя окружают.
Твоя Исида зовет: приди, не будь так далек от меня!
Ты — сияние Ра.
Вырвись из тьмы,
Что стеною тебя оградила.
Я ищу тебя, я жажду увидеть тебя,
Сердце горит от разлуки.
Где только я ни искала тебя:
И на земле, и в тверди небесной,
В глубинах вод и на звездах.
Силы иссякли, а слезы мои никогда не иссякнут.
Я тоскую, супруг мой, воскресни из мертвых,
Вернись, наш Осирис, верни нам надежду и жизнь!
Несем свою скорбь мы в залы великого храма.
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»
В голосе поющей зазвенела радость:
Глядите — он оживает!
Он воскресает — о чудо!
Славен сын Нут, зачатый в божественном лоне!
У врат тебя ожидает Исида,
Ожидает возлюбленная твоя жена.
Богиня тебя обнимает,
Припадает к твоей груди,
Вдыхает в тебя свою жизнь.
О диво, великое диво -
Он дышит, он пробудился от сна!
Благословенны пальцы Исиды, несущие жизнь!
Осирис, всемудрый, всеславный, всезиждитель.
Снова ты с нами!
С неба слетает подобный пламени сын твой Гор
И гонит Сета-злодея к месту казни.
Мы склонились перед Божественным Владыкой, а голос поющей теперь ликовал, и на это ликование, казалось, отозвались даже могучие древние стены, а сердца внимающих ей стеснились неизъяснимым волнением. Но вот прекрасная мелодия отзвучала, и в огромный двор спустилась тишина. Мы двинулись дальше, и она запела Песнь Воскресшего Осириса, Песнь Надежды, Песнь Торжества:
Осирис, Исида, Гор,
Пребудьте славны вовек!
Осирис, Исида, Гор,
Пребудьте с нами вовек!
Да правит миром добро,
Да сияют правда и свет!
Мы падаем ниц перед вами -
Перед Великой Священной Триадой!
Этот храм — ваш божественный дом,
Здесь ваш трон, здесь мы молимся вам!
Юный Гор защитил нас от зла.
Радуйтесь, люди, радуйся, мир,
Всеблагие вовеки с нами!
И опять, когда замерли последние звуки, нас оглушил могучий хор:
Несем свою скорбь мы в залы великого храма,
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»
Вот хор умолк, и в тот миг, когда последний крошечный сегмент солнечного диска скрылся за горизонтом, верховный жрец взял в руки статую живого бога Осириса и поднял перед толпой, которая заполнила весь храмовый двор. С уст людей сорвался оглушительный крик самозабвенного восторга: «Осирис! Осирис! Ты воскресил нашу надежду!», все стали срывать с себя черные плащи, под которыми оказались праздничные белые одежды, потом вся многотысячная толпа склонилась перед богом, и празднества на этом кончились.
Но для меня самое главное только начиналось — нынешней ночью мне предстояло таинство посвящения. Покинув храмовый двор, я совершил омовение, облачился в одежды из тончайшего льна, вошел в одно из храмовых святилищ — но не в его святая святых — и возложил жертвенные приношения на алтарь. Потом воздел руки к небу и надолго погрузился в медитацию, пытаясь с помощью молитв возвыситься и укрепиться духом, дабы достойно выдержать тяжкое испытание.
Час медленно тек за часом в безмолвии храма, но наконец дверь отворилась, и в святилище вошел мой отец, верховный жрец Аменемхет, облаченный в белое, и с ним жрец Исиды. Ведь отец был женат и не имел права участвовать в таинствах Благотворящей Праматери.
Я поднялся с колен и смиренно встал перед ними.
— Готов ли ты? — вопросил жрец и поднял светильник, который принес, так что пламя озарило мое лицо. — Готов ли ты, о избранный, предстать пред ликом великой богини?
— Готов, — прошептал я.
— Обдумай все еще раз, — торжественно произнес он. — Это очень важное решение. Если ты так упорно стоишь на своем, ты должен знать, царевич Гармахис, что нынешней же ночью твоя душа покинет свою земную оболочку, и все то время, пока она будет пребывать в царстве духа, ты останешься лежать в храме трупом. И когда ты после смерти предстанешь перед судьями Аменти и они — да не допустит этого благостный Осирис — увидят в твоем сердце зло, горе тебе, Гармахис, ибо дыхание жизни никогда больше не вернется в твое тело, оно без следа исчезнет; что же случится с другими элементами твоего существа, я не имею права тебе открыть, хоть и знаю
[206]. Поэтому загляни в себя еще раз и ответь мне: чисты ли твои помыслы и свободны ли от тени зла? Готов ли ты, чтобы тебя приблизила к себе Та, что вечно была, есть и будет, готов ли беспрекословно выполнять ее священную волю, выполнять все, что бы она ни приказала; готов ли по ее велению отринуть все мысли о земных женщинах, готов ли до конца дней служить Ей, умножая ее славу, пока Она не заберет тебя к себе, в царство вечной жизни!
— Готов, — ответил я. — Веди меня.
— Что ж, хорошо, — произнес жрец. — Прости, благородный Аменемхет, теперь мы пойдем с ним вдвоем.
— Прощай, мой сын, — сказал отец, — будь тверд, и ты восторжествуешь в лучезарном царстве духа, как восторжествуешь потом на земле. Тот, кто воистину хочет править миром, должен сначала вознестись над ним. Он должен почувствовать себя равным Великому Творцу, ибо только это ощущение позволит ему постигнуть божественные тайны. Но помни: боги очень ревниво относятся к смертным, которые посмели приблизиться к их избранному сонму миродержцев. Если эти смертные возвращаются к живым на землю, их судят по более суровым законам и налагают более жестокую кару, и если они совершат зло, то на века покроют себя черным позором, зато их добрые деяния воссияют в истории народов и стран как солнце. Итак, мой царственный Гармахис, укрепи свое сердце мужеством! И когда ты будешь лететь по просторам Ночи и потом вступишь в царство Всеблагих, помни: тот, кого щедро одарили, должен так же щедро одарять других. А теперь, если ты действительно решился, ступай туда, куда мне пока нельзя тебя сопровождать. Прощай же!
Его слова тяжким грузом придавили мое сердце, и удивительно ли, что я на миг заколебался! Но мне так страстно хотелось оказаться среди сонма небесных сил, и я знал, что моя душа и помыслы свободны от зла, я мечтал свершить лишь то, что справедливо. С каким трудом натягивал я тугую тетиву… нет, стрела должна вылететь!
— Идем! — воскликнул я. — Веди меня, о мудрый жрец! Я следую послушно за тобой.
И мы двинулись в путь.
Глава VI, повествующая о посвящении Гармахиса; о явленных ему видениях; о пребывании в городе, который находится в царстве мертвых; об откровениях Исиды — Вестницы Непостижимого
Безмолвно вступили мы в святилище Исиды. Зал был темен и пуст, дрожащий огонек светильника тускло освещал рельефы на стенах — бесчисленные изображения Небесной Матери Исиды, кормящей грудью младенца Гора. Жрец затворил двери и запер их.
— В последний раз вопрошаю тебя, — произнес он, — воистину ли ты готов, Гармахис?
— Воистину, — ответил я, — воистину готов.
Больше он ничего не сказал, он лишь воздел к небу руки в молитве, потом отвел меня в центр святилища и, быстро дунув на светильник, погасил пламя.
— Смотри же, о Гармахис! — воскликнул он, и голос его отозвался гулким эхом в мрачном зале.
Я стал всматриваться в темноту, но ничего не увидел. Однако из ниши высоко в стене, где, скрытый от взоров, находится священный символ богини, лицезреть который дозволено лишь избранным, послышались звуки, словно бы кто-то играл на систре
[207]. Я слушал мелодичные переливы, пораженный благоговейным ужасом, и вдруг — о, чудо! — увидел самый символ, очертания которого как бы горели в плотной черноте. Он парил надо мной, и из него лился нежный перезвон. Потом символ повернулся, и я ясно увидел вырезанное на одной стороне пластины лицо Благотворящей Матери Исиды, которая воплощает вечное рождение жизни, а на другой стороне — лицо ее небесной сестры Нефтиды, которая олицетворяет возвращение всего рожденного в смерть.
Пластина медленно изгибалась и раскачивалась надо мной, как будто высоко в воздухе танцевало мистическое существо. Но вот огонь, очерчивающий контуры символа, погас, треньканье смолкло. И тут дальний конец зала ярко озарился, и в этом ослепительном свете передо мной стали одна за другой разворачиваться удивительные картины. Я увидел древний Нил, несущий свои воды через пустыни к морю. На его берегах не было людей, не было ни одного возделанного поля, не было храмов, воздвигнутых в честь богов. Только вольные птицы безмятежно плавали по зеркальной поверхности Сихора, да странные чудища плюхались с берегов в воду и неуклюже барахтались, поднимая тучи брызг. Над Ливийской пустыней величественно опускалось к горизонту солнце, окрашивая реку в кроваво-красный цвет; в безмолвное небо возносились горы; но ни в горах, ни в пустыне, ни на реке не чувствовалось присутствия человека. И тогда я понял, что вижу мир таким, каков он был до появления людей, и душу мне пронзило одиночество этого мира.
Видение исчезло, на его месте появилось другое. Снова я увидел берега Сихора, и на них стаи волосатых существ, больше похожие на обезьян, чем на людей: они дрались и убивали друг друга. Пылали подожженные тростниковые хижины, мародеры тащили из них пожитки своих врагов. Вольные птицы в испуге поднялись в воздух и улетели. Эти существа крали, зверствовали, грабили, истребляли друг друга, раскалывали детям головы каменным топором, так что разлетались мозги. И хотя жрец ничего не объяснял мне, я понял, что вижу человека таким, каким он был десятки тысяч лет назад, когда лишь появился на земле.
Вот возникла новая картина. Слова передо мной были берега Сихора, но теперь на них стояли города, прекрасные, как в сказке. Вокруг раскинулись бескрайние возделанные поля. В ворота городов свободно входили люди и так же свободно выходили. Не было ни стражей, ни солдат, ни оружия. Здесь царили мудрость, благоденствие, мир. И пока я с восхищением глядел на это чудо, послышалась музыка и из святилища вышел удивительной красоты мужчина в сияющих одеждах и, окруженный неизвестно откуда звучащей музыкой, двинулся на рыночную площадь, которая была расположена на самом берегу, и там сел на трон из слоновой кости лицом к воде; лишь только край солнца коснулся горизонта, он призвал огромную толпу к молитве. Все благоговейно склонились, и стройно понеслись слова молитвы, точно их произносил один человек. И я понял, что в этой картине мне явлены времена, когда на земле царили боги, а было это задолго до правления фараона Менеса.
Но вот картина стала меняться. Тот же самый прекрасный город, но люди уже другие — их лица искажены алчностью и злобой, сердца переполняет ненависть к добру и благочестию, их неудержимо влечет к себе порок. Настал вечер; прекрасный светозарный бог взошел на трон и призвал к молитве, но ни единый человек в толпе не склонился, никто не сотворил ее.
— Ты надоел нам! — закричали голоса в толпе. — Посадим на трон Зло! Убьем его! Убьем! Освободим томящееся в оковах Зло! Пусть оно правит нами! Да здравствует Зло!
Прекрасный бог встал и долго смотрел кротким взглядом на беснующуюся толпу.
— Вы сами не ведаете, чего пожелали, — наконец произнес он, — но пусть ваше желание исполнится, раз уж оно так сильно. Ибо даже если я умру, вы все равно после долгих мук снова найдете с моей помощью путь в Царство Добра!
И едва он произнес эти слова, как на него набросилось отвратительное чудовище и, изрыгая проклятья, убило бога и зверски растерзало, разорвало на части прекрасное светозарное тело, а потом под ликующие вопли толпы село на трон и стало править. Но с неба на радужных крыльях спустилась тень, лицо которой было скрыто покрывалом, и, рыдая, стала собирать растерзанные останки светозарного бога. Потом пала на них, но немного погодя подняла голову и воздела к небу руки, обливаясь слезами. Слезы ее лились и лились, и вдруг возле нее возник воин в полном боевом снаряжении, и лицо его было подобно лику всеиспепельяющего Ра в полдень. Божественный мститель с кличем устремился к чудовищу, которое заняло трон, они сплелись, пытаясь одолеть друг друга, и так, в вечном нерасторжимом объятии борьбы унеслись в небеса.
Быстрее замелькали картины. Я видел царей и народы, менялись их одежды, по-разному звучали языки, на которых они говорили. Сколько их было — не счесть, и каждый любил, ненавидел, боролся, страдал, умирал… Несколько счастливых лиц, несколько лиц, отмеченных печатью глубочайшей скорби, но и счастье, и скорбь встречались так редко, на всех остальных бесчисленных миллионах лиц застыла тупая покорность. Сменялись поколения, а высоко в небе Мститель по-прежнему сражался с Владыкой Зла, и победа склонялась то в сторону одного, то в сторону другого. Но ни один так и не одержал верх, и мне не дано узнать, чем кончится их битва.
Я понял, что видения, которые мне были явлены, рассказывают о великой борьбе сил Добра и Зла. Я понял, что человек был сотворен жестоким и порочным, но высшие силы исполнились к нему сострадания и снизошли на землю, желая сделать его добрым и счастливым, ибо доброта и есть счастье. Но человек не мог одолеть свою злобную натуру, и светлый дух Добра, которого мы называем Осирисом, хотя у него бесконечное множество имен, принес себя в жертву во имя искупления жестокости тех, кто отринул его. Потом от него и от Божественной Матери, животворящей всю природу, родился еще один бог, который охраняет нас на земле, как Осирис защищает нас в Аменти.
Вот она, разгадка таинства Осириса.
Эта истина вдруг открылась мне, когда я глядел на проплывающие передо мной видения. Суть посвященных Осирису мистерий обнажилась, точно мумия, с которой сорвали погребальные пелены, и мне стал внятен смысл нашей религии: ее основа — Искупительная Жертва.
Видения исчезли, и снова жрец, приведший меня сюда, спросил:
— Проник ли ты, о Гармахис, в значение того, что тебе было позволено увидеть!
— Проник, — ответил я. — Стало быть, обряд посвящения завершен?
— О нет, он только начался. Тебе предстоит долгий путь, и ты пойдешь по нему один. Сейчас я оставлю тебя и вернусь, когда встанет солнце. Но я еще раз хочу остеречь тебя: лишь немногие могут выдержать то, что тебе начертано увидеть, и остаться в живых. За всю мою жизнь только три смельчака отважились подвергнуться этому страшному испытанию, и пережил его лишь один, двое других лежали мертвые, когда я приходил за ними утром. Сам я не решился подняться по этой тропе. Такая высота не для меня.
— Ступай, — ответствовал я. — Душа моя жаждет знания. Ничто меня не остановит.
Он возложил мне руку на голову, благословил и пошел прочь. Я слышал, как он закрыл за собой дверь, как потом долго замирало эхо его неторопливых шагов.
И вот я почувствовал, что остался один, один в святилище, наполненном присутствием неземных существ. Все окутала тишина, глубокая и черная, как царящий в храме мрак. Тишина наползала, сгущалась, как то облако, что скрыло лик луны, когда я еще юношей молился ночью на площадке пилона. Вязкая, тягучая, она проникла в мое сердце и там закричала: ведь голос полного безмолвия страшнее леденящего кровь вопля. Я произнес какие-то слова, но эхо отлетело от стен — оглушенный, я чуть не упал. Нет, безмолвие было легче вынести, чем такое эхо. Что мне предстоит увидеть? Неужели я сейчас умру, умру в расцвете молодости и сил? Недаром и меня столько раз предупреждали, что испытание будет ужасным. Страх сковал меня, в сознании билась одна только мысль — бежать, бежать! Бежать… но куда? Двери храма заперты, я в ловушке. Я наедине с богами, наедине с небесными силами, которые я вызвал. Нет, нет, мое сердце чисто, в нем нет ни крупицы зла. Пусть я умру, но я выдержу, выдержу предстоящий мне ужас.
— Исида, Благостная Праматерь, Небесная Супруга, — начал я молиться, — снизойди ко мне, поддержи меня, вдохни в меня силы, побудь со мной.
И вдруг я почувствовал, что что-то произошло. Воздух вокруг меня с шумом всколыхнулся, словно рассекаемый взмахами орлиных крыльев, ожил. В меня впились горящие глаза, душа содрогалась от страшных шорохов. Тьму пронзили лучи света. Лучи мерцали и переливались, они наплывали друг на друга, сплетались в мистические знаки, смысла которых я не понимал. Лучи кружились и плясали все быстрее и быстрее, мистические знаки сближались, соединялись, наливались огнем, гасли, снова вспыхивали, и, наконец, все слилось в бешеном вихре, глаза уже не могли различить форм и оттенков. Я плыл по светозарному океану, волны взлетали, низвергались, меня то возносило ввысь, потом швыряло в бездну. Свет, сияющий беспредельный свет, и я в экстазе ликования парю в нем!
Но мало-помалу кипящие волны воздушного океана начали меркнуть. По поверхности побежали огромные тени, снизу поднималась чернота, тени и мрак слились, и только я горел огненной вспышкой, точно звезда на челе безбрежной ночи.
Где-то вдалеке раздались грозовые раскаты музыки. Они приближались, пронизывая мрак, и он сначала отзывался на них легким трепетом. Но музыка неотвратимо надвигалась, накатывала, как прибой, грозная, могучая, оглушающая, и вдруг хлынула, налетела на меня, словно обрушив плеск крыльев огромной стаи птиц, все ревело и дрожало вокруг меня, и душа готова была разорваться от ужаса и восторга. Но вот все проплыло мимо, раскаты слышались все тише и наконец замерли где-то в далеких пространствах. Еще несколько раз я окунался в стихию музыки, и всякий раз она была разной. То словно бы бряцали тысячи систр; то раздавался рев бесчисленных медных труб; то овевало пение нежных, неземных голосов; то мир медленно наливался громом мириадов барабанов. Но вот все звуки отзвучали; замерло эхо, и снова на меня навалилось и стало душить безмолвие. Я чувствовал, что силы мои слабеют, жизнь иссякает во мне. Приближалась смерть, и смерть эта была — Безмолвие. Она вошла в мое сердце и наполнила его цепенящим холодом, но мысль моя была еще жива, я все ясно осознавал. Я знал, что медленно приближаюсь к черте, отделяющей царство живых от царства мертвых. Медленно? Нет, меня стремительно несет к ней, и, о боги, как же мне страшно! Молиться, нужно молиться, но поздно, уже нет времени для молитвы. Миг отчаянной борьбы, потом в мое сознание влилось успокоение. Ужас исчез, сон, тяжкий, как каменная глыба, расплющил меня. Я умираю, мелькнуло в последнем проблеске сознания, вот она, смерть… и меня поглотило ничто.
Я умер!
Но что это? Жизнь возвращается ко мне, хотя между той, прежней жизнью и этой, новой — пропасть, она совсем другая. Я снова стою в темноте храма, но тьма больше не слепит меня. Она прозрачная, как свет дня, хотя и черная. Да, я стоял, я был жив, и все же это был не совсем я, это была моя душа, ибо рядом на полу лежала моя мертвая земная оболочка. Лежала тихо, недвижимо, и на лице, в которое я вглядывался, застыло страшное последнее спокойствие.
Не знаю, сколько я так стоял и в изумлении разглядывал сам себя, но вдруг и меня подхватили огненные крылья и понесли прочь, так быстро, что за нами не угнаться самой молнии. Я падал вниз в бездонные пространства пустых миров, где лишь переливались венцы созвездий. Мы пронзали бесконечность, и, казалось, полет наш будет длиться вечно, но вот он наконец замедлился, и я увидел, что парю в куполе мягкого тихого света, разлитого над храмами, дворцами и домами волшебной красоты, такие никогда не снились людям на земле даже в самых чудесных снах. Они были сотворены из пламени и мрака. Их шпили возносились головокружительно высоко, вокруг цвели пышные сады. Я парил в невесомости, а картина беспрерывно изменялась перед моими глазами: пламя обращалось в тьму, тьма вспыхивала пламенем. Сверкали и переливались, точно драгоценные камни, радуги, затмевая свет, который заливает Царство Мертвых. Я видел деревья, и шелест их листьев был отраден, как музыка; меня овевал ветерок, и его дуновение, казалось, приносит нежную песнь.
Ко мне устремились существа прекрасные, таинственные, с зыбкими, текучими очертаниями, и опустили меня вниз, и я словно бы встал на землю, только не на ту, прежнюю, а на какую-то другую.
— Кто явился к нам? — вопросил глас божества, приводящий в священный трепет.
— Гармахис, — отвечали существа с зыбкими, текучими очертаниями. — Тот самый Гармахис, которого вызвали с Земли, чтобы он взглянул в лицо Той, что вечно была, есть и будет. Явился сын Земли Гармахис!
— Откройте же ворота и распахните двери! — повелел глас божества. — А потом замкните ему уста немотой, дабы его голос не нарушил небесную гармонию; отнимите у него зрение, дабы он не увидел того, что не предназначено для очей смертных, и отведите туда, где пребывает Единый. Ступай, сын Земли; но, прежде чем идти, взгляни наверх, и ты поймешь, как далеко сейчас от тебя твоя Земля.
Я поднял голову. За ореолом немеркнущего света, который сиял над городом, простиралась черная ночь, и высоко в этом черном небе мигала маленькая звезда.
— Се мир, который ты оставил, — произнес глас, — взирай и трепещи.
Чьи-то руки коснулись моих уст, и их сковала немота, коснулись глаз — и я ослеп. Ворота отворились, двери распахнулись во всю ширь, и меня внесли в город, который находится в Царстве Мертвых. Мы двигались очень быстро, куда — не знаю, но скоро я почувствовал, что стою на ногах. И снова глас божества повелел:
— Снимите с его глаз черное покрывало, разомкните ему уста, и пусть к сыну Земли, Гармахису, вернуться зрение и слух и ясность мысли, пусть он благоговейно падет ниц в святилище Той, что вечно была, есть и будет.
К моим устам и векам снова прикоснулись, и я вновь обрел зрения и речь.
О, чудо! Я стоял в зале из чернейшего мрамора, таком высоком, что даже в розоватом свеете, что освещал его, мои глаза едва различали могучие своды потолка. Звучала тихая торжественная музыка, вдоль стен стояли длинные, вытянутые во всю их высоту, крылатые духи, сотканные из бушующего пламени, и пламя это так слепило глаза, что смотреть на них было невозможно. В центре зала был алтарь, маленький, квадратный, пустой, и я стоял перед ним. Снова раздался глас:
— О Ты, которая всегда была, есть и будешь; Ты, Многоименная, истинного имени которой назвать нельзя; Ты, Измерительница Времени, Посланница Богов, Охранительница миров и всех существ, что их населяют; Матерь вселенной, до которой было лишь Ничто; Ты, Творящая, но Несотворенная; Светозарная Жизнь, не заключенная в форму; Живая Форма, не облеченная в материю; Исполнительница Воли Непостижимого; Дитя порядка, рожденного из хаоса; Держащая в своих руках весы и меч Судьбы; Сосуд Жизни, через который протекает вся жизнь, дабы вновь в него вернуться; Ведущая Запись всему, что совершается в истории; Исполнительница предначертанного Провидением, ВНЕМЛИ МНЕ!
Египтянин Гармахис, вызванный твоею волей с Земли, ожидает перед твоим алтарем, глаза его обрели зрение, уши — слух, сердце открыто. Внемли мне и слети к нам! Явись, о Многоликая! Яви свое сияние! Дай нам услышать тебя! Пусть дух твой осенит нас. Услышь меня и предстань пред нами!
Призывания смолкли, настала тишина. Потом в тишине словно бы зарокотало море. Но вот рокот стих, и я, повинуясь неведомой мне силе, опустил руки, которыми закрывал лицо, и посмотрел вверх: над алтарем клубилось маленькое темное облачко, и из него то вдруг появлялся огненный змей, то исчезал внутри.
И тогда все божества и духи, облаченные в свет, пали на мраморный пол и стали громко молиться; но я не понимал ни единого слова из того, что они произносили. Темное облачко — о, чудо! — опустилось на алтарь, огненный змей потянулся ко мне, лизнул мой лоб своим раздвоенным язычком и скрылся. Из облачка послышался небесно нежный голос, тихий и царственный:
— Удалитесь, мои служители, оставьте меня с сыном Земли, которого я призвала к себе.
И точно стрелы, выпущенные из лука, облаченные в пламя духи и божества улетели прочь.
— Не бойся, о Гармахис, — произнес голос. — Я — Та, которую ты знаешь под именем Исиды, это имя мне дали египтяне; не пытайся узнать обо мне что-то еще — это тебе недоступно. Ибо я — все сущее. Жизнь — моя душа, Природа — облачение. Я — смех ребенка, я — любовь юной девушки, я — поцелуй матери. Я — дитя и служанка Непостижимого, который есть Бог, или Великий Закон Мироздания, или Судьба, хотя сама я и не Богиня, и не Судьба, и не Закон. Это мой голос ты слышишь, когда на земле дуют ветры и ревут океаны; когда ты глядишь на звездную твердь, ты видишь мой лик; когда весной все покрывается цветами, это я улыбаюсь, о Гармахис. Ибо я — сущность Природы, и все, что она созидает, есть я. Все живое одухотворено моим дыханием. Я рождаюсь и умираю, когда рождается и умирает луна; я поднимаюсь с волнами прилива и вместе с ними опадаю; я встаю на небе, когда встает солнце; я сверкаю в молнии и грохочу в раскатах грома. Я все великое и грозное, что царствует и повелевает, я все малое и смиренное, что прозябает в ничтожестве. Я в тебе, Гармахис, а ты — во мне. То, что вызвало из небытия тебя, вызвало и меня. И потому хоть велико мое могущество, а тебе подвластно так мало, — не бойся. Ибо нас связывает общая нить жизни — той жизни, что течет по этой нити через просторы вселенной к солнцам и звездам, к божествам и душам людей, объединяя всю природу в единое целое, вечно меняющееся и во веки веков неизменное.
Я склонил голову — говорить я не мог, меня сковывал страх.
— Ты верно служишь мне, о сын мой, — продолжал тихий нежный голос, — велико было твое желание встретиться со мною здесь, в Аменти, и ты проявил воистину великое мужество и выполнил его. Ибо освободиться от своей смертной оболочки раньше срока, назначенного тебе Судьбой, и воплотиться в ипостаси духа, хотя бы на единый час, — подвиг, на который способны лишь избранные. И я, о мой слуга и сын мой, я тоже страстно желала увидеть тебя здесь, в этом Царстве Мертвых. Ведь боги любят тех, кто любит их, но любовь богов глубже и сильнее, а я, исполняющая волю Того, кто так же далек от меня, как я — от тебя, простого смертного, я — повелительница всех богов. И потому, Гармахис, я повелела, чтоб ты предстал здесь предо мной; и потому я говорю с тобою, и хочу, чтоб ты открыл мне свою душу, как в ту ночь на башне храмовых ворот в Абидосе. Ведь я была тогда с тобой, Гармахис, как была в тот же самый миг в мириадах других миров. И это я вложила в твою ладонь цветок лотоса — знак, о котором ты молил. Ибо в твоих жилах течет царственная кровь моих детей, которые служили мне тысячелетие за тысячелетием. И если ты восторжествуешь над врагами,
ты сядешь на древний трон царей, ты очистишь мои оскверненные храмы, и Египет будет поклоняться мне, как встарь, со всей беззаветностью веры. Но если ты потерпишь поражение, тогда вечноживущий дух, Исида, превратится для египтян всего лишь в воспоминание.
Голос умолк, и я, наконец-то собрав все свои силы, спросил:
— Скажи мне, о дарующая благодать, значит я обречен на поражение?
— Не спрашивай меня, — ответил голос, — не спрашивай о том, что мне не должно говорить тебе. Быть может, мне дано предугадать, что уготовано тебе; быть может, я не хочу предсказывать твою судьбу. Владыка Вечности взирает, как все в мире развивается своим чередом, — так разве станет он торопить цветок расцвести, когда семя растения едва успело лечь в лоно земли? Придет срок, и бутоны раскроются сами. Знай, Гармахис: не я творю будущее — его творишь ты, оно рождается Великим Законом Мироздания и волей Непостижимого. А ты — тебе дана свобода выбирать, и победишь ты или потерпишь поражение, зависит от того, насколько ты силен и чист сердцем. Вся тяжесть ляжет на тебя, Гармахис, — и бремя славы, и бремя позора. Что мне за дело до того, что будет? Ведь я лишь исполняю предначертанное. А теперь слушай меня, мой сын: я всегда буду охранять тебя, ибо, подарив кому-то свою любовь, я дарю ее навек и не отнимаю дара, хотя бы ты и совершил что-то дурное и тебе порой будет казаться, что ты утратил ее. Так помни же: коль победишь — тебя ждет великая награда; проиграешь — поистине страшная кара падет на тебя и там, на Земле, и здесь, в стране, которую вы называете Аменти. Но я хочу тебя утешить: муки и позор не будут длиться вечно. Как бы низко ни пал праведный, если в его сердце живет раскаяние, он может найти путь — путь тернистый, горький, — и снова подняться к прежним высотам. Да не допустят высшие силы, чтобы тебе пришлось искать этот путь, о Гармахис!
И вот что я еще тебе скажу, мой милый сын: ты так преданно любишь меня, и, пытаясь выбраться из лабиринта лжи на земле, в котором гибнет столько людей, ибо они принимают оболочку за дух, а алтарь за бога, ты нашел ниточку Многоликой Истины; и я тоже люблю тебя и надеюсь, что настанет день, когда ты благословленный Осирисом, вступишь в мое сияние и будешь служить мне; и потому, Гармахис, тебе будет дано услышать Слово, которым те, кто говорил со мной, могут вызвать меня из горнего мира и увидеть лик Исиды, даже взглянуть в глаза Вестнице Непостижимого — и это значит, что ты спасен от уничтожения в смерти.
Смотри же!
Неземной голос умолк; темное облачко над алтарем заклубилось, стало менять очертания, вот оно вытянулось, посветлело, засветилось, и передо мной возникла зыблящаяся фигура женщины в покрывале. Из ее сердца снова выполз золотой змей и живым венцом обвил туманное чело.
И тогда глас изрек Божественное Слово, и все покровы спали и растворились в воздухе, моим глазам предстало сияние такой непереносимой красоты, что даже вспоминая ее я едва не лишаюсь чувств. Но мне не позволено открывать людям то, что я видел. Да, много времени прошло с тех пор, однако и сейчас я не могу нарушить запрет, хоть мне и было велено поведать о событиях, которых я был участником и свидетелем, в надежде, что моя летопись, быть может, сохраниться для грядущих поколений. Итак, мне было явлено то, что невозможно и вообразить, ибо есть в мире высшая красота и высшее величие, которые недоступны человеческому воображению. Я их увидел и не выдержал этого зрелища, я пал ниц, чувствуя, что этот образ навеки врезался в мою память, зная, что Великое Слово будет нестихающим эхом вечно звучать в моей душе.
И когда я падал, мне показалось, что огромный зал словно бы раскололся и обломки свились огненными языками вокруг меня. Потом налетел могучий ураган, раздался космический гул, мелькнула мысль: это гул миров, несущихся в потоке Времени… и все исчезло, меня не стало.
Глава VII, повествующая о пробуждении Гармахиса, о его коронации венцом Верхнего и Нижнего Египта и о совершенных ему приношениях
Я проснулся и увидел, что лежу, простертый, на каменном полу святилища Исиды в Абидосском храме. Надо мной стоял старик-жрец, руководивший моим посвящением, в руке у него был светильник. Он нагнулся ко мне, внимательно вглядываясь в лицо.
— Уже день, Гармахис, — день твоего второго рождения, ты прошел таинство посвящения и родился заново! — произнес он наконец. — Благодарение богам! Встань, царственный Гармахис… нет, не рассказывай мне ничего о том, что с тобой происходило. Встань, возлюбленный сын Всеблагой Матери. Идем же, о проникший сквозь огонь и увидевший, что лежит за океаном тьмы, — идем, рожденный заново!
Я поднялся и, с трудом превозмогая слабость, ошеломленный, потрясенный, двинулся за ним из темноты святилища на яркий утренний свет. Я сразу же ушел в комнату, где жил, лег и заснул, и никакие видения не тревожили на этот раз мой сон. И ни единый человек не спросил меня потом, что же я видел в ту страшную ночь и как я разговаривал с богиней, — даже мой отец.
После всего того, о чем я рассказал, я попросил у жрецов позволения больше молиться Великой Матери Исиде и глубже изучить ритуалы таинств, к которым у меня уже был ключ. Более того, меня посвятили в тонкости и хитросплетения политики, ибо со всех концов Египта к нам в Абидос тайно приезжали встретиться со мной знатнейшие вельможи и сановники, и все рассказывали, как яростно народ ненавидит царицу Клеопатру и о событиях, которые происходят в стране. Срок приближался; прошло уже три месяца и десть дней с той ночи, когда мой дух покинул на недолгое время тело и, продолжая жить, перенесся в иные миры и предстал перед Исидой, после чего было решено возвести меня на трон с соблюдением всех предписанных и освященных веками обрядов, хотя и в величайшей тайне, и короновать венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта. К торжественной церемонии в Абидос съехались знатнейшие и влиятельнейшие из граждан, жаждавших освобождения и возрождения Египта, — всего их оказалось тридцать семь человек: по одному из каждого нома и по одному от самого крупного города в номе. Кем только они ни переодевались для путешествия — кто жрецом, кто паломником, кто нищим. Приехал также мой дядя Сепа — он хоть и путешествовал под видом бродячего лекаря, но зычный голос выдавал его, как ни старался он его укротить. Я, например, еще издали узнал дядю, встретив на берегу канала, где я прогуливался, хотя уже наступили сумерки и лицо его было скрыто огромным капюшоном, который он, как и положено людям этой профессии, накинул себе на голову.
— Пусть поразят тебя все хвори и болячки, какие только есть на свете! — прогремел мощный голос, когда я, приветствуя дядю, назвал его по имени. — Неужто человек не может изменить свое обличье, неужто обман сразу же открывается? Знал бы ты, сколько я трудов положил, чтобы меня приняли за лекаря — и вот, пожалуйста: ты узнал меня даже в темноте!
И принялся повествовать все так же громогласно, что шел сюда пешком, дабы не попасться в лапы соглядатаев, которые так и шныряют по Нилу. Но обратно ему все равно придется плыть, со вздохом заключил он, или же переодеться кем-то другим, потому что едва люди увидят бродячего лекаря, сейчас же обращаются за помощью, а он в искусстве врачевания не сведущ и сильно опасается, что немало народу между Ана и Абидосом оказались жертвами его невежества
[208]. Он оглушительно захохотал и обнял меня, забыв напрочь о своей роли. Не давалось ему лицедейство, слишком он был искренен и не мог пересилить себя, так что мне даже пришлось укорить его за неосторожность, иначе он так бы и вошел в Абидос, обняв меня за плечи.
Наконец съехались все, кого ждали.
Настала ночь торжественной церемонии. Ворота храма заперли. Внутри остались лишь тридцать семь знатнейших граждан Египта, мой отец — верховный жрец Аменемхет; старик жрец, который сопровождал меня в святилище Исиды; моя нянька, старая Атуа, которая, согласно древнему обычаю, должна была подготовить меня к обряду помазания; еще пять или шесть жрецов, поклявшихся священной клятвой хранить тайну. Все они собрались во втором зале великого храма; меня же, облаченного в белые одеяние, оставили одного в галерее, на стенах которой выбиты имена семидесяти шести фараонов Древнего Египта, царствовавших до божественного Сети. Я спокойно сидел в темноте, и вот ко мне вошел мой отец Аменемхет с зажженной лампадой, низко склонился передо мной, взял за руку и повел в огромный зал. Среди его величественных колонн горело несколько светильников, они тускло освещали скульптуры и рельефы на стенах и длинный рад людей — знатнейших вельмож, царевичей — потомков боковых ветвей царского рода, верховных жрецов, сидящих в резных креслах и молча ждущих моего появления. Прямо против этих тридцати семи, спинкой к семи святилищам, был установлен трон, его окружали жрецы с штандартами и священными символами. Лишь только я вступил в торжественный сумрак величественного зала, все вельможи встали и в полном молчании склонились предо мной; отец подвел меня к ступенькам трона и шепотом приказал встать перед ним.
Потом заговорил:
— О, вы, собравшиеся здесь по моему зову, вельможи, верховные жрецы, потомки древних царских родов страны Кемет, знатнейшие граждане Верхнего и Нижнего Египта, внемлите мне! Перед вами — царевич Гармахис, по праву крови и рождения наследник фараонов нашей многострадальной родины, я привел его сюда к вам в суровой простоте, повинуясь обстоятельствам. Он — жрец, посвященный в сокровенные глубины таинств божественной Исиды, распорядитель мистерий, по праву рождения верховный жрец всех храмов при пирамидах близ Мемфиса, искушенный в знании священных ритуалов, совершаемых в честь расточителя всех благ Осириса. Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, что он истинный потомок фараонов по прямой линии?
Отец умолк, и дядя Сепа, встав с кресла, ответствовал:
— Нет, у нас нет сомнений, Аменемхет: мы тщательно проследили всю линию его предков и установили, что в его жилах действительно течет кровь наших фараонов, он их законный наследник.
— Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, — продолжал мой отец, — что волею самих богов царевич Гармахис был перенесен в царство Осириса и предстал перед божественной Исидой, что он прошел искус и был посвящен в сан верховного жреца пирамид, что близ Мемфиса, и поминальных храмов при этих пирамидах?
Тут поднялся жрец, который был со мной в святилище Великой Матери всего сущего той ночью, и произнес:
— Нет, Аменемхет, у нас нет сомнений; я сам проводил его посвящение.
И снова мой отец заговорил:
— Есть ли среди вас, собравшихся здесь, кто-нибудь, кто может бросить обвинение царевичу Гармахису в неправедных деяниях или в нечистых помыслах, в коварстве или в лжи, и воспрепятствовать нам короновать его венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта?
Поднялся старец из Мемфиса, в чьих жилах тоже текла кровь фараонов, и изрек:
— Мы знаем все о Гармахисе, в нем нет ни одного из этих пороков, о Аменемхет.
— Что ж, быть по сему, — ответил мой отец, — мы коронуем его, раз царевич Гармахис, потомок Нектанеба, воссиявшего в Осирисе, достоин царской короны. Пусть приблизится к нам Атуа и поведает всем о том, что изрекла над колыбелью царевича Гармахиса моя жена в час своей смерти, когда ее устами вещала богиня Хатхор.
Старая Атуа медленно выступила из тени колонн и с волнением пересказал все, что я уже описал.
— Вот, вы все слышали, — сказал мой отец, — верите ли вы, что устами женщины, которая была моей женой, прорицала богиня?
— Верим, о Аменемхет, — ответили собравшиеся.
Потом поднялся мой дядя Сепа и заговорил, обращаясь ко мне:
— Ты слышал все, о царственный Гармахис. Теперь ты знаешь, что мы собрались здесь, чтобы короновать тебя царем Верхнего и Нижнего Египта, ибо твой благородный отец Аменемхет отказался от своих прав на престол ради тебя. Увы, эта церемония совершится без пышности и великолепия, какие подобают столь великому событию, мы вынуждены провести ее в величайшей тайне, иначе всем нам придется заплатить за нее жизнью, но самое страшное — мы погубим дело, которое для нас дороже жизни, но все же, насколько это сейчас доступно, выполним все древние священные обряды. Узнай же, что мы задумали, и если, узнав, ты одобришь задуманное, тогда взойди на трон свой, о фараон, и принеси нам клятву! Сколько столетий жители Кемета стонут под пятой греческих завоевателей, сколько столетий содрогаются при виде копья римлян; сколько столетий наши древние боги страдают от кощунственного пренебрежения, сколько столетий мы влачим жалкое существование рабов. Но мы верим: час избавления близок, и именем многострадального Египта, именем его богов, которым ты, именно ты избран служить, мы все с мольбою взываем к тебе, о царевич: возьми меч и возглавь наших освободителей! Слушай же! Двадцать тысяч бесстрашных мужей, пламенно любящих Комет, принесли клятву верности нашему делу и ждут лишь твоего согласия; как только ты подашь сигнал, они поднимутся все, как один, и перебьют греков, а потом на их крови воздвигнут твой трон, и трон этот будет стоять на земле Кемет так же незыблемо, как наши извечные пирамиды, все легионы римлян не смогут поколебать его. А сигналом будет смерть этой наглой непотребной девки Клеопатры. Ты убьешь ее, Гармахис, выполняя приказ, который тебе будет передан, и ее кровью освятишь трон фараонов Египта.
О наша надежда, неужели ты скажешь нам нет? Неужели твою душу не переполняет святая любовь к отечеству? Неужели ты швырнешь оземь поднесенную к твоим устам чашу с вином свободы и предпочтешь умирать от жажды, как обреченный на муки раб? Да, риск огромен, быть может, наш дерзкий заговор не удастся, и тогда и ты, и все мы заплатим за свою дерзость жизнью. Но стоит ли о том жалеть, Гармахис? Разве жизнь так уж прекрасна? Разве лелеет она нас и оберегает от падений и ударов? Разве горе и беды не перевешивают тысячекратно крупицу радости, что иногда блеснет нам? Разве здесь, на земле, мы вдыхаем то благоухание, которое разлито в воздухе потустороннего мира, и разве так уж страшно вовсе перестать дышать? Что у нас есть здесь, кроме надежд и воспоминаний? Что мы здесь видим? Одни только тени. Так почему чистый сердцем должен страшиться перехода туда, где нас ждет успокоение, где воспоминания тонут в событиях, их породивших, а тени растворяются в свете, который их очертил? Знай же, Гармахис: истинно велик лишь тот муж, кто увенчал свою жизнь блеском славы, не меркнущей в веках. Да, смерть дарит букеты маков всем детям земли, но счастлив тот, кому судьба позволила сплести себе из этих маков венок героя. И нет для человека смерти более прекрасной, чем смерть борца, освободившего свою отчизну — пусть она теперь выпрямится, расправит плечи, вскинет голову, и, гордая, свободная, могучая, как прежде, швырнет в лицо тиранам порванные цепи: теперь уж никогда ни один поработитель не выжжет на ее челе клеймо раба.
Гармахис, Кемет призывает тебя. Откликнись на его зов, о избавитель! Кинься на врагов, как Гор на Сета, размечи их, освободи отечество и правь им — великий фараон на древнем троне…
— Довольно, довольно! — вскричал я, и голос мой потонул в шуме рукоплесканий, прокатившемся гулким эхом среди могучих стен и колонн. — Неужели меня нужно просить, заклинать? Да будь у меня сто жизней, разве не счел бы я высочайшим счастьем отдать их все за наш Египет?
— Достойный ответ! — произнес Сепа. — Теперь ты должен удалиться с этой женщиной, она омоет твои руки, дабы ты мог принять священные символы власти, и оботрет благовониями твой лоб, на который мы наденем венец фараона.
Я пошел со старой Атуа в один из храмовых покоев. Там, шепча молитвы, она взяла золотой кувшин и омыла мои руки чистейшей водой над золотой чашей, потом смочила кусок тончайшей ткани в благовонном масле и приложила к моему лбу.
— Ликуй, Египет! Ликуй, счастливейший царевич, ты будешь нашим властелином! — восторженно восклицала она. — О царственный красавец! Ты слишком царственен и слишком красив, тебе нельзя быть жрецом, все хорошенькие женщины это скажут; но, недаюсь, ради тебя смягчат суровые законы, предписывающие жрецам воздержание, иначе род фараонов заглохнет, а этого допустить нельзя. Какое счастье послали мне боги, ведь я вынянчила, вырастила тебя, я отдала ради твоего спасения жизнь собственного внука! О царственный, блистательный Гармахис, ты рожден для славы, для счастья, для любви!
— Перестань, Атуа, — с досадой прервал я ее, — не называй меня счастливейшим, ведь мое будущее тебе неведомо, и не сули мне любви, любовь неотделима от печали, знай: мне суждено иное, более высокое предназначение.
— Можешь говорить, что хочешь, но радостей любви тебе не миновать, да, да, поверь мне! И не отмахивайся от любви с таким высокомерием, ведь благодаря ей ты и появился на свет. Знаешь пословицу, которую любят повторять в Александрии? «Летит гусь — смеется над крокодилом, а опустился на воду и заснул — тут уж хохочет крокодил». Вот так-то. А женщины почище крокодилов будут. Крокодилам поклоняются в Атрибисе — его сейчас называют Крокодилополь, — но женщинам, мой мальчик, поклоняются во всем мире! Ой, я все болтаю и болтаю, а тебя ждут короновать на царство. Разве я тебе это не предсказывала? Ну вот, владыка Верхнего и Нижнего Египта, ты готов. Ступай же!
Я вышел из покоя, но глупые слова старухи засели в голове, и если говорить правду, не так уж она была глупа, хоть и болтлива — не остановишь.
Когда я вступил в зал, вельможи снова встали и склонились передо мной. Тотчас же ко мне приблизился отец, вложил мне в руки золотое изображение богини Истины Маат, золотые венцы бога Амона-Ра и его супруги Мут, символ божественного Хонса и торжественно вопросил:
— Клянешься ли ты величием животворящей Маат, могуществом Амона-Ра, Мут и Хонса?
— Клянусь, — ответил я.
— Клянешься ли священной землей Кемет, разливами Сихора, храмами наших богов и вечными пирамидами?
— Клянусь.
— Клянешься ли, помня о страшной судьбе, которая тебя ожидает, если ты не выполнишь свой долг, — клянешься ли править Египтом в согласии с его древними законами, клянешься ли чтить его истинных богов, быть справедливым со всеми и во всем, не угнетать свою страну и свой народ, не предавать, не вступать в сговор с римлянами и греками, клянешься ли низвергнуть всех чужеземных идолов и посвятить жизнь процветанию свободного Кемета?
— Клянусь.
— Хорошо. Теперь взойди на трон, и я в присутствии твоих подданных провозглашу тебя фараоном Египта.
Я опустился на трон, осененный распростертыми крыльями богини Маат, и поставил ноги на скамеечку в виде мраморного сфинкса. Аменемхет снова приблизился ко мне и надел на голову полосатый клафт, а поверх него пшент — двойную корону, накинул на плечи царское облачение и вложил в руки скипетр и плеть.
— Богоподобный Гармахис! — воскликнул он. — Этими эмблемами и символами я, верховный жрец абидосского храма Ра-Мен-Маат, венчаю тебя на царство. Отныне ты — фараон Верхнего и Нижнего Египта. Царствуй и процветай, о надежда Кемета!
— Царствуй и процветай, о фараон! — эхом отозвались вельможи, низко склоняясь передо мной.
Потом все они, сколько их было, стали один за другим приносить мне клятву верности. Когда прозвучала последняя клятва, отец взял меня за руку, и во главе торжественной процессии мы обошли все семь святилищ храма Ра-Мен-Маат, и в каждом я клал приношения на алтарь, кадил благовониями и служил литургию, как подобает жрецу. В своем парадном царском одеянии я совершил приношения в святилище Гора, в Святилище Исиды, Осириса, Амона-Ра, Хор-эм-ахета, Птаха, и наконец мы вступили в святилище, что расположено в покоях фараона.
Там все совершили приношение мне, своему божественному фараону, и ушли, оставив меня одного. Я был без сил от усталости — венчанный на царство владыка Египта.
(На этом первый, самый маленький свиток папируса кончается.)
КНИГА ВТОРАЯ. ПАДЕНИЕ ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о прощании Аменемхета с Гармахисом; о прибытии Гармахиса в Александрию; о предостережении Сепа; о процессии, в которой Клеопатра проехала по улицам города в одеждах Исиды, и о победе Гармахиса над знаменитым гладиатором
Итак, долгая пора искуса миновала, приспело время действовать. Я прошел все ступени посвящения, был коронован на царство, и хотя простой народ меня не знал, а для жителей Абидоса я был всего лишь жрец Исиды, тысячи египтян в сердце своем чтили меня как фараона. Да, время свершений приближалось, меня сжигало нетерпение. Скорее бы свергнуть чужеземную самозванку, освободить Египет, взойти на трон, который принадлежит мне по праву, скорее бы очистить от скверны храмы моих богов. Меня переполняла жажда борьбы, и я ни на минуту не сомневался в своем торжестве. Я смотрел на себя в зеркало и видел, что это чело — чело триумфатора. Будущее простиралось передо мной широкой дорогой славы, сверкающей, как Сихор на солнце. Я мысленно беседовал с моей божественной матерью Исидой; я подолгу сидел в моих покоях, я мысленно возводил новые грандиозные храмы; обдумывал великие законы, которые принесут моему народу благоденствие; и в ушах моих звучали восторженные клики благодарной толпы, приветствующей фараона-победителя, завоевавшего древний трон своей династии, мне было велено, пока мои черные, как вороново крыло, волосы, которые мне сбрили, вновь отрастут до нужной длины, а чтобы время не проходило впустую, совершенствовался во всех упражнениях, которые развивают у мужчины силу и ловкость, а также в искусстве владения разными видами оружия. Кроме того, я углублял свои познания древних тайн египетского волхвования — для какой цели, станет ясно позднее, — и старался постичь последние тонкости астрологии, хотя и без того был достаточно сведущ в этих науках.
Вот какой мы наметили план.
Мой дядя Сепа оставил на время храм в Ана, сославшись на нездоровье, и переехал в Александрию, где он купил дом, в надежде, как он объяснил всем, что ему поможет морской воздух, а чудеса знаменитого на весь мир Мусейона и блеск двора Клеопатры отвлекут от печальных мыслей. Туда-то я к нему и приеду, потому что в Александрии было самое сердце заговора. И когда наконец дядя Сепа прислал весть, что все готово к моему приезду, я быстро собрался и, прежде чем отправиться в путешествие, пошел к отцу принять его благословение. Он сидел в своих покоях за столом, в той же позе, что и в тот вечер, когда я убил льва и он укорял меня за легкомыслие, его длинная седая борода лежала на мраморной столешнице, в руках он держал свитки со священными текстами. Увидев меня, он встал, воскликнул: «Приветствую тебя, о фараон!» — и хотел опуститься на колени, но я удержал его за руку.
— Не подобает тебе, отец, преклонять передо мной колена, — сказал я.
— Нет, подобает, — возразил он, — я должен отдавать почести моему повелителю, но если ты не хочешь, я исполню твою волю. Итак, Гармахис, ты уезжаешь. Да пребудет с тобою мое благословение, сын мой. Пусть те, кому я служу, даруют моим старым глазам счастье увидеть тебя на троне. Я много трудов потратил, пытаясь прочесть грядущее, узнать, что тебя ждет, но вся моя мудрость не помогла мне проникнуть сквозь завесу тайны. Предначертания ускользают от меня, и порой я погружаюсь в отчаяние. Но ты должен знать, что на твоем пути тебя подстерегает опасность, и эта опасность — женщина. Мне это открылось давно, и потому ты был призван служить всеблагой владычице Исиде, которая отвращает помыслы своих жрецов от женщин до тех пор, пока ей не будет угодно снять запрет. Ах, сын мой, зачем ты так красив, так великолепно сложен и могуч, в Египте нет равных тебе, да, ты поистине царь, твоя сила и красота как раз и могут завлечь тебя в западню. Поэтому держись подальше от александрийских обольстительниц, — кто-то из них может вползти в твое сердце, как змея, и выведать твою тайну.
— Ты зря тревожишься, отец, — ответил я с досадой, — алые губки и томные взгляды меня не занимают, главное для меня — выполнить мой долг.
— Достойный ответ, — сказал он, — да будет так и впредь. А теперь прощай. Да сбудется мое желание и да увижу я тебя в нашу следующую встречу на троне, в тот радостный день, когда я, вместе со всеми жрецами Верхней Земли, приеду поклониться нашему законному фараону.
Я обнял его и пошел прочь. Увы, если бы я знал, какую встречу нам уготовала судьба!
И вот я снова плыву вниз по Нилу — путешественник с весьма скромными средствами. Любопытствующим попутчикам я объяснял, что я — приемный сын верховного жреца из Абидоса, готовился принять жреческий сан, но понял, что служение богам меня не привлекает, и вот решил попытать счастья в Александрии, — благо все, за исключением немногих посвященных, считали меня внуком старой Атуа.
Ветер дул попутный, и на десятый день вечером впереди показалась величественная Александрия — город тысячи огней. Над огнями возвышался беломраморный маяк Фароса, это величайшее чудо света, и на его верху сиял такой яркий свет, что казалось, это солнце заливает порт и указывает путь кормчим далеко в море. Наше судно осторожно причалило к берегу, ибо было темно, я сошел на набережную и остановился, пораженный зрелищем огромных зданий и оглушенный гомоном многоязыкой толпы. Казалось, здесь собрались представители всех народов мира и каждый громко говорит на своем языке. Так я стоял в полной растерянности, но тут ко мне подошел какой-то юноша, тронул за плечо и спросил, не из Абидоса ли я приплыл и не Гармахис ли мое имя. Я ответил — да, и тогда он, приблизив губы к моему уху, тихо прошептал тайный пароль, потом подозвал взмахом руки двух рабов и приказал им снести с барки на берег мои вещи. Они повиновались, пробившись сквозь толпу носильщиков, настойчиво предлагавших свои услуги. Я двинулся за юношей по набережной, сплошь застроенной винными лавками, и во всех было много мужчин самого разного обличья, они пили вино и смотрели на танцующих женщин — едва прикрытых чем-то прозрачным или вовсе раздетых.
Но вот набережная с освещенными лавками кончилась, мы повернули направо и пошли по широкой вымощенной гранитом улице, между большими каменными домами с крытой аркадой вдоль фасада — я таких никогда не видел. Свернув еще раз направо, мы оказались в более тихом квартале, где улицы были почти пустынны, лишь изредка встречались компании подгулявших бражников. Наконец мой провожатый остановился возле дома из белого камня. Мы вошли в ворота, пересекли дворик и вступили в освещенное светильником помещение. Навстречу мне бросился дядя Сепа, радуясь моему благополучному прибытию.
Когда я вымылся и поел, он рассказал мне, что дела пока идут хорошо и при дворе никто о заговоре не подозревает. Далее я узнал, что дядя был во дворце у Клеопатры, — царице сообщили, что в Александрии живет верховный жрец из Ана, и она тотчас же послала за ним и долго расспрашивала — вовсе не о наших замыслах, ей и в голову не приходило, что кто-то может покуситься на ее власть, просто до нее дошли слухи, будто в Великой пирамиде близ Ана спрятаны сокровища. Она ведь безмерно расточительна, ей вечно нужны деньги, деньги, деньги, и вот сейчас она задумала ограбить пирамиду. Но дядя Сепа посмеялся над ней, он сказал, что пирамида — место упокоения божественного Хуфу, что же касается ее тайн, то дяде Сепа ничего о них не известно. Услышав эти слова, Клеопатра разгневалась и поклялась своим троном, что прикажет разобрать пирамиду камень за камнем и найдет скрытые в ней сокровища. Он опять рассмеялся и ответил пословицей, которую часто повторяют жители Александрии: «Царь живет несколько десятков лет, а горы — вечно». Она улыбнулась, ибо ей понравилась его находчивость, и мирно с ним простилась. Потом дядя Сепа сказал, что утром я увижу эту самую Клеопатру. Ведь завтра — день ее рождения (кстати, и мой тоже), и она, облачившись в наряд богини Исиды, торжественно проследует от своего дворца на мысе Лохиас к Серапеуму, дабы принести в его святилище жертву лжебогу, которому посвящен храм. Посмотрим процессию, а потом будем искать способ, как мне проникнуть во дворец царицы и приблизиться к ней.
Я едва держался на ногах от усталости, и меня уложили спать, но непривычная обстановка, шум на улице, мысли о завтрашнем дне гнали сон. Лишь небо начало сереть, я оделся, поднялся по лестнице на крышу и стал ждать рассвета. Наконец из-за горизонта брызнули солнечные лучи и осветили беломраморное чудо — фаросский маяк, и в тот же самый миг огонь его померк и стал невидим, точно солнце его погасило. Потом свет подкрался к дворцам на мысе Лохиас, где почивала Клеопатра, и затопил их — они засверкали, точно драгоценности, украшающие темную, прохладную грудь моря. Дальше полился свет, нежно поцеловал купол мавзолея, где покоится великий Александр, озарил башни и крыши множества дворцов и храмов, хлынул в колоннады знаменитого Мусейона, который возвышался совсем недалеко от нашей улицы, окатил волной величественное здание святилища, где хранится вырезанное из слоновой кости изображение лжебога Сераписа, и наконец, словно истощив себя, уполз в огромный мрачный Некрополь. День разгорался, гоня последние тени ночи и заполняя все улицы, улочки и переулки Александрии — в этот утренний час она казалась алой, как царская мантия, да и раскинулась по-царски пышно и торжественно. С севера подул ветер, унес с моря туман, и я увидел голубую воду гавани и качающиеся на ней тысячи судов. Увидел гигантский мол Гептастадиум, лабиринт улиц, бесчисленное множество домов — роскошную, великолепную Александрию, эту царицу, как бы восседающую на троне среди своих владений — океана и озера Мариотис, — и грудь мне стеснил восторг. Этот город, вместе с другими городами и странами, принадлежит мне! Что ж, за него стоит бороться! Вдосталь налюбовавшись этим сказочным великолепием, я помолился благодетельной Исиде и сошел с крыши.
В комнате внизу был дядя Сепа. Я рассказал ему, что смотрел, как над Александрией поднималось солнце.
— Вот как! — бросил он и пристально поглядел на меня из-под своих косматых бровей. — Ну и что, понравилась тебе Александрия?
— Понравилась ли? Да я подумал, что здесь, в этом городе как раз и живут боги!
— Вот именно! — гневно воскликнул он. — Ты угадал — здесь живут боги, но это все боги зла! Говоришь, город! Нет, это вертеп, где все погрязли в распутстве, зловонная постыдная язва, рассадник ложной веры, рожденной извращением ума! О, как я жажду, чтобы от нее не осталось камня на камне, чтобы все ее богатства были погребены в пучине вод! Пусть чайки с криками носятся над тем проклятым местом, где она некогда стояла, пусть ветер, чистый, не отравленный тлетворным дыханием греков, свободно веет над ее руинами на всем пространстве между океаном и озером Мариотис! О царственный Гармахис, не допусти, чтоб роскошь и красота Александрии совращали твою душу, яд, который они источают, губит истинную веру, не дает древней религии расправить свои божественные крылья. Когда настанет срок и ты будешь править страной, разрушь этот проклятый город, Гармахис, и утверди свой трон там, где он стоял при твоих предках — среди белых стен Мемфиса. Запомни навсегда: Александрия — роскошные ворота, в которые входит погибель Египта. Пока они стоят, они открыты для всего мира — врывайся кто хочешь и грабь нашу страну, насаждай любую ложную веру, топчи египетских богов.
Что я мог ему ответить? Он был прав. И все же, и все же город казался мне дивно прекрасным! Мы позавтракали, и дядя сказал, что пора идти смотреть, как Клеопатра с торжественной процессией прошествует к храму Сераписа. Выход состоится еще не скоро, часов в десять, бездельники александрийцы так падки на зрелища, что если мы не поспешим, то нам нипочем не пробиться сквозь плотные толпы зевак, которые уже собираются на улицах по пути следования царицы. И мы отправились, чтобы занять места на деревянном помосте, который сколотили вдоль широченной улицы, прорезающей весь город до самых Канопских ворот. Дядя заранее позаботился купить для нас там места и заплатил за них недешево.
Народ уже запрудил улицы, и нам пришлось основательно поработать локтями, продираясь к деревянному помосту, защищенному полотняной крышей и задрапированному ярко-красными тканями. Мы уселись на скамью и стали ждать, разглядывая многотысячную роящуюся толпу, которая галдела, пела и громко разговаривала на разных языках. Прошло несколько часов. Наконец появились солдаты, одетые на манер римских легионеров в кольчугу, и стали расчищать путь. За ними выступили глашатаи, и, призвав народ к тишине (в ответ толпа лишь пуще зашумела, а те, кто пел, и вовсе оглушили нас), возвестили, что грядет царица Клеопатра. Потом по улице торжественным маршем прошла тысяча сицилийских стрелков, за ней тысяча фракийцев, тысяча македонцев, тысяча галлов, все в боевых доспехах, какие носят воины их стран, и соответственно вооружение. За ними выступали пятьсот всадников — те самые, которых называют неуязвимыми, потому что кольчугой сплошь покрыты не только люди, но и лошади. Неуязвимых сменили юноши и девушки в роскошных развевающихся одеждах, в золотых венцах — они изображали день, утро, вечер, ночь, землю и небо. Дальше следовало множество красавиц, они лили на землю благовония и усыпали ее пышно распустившимися цветами. Вдруг по толпе прокатился крик: «Клеопатра! Клеопатра!», у меня перехватило дыхание, и я устремился вперед, чтобы увидеть ту, которая посмела надеть на себя наряд Исиды.
Толпа заколыхалась, люди напирали друг на друга в густой плотной массе и совершенно загородили от меня улицу. Этого я уже не мог вынести, я перескочил через ограду помоста и пробился сквозь толпу в самый первый ряд — при моей силе и ловкости мне это ничего не стоило. И тут я увидел, что по улице бегут рабы-нубийцы в венках из плюща и увесистыми дубинками теснят народ ближе к домам. Один из них мне сразу бросился в глаза: гигант могучего сложения, нагло кичащийся своей силой, он без разбору наносил удары направо и налево, — истинный хам, которому вдруг дали власть. Рядом с мной стояла женщина с ребенком на руках, судя по внешности — египтянка, и нубиец, увидев, что она слаба и беззащитна, стукнул ее дубинкой по голове, и она молча рухнула на землю. Народ зароптал. А я — кровь так и вскипела во мне, гнев ослепил разум. В руке у меня был жезл из кипрского оливкового дерева, и когда черное чудовище захохотало над женщиной, которая корчилась на земле от боли, и над ее плачущим ребенком я размахнулся и обрушил жезл не его спину. Я вложил в удар всю свою ярость, и крепкое дерево сломалось, из раны на плече гиганта брызнула кровь, листья плюща сразу стали красными. Взревев от бешенства и боли — еще бы, ведь мучители не выносят мук, — он метнулся ко мне. Народ раздался, только женщина осталась лежать, и вокруг нас образовалось небольшое свободное пространство. Нубиец зверем кинулся на меня, но я вонзил ему кулак в переносицу — другого оружия у меня не было, — и он зашатался, точно жертвенный бык, которому жрец нанес первый удар топором. Толпа разразилась одобрительными криками, она ведь любит глазеть на драки, а нубиец был знаменитый гладиатор, он всегда всех побеждал. Негодяй собрал все свои силы и начал наступать, изрыгая проклятья и вертя над головой дубинку, потом изловчился и обрушил ее на меня с таким остервенением, что, не отскочи я в сторону с кошачьим проворством, он размозжил бы мне череп. Но вся сила удара пришлась по земле, дубинка разлетелась в щепы. Толпа разразилась криками, а великан снова ринулся на меня, он обезумел от жажды крови и ничего не соображал, ему надо было как можно скорее прикончить, убить, растерзать врага. Но я с воплем схватил его за горло — он был так могуч, настолько превосходил меня силой, что только так я мог попытаться его одолеть, — схватил и сжал мертвой хваткой. Он молотил меня своими огромными кулачищами, а я все упорнее стискивал и стискивал ему горло, вдавливая большие пальцы в кадык. Он кружил по площадке, потом упал на землю, надеясь хоть так оторвать меня от себя. Мы принялись кататься, но я не ослаблял хватки, и наконец он захрипел, задыхаясь, и потерял сознание. Он лежал внизу, подо мной, а я уперся коленом ему в грудь и готовился прикончить его, но дядя и еще несколько человек оторвали меня от нубийца и оттащили прочь.
И, конечно же, я не заметил, что к нам тем временем приблизилась колесница с царицей, впереди которой шагали слоны, а сзади вели львов, и что суматоха, вызванная дракой, вынудила процессию остановиться. Я поднял голову и, разгоряченный дракой, с трудом переводя дух, весь в крови, ибо кровь, которая лилась из носа и изо рта великана нубийца, запятнала мои белые одежды, в первый раз увидел живую Клеопатру. Колесница царицы была из чистого золота, ее влекли молочно-белые жеребцы. Возле Клеопатры в колеснице стояли две очень красивые девушки в греческих платьях, одна справа, другая слева, и овевали ее сверкающими опахалами. Ее голову венчал убор Исиды — золотые изогнутые рога и между ними крупный диск полной луны с троном Осириса, дважды обвитый уреем. Это сооружение держалось на золотой шапочке в виде сокола с крыльями синей эмали, глаза сокола были из драгоценных камней, а из-под шапочки лились ее черные длинные, до пят, волосы. На плечах вокруг стройной нежной шеи лежало широкое золотое ожерелье с изумрудами и кораллами. На запястьях и выше локтей — золотые браслеты, тоже с изумрудами и кораллами, в одной руке священный ключ жизни тау, выточенный из горного хрусталя, в другой — золотой царский жезл. Торс под обнаженной грудью обтянут сверкающей, как чешуя змеи, тканью, сплошь расшитой драгоценными камнями. Под этим сверкающим одеянием была сотканная из золотых нитей юбка с драпировкой из прозрачного вышитого шелка с острова Кос, она пышными складками падала к ее маленьким белым ножкам в сандалиях с застежками из огромных жемчужин.
Мне было довольно одного-единственного взгляда, чтобы все это разглядеть. Потом я посмотрел на ее лицо — лицо, которое пленило Цезаря, погубило Египет и в будущем должно было сделать Октавиана властелином мира — посмотрел и увидел безупречно прекрасную гречанку: округлый подбородок, пухлые изогнутые губы, точеные ноздри, тонкие, как раковина, совершенной формы уши; широкий низкий лоб, гладкий, как мрамор, темные кудрявые волосы, падающие тяжелыми волнами и блестящие на солнце; плавные дуги бровей, длинные загнутые ресницы. Она явилась мне в апофеозе своей царственной красоты и величия. Сияли ее изумительные глаза, лиловые, как кипрские фиалки, — глаза, в которых, казалось, спит ночь со всеми ее тайнами, непостижимыми, как пустыня, но и живые, как ночь, которая то темнее, то светлее, то вдруг озаряется вспышками света, рожденного в звездной пропасти неба. Да, я увидел это чудо, хотя и не умею описать его. И сразу же, тогда еще, я понял, что могущество чар этой женщины заключается не только в ее несравненной красоте. Покоряет то ликование, тот свет, которые переполняют ее необузданную, страстную душу и прорываются к нам сквозь телесную оболочку. Ибо эта женщина — порыв и пламя, подобной ей никогда в мире не было и не будет. Огонь ее пылкого сердца озарял ее, даже когда она погружалась в задумчивость. Но стоило ей стряхнуть печаль, и глаза ее вспыхивали, точно два солнца, голос журчал нежной вкрадчивой музыкой — есть ли на свете человек, способный рассказать, какой бывала Клеопатра в такие минуты? Ей было даровано непобедимое обаяние, которым так влечет нас женщина, ей был дарован глубочайший ум, за который мужчина так долго сражался с небом. И с этим обаянием, с этим умом уживалось зло, то поистине демоническое зло, которое не ведает страха и, глумясь над людскими законами, захватывает ради забавы империи и с улыбкой смотрит, как льются ей в угоду реки крови. И все это сплелось в ее душе, создав ту Клеопатру, покорить которую не может ни один мужчина, и ни один мужчина не может позабыть, если хоть раз ее увидел, величественную, как гроза, ослепительную, как молния, беспощадную, как чума, и все же с сердцем женщины. Все знают, что она совершила. Горе миру, когда на него еще раз падет такое же проклятье!
Клеопатра равнодушно повернула голову взглянуть, почему волнуется толпа, и на миг наши глаза встретились. Ее глаза были темные и как бы обращены в себя, словно она и видит, что происходит, но все это скользит мимо сознания. Потом глаза вдруг ожили, и даже цвет их изменился, как меняется цвет моря, когда налетит ветер. Сначала в них мелькнул гнев, потом рассеянный интерес; когда же она увидела распростертое на земле тело гиганта нубийца, которого я готовился убить, и узнала в нем того самого непобедимого гладиатора, в глазах появилось что-то весьма похожее на удивление. И, наконец, они смягчились, хотя выражение ее лица ничуть не изменилось. Но тому, кто хотел прочесть мысли Клеопатры, нужно было смотреть ей в глаза, потому что в лице было мало игры. Обернувшись, она что-то сказала своим телохранителям. Они выступили вперед и подвели меня к ней. Народ в мертвом молчании ждал, что вот сейчас меня казнят.
Я стоял перед ней, скрестив на груди руки. Да, я был ошеломлен ее ослепительной красотой, но в моем сердце кипела ненависть к ней, этой смертной женщине, посмевшей надеть на себя наряд Исиды, к этой самозванке, отнявшей у меня трон, к этой блуднице, расточающей богатства Египта на золотые колесницы и благовония. Она оглядела меня с ног до головы и спросила своим звучным грудным голосом на языке Кемета, которым она великолепно владела, единственная из всех Лагидов:
— Кто ты такой, египтянин, — а ты египтянин, я вижу, — кто ты такой, что осмелился избить моего раба, который расчищал мне путь по улицам моего города?
— Кто я? Меня зовут Гармахис, — смело ответил я. — Я астролог, приемный сын верховного жреца храма Сети и правителя Абидоса, приехал сюда в поисках судьбы. А раба твоего я избил, о царица, потому что он ударил дубинкой эту женщину, без всякой вины с ее стороны. Спроси народ, лгу я или говорю правду.
— Гармахис… — произнесла она задумчиво. — У тебя благородное имя и внешность и манеры аристократа.
Потом обратилась к стражу, который видел, что произошло, и велела ему все рассказать. Он не погрешил против правды, ибо почувствовал ко мне расположение, когда я одолел в драке нубийца. Выслушав стража, Клеопатра что-то сказала девушке с опахалом, которая стояла возле нее, — девушка была очень красивая, с роскошными кудрявыми волосами и темными застенчивыми глазами. Девушка прошептала какие-то слова в ответ. Тогда Клеопатра приказала подвести к себе
раба; стражи подняли нубийца, к которому вернулось сознание, и подвели к ней вместе с женщиной, которую он сбил дубинкой на землю.
— Собака, трус! — бросила она все тем же звучным грудным голосом. — Ты кичишься своей силой и потому ударил слабую женщину, но этот юноша оказался сильнее, и ты сдался, презренный. Ну что ж, сейчас ты получишь хороший урок. Отныне если тебе вздумается ударить женщину, ты сможешь бить ее только левой рукой. Эй, стражи, отрубить этой черной твари правую руку.
Отдав этот приказ, она откинулась на сиденье своей колесницы, и ее глаза словно бы опять погрузились в сон. Гигант вопил и молил о пощаде, но стражи схватили его и отрубили мечом руку на полу нашей трибуны, а потом унесли прочь под его громкие стоны. Процессия двинулась дальше. Когда колесница миновала нас, красавица с опахалом обернулась, поймала мой взгляд и с улыбкой кивнула, словно чему-то радуясь, чем меня немало озадачила.
Народ вокруг тоже весело шумел, все поздравляли меня, шутили, что теперь меня пригласят во дворец и я стану придворным астрологом. Но мы с дядей при первой же возможности постарались ускользнуть и двинулись домой. Всю дорогу он возмущался моим безрассудством, но дома обнял меня и признался, как он счастлив и как гордится мной, что я так легко победил этого силача нубийца и не навлек на себя беды.
Глава II, повествующая о приходе Хармианы и о гневе Сепа
Вечером того же дня, когда мы ужинали, в дом постучали. Дверь открыли, и в комнату вошла женщина, с ног до головы закутанная в темное покрывало, даже лица ее не было видно.
Дядя встал, и женщина тотчас же произнесла пароль.
— Я все-таки пришла, отец мой, — заговорила она нежным, мелодичным голосом, — хотя, признаюсь, очень нелегко сбежать с празднества, когда во дворце такое торжество. Но я убедила царицу, что от жары и уличного шума у меня разболелась голова, и она позволила мне уйти.
— Что ж, хорошо, — ответил он. — Сбрось покрывало, здесь ты в безопасности.
С легким усталым вздохом она расстегнула застежку, выскользнула из покрывала, и я увидел ту очаровательную девушку, что стояла в колеснице возле Клеопатры и овевала ее опахалом. Да, она была удивительно хороша, а пеплум так изысканно обрисовывал ее хрупкое, стройное тело и юную маленькую грудь. Из-под золотого обруча падал каскад локонов, в которые свились ее буйные кудри, пряжки на сандалиях тоже были из золота. Ее щеки с ямочками алели, как раскрывшийся лотос, темные бархатные глаза были потуплены словно бы в смущении, но на губах порхала легкая улыбка, готовая ослепительно вспыхнуть.
Увидев ее наряд, дядя нахмурился.
— Почему ты пришла сюда в греческом платье, Хармиана? — сурово спросил он. — Разве одежда, которую носила твоя мать, недостаточно хороша для тебя? Забудь о женском кокетстве, не то сейчас время. Ты пришла сюда не покорять сердца мужчин, а выполнять повеления.
— Ах, отец мой, зачем ты гневаешься на меня, — вкрадчиво заворковала она, — разве ты не знаешь, что та, которой я служу, не позволяет носить при дворе нашу, египетскую одежду, мы должны одеваться модно. Если бы я ее надела, то вызвала бы подозрения, и к тому же я очень спешила, — говорила она, а сама то и дело тайком бросала на меня взгляды из-под длинных, мохнатых, скромно опущенных ресниц.
— Да, да, все так, — отрывисто проговорил он, впиваясь в ее лицо своим пронзительным взглядом, — конечно, Хармиана, ты права. Каждую минуту своей жизни ты должна помнить клятву, которую дала, и дело, которому себя посвятила. Я требую: забудь обо всем суетном, забудь о красоте, которой тебя прокляла судьба. Но никогда не забывай о мести, которая тебя постигнет, если ты хоть в самой малой малости предашь нас, — о мести людей и богов! Не забывай о той великой роли, которую ты рождена сыграть, — его могучий голос гремел в маленькой комнате, оглушая нас, потому что он все больше и больше распалялся в своем гневе, — не забывай, как важна цель, ради которой тебя научили всему, что ты знаешь, и поместили туда, где ты находишься, чтобы заслужить доверие распутницы, которой, как все считают, ты служишь. Не забывай ни на единый миг! Не допусти, чтоб роскошь царского двора соблазнила тебя, Хармиана, чтобы она замутила чистоту твоей души и увела от твоего предназначения. — Его глаза сверкали, маленький и тщедушный, он вдруг словно вырос, стал величественным, я даже почувствовал благоговейный трепет.
— Я признаюсь тебе, Хармиана, — продолжал он, подходя к девушке и грозно уставляя в нее перст, — я признаюсь, что порой сомневаюсь в тебе. Два дня назад мне приснился сон: ты стояла среди пустыни, воздев руки к небу, и смеялась, а с неба лился кровавый дождь; потом небо опустилось на страну Кемет и закрыло его, точно саван. Почему мне привиделся этот сон, дочь моя, и что он означает? Пока что ты не совершила ничего дурного, но берегись: если я что-то узнаю, я забуду, что ты моя племянница и что я люблю тебя — ты в тот же миг умрешь, и это пленительное лицо, это прекрасное тело, которыми ты так тщеславишься, расклюют стервятники, растерзают шакалы, а душу твою боги подвергнут самым страшным пыткам! Ты останешься лежать поверх земли непогребенной, и твоя осужденная загробными судьями душа никогда не воссоединится с телом, но будет вечно скитаться в Аменти! Запомни — вечно!
Он умолк, его неожиданно вспыхнувший гнев иссяк. Но эта вспышка яснее всех его слов и поступков доказала мне, какие глубокие страсти таятся в сердце этого казалось бы добродушного шутника, и с какой фанатичной одержимостью стремится он к своей цели. А девушка — она в ужасе отпрянула от него и, закрыв свое прелестное лицо руками, разрыдалась.
— Не говори так, отец мой, пощади меня! — молила она, задыхаясь от слез. — Чем я провинилась? Тебе снятся дурные сны, но разве это я посылаю их тебе? И я не прорицательница, я не умею их толковать. Я свято выполняю все твои повеления. Разве я хоть на миг забыла эту страшную клятву? — Она содрогнулась. — Разве не играю роль соглядатая при дворе и не сообщаю тебе обо всем до последней мелочи? Разве я не завоевала расположение царицы, которая любит меня как сестру и ни в чем не отказывает? Мало того, разве я не стала любимицей всех, кто ее окружает? Зачем же ты меня пугаешь и грозишь такими карами? — И она снова зарыдала еще более прекрасная в слезах, чем была с улыбкой.
— Ну довольно, довольно, — отрезал он, — я знаю, что я делаю, и не зря предупредил тебя. Впредь никогда не оскорбляй наших глаз зрелищем этого платья, пригодного лишь для развратницы. Думаешь, мы будем любоваться твоими точеными руками — мы, решившие вернуть себе Египет и посвятившие себя служению его истинным богам? Хармиана, перед тобой твой двоюродный брат и твой царь!
Она перестала плакать, вытерла глаза полой хитона, и я увидел, что от слез они стали еще нежнее.
— Мне кажется, о царственный Гармахис и мой любимый брат, — сказала она, склоняясь предо мной, — мне кажется, мы уже видели друг друга.
— Да, видели, сестра, — ответил я, заливаясь краской смущения, ибо никогда еще мне не доводилось беседовать с такой красивой девушкой, — ведь это ты была сегодня в колеснице Клеопатры, когда я дрался с нубийцем?
— Конечно, — подтвердила она, улыбнувшись, и глаза ее сверкнули, — это был великолепный поединок, только очень сильный и отважный борец мог победить этого черного негодяя. Я видела, как вы схватились, и, хотя еще не знала, кто ты, у меня сердце замерло от страха за человека столь мужественного. Но я сквиталась с ним за этот страх — ведь это по моему совету Клеопатра приказала стражам отрубить ему руку. Знай я, что это ты, ему бы отрубили голову. — Она бросила на меня быстрый взгляд и снова улыбнулась.
— Хватит болтать, — прервал ее дядя Сепа, — время дорого. Расскажи, Хармиана, все, что должна рассказать, и возвращайся во дворец.
Выражение ее лица тотчас же изменилось, она смиренно сложила руки перед собой и заговорила совсем другим тоном:
— Молю фараона выслушать свою служанку. Я — дочь твоего дяди, о фараон, покойного брата твоего отца, и потому в моих жилах тоже течет царская кровь. Я тоже чту древних богов Египта и ненавижу греков; видеть тебя на троне — моя заветная мечта, я лелею ее уже много лет. И ради того, чтобы она исполнилась, я Хармиана, забыв о своем высоком происхождении, поступила в услужение к Клеопатре, ибо нужно было выстроить ступеньку, на которую ты ступишь, когда придет твой час взойти на трон. И эта ступенька выстроена, о царь.
Выслушай же, мой царственный брат, что мы задумали. Ты должен стать вхожим во дворец, проникнуть во все тайны и хитросплетения интриг, которые плетутся там, и если будет нужно, подкупить евнухов и начальников стражи — некоторых я уже склонила на свою сторону. Когда наши люди будут готовы, ты убьешь Клеопатру и, воспользовавшись всеобщим смятением, побежишь к воротам, а я и те, кто будет мне помогать, прикроем тебя и задержим преследователей; ты откроешь ворота и впустишь наших людей, которые уже будут ждать, вы перебьете солдат, которые откажутся перейти на нашу сторону, и захватите Бруцеум. Самое большее через два дня эта ветреница Александрия будет в твоих руках. В то же самое время все, кто поклялся тебе в верности, поднимутся по всему Египту с оружием в руках против римлян, и через десять дней после смерти Клеопатры ты действительно станешь фараоном. Мы все обсудили до самых ничтожных мелочей, и, хотя твой дядя подозревает меня во всех мыслимых грехах, ты видишь сам, мой царственный брат, что я неплохо выучила свою роль, — не только выучила, но и сыграла.
— Да, сестра, вижу, — ответил я, дивясь, что столь юная девушка — ей было всего двадцать лет — замыслила столь дерзкий план, заговор составил не кто иной, как она. Но в те дни я плохо знал Хармиану. — Однако продолжай. Что надо сделать, чтобы я стал вхож во дворец Клеопатры?
— О брат, нет ничего проще. Слушай же. Клеопатра очень неравнодушна к мужской красоте, а ты — прости, что я это говорю, — очень хорош собой и сложен как бог. Она сегодня тебя заметила и дважды сетовала: как жаль, что не спросила этого астролога, где его найти, потому что астролог, который может убить нубийца-гладиатора голыми руками, конечно же, великий ученый и умеет расположить к себе звезды. Я сказала ей, что велю разыскать тебя. Запомни все, что я тебе скажу, мой царственный Гармахис. Днем Клеопатра почивает в своем внутреннем покое, который выходит в сад над гаванью. В полдень ты подойдешь к воротам дворца и потребуешь, чтобы тебе вызвали госпожу Хармиану, и я выйду к тебе. Клеопатре скажу, что тебя удалось найти, и устрою так, чтобы вы оказались одни, когда она пробудится, а дальше, Гармахис, ты будешь действовать сам. Она все пытается проникнуть в тайны мистических знаний, это ее любимая забава, и ночи напролет простаивает на крыше и наблюдает звезды, делая вид, будто умеет их читать. Совсем недавно она прогнала придворного врача, Диоскорида, потому что несчастный невежда осмелился заявить, что расположение звезд предрекает поражение Марку Антонию в битве с Кассием. Клеопатра тотчас же приказала военачальнику Аллиену послать еще несколько легионов в Сирию, где Антоний сражался с Кассием и, согласно предсказанию Диоскорида по звездам, должен был, увы, проиграть битву. Но все случилось наоборот: Антоний разбил сначала Кассия, потом Брута, а Диоскориду пришлось убраться из дворца, и теперь он, чтобы не умереть с голоду, читает в Мусейоне лекции о свойствах трав, что же касается звезд, он даже их названий слышать не может. Место придворного астролога свободно, его займешь ты, и мы начнем тайно действовать, защищенные сенью царского трона. Как червь разъедает спелый плод, вгрызаясь в его сердцевину, так ты подточишь трон гречанки, и когда он рухнет, орел, его сокрушивший, сбросит оболочку червя, в которой был вынужден скрываться, и гордо расправит свои царственные крылья над Египтом, а потом и над другими землями и странами.
Я как зачарованный смотрел на эту удивительную девушку, ибо она ошеломила меня — лицо ее сейчас было озарено светом, какого я никогда не видел в глазах женщин.
— Благодарение богам, — воскликнула дядя, который тоже внимательно вглядывался в нее, — благодарение богам, теперь я узнаю тебя, теперь ты прежняя Хармиана, которую я с такой любовью воспитывал, а не придворная шлюха, разодетая в дорогие шелка и умащенная благовониями. Да не поколеблется твоя вера, Хармиана, пусть в твоем сердце пылает всепобеждающая любовь к отечеству, и судьба вознаградит тебя. А теперь надень покрывало на это свое бесстыдное платье и ступай, уже поздно. Завтра в полдень Гармахис придет к воротам дворца, жди его. Прощай, Хармиана.
Хармиана склонила перед ним голову и завернулась в свою темную накидку. Потом взяла мою руку, коснулась ее губами и, не сказав ни слова, скользнула прочь.
— Странная женщина! — заметил дядя, когда она ушла. — Очень странная, никогда не знаешь, что она выкинет!
— Мне кажется, дядя, — сказал я, — мне кажется, ты был слишком суров с ней.
— Да, верно, суров, — вздохнул он, — но она это заслужила. Послушай, что я тебе скажу, Гармахис: не очень доверяй Хармиане. Уж слишком своевольный у нее нрав, меня страшит ее непостоянство. Она женщина, женщина до мозга костей, ее еще труднее обуздать, чем норовистую лошадь. Да, она умна и смела, она жаждет освободить наш Египет от иноземных тиранов, но я молю богов, чтобы ее преданность этому великому делу не пришла в противоречие с ее желаниями, ибо если она чего-то пожелала, больше для нее уже ничего не существует, она добьется своего любой ценой. Вот потому-то я и припугнул ее сейчас, пока она еще в моей власти: а вдруг она в один прекрасный день взбунтуется, я к этому готов. Пойми, эта девушка держит в своих руках жизнь стольких людей, и если она нам изменит, что тогда? Увы, как жалка наша участь, если мы вынуждены прибегать к услугам женщин! Но она нам помогла, другого пути не было. И все же, и все же меня гложут сомнения. Молю богов, чтобы наш замысел удался, но порой я боюсь мою племянницу Хармиану — слишком она красива, слишком молода, а кровь, что течет в ее жилах, слишком горяча.
Горе строителям, которые возводят здание на фундаменте женской преданности; женщина преданна, только пока любит, а разлюбила — и преданность обратилась в предательство. Мужчина не подведет, не предаст, а женщина — сама переменчивость, она словно море — сейчас оно спокойно и ласково, а к вечеру бушует шторм, волны взлетают к небу и низвергаются в бездну. Не очень-то доверяй Хармиане, Гармахис: она, как волны океана, может примчать твою барку в родную гавань и, как те же самые волны, может разбить ее и утопить тебя, а вместе с тобой последнюю надежду Египта!
Глава III, повествующая о том, как Гармахис пришел к царскому дворцу; как он заставил Павла войти в ворота; как увидел спящую Клеопатру и как показал ей свое искусство волхвования
На следующий день, готовясь выполнить задуманное Хармианой, я обрядился в длинный просторный балахон, какие носят колдуны и астрологи, надел на голову шапочку с вышитыми звездами, а за пояс заткнул табличку писца и свиток папируса, сплошь покрытый мистическими символами и письменами. В руке у меня был жезл эбенового дерева с наконечником из слоновой кости — обязательная принадлежность жреца и кудесника. Кстати, в искусстве волхвования я достиг большого мастерства, ибо хоть я его не практиковал, зато проник в сокровенные тайны древних знаний, когда жил в Ана. И вот, сгорая от стыда, потому что мне претит вульгарное лицедейство и я считаю профанацией дешевые трюки бродячих прорицателей, я отправился в сопровождении дяди Сепа к царскому дворцу на мысе Лохиас. Мы миновали центр города, Бруцеум, прошли аллеей сфинксов, и наконец впереди показалась высокая мраморная ограда и в ней бронзовые ворота, за которыми находилось помещение для стражей. Здесь дядя Сепа оставил меня, трепетно моля богов охранить меня и даровать успех. Но я смело приблизился к воротам, где путь мне тотчас преградили стражи-галлы и потребовали, чтобы я назвал свое имя, сказал, чем занимаюсь и к кому пришел. Я ответил, что зовут меня Гармахис, я астролог и у меня дело к госпоже Хармиане, приближенной царицы. Стражи после этих слов хотели пропустить меня, но их начальник римлянин по имени Павел, выступил вперед и объявил, что не бывать тому, я никогда не войду в ворота. Этот Павел был огромного роста и тучен, но с женским лицом, и руки у него тряслись от пьянства. Оказывается, он узнал меня.
— Нет, ты только погляди, — крикнул он на своем родном, латинском языке приятелю, который вышел с ним: — это тот самый парень, который чуть не задушил вчера нубийца-гладиатора; нубиец до сих пор воет у меня под окном — видишь ли, руку ему отрубили. Будь проклята эта черная собака! Я заключил на него пари. Он должен был сражаться с Каем, а теперь все, конец, никогда ему больше не выйти на арену, плакали мои денежки, и все из-за этого астролога. Что ты там такое сказал? Говоришь, у тебя дело к госпоже Хармиане? Ну уж нет, теперь я тебя точно не пущу. И не мечтай попасть во дворец. Да я без памяти влюблен в госпожу Хармиану, мы все в нее влюблены, хотя взаимностью, увы, она нас не дарит, лишь потешается. И ты решил, что мы допустим в наш круг такого соперника — астролога, да еще красавца, к тому же силача? Клянусь Вакхом, никогда! Ноги твоей не будет во дворце, а если у вас назначено свидание, пусть она сама идет к тебе.
— О благородный господин, — проговорил я почтительно, но с достоинством, — прошу тебя, пошли за госпожой Хармианой, ибо дело мое не терпит отлагательств.
— Всемогущие боги! — захохотал глупец. — Кто ты такой, что не желаешь ждать? Переодетый цезарь? Проваливай, да поскорей, не то придется кольнуть тебя копьем в задницу.
— Постой, — остановил его другой начальник стражи, — ведь он астролог, вот пусть и предскажет нам судьбу, пусть позабавит своими фокусами.
— Да, верно, — зашумели стражи, которых собралась уже целая толпа, — давайте поглядим, на что он способен. Если он маг, то войдет в ворота, и никакой Павел ему не помеха.
— Охотно выполню выше желание, благородные господа, — ответил я, ибо не видел другого способа проникнуть во дворец. — Ты мне позволишь, о молодой и благородный господин, — обратился я к приятелю Павла, — ты мне позволишь поглядеть в твои глаза? Быть может, я смогу прочесть, что в них написано.
— Что ж, гляди, — ответил юноша, — но я предпочел бы в роли прорицателя госпожу Хармиану. Клянусь, я бы ее переглядел.
Я взял его за руку и погрузил взгляд в его глаза.
— Я вижу поле битвы, — произнес я, — ночь, повсюду трупы, и среди них твой труп, в его горло впилась гиена. Мой благородный господин, не пройдет и года, как ты умрешь, заколотый мечами.
— Клянусь Вакхом, с таким пророком лучше не встречаться! — воскликнул юноша, побледнев до синевы, и тотчас же исчез. И, кстати сказать, очень скоро мое предсказание сбылось. Его послали сражаться на Кипр, и там он погиб на поле брани.
— Теперь твой черед, о доблестный начальник! — сказал я, обращаясь к Павлу. — Я покажу тебе, как можно войти в эти ворота без твоего позволения, мало того — ты тоже войдешь в них, но следом за мной. Соблаговоли устремить свой царственный взгляд на кончик этой палочки. — И я поднял свой жезл.
Он неохотно повиновался, уступив подзуживанию приятелей, и я заставил его смотреть на белый кончик жезла, пока глаза у него не сделались пустыми, как у совы при свете солнца. Тогда я резко опустил палочку и перехватил его взгляд, вонзил в него свои глаза и волю и, медленно поворачиваясь, повлек его за собой, причем надменное застывшее лицо римлянина приблизилось к моему чуть не вплотную. Я так же медленно стал пятиться и вошел в ворота, по-прежнему увлекая его за собой, а потом вдруг резко отстранил голову. Он грянулся оземь, полежал немного и стал подниматься, потирая лоб; вид у него был на редкость глупый.
— Ну что, доволен, благороднейший из стражников? — спросил я. — Ты видишь — мы вошли в ворота. Желают ли кто-нибудь еще из благородных господ, чтобы я показал им свое искусство?
— Нет, клянусь богом грома Таранисом и всеми богами Олимпа в придачу! — вскричал старый галл-центурион по имени Бренн. — Слушай, астролог, ты мне не нравишься. От человека, который провел за собой нашего Павла через эти ворота одной только силой взгляда, надо держаться подальше. Ведь этот Павел вечно всем перечит, упрям он, как осел, — и вот пожалуйста! Да его если что и способно убедить, так только чаша с вином и женщина, а ты вмиг его скрутил!
Он умолк, потому что на мраморной дорожке показалась Хармиана в сопровождении вооруженного раба. Она ступала неторопливо, словно прогуливалась, сложив руки за спиной и как бы устремив взгляд в себя. Но именно в такие минуты, когда Хармиана напускала на себя рассеянность, она замечала самую ничтожную мелочь. Она приблизилась, и все стражи и их начальники расступились перед ней с поклонами, ибо, как я узнал позже, эта девушка была самое близкое и доверенное лицо Клеопатры, и никто не обладал во дворце такой властью, как она.
— Что тут за шум, Бренн? — обратилась она к центуриону, делая вид, что не замечает меня. — Неужто ты забыл, что в этот час царица почивает, и если ее разбудят, то наказан будешь ты, и наказан сурово?
— Прости, о госпожа, — смиренно проговорил галл-центурион, — сейчас я тебе все объясню. К воротам подошел кудесник, — он ткнул пальцем в мою сторону, — на редкость наглый — прошу прощения, я хотел сказать, на редкость искусный в своем ремесле, ибо он только что, приблизив свои глаза к глазам достойного Павла, повлек его за собой, — заметь, именно Павла, а не кого-то другого, — и вошел с ним в ворота, хотя Павел поклялся, что умрет, а не пропустит в них кудесника. Но это еще не все, госпожа, ибо кудесник утверждает, что пришел к тебе по делу, а это меня чрезвычайно печалит и вызывает за тебя тревогу.
Хармиана повернула головку и небрежно глянула на меня.
— Ах да, я вспомнила, — равнодушно проговорила она, — ему в самом деле велено было прийти — может быть, он позабавит царицу своими фокусами; но если колдун лишь способен протащить за нос пьяницу, — тут она бросила презрительный взгляд на разинувшего от изумления рот Павла, — протащить за нос пьяницу через ворота, которые он должен охранять, и этим его искусство исчерпывается, ему у нас делать нечего. Впрочем, посмотрим. Следуй за мной, господин кудесник; а ты, Бренн утихомирь своих горлопанов, чтобы не смели шуметь. Тебе же высокородный Павел, советую как можно скорее протрезветь и накрепко усвоить: если кто-то подойдет к воротам и будет спрашивать меня, тотчас же проводить ко мне. — И, царственно кивнув головкой, повернулась и пошла обратно ко дворцу, я и вооруженный раб на почтительном расстоянии следовали за ней.
Мы шагали по мраморной дорожке, вьющейся по саду и украшенной с обеих сторон мраморными статуями богов и богинь, ибо Лагиды не постыдились осквернить царское жилище этими языческими идолами. Наконец мы подошли к великолепной галерее с желобчатыми колоннами — это уже была греческая архитектура, и в галерее оказалось еще несколько стражей, но все они почтительно расступились перед госпожой Хармианой. Миновав галерею, мы вступили в мраморный атриум, посреди которого тихо журчал фонтан, и из атрума через низкую дверь прошли в следующий покой, который именовался Алебастровым Залом и был сказочно прекрасен. Его потолок поддерживали легкие колонны черного мрамора, но все стены были из сияющего белого алебастра, а на них были изображены сцены из греческих мифов. В роскошной многоцветной мозаике на полу были выложены сцены, посвященные Психее и греческому богу любви; в зале стояли кресла из слоновой кости и золота. Хармиана велела вооруженному рабу остаться у входа в этот чертог, и мы вошли в него одни, ибо чертог был пуст, если не считать двух евнухов с обнаженными мечами, которые стояли у дальней стены перед опущенным занавесом.
— Я так скорблю, мой господин, — застенчиво и еле слышно прошептала Хармиана, — что тебе пришлось подвергнуться такому унижению у ворот; дело в том, что стражи простояли двойной срок, и я уже приказала начальнику дворцовой охраны сменить их. Эти римские центурионы ужасные наглецы, они как будто бы и служат нам, однако великолепно знают, что Египет — игрушка в их руках. Но это даже кстати, что у тебя произошло с ними столкновение, потому что эти невежды суеверны и теперь будут бояться тебя. Ты побудь пока здесь, а я пройду в опочивальню Клеопатры. Я недавно убаюкала ее песней, и если она уже проснулась, я введу тебя к ней, ибо она ожидает твоего прихода с нетерпением. — И, не сказав больше ни слова, Хармиана скользнула прочь.
Немного погодя она вернулась и прошептала:
— Хочешь увидеть самую прекрасную женщину в мире спящей? Тогда следуй за мной. Не бойся: если она проснется, она только обрадуется, потому что велела привести тебя к ней сразу же, как ты явишься, хотя бы она и спала. Вот, смотри, у меня ее печать.
Мы пересекли роскошный зал и подошли к евнухам, которые стояли возле занавеса с обнаженными мечами, и евнухи тотчас преградили мне путь. Но Хармиана нахмурилась и, вынув спрятанную на груди печать, показала им. Они прочли надпись на печати, склонились перед Хармианой, опустили мечи, раздвинули тяжелый, расшитый золотом занавес, и мы вошли в покой, где почивала Клеопатра. Невозможно вообразить, как он был прекрасен — мрамор разных цветов, золото, слоновая кость, драгоценные камни, цветы — все лучшее, что может сотворить истинное искусство, вся роскошь, о которой можно лишь мечтать. Здесь были картины, написанные так живо, что птицы непременно стали бы клевать созданные кистью художника плоды; здесь были статуи женщин, чья редкостная красота навеки запечатлелась в мраморе; здесь были драпировки, тонкие и мягкие, как шелк, но сотканные из золотых нитей; здесь были ложа и ковры, каких я никогда не видел. Воздух нежно благоухал, через открытые окна доносился далекий шум моря. В противоположном конце покоя, на ложе, покрытом переливающимся шелком и защищенном пологом из тончайшего виссона, спала Клеопатра. Клеопатра, прекраснейшая из женщин, на которых когда-либо доводилось смотреть глазам мужчин, прекрасная, как мечта, спала передо мной в волнах своих темных разметавшихся волос. Ее голова покоилась на белой точеной руке, другая рука свешивалась вниз. Пухлые губы полуоткрылись в легкой улыбке, между ними сверкали ровные и белые, точно из слоновой кости зубы; схваченное поясом из драгоценных камней одеяние, в котором она спала, было такого тонкого шелка с острова Кос, что сквозь него светилось белорозовое тело. Я стоял ошеломленный, и хотя помыслы мои были далеки от женщин, ее красота поразила меня, как удар, я на миг забыл обо всем, подчинившись ее могуществу, и сердце мне кольнула боль, что я должен убить столь пленительное создание.
Резко отвернувшись от Клеопатры, я увидел, что Хармиана впилась в меня своими зоркими глазами, впилась так, словно хотела проникнуть в сердце. Верно, на моем лице и вправду отразились мои мысли и она сумела их прочесть, потому что прошептала мне на ухо:
— Какая жалость, правда? Гармахис, ведь ты всего лишь мужчина; боюсь, тебе понадобится призвать на помощь все могущество твоих тайных знаний, чтобы они поддержали твое мужество и ты смог совершить задуманное!
Я нахмурился, но не успел ничего сказать в ответ, ибо она слегка коснулась моей руки и указала на царицу. С царицей что-то произошло: руки были стиснуты, разгоревшееся ото сна лицо омрачено страхом. Дыхание стеснилось, она выбросила перед собой руки, точно защищаясь от удара, потом с глухим стоном села и распахнула озера глаз. Они были темные-темные, как ночь; но вот свет проник в них, и они стали наливаться синевой — синевой предрассветного неба.
— Цезарион! — вскричала она. — Где мой сын, где Цезарион? Слава богам, это было всего лишь во сне! Мне снилось, что Юлий, давно погибший Юлий, пришел ко мне в окровавленной тоге, обнял своего сына и увел прочь. Потом мне стало сниться, что я умираю, умираю в крови и в муках, а кто-то, невидимый мне, смеется надо мной… О, боги, кто этот мужчина?
— Успокойся, моя царица, успокойся! — проговорила Хармиана. — Это всего лишь астролог Гармахис, ты сама приказала мне привести его к тебе в час твоего пробуждения.
— Ах, астролог, тот самый Гармахис, который победил гладиатора? Теперь я вспомнила. Я рада, что ты пришел. Скажи же мне, астролог, ты можешь ли увидеть в своем магическом зеркале разгадку моего сна? Какая странная вещь — сон, он опутывает наш разум паутиной тьмы и властно подчиняет его себе. Откуда приходят эти страшные видения, почему они поднимаются над горизонтом нашей души, точно луна, вдруг проступившая на полуденном небе? Какие силы вызывают эти образы из глубин нашей памяти, кто наделяет их столь несомненной жизнью, и неумолимо показывая нам их страданья, сталкивает настоящее с прошлым? Что же, стало быть, они — вестники? Стало быть, во время той неполной смерти, которую мы называем сном, они проникают в наше сознание и связывают порванные нити, когда-то соединявшие судьбы? То был сам Цезарь в моем сне, я уверена, но я не знаю, кто стоял рядом, скрытый плащом, и глухо произносил зловещие слова, которых я не помню. Разгадай мне эту загадку, египетский сфинкс
[209], и я укажу тебе путь к счастью и богатству, каких тебе не дадут твои звезды. Ты принес мне знамение, растолкуй же его.
— Я вовремя пришел к тебе, о могущественейшая из цариц, — отвечал я, — знай: я проник в некоторые тайны сна, а сон, как ты правильно угадала, порой впускает в наши живые души тех, кто воссоединился с Осирисом, и они символическими действиями или словами доносят до нас эхо того, что звучит в Царстве Истины, где они обитают, а посвященные смертные умеют эти знаки разгадать. Да, сон — это лестница, по которой в дух избранных спускаются в самых разных обличьях вестники божеств-охранителей. И те, кто владеет ключом к тайне, видят в безумии наших снов ясный смысл и понимают их язык гораздо лучше, чем язык мудрости и событий нашей повседневной жизни, которая как раз и есть истинный сон. Тебе привиделся великий Цезарь в окровавленной тоге, он обнял царевича Цезариона и увел от тебя. Слушай же, что твой сон означает. Да, ты видела Цезаря, он явился к тебе из Аменти в своем собственном обличье, тут ошибиться невозможно. Когда он обнял своего сына Цезариона, он хотел показать, что одному лишь ему передал свое величие и свою любовь. Тебе приснилось, что Цезарь увел его от тебя, так вот, это значит, что он увел его из Египта в Рим, где его коронуют в Капитолии и он станет владыкой Римской империи. Что значит другой твой сон, я не могу разгадать. Его смысл скрыт от меня.
Вот как истолковал я ей ее видение, хотя сам прозревал в нем иной, зловещий смысл. Но царям не следует предсказывать дурное.
Тем временем Клеопатра поднялась и, откинув виссон, который защищал ее от комаров, села на край ложа; глаза внимательно изучали мое лицо, пальцы играли концами пояса из драгоценных камней.
— Поистине, ты мудрейший из прорицателей! — воскликнула она. — Ты читаешь в моем сердце и видишь благой знак в том, что на первый взгляд кажется дурным предзнаменованием.
— Ты права, о царица, — сказала Хармиана, которая стояла рядом, опустив глаза, и в нежных переливах ее голоса мне послышались недобрые нотки. — Да не оскорбят отныне дурные предзнаменования твой слух, пусть все зло оборачивается для тебя таким же благом.
Клеопатра сцепила пальцы за головой и, откинувшись назад, посмотрела на меня полузакрытыми глазами.
— Ну что ж, египтянин, покажи нам теперь свое искусство, — сказала она. — На улице еще жарко, а эти иудейские послы с их разговорами об Ироде и Иерусалиме мне до смерти наскучили, терпеть не могу Ирода, он очень скоро в этом убедится, а послы — нет, я их сегодня не приму, хоть я бы и не прочь поболтать на иудейском. Итак, что ты умеешь? Надеюсь, позабавишь нас какими-нибудь новыми фокусами? Клянусь Сераписом, если ты так же хорошо чародействуешь, как прорицаешь, я обещаю тебе место при дворе, хорошие деньги и подарки — если, конечно, твоя возвышенная душа не восстает в негодовании при мысли о подарках.
— Новых фокусов я не придумал, — ответил я, — но есть такие приемы волхвований, которые применяют очень редко и с большой осторожностью, и тебе, царица, они могут быть в новинку. Ты не боишься колдовства?
— Я ничего не боюсь; вызывай самые страшные силы. Поди ко мне, Хармиана, сядь рядом. Начинай. Нет, постой, а где другие девушки, где Ирада и Мерира? Они ведь тоже любят представления волшебников.
— Нет, не зови их, — остановил я ее, — когда много народу, чары плохо действуют. Итак, смотрите! — И, глядя на двух женщин, я бросил на пол мою палочку и стал шептать заклинание. Минуту палочка лежала неподвижно, потом начала медленно извиваться. Потом свернулась в кольцо, поднялась и начала раскачиваться. Вот на ее головке появились очки — она превратилась в змею, и змея поползла, грозно шипя.
— Ну удивил, нечего сказать! — презрительно вскричала Клеопатра. — И это-то ты называешь колдовством? Фокус стар как мир, любой уличный колдун умеет его делать. Я видела такое сотни раз.
— Не торопись, царица, — ответил я, — это всего лишь начало. — И тут же змею как бы разрезало на несколько частей, и каждая часть вытянулась в длинную змею. Эти змеи тоже разделились на множество маленьких, они росли и снова распадались, так что очень скоро под взглядами зачарованных женщин пол покоя словно бы залили играющие волны — это кишел толстый слой змей, они ползли друг по другу, шипели, свивались в кольца… Я сделал знак, и все устремились ко мне, стали медленно обвивать мне ноги, туловище, руки, и весь я покрылся многослойным панцирем змей, только лицо оставалось открытым.
— Это ужасно, ужасно! — закричала Хармиана и спрятала лицо в складках Клеопатриной юбки.
— Довольно, волшебник, довольно! — повелела Клеопатра. — Твое колдовство поразило нас.
Я взмахнул рукой, с которой свисали змеи, и все исчезло. У ног моих лежала черная палочка эбенового дерева с головкой из слоновой кости, и больше ничего не было.
Женщины взглянули друг на друга и ахнули от изумления. Но я поднял свою палочку и, сложив на груди руки, встал перед ними.
— Довольна ли царица моим убогим представлением? — смиренно спросил я.
— О да, египтянин, довольна! Такого искусства я никогда не видела. С сегодняшнего дня ты — мой придворный астроном, тебе даруется право бывать в покоях царицы. У тебя есть в запасе что-нибудь еще занимательное?
— Есть, царица. Прикажи слегка затенить покой, и я покажу тебе еще одно представление.
— Мне немного страшно, — сказала Клеопатра, — но все равно опусти занавеси, Хармиана, как просил Гармахис.
Занавеси опустились, в покое стало сумрачно, будто приближался вечер. Я шагнул вперед и встал рядом с Клеопатрой.
— Смотри туда! — властно приказал я, указывая палочкой на то место, где я стоял раньше. — Смотри туда, и ты увидишь то, что у тебя в мыслях.
В немом молчании обе женщины пристально, с испуганными лицами глядели в пустоту.
И под их взглядом на этом месте сгустилось облачко. Оно медленно вытянулось и стало обретать очертания, — то были очертания мужчины, довольно смутные в сумраке покоя, они то проступали четче, то как бы таяли.
Я возгласил:
— Тень, заклинаю тебя, воплотись!
И лишь только я воззвал, смутный силуэт вдруг превратился в человека, очень ясно видимого. Перед нами был державный Цезарь, на голову наброшена тога, туника вся в крови от бесчисленных ран. С минуту он постоял, потом я взмахнул рукой, и он исчез.
Я повернулся к сидящим на ложе женщинам и увидел, что прелестное лицо Клеопатры искажено ужасом. Губы серые, как пепел, широко открытые глаза застыли, и вся она дрожит.
— О, боги! — Голос ее прервался. — О, боги, кто ты? Кто ты, умеющий вызывать на землю мертвых?
— Я — астроном царицы, ее кудесник, ее слуга, — все, что она пожелает, — ответил я со смехом. — Стало быть, я показал именно то, что мысленно видела царица?
Она мне не ответила, но встала и вышла из покоя через другую дверь.
Потом с ложа поднялась и Хармиана и отняла от лица руки, ибо ее тоже обуял смертельный страх.
— Как ты это делаешь, мой царственный Гармахис? — спросила она. — Открой мне! Я скажу тебе правду: я боюсь тебя.
— Не бойся, — ответил я. — Может быть, ты видела лишь то, что было в моем воображении. В мире нет ничего, кроме теней. Откуда же тебе знать их природу? Откуда тебе знать, что истинно существует, а что нам только кажется? Но скажи лучше, как все прошло? И помни, Хармиана: эту игру мы должны довести до конца.
— Все получилось великолепно, — ответила она. — Завтра утром вся Александрия будет рассказывать, что произошло у ворот и здесь, при одном твоем имени людей станет бросать в дрожь. А теперь почтительно прошу тебя: следуй за мной.
Глава IV, повествующая о том, как Гармахис дивился повадкам Хармианы, и о том, как его провозгласили богом любви
Назавтра я получил письменное уведомление, что назначен астрологом и главным прорицателем царицы, с указанием суммы жалованья и перечнем привилегий, полагающихся мне в этой должности, а они были весьма значительны. Мне также были отведены во дворце комнаты, из которых я поднимался ночью на высокую башню обсерватории, наблюдал звезды и сообщал, что предвещает их расположение. Как раз в это время Клеопатру чрезвычайно волновали политические дела, и, не зная, чем кончится жестокая борьба между могущественными группировками в Риме, но желая примкнуть к сильнейшей, она постоянно советовалась со мной и спрашивала, что предвещают звезды. Я читал их ей, руководствуясь высшими интересами дела, которому себя посвятил. Римский триумвир Антоний воевал сейчас в Малой Азии и, по слухам, был страшно зол на Клеопатру, потому что она, как ему сообщили, будто бы выступает против триумвирата, и ее военачальник Серапион даже сражался на стороне Кассия. Клеопатра же пылко убеждала меня и всех прочих, что Серапион действовал вопреки ее воле. Но Хармиана мне открыла, что и здесь не обошлось без участия злосчастного Диоскорида, ибо Клеопатра, следуя его предсказанию, сама тайно послала Серапиона с войском на помощь Кассию, когда приказывала Аллиену направить легионы ему в поддержку. Но это не спасло Серапиона, ибо, желая доказать Антонию свою невиновность, Клеопатра велела схватить военачальника в святилище, где он укрылся, и казнить. Горе тем, кто выполняет желания тиранов, когда весы судьбы склоняются не в их сторону! Увы, Серапион поплатился за это жизнью.
Меж тем нашим планам сопутствовал успех, ибо Клеопатра и ее советники были совершенно поглощены событиями, происходящими за пределами Египта, и никому из них и в голову не приходило, что сам Египет может восстать. С каждым днем число наших сторонников увеличивалось во всех городах страны, даже в Александрии, которую Египет как бы даже не считает Египтом — настолько все здесь нам было чуждо и враждебно. Каждый день к нам примыкали все новые колеблющиеся и клялись служить нашему делу священной клятвой, которую нельзя нарушить, и мы чувствовала, что наши замыслы покоятся на прочном основании. Несколько раз в неделю я покидал дворец и шел к дяде Сепа обсуждать, как обстоят дела, встречался в его доме с сановниками и верховными жрецами, которые жаждали освобождения Кемета.
Я часто виделся с царицей Клеопатрой и каждый раз заново поражался глубине и широте ее редкого ума, — он был неисчерпаемо богат и сверкал, как золотая ткань, расшитая драгоценными камнями, озаряя своим переливчатым сиянием ее прекрасное лицо. Она немного боялась меня и потому желала заручиться моей дружбой, обсуждала со мной самые разные темы, вовсе не связанные с астрологией и прорицаниями. Много времени я проводил и в обществе госпожи Хармианы, — вернее, она почти всегда была возле меня и я даже не замечал, когда она исчезала и когда появлялась. Она подходила совсем близко своими легкими неслышными шагами, я оборачивался и вдруг видел, что она за моей спиной, стоит и смотрит на меня из-под длинных опущенных ресниц. Никакая услуга не затрудняла ее, она выполняла все мгновенно; и днем, и ночью она трудилась во имя нашей великой цели.
Но когда я благодарил ее за преданность и говорил, что скоро, совсем скоро настанет время, когда я смогу отблагодарить ее по-царски, она топала ножкой, надувала губки, как капризный ребенок, и возражала, что хоть я и великий ученый, но не знаю самых простых вещей: любовь не требует награды, она сама по себе счастье. Я же, глупец, вовсе не искушенный в любви, не знающий и не замечающий женщин, думал, что она говорит о любви к Кемету и считает счастьем служить делу его освобождения. Я выражал свое восхищение ее верностью отчизне, а она в гневе разражалась слезами и убегала, оставлял меня в величайшем недоумении. Ведь я не знал о ее страданиях. Не знал, что, сам того не желая, внушил этой девушке страстную любовь, и эта любовь измучила, истерзала ее сердце, что оно все время кровоточит, словно в него вонзили десятки стрел. Ничего-то, ничего-то я не знал, да и как мог я догадаться о ее любви, ведь для меня она была всего лишь помощницей в нашем общем священном деле. Меня не волновала ее красота, и даже когда она склонялась ко мне и ее дыхание касалось моих волос, я не чувствовал в ней женщину, я любовался ею, как мужчина любуется прекрасной статуей. Что мне радости земной любви, ведь я посвятил себя служению Исиде и делу освобождения Египта! Великие боги, подтвердите, что я не виновен в том, что со мной случилось и стало причиной моего несчастья и навлекло несчастье на наш Кемет!
Какая непостижимая вещь — любовь женщины, столь хрупкая, когда лишь зародилась, и столь грозная, когда развилась в полную силу! Ее начало напоминает ручеек, пробившийся из недр горы. А чем ручеек становится потом? Ручеек превращается в могучую реку, по которой плывут караваны богатых судов, которая животворит землю и дарит ей радость и счастье. Но вдруг эта река поднимается и смывает все, что было посеяно с такой надеждой, обращает в обломки построенное и рушит дворцы нашего счастья и храмы чистоты и веры. Ибо когда Непостижимый творил Мироздание, он вложил в его закон одной из составных частей семя женской любви, и на его непредсказуемом развитии зиждется равновесие миропорядка. Любовь возносит ничтожных на неизмеримые высоты власти, низвергает великих в прах. И пока существует это таинственнейшее создание природы — Женщина, Добро и Зло будут существовать неразделимо. Она стоит и, ослепленная любовью, плетет нить
нашей судьбы, она льет сладкое вино в горькую чашу желчи, она отравляет здоровое дыхание жизни ядом своих желаний. Куда бы ты ни ускользнул, она будет всюду пред тобой. Ее слабость — твоя сила, ее могущество — твоя гибель. Ею ты рожден, ей обречен. Она твоя рабыня, и все же держит тебя в плену; ради нее ты забываешь о чести; стоит ей прикоснуться к запору, и он отомкнется, все преграды перед ней рушатся. Она безбрежна, как океан, она переменчива, как небо, ее имя — Непредугаданность. Мужчина, не пытайся бежать от Женщины и от ее любви, ибо, куда бы ты ни скрылся, она — твоя судьба, и все, что ты творишь, ты творишь для нее.
И так случилось, что я, Гармахис, чьи помыслы были всегда бесконечно далеки от женщин и от их любви, стал волею судьбы жертвой того, что в своем высокомерии презирал. Хармиана полюбила меня — почему ее выбор пал на меня, мне неведомо, но ее постигла любовь, и я расскажу, к чему эта ее любовь всех привела. Пока же я, ни о чем не догадываясь, видел в ней лишь сестру и, как мне казалось, шел рука об руку к нашей общей цели.
Время летело, и вот наконец мы все подготовили.
Завтра ночью будет нанесен удар, а нынче вечером во дворце устроили веселое празднество. Днем я встретился с дядей Сепа и с командующими пяти сотен воинов, которые ворвутся завтра в полночь во дворец после того, как я заколю царицу Клеопатру, и перебьют римских и галльских легионеров. Еще раньше я договорился с начальником стражи Павлом, который чуть не ползал передо мной на коленях после того, как я заставил его войти в ворота. Сначала припугнув его, потом обещав щедро вознаградить, я добился от него обещания отпереть по моему сигналу завтра ночью боковые ворота с восточной стороны дворца, ибо дежурить должен был именно он со своими стражами.
Итак, все было готово, еще несколько дней — и древо свободы, которое росло двадцать пять лет, наконец-то расцветет. Во всех городах Египта собрались вооруженные отряды, со стен не спускались дозорные, ожидая прибытия вестника, который сообщит, что Клеопатра убита и трон захватил наследник истинных древних фараонов Египта Гармахис.
Да, все приготовления завершились, власть сама просилась в руки, как спелый плод, который ждет, чтобы его сорвали. Я сидел на царском пиру, но сердце мое давила тяжесть, в мыслях витала темная тень недоброго предчувствия. Сидел я на почетном месте, рядом с сиятельной Клеопатрой, и, оглядывая рады гостей, сверкающих драгоценностями, увенчанных цветами, отмечал тех, кого я обрек на смерть. Передо мной возлежала Клеопатра в апофеозе своей красоты, от которой у гладящих на нее захватывало дух, как от шума вдруг налетевшего полуночного урагана или при виде разбушевавшегося моря. Я не сводил с нее глаз: вот она пригубила кубок с вином, погладила пальцами розу в своем венке, а сам в это время думал о кинжале, спрятанном у меня под складками одежды, который я поклялся вонзить в ее грудь. Я смотрел и смотрел на нее, разжигая в себе ненависть к ней, пытаясь наполнить душу торжеством от того, что она умрет, но не находил в себе ни ненависти, ни торжества. Здесь же, рядом с царицей, как всегда то и дело взглядывая на меня из-под своих длинных пушистых ресниц, возлежала прелестная госпожа Хармиана. Кто, любуясь ее детски ясным лицом, поверил, бы, что именно она устроила западню, в которую должна попасться столь любящая ее царица и там погибнуть жалкой смертью? Кому пришло бы в голову, что в этой девственной груди таится столь кровавый замысел? Я пристально смотрел на Хармиану и чувствовал, что мне противна сама мысль обагрить мой трон кровью и освободить страну от зла, творя зло. В эту минуту я даже пожалел, зачем я не простой безропотный крестьянин, который прилежно сеет пшеницу, когда наступает пора сева, а потом собирает урожай золотого зерна. Увы, семя, которое я был обречен посеять, было семя смерти, и сейчас мне предстоит пожинать кровавые плоды моих трудов.
— Что с тобой, Гармахис? Чем ты озабочен? — спросила Клеопатра, улыбаясь своей томной улыбкой. — Неужто золотой узор звезд непредсказуемо нарушился, о мой астроном? Или, может быть, ты обдумываешь какой-то новый замечательный фокус? В чем дело, почему ты не принимаешь участия в нашем веселье? А знаешь, если бы я не знала доподлинно, расспросив кого следует, что столь ничтожные и жалкие создания, каковыми являемся мы, бедные женщины, не смеют даже посягать на твое внимание, ибо ты не опустишься столь низко, я бы поклялась, Гармахис, что тебя поразила стрела Эрота!
— О нет, царица, Эрот мне не опасен, — ответил я. — Тот, кто наблюдает звезды, на замечает блеска женских глаз, гораздо менее ярких, и потому он счастлив!
Клеопатра склонилась ко мне и так долго смотрела в глаза странным пристальным взглядом, что сердце мое затрепетало, хоть я и призвал на помощь всю свою волю.
Не гордись, высокомерный египтянин, проговорила Клеопатра так тихо, что слова ее услышали только я и Хармиана, — не гордись, чародей, не то у меня вдруг появится искушение испробовать на тебе мои чары. Разве есть на свете женщина, которая бы вынесла такое презрение? Оно оскорбляет весь наш пол и противно самой природе. — И она откинулась на ложе и рассмеялась своим чудесным мелодичным смехом. Но я поднял глаза и увидел, что Хармиана закусила губу и гневно хмурится.
— Прости меня, царица Египта, — ответил я сухо, но со всей изысканностью, на которую был способен, — перед Царицей Ночи бледнеют даже звезды! — Я, конечно, говорил о символе Великой Праматери — луне, с кем Клеопатра осмеливалась соперничать, именуя себя сошедшей на землю Исидой.
— Находчивый ответ! — сказал она и захлопала своими точеными белыми ручками. — Да мой астроном, оказывается, остроумен и к тому же великолепно умеет льстить! Нет, он просто чудо, мы должны воздать ему хвалу, иначе боги разгневаются. Хармиана, сними с моей головы этот венок и возложи его на высокое чело нашего многомудрого Гармахиса. Желает он того или нет, мы коронуем его и жалуем ему титул «Бога любви».
Хармиана подняла венок из роз, который украшал голову Клеопатры, и, поднеся ко мне, с улыбкой возложила на мою, еще теплый и хранящий благоухание волос царицы, — впрочем, она его отнюдь не возложила, а нахлобучила, да так грубо, что оцарапала мне лоб шипами. Она была вне себя от ярости, хотя на губах ее сияла улыбка, и с этой улыбкой шепнула мне на ухо: «Это предвестие твоей судьбы, мой царственный Гармахис». Ибо хоть Хармиана была женщина до мозга костей, когда она сердилась или ревновала, то вела себя как ребенок.
Итак, нахлобучив на меня венок, она низко склонилась передо мной и нежнейшим голосом ехидно пропела по-гречески: «Да здравствует Гармахис, бог любви». Клеопатра засмеялась и провозгласила тост за «Бога любви», все гости подхватили шутку, сочтя ее на редкость удачной. Ведь в Александрии не выносят тех, кто ведет аскетическую жизнь и чурается женщин.
Я сидел с улыбкой на устах, но меня душила черная ярость. Эти вульгарные придворные и легкомысленные красотки Клеопатрина двора потешаются надо мной — истинным властелином Египта! Сама эта мысль была невыносима. Но особенно я ненавидел Хармиану, ибо она смеялась громче всех, а я тогда еще не знал, что смехом и язвительностью раненое сердце часто пытается скрыть от мира свою боль. Предвестием моей судьбы назвала она эту корону из роз, и, о боги, — она оказалась права. Ибо я променял двойную корону Верхнего и Нижнего Египта на венок, сплетенный из роз страсти, которая увяла, не достигнув полного расцвета, а парадный трон фараонов из слоновой кости — на ложе неверной женщины.
— Бог любви! Приветствуем бога любви, увенчанного розами! — кричали пирующие, со смехом поднимая кубки. Бог, увенчанный розами? Нет, я увенчан позором! И я, по праву крови законный фараон Египта, помазанный на царство, в этом благоухающем позорном венке, стал думать о тысячелетнем нерушимом храме Абидоса и о том, другом короновании, которое должно состояться послезавтра утром.
Все так же улыбаясь, я тоже поднял свой кубок вместе со всеми и ответил какой-то шуткой. Потом встал и, склонившись пред Клеопатрой, попросил у нее позволения покинуть пир.
— Восходит Венера, — сказал я, ибо они именуют Венерой планету, которая у нас носит имя Донау, когда восходит вечером, и имя Бону, когда является на утреннем небе. — И я, только что провозглашенный богом любви, должен приветствовать мою повелительницу. — Эти варвары считают Венеру богиней Любви.
И, провожаемый их смехом, я ушел к себе в обсерваторию, швырнул позорный венок из роз на мои астрономические приборы и стал ждать, делая вид, будто слежу за движением звезд. Обо многом я передумал, дожидаясь Хармианы, которая должна была принести окончательные списки тех, кого решено казнить, а также весть от дяди Сепа, ибо она виделась с ним после обеда.
Наконец дверь тихо отворилась, и проскользнула Хармиана, вся в драгоценностях и в белом платье, как была на пиру.
Глава V, повествующая о том, как Клеопатра пришла в обсерваторию к Гармахису; о том, как Гармахис бросил с башни шарф Хармианы; как рассказывал Клеопатре о звездах и как царица подарила дружбу своему слуге Гармахису
— Как ты долго, Хармиана, — сказал я. — Я уж заждался.
— Прости, о господин мой, но Клеопатра никак меня не отпускала. Она сегодня очень странно ведет себя. Не знаю, что это нам сулит. Ей приходят в голову самые неожиданные прихоти и фантазии, она как море летом, когда ветер беспрерывно меняется и оно то темнее от туч, то снова сияет. Не понимаю, что она задумала.
— Что нам за дело? Довольно о Клеопатре. Скажи мне лучше, видела ты дядю Сепа?
— Да, царственный Гармахис, видела.
— И принесла окончательные списки?
— Вот они. — И она извлекла папирусы из-под складок платья на груди. — Здесь имена тех, кто после смерти царицы должен быть немедленно казнен. Среди них старый галл Бренн. Жаль Бренна, мы с ним друзья; но он погибнет. Здесь много тех, кто обречен.
— Да, ты права, — ответил я, пробегая глазами папирус, — когда люди начинают думать о своих врагах, они вспоминают всех — всех до единого, а у нас врагов не перечесть. Но чему суждено случиться, то случится. Дай мне другие списки.
— Здесь имена тех, кого мы пощадили, ибо они заодно с нами или, во всяком случае, не против нас; а в этом перечислены города, которые восстанут, как только их достигнет весть, что Клеопатра умерла.
— Хорошо. А теперь… — я помолчал, — теперь обсудим, как должна погибнуть Клеопатра. Что ты решила? Она непременно должна умереть от моей руки?
— Да, мой господин, — ответил она, и снова я уловил в ее голосе язвительные нотки. — Я уверена, фараон будет счастлив, что избавил нашу страну от самозванки и распутницы на троне своей собственной рукой и одним ударом разбил цепи, в которых задыхался Египет.
— Не говори так, Хармиана, — ответил я, — ведь ты хорошо знаешь, как мне ненавистно убийство, я совершу его лишь под давлением суровой необходимости и выполняя клятвы, которые принес. Но разве нельзя ее отравить? Или подкупить кого-нибудь из евнухов, пусть он убьет ее? Мне отвратительна сама мысль об этом кровопролитии! Пусть Клеопатра совершила много страшных преступлений, но я безмерно удивляюсь, что ты без тени жалости готовишься предательски убить ту, которая так любит тебя!
— Что-то наш фараон уж слишком разжалобился, он, видно, позабыл, какое важное настал» время, забыл, что от этого удара кинжалом, который пресечет жизнь Клеопатры, зависит судьба страны и жизнь тысяч людей. Слушай меня, Гармахис: убить ее должен ты — ты и никто другой! Я бы сама вонзила кинжал, если бы у меня в руках была сила, но увы — они слишком хрупки. Отравить ее нельзя, ибо все, что она ест и пьет, тщательно проверяют и пробуют три доверенных человека, а они неподкупны. На евнухов, охраняющих ее, мы тоже не можем положиться. Правда, двое из них на нашей стороне, но третий свято верен Клеопатре. Придется его потом убить; да и стоит ли жалеть какого-то ничтожного евнуха, когда кровь сейчас польется рекой? Так что остаешься ты. Завтра вечером, за три часа до полуночи, ты пойдешь читать звезды, чтобы сделать последнее предсказание, касающееся военных действий. Потом ты спустишься, возьмешь печать царицы и, как мы договорились, вместе со мной пойдешь в ее покои. Знай: завтра на рассвете из Александрии отплывает судно, которое повезет планы действий легионам Клеопатры. Ты останешься наедине с Клеопатрой, ибо она желает, чтобы ни единая душа не знала, какой она отдаст приказ, и прочтешь ей звездный гороскоп. Когда она склонится над папирусом, ты вонзишь ей кинжал в спину и убьешь, — да не дрогнут твои рука и воля! Убив ее — поверь, это будет очень легко, — ты возьмешь печать и выйдешь к евнуху, ибо двоих других там не будет. Если он вдруг что-то заподозрит, — это, конечно, исключено, ведь он не смеет входить во внутренние покои царицы, а крики умирающей до него не долетят через столько комнат, — но в крайнем случае ты убьешь и его. В следующем зале я встречу тебя, и мы вместе пойдем к Павлу, а я уж позабочусь, чтобы он был трезв и не отступил от своего слова, — я знаю, как этого добиться. Он и его стражи отомкнут ворота, а ждущие поблизости Сепа и пятьсот лучших воинов ворвутся во дворец и зарубят спящих легионеров. Поверь, все это так легко и просто, поэтому успокойся и не позволяй недостойному страху вползти в свое сердце — ведь ты не женщина. Что значит для тебя удар кинжалом? Ровным счетом ничего. А от него зависит судьба Египта и всего мира.
— Тише! — прервал ее я. — Что это? Мне послышался какой-то шум.
Хармиана бросилась к двери и, глядя вниз, на длинную темную лестницу, стала прислушиваться. Через минуту она подбежала ко мне и, прижав палец к губам, торопливо зашептала:
— Это царица! Царица поднимается по лестнице одна. Я слышала, как она отпустила Ираду. Нельзя, чтобы она застала меня здесь в такой час, она удивится и может заподозрить неладное. Что ей здесь надо? Куда мне спрятаться?
Я оглядел комнату. В дальнем конце висел тяжелый занавес, который закрывал нишу в толще стены, где я хранил свои приборы и свитки папирусов.
— Скорее, туда, — указал я, и она скользнула за занавес и расправила складки, которые надежно скрыли ее. Я же спрятал на груди роковой список обреченных на смерть и склонился над своими мистическими таблицами. Через минуту я услышал шелест женского платья, в дверь тихо постучали.
— Кто бы ты ни был, войди, — сказал я.
Заслонка поднялась, через порог шагнула Клеопатра в парадном одеянии, с распущенными темными волосами до полу, со сверкающим на лбу священным золотым уреем — символом царской власти.
— Признаюсь тебе честно, Гармахис, — произнесла она, переведя дух и опускаясь на сиденье, — подняться к небу ох как нелегко. Я так устала, эта лестница просто бесконечная. Но я решила, мой астроном, посмотреть, как ты трудишься.
— Это слишком большая честь, о царица! — ответил я, низко склоняясь перед дней.
— В самом деле? Но на твоем лице нет радости, скорее недовольство. Ты слишком молод и красив, Гармахис, чтобы заниматься столь иссушающей душу наукой. Боги, что я вижу — мой венок из роз валяется среди твоих заржавленных приборов! Ах, Гармахис, сколько я знаю царей, которые хранили бы этот венок всю жизнь, дорожа им больше, чем самыми драгоценными диадемами! А ты швырнул его, точно пучок травы. Какой ты странный человек! Но погоди — что это? Клянусь Исидой, женский шарф! Изволь же объяснить мне, мой Гармахис, как он попал сюда? Значит, наши жалкие шарфы тоже входят в круг приборов, которые служат твоей возвышенной науке? Так, так, вот ты и выдал себя! Стало быть, ты меня все время обманывал?
— Нет, величайшая из цариц, тысячу раз нет! — пылко воскликнул я, понимая, что оброненный Хармианой шарф действительно мог вызвать такие подозрения. — Клянусь тебе, я вправду не знаю, как эта безвкусная мишурная вещица могла оказаться здесь. Может быть, ее случайно забыла одна из женщин, что приходят убирать комнату.
— Ах да, как же я сразу не догадалась, — холодно проговорила она, смеясь журчащим смехом. — Ну конечно, у рабынь, которые убирают комнаты, полно таких безделиц — из тончайшего шелка, которые стоят дважды столько золота, сколько они весят, да к тому же сплошь расшиты разноцветными нитками. Я бы и сама не постыдилась надеть такой шарф. Сказать правду, мне кажется, я его на ком-то видела. — И она набросила шелковую ткань себе на плечи и расправила концы своей белой рукой. — Но что я делаю? Не сомневаюсь, в твоих глазах, я совершила святотатство, накинув шарф твоей возлюбленной на свою безобразную грудь. Возьми его, Гармахис; возьми и спрячь на груди, возле самого сердца!
Я взял злосчастную тряпку и, шепча про себя проклятия, которые не осмеливаюсь написать, шагнул на открытую площадку, казалось, вознесенную в самое небо, с которой наблюдал звезды. Там, скомкав шарф, я бросил его вниз, и он полетел, подхваченный ветром.
Увидев это, прелестная царица снова засмеялась.
— Зачем? — воскликнула она. — Что сказала бы твоя дама сердца, если бы увидела, как ты столь непочтительно выбросил ее залог любви? Может быть Гармахис, такая же участь постигнет и мой венок? Смотри, розы увядают; на, брось. — И, наклонившись, она взяла венок и протянула мне.
Я был в таком бешенстве, что вдруг решил разозлить ее и послать венок вслед за шарфом, однако обуздал себя.
— Нет, — ответил я уже не так резко, — этот венок — дар царицы, его я сохраню. — Эту минуту я увидел, что занавес колыхнулся. Сколько раз я потом жалел, что произнес эти слова пустой любезности, оказавшиеся роковыми.
— Как мне благодарить бога любви за столь великую милость? — проговорила она, вперяя в меня странный взгляд. — Но довольно шуток, выйдем на эту площадку, я хочу, чтобы ты рассказал мне о своих непостижимых звездах. Я всегда любила звезды, они такие чистые, яркие, холодные, и так чужды им наши одержимость и суета. Меня с детства тянуло к ним, вот бы жить среди них, мечтала я, ночь убаюкивала бы меня на своей темной груди, я вечно бы глядела на ее лик с нежными мерцающими глазами и растворялась в просторах мироздания. А может быть, — кто знает, Гармахис? — может быть, звезды сотворены из той же материи, что и мы, и, связанные с нами невидимыми нитями Природы, и в самом деле влекут нас за собой, когда совершают предначертанный им путь? Помнишь греческий миф о человеке, который стал звездой? Может быть, это случилось на самом деле? Может быть, эти крошечные огоньки — души людей, только очистившиеся, наполненные светом и достигшие царства блаженного покоя, откуда они озаряют кипение мелких страстей на их матери-земле? Или это светильники, висящие в высоте небесного свода и ярко, благодарно вспыхивающие, когда к ним подносит свой извечно горящий огонь некое божество, которое простирает крылья и в мире наступает ночь? Поделись со мной своей мудростью, приоткрой свои тайны, мой слуга, ибо я очень невежественна. Но мой ум жаждет знаний, мне хочется наполнить себя ими, я думаю, что многое бы поняла, только мне нужен наставник.
Радуясь, что мы выбрались из трясины на твердую землю, и дивясь, что Клеопатре не чужды возвышенные мысли, я начал рассказывать и, увлекшись, поведал то, что было дозволено. Я объяснил ей, что небо — это жидкая субстанция, разлитая вокруг земли и покоящаяся на мягкой подушке воздуха, что за ним находится небесный океан — Нут и в нем, точно суда, плывут по своим светозарным орбитам планеты. О многом я ей поведал, и в том числе о том, как благодаря никогда не прекращающемуся движению светил планета Венера, которую мы называем Донау, когда она горит на небе как утренняя звезда, становится прекрасной и лучистой вечерней звездой Бону. Я стоял и говорил, глядя на звезды, а она сидела, обхватив руками колено, и не спускала глаз с моего лица.
— Как удивительно! — наконец прервала она меня. — Значит, Венеру можно видеть и на утреннем, и на вечернем небе. Что ж, так и должно быть: она везде и всюду, хотя больше всего любит ночь. Но ты не любишь, когда я называю при тебе звезды именами, которые им дали римляне. Что ж, будем говорить на древнем языке Кемета, я его знаю хорошо: заметь, я первая из всех Лагидов, кто его выучил. А теперь, — продолжала она на моем родном языке, но с легким акцентом, от которого ее речь звучала еще милее, — оставим звезды в покое, ведь они, в сущности, коварные создания и, может быть, именно сейчас, в эту минуту замышляют недоброе против тебя или против меня, а то и против нас обоих. Но мне очень нравится слушать, когда ты говоришь о них, потому что в это время с твоего лица слетает маска угрюмой задумчивости, оно становится таким живым и человечным. Гармахис, ты слишком молод, тебе не следует заниматься столь возвышенной наукой. Я думаю, что должна найти тебе более веселое занятие. Молодость так коротка; зачем же растрачивать ее в таких тяжких размышлениях? Пора размышлений придет, когда мы уже не сможет действовать. Скажи мне, Гармахис, сколько тебе лет?
— Мне двадцать шесть лет, о царица, — отвечал я, — я рожден в первом месяце сезона шему, летом, в третий день от начала месяца.
— Как, стало быть, мы с тобой родились не только в один и тот же год и месяц, но и в тот же самый день, — воскликнула она, — ибо мне тоже двадцать шесть лет и я тоже рождена в третий день первого месяца сезона шему. Ну что ж, мы имеем право сказать, что не посрамили тех, кто дал нам жизнь. Ибо если я — самая красивая женщина Египта, то ты, Гармахис, самый красивый и самый сильный из всех мужчин Кемета и к тому же самый образованный. Мы родились в один день — знаешь, по-моему, судьба недаром свела нас и мы должны быть вместе: я — царица, а ты, Гармахис, быть может, самая надежная опора моего трона, мы принесем друг другу счастье.
— А может быть, горе, — ответил я и отвернулся, потому что ее чарующие речи терзали мой слух, а лицо от них запылало, и я не хотел, чтобы она это видела.
— Нет, нет, не говори о горе. Сядь рядом со мной, Гармахис, давай поговорим не как царица и ее подданный, а как два друга. Ты рассердился на меня сегодня на пиру, когда я велела надеть на тебя этот венок, решил, что я издеваюсь, так ведь? Ах, Гармахис, то была всего лишь шутка. Как тяжело бремя монархов, как утомительны их обязанности! Если бы ты это знал, ты бы не вспыхнул гневом от того, что я попыталась развлечься безобидной шуткой. До чего же скучны эти царевичи и аристократы, эти чванливые надменные римляне! В глаза они клянутся мне в рабской преданности, а за спиной глумятся надо мной, говорят, что я пресмыкаюсь перед их триумвиратом, перед их империей, перед их республикой — колесо судьбы поворачивается, и те, кто крепче в него вцепился, возносятся наверх и обретают власть. Среди тех, кто меня окружает, нет ни одного настоящего мужчины, — глупцы, марионетки, трусы, ни единого мужественного человека я не встречала среди них после гибели Цезаря, которого весь мир не мог победить, а они предательски закололи кинжалами. Я не могут допустить, чтобы Египет попал к ним в руки, и потому вынуждена стравливать их друг с другом, может быть, хоть это нас спасет. И какова награда? Меня на всех перекрестках позорят, мои подданные ненавидят меня, я это знаю, знаю, — вот моя награда! И я уверена: хоть я и женщина, они давно убили бы меня, да только никак не удается!
Она умолкла и закрыла глаза рукой, — это она сделала очень кстати, потому что я похолодел от ее слов и отпрянул в сторону.
Люди осуждают меня, я знаю; называют блудницей, а я оступилась один-единственный раз в жизни, когда полюбила величайшего человека в мире, любовь к нему зажгла во мне непреодолимую страсть, но страсть эта была священна. Бесстыдные клеветники-александрийцы обвиняют меня в том, что я отравила моего брата, Птолемея, которого римский Сенат, вопреки всем человеческим законам, насильно навязал мне в мужья — мне, его сестре! Но все эти обвинения — ложь: Птолемей заболел лихорадкой и умер. Однако это еще не все, молва утверждает, будто я хочу убить мою сестру Арсиною, ту самую Арсиною, которая спит и видит во сне, как бы убить меня. Какая отвратительная клевета! Арсиноя знать меня не желает, а я, я — нежно ее люблю. Да, все осуждают меня, хотя ничего дурного я не совершила. Даже ты, Гармахис, меня осуждаешь. Но прежде чем судить, Гармахис, вспомни, какое зло — зависть! Это тяжкая болезнь, она разъедает душу, калечит ум, извращает зрение, и ты видишь в ясном, открытом лице Добра Преступление, а в чистых помыслах невинной девушки тебе мерещится Порок! Задумайся, Гармахис, как чувствует себя тот, кого судьба высоко вознесла над любопытной и бесчестной чернью, которая ненавидит тебя за твое богатство и за твой ум, скрежещет от ярости зубами и под прикрытием собственного ничтожества пронзает тебя стрелами лжи, ибо эти бескрылые твари не способны взлететь; они жаждут низвести все высокое и благородное до своего уровня, втоптать в грязь.
И потому не спеши осуждать облеченных властью, ибо за каждым их поступком следят миллионы враждебных глаз, каждое слово ловят миллионы настороженных ушей, их самую безобидную ошибку тут же разносит по всему свету молва, злорадно торжествуя и крича, что они совершили преступление. Не говори сразу: «Они правы; конечно, они правы», лучше спроси: «А правы ли они? Так ли все было на самом деле? По своей ли воле она так поступила?» Суди справедливо и милосердно, Гармахис, как судила бы я, окажись я на твоем месте. Помни, что царица не принадлежит себе. Она — игрушка и оружие в руках политических сил, которые творят историю и записывают ее события на железных скрижалях. О Гармахис, будь моим другом, другом и советником, которому я могла бы безраздельно доверять, ведь здесь, в этом кишащем людьми дворце, нет более одинокого существа, чем я. Но тебе я доверяю; в твоих спокойных глазах я вижу верность, и я добьюсь для тебя высокого положения. Ах, как мне невыносимо мое душевное одиночество, я должна найти человека, с которым могла бы говорить, не опасаясь предательства, откровенно делиться своими мыслями. У меня много несовершенств, я сама знаю, но я не вовсе недостойна твоей преданности, ибо среди плевел в моей душе есть и добрые зерна. Скажи, Гармахис, ты чувствуешь ко мне сострадание, потому что я так одинока? Ты поддержишь меня своей дружбой — женщину, у которой столько поклонников, придворных, слуг, рабов, что и не счесть, но нет ни единого друга? — И она приблизилась ко мне, слегка коснувшись плечом и гладя на меня своими дивными фиалковыми глазами.
Я был потрясен. Я вспомнил о том, что должно произойти завтра ночью, и меня пронзили боль и стыд. Это меня-то она выбрала своим другом! Меня, у которого на груди спрятан кинжал убийцы! Я опустил голову, и то ли стон, то ли рыдание вырвалось из моего истерзанного сердца.
Но Клеопатра, считая, что я просто растроган ее столь неожиданно свалившейся на меня милостью, нежно улыбнулась и сказала:
— Уже поздно; завтра ночью, когда ты принесешь мне предсказание, мы снова будем говорить, мой друг Гармахис, и ты дашь мне ответ. — Она протянула мне руку, и я ее поцеловал. Поцеловал, сам не понимая, что я делаю, а она в тот же миг исчезла.
Я же остался стоять, гладя ей вслед, точно завороженный.
Глава VI, повествующая о сцене ревности и о признании Хармианы; о том, как Гармахис рассмеялся в ответ; о подготовке к кровавому деянию и о вести, которую старая Атуа передала Гармахису
Я стоял, застыв, погруженный в свои мысли. Потом случайно мой взгляд упал на венок из роз, и я взял его в руки. Сколько я так стоял — не знаю, но когда я наконец поднял глаза, я увидел Хармиану, о которой совсем забыл. И хотя в тот миг мои помыслы были далеко от нее, я рассеянно отметил, что щеки ее горят словно бы от гнева и она нетерпеливо постукивает ножкой по полу.
— А, это ты, Хармиана, — сказал я. — что с тобой? Затекли ноги, потому что пришлось так долго стоять в нише? Почему не выбралась из нее незаметно и не убежала, когда мы с Клеопатрой вышли на площадку?
— Где мой шарф? — спросила она, впиваясь в меня гневным взглядом. — Я обронила здесь мой шелковый вышитый шарф.
— Как где твой шарф? Ты разве не видела? Клеопатра принялась меня поддразнивать, и я выбросил его с башни.
— Не сомневайся, видела, и видела все слишком хорошо. Мой шарф ты выбросил, а вот венок из роз — его ты выбросить не смог. Ведь это поистине «дар царицы», и потому царственный Гармахис, жрец Исиды, избранник богов, коронованный фараон, посвятивший себя возрождению и процветанию Египта, будет свято хранить его и любоваться им. Что такое в сравнении с венком мой шарф, — раз наша развратная царица посмеялась над тобой, его надо выкинуть!
— О чем ты? — спросил я, пораженный горечью, которая звучала в ее голосе. — Разгадай мне свои загадки.
— Ты не понимаешь, о чем я? — Она вскинула голову, и я увидел ее белую плавно выгнутую шею. — Да ни о чем, а если хочешь — о самом главном, понимай как знаешь. Неужто ты так простодушен, Гармахис, мой брат и господин мой? — продолжала она тихо и язвительно. — Тогда я объясню: тебе грозит великая опасность. Клеопатра опутала тебя своими роковыми сетями, и ты уже почти любишь ее, Гармахис, — любишь ту, которую должен убить завтра! Да, стой и смотри как зачарованный на венок, что ты держишь в руках, венок, который ты не смог выбросить вслед за моим шарфом, — еще бы, ведь он был на голове Клеопатры! С благоуханием роз смешался аромат ее волос — волос любовницы Цезаря и множества других мужчин! Скажи мне, мой Гармахис, далеко ли ты продвинулся со своими любезностями, когда был с нею на площадке? Ведь из той ниши, где я пряталась, мне было ничего не видно и не слышно. Прелестное место для влюбленных, правда? И время самое подходящее, согласись. Не сомневаюсь: сегодня над всеми звездами царит Венера.
Она проговорила все это спокойно, мягко и даже ласково, хоть речь ее была жестока, и в то же время так ядовито, что каждое слово жгло мне сердце, я вспыхнул от гнева и даже не мог дать ей сразу отповедь.
— Да, ты ничего не упустишь, — продолжала она жалить меня, видя мою растерянность, — сегодня целуешь уста, которые завтра от твоего кинжала смолкнут навеки! Все точно рассчитываешь и пользуешься удобным случаем — удивительно достойное и благородное поведение.
И тут я наконец обрел дар речи.
— Да как ты смеешь так клеветать на меня, ничтожная? — вскричал я. — Ты что, забыла, кто ты и кто я? Как ты посмела осыпать меня своими глупыми насмешками?
— Я помню, кем тебе надлежит быть, — тотчас же парировала она. — Кто ты сейчас, я не знаю. Это ведомо только тебе — тебе и Клеопатре.
— О чем ты говоришь? Разве я виноват, что царица…
— Царица? Вот как, у нашего фараона есть царица?
— Если Клеопатра пожелала прийти сюда ночью и поговорить со мной…
— О звездах, Гармахис, о звездах и о розах, больше ее ничего не интересует!
Что я ей на это ответил — не помню, ибо хоть я и был в смятении чувств, злой язык девушки и нежно-вкрадчивый голос привели меня в бешенство. Знаю только одно: я говорил с ней так сурово, что она испугалась, как испугалась в тот вечер, когда дядя Сепа поносил ее за греческое платье. И так же, как в тот вечер, залилась слезами, только сейчас она не плакала, а бурно рыдала.
Наконец я умолк, мне было стыдно, гнев не прошел, душу саднила обида. Ибо она хоть и рыдала, но время от времени отпускала шпильки — на редкость острые и ядовитые.
— Как можешь ты так со мной говорить! Это жестоко, это недостойно мужчины! Но я забыла: ведь ты же не мужчина, ты всего лишь жрец! Быть может, ты мужчина только с Клеопатрой!
— По какому праву ты оскорбляешь меня? Какой смысл скрывается в твоих словах?
— По какому праву? — спросила она, глядя на меня своими темными глазами, из которых по нежным щекам лились слезы, словно капли утренней росы из сердцевины лилии. — По какому праву? О, Гармахис, неужели ты совсем слеп? Неужели в самом деле не знаешь, по какому праву я так говорю с тобой? Что ж, тогда придется мне открыть тебе. В Александрии такое признание не считается преступлением. Так вот, это право — великое святое право женщины, право безграничной любви, которой я люблю тебя, Гармахис, и которой ты, судя по всему, совсем не замечаешь, — право моего счастья и моего позора. Ах, не гневайся на меня, Гармахис, не отворачивайся от меня, не считай легкомысленной женщиной, потому что с уст моих наконец-то сорвались слова признания, — я вовсе не легкомысленная. Я такова, какой ты пожелаешь меня сделать. Я — воск в руках скульптора, и что ты из него вылепишь, то и будет. В душе моей поднимается прибой добра и света, и если ты будешь моим кормчим, моим вожаком, он принесет меня в страну высоких духом и благородных, о которой я никогда и не мечтала. Но если я тебя потеряю, то потеряю узду, которая сдерживает все худшее во мне, и пусть тогда разобьется моя барка! Ты не знаешь меня, Гармахис, не подозреваешь, какие могучие силы противоборствуют в оболочке моего хрупкого тела! Для тебя я всего лишь заурядная женщина, хитрая, капризная, пустая. Поверь мне, это не так! Поделись со мной своими самыми возвышенными мыслями — и я их разделю, открой, какая неразгаданная тайна мучит твой ум, — я помогу тебе проникнуть в ее суть. Мы с тобой одной крови, и любовь сметет то малое, в чем мы разнимся, она поможет слиться нам в одно существо. У нас одна и та же цель, мы любим ту же землю, одной и той же клятвой поклялись. Прими меня в свое сердце, Гармахис, посади рядом с собой на трон Верхнего и Нижнего Египта, и клянусь — я вознесу тебя туда, куда не поднимался ни один из смертных. Но если ты отвергнешь меня, то горе тебе, ибо я низвергну тебя во прах! Итак, я открылась тебе, презрев наши обычаи, преступив свою девичью сдержанность и скромность, меня толкнула на этот дерзкий поступок прекрасная царица Клеопатра, это живое воплощение коварства, которая ради забавы решила покорить своими уловками глупого астронома Гармахиса. Теперь ответь мне ты, я жду. — Она сжала руки и, сделав один единственный шаг ко мне, впилась взглядом в мое лицо, бледная, как полотно, дрожащая.
Я словно онемел, ибо, вопреки всему, ее чарующий голос и ее страстная речь растрогали меня и взволновали, точно переворачивающая душу музыка. Если бы я любил эту женщину, меня, без Сомнения, зажгло бы ее пламя; но я не чувствовал к ней и тени любви, а вызвать страсть разумом не мог. И в голове у меня замелькали разные картины, почему-то вдруг стало смешно, как случается с человеком, у которого нервы напряжены до предела. Я мысленно увидел себя вечером на пиру, когда она нахлобучила мне на голову венок из роз. Потом вспомнился ее шарф, который я выбросил с платформы башни. Я представил Хармиану в нише, где она пряталась, наблюдая за уловками — как она их называла — Клеопатры, услышал ее жалящие речи. И наконец, я подумал: интересно, а что сказал бы дядя Сепа, если бы увидел и услышал ее сейчас, что он сказал бы о странном, запутанном положении, в котором я очутился, словно в ловушку попал? И я расхохотался — глупец, этим смехом я обрек себя на гибель!
Она еще больше побледнела, лицо стало серым, как у мертвой, и на нем появилось выражение, убившее мое дурацкое веселье.
— Так, стало быть, Гармахис, — проговорила она тихо, срывающимся голосом и глядя в пол, — мои слова всего лишь позабавили тебя?
— Нет, Хармиана, нет, — ответил я, — прости мне этот глупый смех. Ведь я смеялся от отчаяния: что я могу сказать тебе? Ты говорила так взволнованно и так возвышенно о том, что ты способна сделать, — мне ли рассказывать тебе о тебе самой?
Она вся сжалась, и я умолк.
— Продолжай, — прошептала она.
— Ты знаешь, и знаешь лучше многих, кто я и что я должен выполнить; ты также знаешь, что я посвящен Исиде и что божественный закон не позволяет мне даже думать о любви к тебе.
— Конечно, — прервала она меня все так же тихо и по-прежнему не отрывая глаз от пола, — конечно, я все знаю, и знаю также, что ты нарушил свои клятвы, — если не действием, то в душе, — они растаяли, как корона облаков в небе: Гармахис, ты любишь Клеопатру!
— Ложь! — вскричал я. — Распутница, ты хочешь соблазнить меня и вынудить предать мой долг, покрыть себе в глазах Египта несмываемым позором! Поддавшись страсти, честолюбию, а может быть, вдохновленная жаждой творить зло, ты не постыдилась преступить запреты, налагаемые девичьим целомудрием, и призналась мне в любви! Берегись, если ты зайдешь слишком далеко! Ты хотела, чтобы я тебе ответил? Что ж, я отвечу так же откровенно, как ты спросила. Хармиана, меня связывает с тобой только мой долг перед страной и принесенные мной клятвы — больше ничего! Сколько бы ты ни пыталась заворожить меня своими нежными взглядами, сердце мое не забьется быстрее. И я даже не питаю к тебе дружеских чувств, ибо отныне не доверяю тебе. Но предупреждаю тебя еще раз: берегись! Мне ты можешь вредить сколько тебе вздумается, но если ты посмеешь причинить хоть самое малое зло нашему святому делу, знай — ты умрешь! Я все сказал. Игра кончена.
Я был вне себе от гнева, и, слушая меня, она отступала, отступала все дальше и наконец прижалась к стене и закрыла лицо руками. Но вот я умолк, и ее руки упали, она взглянула на меня, но лицо у нее было неподвижное, как у статуи, только огромные глаза горели, точно два угля, окруженные фиолетовыми тенями.
— Да, игра кончена, — проговорила она тихо, — осталось лишь посыпать песком арену. — Это она вспомнила, что после гладиаторских боев пролитую кровь засыпают мелким песком. — Ну что ж, — продолжала она, — не стоит тебе тратить свой гнев на столь презренное создание. Я бросила кости и проиграла. Vae victis! О, vae victis!
[210] Дай мне свой кинжал, тот, что ты прячешь в складках одежды на груди, и я сейчас же, не медля ни минуты, избавлюсь от позора! Не даешь? Тогда хоть выслушай меня, о царственный Гармахис: забудь слова, что я произнесла, молю тебя, и никогда меня не бойся. Я так же верно, как и прежде, служу тебе и нашему общему делу. Прощай!
Она побрела прочь, цепляясь рукой за стену. А я, уйдя к себе в спальню, упал на ложе и застонал от муки. Увы, мы строим планы и медленно возводим дом нашей надежды, не зная, каких гостей приведет в этот дом Время. Кто, кто из нас способен предвидеть непредвиденное?
Наконец я заснул, и всю ночь мне снились дурные сны. Когда я пробудился, в окно уже лился свет дня, который увидит исполнение наших кровавых замыслов, в саду средь пальм радостно заливались птицы. Да, я проснулся, и в тот же миг меня пронзило предчувствие беды, ибо я вспомнил, что, прежде чем нынешний день канет в вечность, я должен буду обагрить руки в крови — в крови Клеопатры, которая верит мне и считает своим другом! Я должен ее ненавидеть, почему же у меня нет ненависти к ней? Когда-то я смотрел на этот акт мести и как на высокий подвиг и жаждал совершить его. А сейчас… сейчас… признаюсь честно: я с радостью бы отказался от своего царского происхождения, лишь бы меня избавили от этой тягостной обязанности. Но увы, я знал, что избавления мне нет. Я должен испить чашу до дна, иначе я навек покрою себя позором. Я чувствовал, что за мной наблюдают глаза Египта, глаза всех его богов. Я молился моей небесной матери Исиде, прося ниспослать мне сил, чтобы я мог совершить это деяние, молился с таким жаром, какой никогда не вкладывал в мои молитвы, но странно — она не отзывалась на мой призыв. Почему? Что произошло? Кто разорвал нить, связующую нас, как случилось, что в первый раз в жизни богиня не пожелала услышать своего любимого сына и верного слугу? Неужели я согрешил против нее в своем сердце? Что там такое болтала Хармиана — что я люблю Клеопатру? Неужели эта моя мука — любовь? Нет, тысячу раз нет! Это лишь естественный протест природы против предательства и кровопролития. Богиня просто решила испытать мои силы, или, может быть, она тоже отвращает свой благой животворящий лик от тех, кто замышляет убийство?
Я встал, содрогаясь от ужаса и отчаяния, и начал заниматься делами, но это был как бы не я. Я выучил наизусть все имена в роковых списках, повторил в уме последовательность действий, более того, я даже мысленно составил обращение фараона к его подданным, которым завтра я поражу весь мир.
— Граждане Александрии и жители страны Египет, — так начиналось это обращение, — волею богов Клеопатру из династии Македонских Лагидов постигла кара за ее преступления…
Я продолжал трудиться, но делал все как бы во сне, словно у меня не было ни воли, не желаний, а мною двигали какие-то неведомые мне силы. Время летело. В третьем часу пополудни я пришел, как было условлено, в дом к дяде Сепа — в тот самый дом, куда я впервые вступил три месяца назад, вечером, когда приплыл в Александрию. Там уже тайно собрались на совет вожди, которые должны возглавить восставших в Александрии; всего их было семь, когда я вошел и двери комнаты замкнули, они простерлись предо мною ниц, восклицая: «Желаем здравствовать, наш фараон!» Но я попросил их встать и сказал, что я пока не фараон, я тот самый птенец, который еще не вылупился из яйца.
— Верно, царевич, — засмеялся дядя, — но клюв птенца уже пробил скорлупу. Если ты сегодня ночью сумеешь нанести этот удар кинжалом, значит, не зря Египет высиживал птенца все эти долгие годы. Да и что может тебе помешать? Мы идем прямо к победе, никто нас не остановит!
— Все в воле богов, — ответствовал я.
— Нет, — возразил он, боги поручили этот подвиг воле смертного — твоей воле, Гармахис, а твоя воля непоколебима. Смотри, вот еще несколько списков. В нашу поддержку поклялись выступить тридцать одна тысяча вооруженных воинов, как только до них дойдет весть о смерти Клеопатры и о твоей коронации. Через пять дней все цитадели Египта будут в наших руках, и тогда чего нам бояться? Рим нам не страшен, ему бы разобраться в своих собственных делах; к тому же мы заключим союз с триумвиратом и, если нужно, откупимся от него. Денег в стране довольно, а если потребуется еще, ты знаешь, Гармахис, где их добыть, они хранятся в тайном месте на черный день для нужд Кемета, и римлянам они вовеки недоступны. Кто может причинить нам зло? Никто. Возможно, в этом ненадежном городе начнется борьба, возможно, существует еще один заговор, участники которого хотя привезти в Египет Арсиною и посадить на трон ее. Тогда с Александрией придется поступить жестоко и даже, если нужно, разрушить ее. Что до Арсинои, то завтра, после того, как станет известно, что царица умерла, мы изберем людей, которые тайно умертвят ее.
— Но остается мальчик, Цезарион, — заметил я. — Он — наследник Клеопатры, и римляне могут заявить, что Египет принадлежит им, раз им правит сын Цезаря. Тут кроется огромная опасность.
— Опасности нет никакой, — возразил дядя, — завтра Цезарион встретится в Аменти с теми, кто его родил на свет. Я уже об этом позаботился. Род Птолемеев должен быть
выкорчеван, чтобы корни этого проклятого богами древа не дали больше ни одного ростка.
— А нельзя обойтись без убийств? — печально спросил я. — Мне тягостно думать об этих потоках крови. Я хорошо знаю мальчика: он унаследовал красоту и одухотворенность Клеопатры и Цезарев великий ум. Умертвить его было бы преступление.
— Что за малодушие, Гармахис? Я не узнаю тебя, — сурово сказал дядя. — Откуда эта жалость? Если мальчик и вправду таков, как ты его описываешь, тем больше оснований с ним покончить. Неужто ты хочешь оставить жизнь львенку, который вырастет в могучего льва и столкнет тебя с трона?
— Что ж, пусть будет так, — ответил я со вздохом. — по крайней мере, он избегнет многих страданий и вступит в Аменти, не совершив зла. Обсудим теперь последовательность действий.
Мы долго сидели и обсуждали, как и в каком случае лучше поступить, и наконец, проникшись важностью минуты и сознанием нашей высокой цели, я почувствовал, как сердце мое оживляется, хоть и не прежним воодушевлением. Но вот все было условлено и обговорено, мы предусмотрели все мелочи и исключили возможность неудачи; решили даже, что если непредвиденные обстоятельства помешают мне убить Клеопатру сегодня ночью, мы подождем до завтра и тогда уж начнем действовать, ибо смерть Клеопатры должна послужить сигналом к выступлению по всей стране. Закончив совет, мы снова встали и, возложив руки на священный символ, поклялись клятвой, которую мне не позволено здесь начертать. Дядя поцеловал меня, в его черных живых глазах сверкали слезы радости и надежды. Он благословил меня и сказал, что счел бы счастьем отдать свою жизнь — тысячу жизней, если бы они у него были, — только бы увидеть Египет свободным, как прежде, а меня, Гармахиса, потомка его древних фараонов, возвести на престол. Он истинно и бескорыстно любил нашу отчизну и отдавал все силы ее возрождению. Я тоже поцеловал его, и мы расстались. Никогда больше я не встретился с ним в этом мире, а в том, другом, он вкушает покой среди полей Иалу, покой, в котором будет отказано мне.
Я покинул его дом и, поскольку было еще рано, быстро зашагал по улицам огромного города, осматривая все ворота, за которыми должны были собраться наши воины. В конце концов я пришел в порт, на набережную, где я сошел с барки, когда приплыл в Александрию, и увидел в открытом море судно. На сердце у меня было так тяжело, что я не мог оторвать от него глаз и мечтал лишь об одном: оказаться бы мне сейчас на этой барке и пусть ее белые паруса унесут меня на край света, где я стану жить, никому не ведомый, а потом умру, и все меня забудут. Потом я увидел еще одно судно, которое приплыло сюда по Нилу, с него на набережную спускались путешественники. С минуту я стоял и праздно их разглядывал, мелькнула мысль, не из Абидоса ли эти люди, как вдруг возле меня раздался знакомый голос:
— Ах-ха-ха-ах! Ну и город, такой старухе, как я, здесь делать нечего. Да разве я найду в эдаком столпотворении друзей, к которым приехала? Это все равно что искать в свитке папируса тростник, из которого он сделан. А ты, мошенник проваливай! Не трогай мою корзину с целебными травами, не то, клянусь богами, я с их помощью нашлю на тебя злую хворь!
Я в изумлении оглянулся — передо мной лицом к лицу стояла моя няня, старая Атуа. Она тотчас же узнала меня, ибо вздрогнула, это не укрылось от моих глаз, однако же вокруг был народ, и она не показала удивления.
— Мой добрый господин, — опасливо проговорила она, обращая ко мне свое морщинистое лицо и сделав рукой условный тайный знак, — мой добрый господин, судя по платью, ты астроном, мне строго наказали держаться от астрономов как можно дальше, ибо все они лгуны и дешевые шарлатаны, поклоняются только своей собственной звезде; и потому я, как истинная женщина, поступаю наоборот и прошу тебя помочь мне. Я уверена: в этой Александрии, где все не так, как у людей, астрономы наверняка единственные, кому можно доверять, а все остальные — обманщики и воры. — И прошептала, потому что мы отошли от плотной толпы и никто нас теперь не слышал: — Мой царственный Гармахис, я привезла тебе весть от твоего отца Аменемхета.
— Здоров ли он? — спросил я.
— Да, он здоров, но ожидание великого события отнимает у него силы.
— А что за весть он послал мне с тобой?
— Сейчас услышишь. Он шлет тебе свою любовь и благословение и просит передать, что над тобой нависла грозная опасность, хотя какая именно — он не мог разгадать. Вот слова, которые он произнес: «Будь тверд, и ты восторжествуешь».
Я опустил голову, ибо от этих слов мое сердце опять похолодело и в страхе сжалось.
— Когда все должно произойти? — спросила она.
— Сегодня ночью. Куда ты направляешься?
— В дом благородного Сепа, жреца из Ана. Ты можешь проводить меня к нему?
— Нет, мне больше нельзя задерживаться; да и не — надо, чтобы нас видели вместе. Эй, поди сюда! — крикнул я носильщику, который болтался без дела, и, дав ему денег, велел отвести старуху к дому дяди Сепа.
— Прощай, — шепнул она, — прощай же до завтра. Будь тверд, и ты восторжествуешь.
Я побрел по запруженным людьми улицам, причем все расступались передо мной, ибо слава моя была велика.
Я шел, и мне слышалось, будто подошвы моих сандалий отбивают: «Будь тверд… Будь тверд… Будь тверд…», а потом стало казаться, что это сама земля предостерегает меня.
Глава VII, повествующая о загадочных речах Хармианы; о появлении Гармахиса в покоях Клеопатры и о его поражении
Наступил вечер, я сидел один в своей обсерватории и ждал Хармиану, которая, как уговорено, должна была прийти за мной и отвести в покои Клеопатры. Да, я сидел один, и передо мною лежал кинжал, который должен был пронизить сердце царицы. Лезвие было длинное и острое, а рукоятка в виде сфинкса, из чистого золота. Я сидел один и молил богов открыть мне будущее, но боги молчали. Наконец я поднял глаза и увидел, что возле меня стоит Хармиана — не та кокетливая и искрящаяся весельем, какой я ее всегда знал, но бледная, с пустым взглядом.
— Царственный Гармахис, — произнесла она, — Клеопатра призывает тебя к себе, она желает знать, что предвещают звезды.
Так вот он, час моей судьбы!
— Я иду, Хармиана, — ответил я. — Все ли подготовлено?
— Да, господин мой, все подготовлено: Павел выпил чуть не бочку вина и стоит у ворот, двое евнухов ушли, остался только один, легионеры спят, а Сепа и его отряд уже собрались в условленном месте, неподалеку от восточных ворот. Мы не упустили ни одну мелочь, и царица Клеопатра так же не подозревает об уготованной ей роковой участи, как не ждет смерти овечка, которая резво бежит на бойню.
— Что ж, хорошо, — проговорил я, — пойдем же. — И, встав, положил кинжал себе за пазуху. Потом взял кубок с вином, что стоял на столе, и осушил его до дна, ибо весь день я почти ничего не ел и не пил.
— Подожди, я хочу тебе сказать… — волнуясь, начала Хармиана. — У нас еще есть время. Вчера ночью… вчера ночью… — грудь ее судорожно вздымалась, — мне приснился сон, который неотступно преследует меня; и тебе тоже, мне кажется, снился сон. Все это было всего лишь сон, давай же его забудем, согласен, господин мой?
— Да, да, конечно, — ответил я, — не понимаю, зачем ты отвлекаешь меня такими пустяками в столь важный час.
— Прости, сама не знаю; но сегодня ночью, Гармахис, Судьба должна разрешиться великими событиями, и, корчась в родовых муках, она может раздавить меня… или тебя, Гармахис, а может быть, нас обоих. И если нам суждено погибнуть, я бы хотела услышать от тебя, пока еще жива, что то был всего лишь сон и ты его забыл…
— Да, все и вся в этом мире сон, — думая о своем, проговорил я, — и ты сон, и я, и наша земная твердь, и эта ночь невыразимого ужаса, и этот острый нож — разве все это нам не снится? И каким станет мир, когда мы проснемся?
— Ну вот, мой царственный Гармахис, теперь ты тоже проникся моим настроением. Как ты сказал, все в этой жизни сон; и он на наших глазах меняется. Видения, которые нам являются, удивительны, они не стоят на месте, но плывут, точно облака на закатном небе, то громоздятся горами, то тают; то темнеют, словно наливаясь свинцом, то горят в золотом сиянии. Поэтому до того, как мы проснемся завтра, скажи мне одно только слово. Тот сон, что привиделся нам прошлой ночью, в котором я, как мне вспоминается, словно бы опозорила себя, а ты — ты словно бы смеялся над моим позором, так вот — его лик запечатлелся в твоей памяти неизгладимо или, может быть, он вдруг способен измениться? Помни: как бы причудливы и фантастичны ни были наши сны, но после пробуждения их образы пребудут с нами, вечные и неизменные, как пирамиды. Они останутся в той недоступной переменам области прошлого, где все великое и малое — и даже наши сны, Гармахис, — застывает в своем собственном обличье, как бы обращаясь в камень, и из них воздвигается гробница Времени, которое бессмертно.
— Прости меня Хармиана, — ответил я, — мне больно, если я огорчу тебя, но то видение не изменилось. Вчера я был с тобою откровенен, и сейчас ничего иного сказать не могу. Я люблю тебя как сестру, как друга, но ты не можешь быть для меня ничем другим.
— Ну что ж, благодарю тебя. Забудем все, что было. Забудем о прошлых снах — пусть теперь снятся нам другие. — И она улыбнулась очень странной улыбкой, я никогда раньше не видел такой на ее лице: в ней было больше пророческой печали, чем на лбу страдальца, которого отметил своей печатью Рок.
Я был глуп и потому слеп, я был поглощен скорбью моего собственного сердца и потому не понял, что, улыбаясь этой улыбкой, египтянка Хармиана прощалась со счастьем, с юностью; надежда на любовь исчезла, Хармиана презрела священные узы долга. Этой улыбкой она предала себя Злу, отринула свою отчизну и богов, преступила священную клятву. Да, в тот самый миг улыбка этой девушки изменила ход истории. И если бы она не мелькнула на лице Хармианы, Октавиан не стал бы владыкой мира, а Египет вновь обрел бы свободу и возродился великим и могучим.
И все это решила женская улыбка!
— Почему ты так странно смотришь на меня, Хармиана? — спросил я.
— Случается, мы улыбаемся во сне, — ответила она. — А вот теперь действительно пора; следуй за мной. Исполнись решимости, и ты восторжествуешь, царственный Гармахис! — И, склонившись передо мной, он взяла мою руку и поцеловала. Потом, бросив на меня еще один непостижимый взгляд, стала спускаться вниз по лестнице и повела по пустым залам дворца.
В чертоге, потолок которого поддерживают колонны из черного мрамора и который называется Алебастровым Залом, мы остановились. Дальше начинались покои Клеопатры, те самые, в которых я впервые увидел ее спящей.
— Подожди меня здесь, — сказала Хармиана, — а я доложу Клеопатре, что ты явился. — И она скользнула прочь.
Долго я стоял, может быть, полчаса, считая удары своего сердца, я был словно во сне и все пытался собрать силы, чтобы совершить то, что мне предстояло.
Наконец появилась Хармиана, она ступала тяжело, голова была низко опущена.
— Клеопатра ожидает тебя, — сказала она, — входи, стражи нет.
— Где я тебя найду, когда все будет кончено? — хрипло спросил я ее.
— Ты найдешь меня здесь, а потом мы пойдем к Павлу. Исполнись решимости, и ты восторжествуешь. Прощай, Гармахис!
И я пошел к покоям Клеопатры, но возле занавеса вдруг обернулся и в этом пустом, освещенном светильником зале увидел странную картину. Далеко от меня, подле самого светильника, в бьющих прямо в нее лучах стояла Хармиана, откинув назад голову и заломив руки, и ее юное лицо было искажено мукой такой гибельной страсти, что описать ее я не могу. Ибо она была уверена, что я, ее любимый, самое дорогое, что у нее есть на свете, иду на смерть и она прощается со мной навек.
Но ничего этого я тогда не знал; и, еще раз болезненно и мимолетно удивившись, откинул занавес, переступил порог и оказался в покое Клеопатры. Там, в дальнем углу благоухающего покоя, на шелковом ложе возлежала в роскошном белом одеянии царица. В руке у нее было опахало из страусовых перьев с ручкой, усыпанной драгоценными камнями, и она томными движениями овевала себя; возле ложа стояла ее арфа слоновой кости и столик, а на столике блюдо с инжиром, два кубка и графин рубинового вина. Я медленно приближался сквозь мягкий приглушенный свет к ложу, на котором во всей своей слепящей красоте лежала Клеопатра, это чудо света. Да, поистине, никогда она не была столь прекрасна, как в ту роковую ночь. Среди шелковых, янтарного цвета подушек она казалась как бы звездой на золотом закатном небе. От ее волос и одежд исходило благоухание, голос звучал чарующей музыкой, в синих сумеречных глазах мерцали и вспыхивали огни, точно в недобрых опалах.
И эту женщину я должен сейчас убить!
Я медленно шел к ней, потом поклонился, но она меня не замечала. Она лежала среди шелков, и ее украшенное драгоценностями опахало осеняло ее, точно яркое крыло парящей птицы.
Наконец я остановился возле ложа, и она подняла на меня глаза, а страусовыми перьями прикрыла грудь, словно желая скрыть ее красоту.
— А, это ты, мой друг? Ты пришел, — пропела она. — Я рада тебе, мне было так одиноко. В каком печальном мире мы живем! Вокруг нас столько лиц, и как же мало тех, кого хочется видеть. Что ты стоишь, как изваяние, присядь. — И она указала своим опахалом на резное кресло у изножья своего ложа.
Я снова поклонился и сел в кресло.
— Я выполнил повеление царицы, — начал я, — и со всем тщанием и всем искусством, которое мне подвластно, прочел предначертание звезд; вот записи, что я составил после всех моих трудов. Если царица позволит, я растолкую ей звездный гороскоп. — И я поднялся, чтобы склониться над ней сзади и, когда она будет читать папирус, вонзить кинжал ей в спину.
— Не надо, Гармахис, — спокойно проговорила она, улыбаясь своей томительной, обвораживающей улыбкой. — Не вставай, дай мне только свои записи. Клянусь Сераписом, твое лицо слишком красиво, я хочу смотреть на него, не отрывая глаз!
Она разрушила наш замысел, и мне не оставалось ничего другого, как отдать ей папирус, и, отдавая, я подумал про себя, что вот сейчас она начнет смотреть его, а я неожиданно брошусь на нее и убью, вонзив кинжал в сердце. Она взяла папирус и при этом коснулась моей руки. Потом сделала вид, что читает предсказание, но сама и не взглянула в него, она из-под ресниц внимательно глядела на меня, я это видел.
— Почему ты прижимаешь руку к груди? — через минуту спросила она, ибо я действительно сжимал рукоять кинжала. — У тебя болит сердце?
— Да, о царица, — прошептал я, — оно вот-вот разорвется.
Она ничего не ответила, но снова притворилась, что читает предсказание, хотя сама не спускала с меня глаз.
Мысли мои лихорадочно метались. Как совершить это омерзительное преступление? Броситься на нее с кинжалом сейчас? Она увидит, начнет кричать, бороться. Нет, надо дождаться удобного случая.
— Так, стало быть, Гармахис, звезды нам благоприятствуют? — спросила она наконец, вероятно, просто по наитию.
— Да, моя царица.
— Великолепно. — И она бросила папирус на мраморный столик. — Значит, барки на рассвете отплывут. Победой это кончится или поражением, но мне смертельно надоело плести интриги.
— Это очень сложная схема, о царица, — возразил я, — мне хотелось объяснить тебе, какие знамения я положил в основу гороскопа.
— Нет, мой Гармахис, благодарю, не надо; мне недоели причуды звезд. Ты составил предсказание, мне и довольно; ты честный человек, и, стало быть, твое предсказание правдиво. Поэтому не объясняй мне ничего, давай лучше веселиться. Что мы будем делать? Могу сплясать тебе — никто не сравниться со мной в искусстве танца! Но нет, пожалуй, это недостойно царицы! Придумала: я буду петь! — Она села на ложе, спустила ноги, притянула к себе арфу и несколько раз пробежала по ее струнам пальцами, потом запела своим низким, бархатным голосом прекрасную песнь любви:
Благоуханна ночь, так тихо плещет море,
И музыкой сердца наши полны.
Баюкают нас волны,
Вздыхает ветер, целуя нежно кудри.
Ты глаз с меня не сводишь,
Ты шепчешь: «О прекрасная!»
И песнь любви, песнь счастья и восторга
Летит из сердца твоего:
«Сверкают звезды в вышине,
Дробится свет их в глубине,
Скользит ладья среди миров,
И кружатся светила,
Подвластны высшей воле.
Подвластно высшей воле,
Стремится твое сердце к моему.
Лишь время неподвижно.
Несет нас Жизнь
Меж берегами Смерти,
Куда — не ведаем,
А прошлое забыто.
Как высоко и недоступно небо,
Как холодны глубины океана.
Где память о любивших прежде нас?
Моя возлюбленная, поцелуй меня!
Как одинок наш, путь средь океана.
Хрупка наша ладья,
Под ней — бездонная пучина.
О, сколько в ней надежд погребено!
Оставь же весла,
Не борись с волнами,
Пусть нас несет теченье, куда хочет.
Моя возлюбленная, поцелуй меня!»
Меня зачаровала твоя песня.
Вот ты умолк, а сердце -
Сердце бьется в лад с твоим.
Прочь, страх, прочь, все сомненья,
Страсть, ты воспламенила мою душу!
Приди ко мне, я жажду поцелуев!
Любимый, о любимый, забудем все,
Есть только ночь, есть звездный свет и мы!
Замерли последние звуки ее выразительного голоса, заполнившего спальню, но в моем сердце они продолжали звучать. Среди певиц Абидоса я слышал более искусных, с более сильным голосом, но ни один не проникал так глубоко в душу, не завораживал такой нежностью и страстью. Чудо творил не один ее голос — меня словно переносил в сказку благоухающий покой, где было все, что чарует наши чувства; я не мог противостоять страсти и мудрости переложенных на музыку стихов, не мог противостоять всепобеждающему обаянию и грации царственнейшей из женщин, которая их пела. Ибо когда она пела, мне казалось, что мы плывем с ней вдвоем под пологом ночи по летнему морю в игольчатых отражениях звезд. И когда струны арфы смолкли, а она с последним призывом песни, трепещущим на ее устах, поднялась и, вдруг протянув ко мне руки, устремила в мои глаза взгляд своих изумительных глаз, меня повлекло к ней непреодолимой силой. Но я вовремя опомнился и остался в кресле.
— Так что же, Гармахис, ты даже не хочешь поблагодарить меня за мое безыскусное пение? — наконец спросила она.
— О царица, — еле слышно прошептал я, ибо голос не повиновался мне, — сыновьям смертных не должно слушать твои песни! Они привели меня в такое смятение, что я почувствовал страх.
— Ну что ты, Гармахис, уж тебе-то нечего опасаться, — проговорила она с журчащим смехом, — ведь я знаю, как далеки твои помыслы от красоты женщин и как чужды тебе слабости мужчин. С холодным железом можно спокойно забавляться, ему ничего не грозит.
Я подумал про себя, что самое холодное железо можно раскалить добела, если положить его в жаркий огонь, однако ничего не сказал и, хотя мои руки дрожали, снова сжал рукоятку смертоносного оружия; меня приводила в ужас моя нерешительность, нужно скорее, пока я окончательно не потерял рассудок, придумать, как же все-таки убить ее.
— Подойди ко мне, — с негой в голосе продолжала она. — Подойди, сядь рядом, и будем разговаривать; мне столько нужно тебе сказать. — И она подвинулась на своем шелковом ложе, освобождая для меня место.
Я подумал, что теперь мне будет гораздо легче нанести удар, поднялся с кресла и сел на ложе чуть поодаль от нее, а она откинула назад голову и поглядела на меня своими дремотно-томными очами.
Ну вот, сейчас я все свершу, ее обнаженная шея и грудь прямо передо мной, я снова поднял руку и хотел выхватить спрятанный под хитоном кинжал. Но она быстрее молнии поймала мою руку и нежно сжала своими белыми пальчиками.
— Какое у тебя странное лицо, Гармахис! — сказала она. — Тебе нехорошо?
— Да, ты права, мне кажется, я сейчас умру! — задыхаясь, прошептал я.
— Тогда откинься на подушки и отдохни, — ответила она, не выпуская моей руки, от чего я лишился последних сил. — Припадок скоро пройдет. Ты слишком долго трудился в своей обсерватории. Какой ласковый ночной ветерок веет в окно, принося с собой аромат лилий! Прислушайся к плеску волн, набегающих на скалы, они нам что-то шепчут, тихо-тихо, и все же заглушают журчание фонтана. Послушай пенье Филомелы; как искренне, с какой негой рассказывает она возлюбленному о своей любви! Поистине, волшебно хороша нынешняя ночь, наполненная дивной музыкой природы, хором тысяч голосов, в котором голоса дерев и птиц, седых волн океана и ветра сливаются в божественной гармонии. Знаешь, Гармахис, мне кажется, я разгадала одну из твоих тайн. В твоих жилах течет вовсе не кровь простолюдинов — ты тоже царского происхождения. Столь благородный росток могло дать лишь древо царей. Ты что, увидел священный листок на моей груди? Он выколот в честь величайшего из богов, Осириса, которого я чту так же, как и ты. Вот, смотри же!
— Пусти меня, — простонал я, порываясь встать, но силы меня оставили.
— Нет, подожди, неужели ты хочешь уйти? Побудь со мной еще, прошу тебя. Гармахис, неужели ты никогда не любил?
— Нет, о царица, никогда! Любовь не для меня, такое и представить невозможно. Пусти меня! Я больше не могу… Мне дурно…
— Чтобы мужчина никогда не любил — боги, это непостижимо! Никогда не слышал, как сердце женщины бьется в такт с твоим, никогда не видел, как глаза возлюбленной увлажняются слезами страсти, когда она шепчет слова признания, прижавшись к твоей груди! Ты никогда не любил! Никогда не тонул в пучине женской души, не чувствовал, что Природа может помочь нам преодолеть наше безбрежное одиночество, ибо, пойманные золотой сетью любви, два существа сливаются в неразделимое целое! Великие боги, да ты никогда не жил, Гармахис!
Шепча эти слова, она придвинулась ко мне, потом с глубоким страстным вздохом обняла одной рукой и, вперив в меня синие бездонные глаза, улыбнулась своей таинственной, томительной улыбкой, в которой, как в распускающемся цветке, была заключена вся красота мира. Ее царственная грудь прижималась к моей все крепче, все нежнее, от ее сладостного дыхания у меня кружилась голова, и вот ее губы прижались к моим.
О, горе мне! Этот поцелуй, более роковой и неодолимый, чем объятье Смерти, заставил меня позабыть Исиду — мою небесную надежду, клятвы, которые я приносил, мою честь, мою страну, друзей, весь мир, — я помнил лишь, что меня ласкает Клеопатра и называет своим возлюбленным и повелителем.
— А теперь выпей за меня, — шепнула она, — выпей кубок вина в знак того, что ты меня любишь.
Я поднял кубок с питьем и осушил до дна и лишь потом понял, что вино отравлено.
Я упал на ложе и, хоть был еще в сознании, не мог произнести ни слова, не мог даже шевельнуть рукой.
А Клеопатра склонилась ко мне и вынула кинжал из складок одежды на груди.
— Я выиграла! — крикнула она, откидывая назад свои длинные волосы. — Да, выиграла! А ставка в этой игре была — Египет, и, клянусь богами, игру стоило вести! Значит вот этим кинжалом, мой царственный соперник, ты собирался убить меня, а твои приверженцы до сих пор ждут, собравшись у ворот моего дворца? Ты еще не заснул? Скажи, а почему бы мне не вонзить этот кинжал в твое сердце?
Я слышал, что она говорит, и вялым, бессильным движением указал на свою грудь, ибо жаждал смерти. Она величественно выпрямилась, занесла руку, в ней сверкнул кинжал. Вот кинжал опустился, его кончик кольнул мне грудь.
— Нет! — снова воскликнула она. — Ты мне слишком нравишься. Жаль убивать такого красивого мужчину. Дарую тебе жизнь. Живи, потерявший престол фараон! Живи, бедный павший царевич, которого обвела вокруг пальца женщина! Живи, Гармахис, чтобы украсить мое торжество!
Больше я ничего не видел, хотя в ушах раздавалось пенье соловья, слышался ропот моря, победной музыкой лился смех Клеопатры. Сознание отлетало, я погружался в царство сна, но меня провожал ее хрипловатый смех — он прошел со мной через всю жизнь и теперь провожает в смерть.
Глава VIII, повествующая о пробуждении Гармахиса; о трупе у его ложа, о приходе Клеопатры и о словах утешения, которые она произнесла
Я снова проснулся и снова увидел, что я в своей комнате. Меня так и подбросило. Что же, стало быть, мне тоже приснился сон? Ну конечно же, конечно, мне все это приснилось! Не мог я, в самом деле, совершить предательство! Не мог навсегда потерять нашу единственную возможность! Не мог предать наше великое дело, не мог бросить на произвол судьбы храбрецов, во главе которых стоял мой дядя Сепа! Неужели они напрасно ждали у восточных ворот дворца? Неужели весь Египет до сих пор ждет — и ждет напрасно? Нет, все, что угодно, но это немыслимо! Мне просто приснился кошмар, если такой приснится еще раз, сердце у человека разорвется. Лучше умереть, чем увидеть подобный ужас, который наслали на меня силы зла. Да, да, конечно, все это лишь чудовищное видение, рожденное измученным воображением, однако где я? Где я сейчас? Я должен быть в Алебастровом Зале и ждать, когда ко мне выйдет Хармиана.
Но это не Алебастровый Зал, и, боги великие, что это за страшная груда лежит возле изножья ложа, на котором, я кажется, спал, — что-то зловеще напоминающее человека, завернутое в белую окровавленную ткань?
С пронзительным воплем я прыгнул на эту груду, как лев, и изо всех сил нанес по ней удар. Под его тяжестью груда перевернулась на бок. Обезумев от ужаса, я сорвал белую ткань: согнутый пополам, с коленями, подтянутыми к отвисшей челюсти, лежал голый труп мужчины, и труп этот был начальник стражи римлянин Павел. Он лежал передо мной, и в сердце у него был кинжал, — мой кинжал, с золотой рукояткой в виде сфинкса! — а лезвие прижимало к его могучей груди кусок папируса, на котором было что-то написано латинскими буквами. Я наклонился и прочел:
HARMACHIDI * SALVERS * EGO * SUM * QUEM
SUBDERE * MORAS * PAULUS * ROMANUS
DISCE * HINC * QUID * PRODERE * PROSIT.
«Приветствую тебя, Гармахис! Я был тот самый римлянин Павел, которого ты подкупил. Узнай, какая жалкая судьба ждет предателей!»
На меня нахлынула дурнота, я, шатаясь, стал пятиться от трупа, который был весь в пятнах запекшейся крови. Я пятился, шатаясь, пока не наткнулся на стенку, и замер возле нее, а за окном пели птицы, весело приветствуя день. Стало быть, это был не сон, и я погиб, погиб, погиб!
Я подумал о моем старом отце Аменемхете. Но тут же меня пронзил страх, что он умрет, когда узнает, что сын его покрыл себя позором и погубил его надежды. Подумал о преданном отчизне жреце, моем любимом дяде Сепа, который всю долгую нынешнюю ночь ждал сигнала, но так и не дождался! И сердце мое опять сжалось: что будет с ним и со всеми нашими сторонниками? Ведь я оказался не единственным предателем — меня тоже кто-то предал. Кто это был? Быть может, мертвый Павел. Однако, если предал Павел, он ничего не знал о заговорщиках, которые трудились со мною заодно! Но тайные списки были у меня на груди, в моей одежде… О Осирис, они исчезли! Всех, кто жаждал возрождения Египта, ждет судьба Павла. Эта мысль поразила меня, как удар. Я медленно сполз на пол, чувствуя, что теряю сознание.
Когда я очнулся, то по теням догадался, что уже полдень. Я кое-как поднялся; труп Павла лежал на том же месте, как бы неся свою зловещую вахту. Я в отчаянии бросился к двери. Она была заперта, снаружи раздавались тяжелые шаги стражей. Они спросили у кого-то пароль, потом я услышал, как стукнули о пол древки копий. Запоры отомкнули, дверь открылась, и в комнату вошла сияющая, в парадном царском одеянии, победительная Клеопатра. Вошла одна, и дверь за ней закрылась. Я стоял как громом пораженный, а она легким шагом приблизилась ко мне и встала рядом.
— Приветствую тебя, Гармахис, — проворковала она, улыбаясь. — Стало быть, мой вестник нашел тебя! — И она указала на труп Павла. — Фи, как он безобразен. Эй, стражи!
Дверь отворилась, два вооруженных галла переступили порог.
— Унесите эту разлагающуюся падаль и выбросите стервятникам, пусть его терзают. Погодите, выньте сначала кинжал из груди этого предателя. — Стражи склонились к трупу, с усилием вытащили из сердца Павла окровавленный кинжал и положили на стол. Потом взяли за плечи и за ноги и понесли прочь, я слышал их тяжелые шаги по лестнице.
— Кажется мне, Гармахис, ты попал в большую беду, — произнесла она, когда звуки шагов замерли. — Как неожиданно поворачивается колесо Судьбы! Если бы не этот предатель, — она кивнула в сторону двери, через которую пронесли труп Павла, — я представляла бы сейчас собой столь же отвратительное зрелище, как он, и кинжал, что лежит на столе, был бы обагрен моей кровью.
Стало быть, меня предал Павел.
— Да, — продолжала она, — и когда ты пришел ко мне вчера ночью, я знала, что ты пришел меня убить, когда ты раз за разом подносил руку к груди, я знала, что рука твоя сжимает рукоятку кинжала и что ты собираешь все свое мужество, чтобы совершить деяние, которому противится твоя душа. Странные то были, фантастические минуты, когда вся жизнь висит на волоске, ради таких минут только и стоит жить, и я неотступно думала, кто же из нас победит, ибо в этом поединке мы были равны и в силе и в вероломстве.
Да, Гармахис, твою дверь охраняют стражи, но я не хочу тебя обманывать. Не знай я, что связала тебя узами, более надежными, чем тюремные цепи, не знай я, что мне не угрожает от тебя никакое зло, ибо меня защищает твоя честь, которую не сокрушат копья всех моих легионов, ты давно был бы мертв, мой Гармахис. Смотри, вот твой кинжал, — она протянула его мне, — убей меня, если можешь. — И, встав передо мной, обнажила грудь и стала ждать; ее глаза были безмятежно устремлены на меня. — Ты не можешь убить меня, — вновь заговорила она, — ибо есть поступки, которых ни один мужчина — я говорю о настоящих мужчинах, таких, как ты, — не может совершить и после этого остаться жить; самый страшный из этих поступков, Гармахис, — убить женщину, которая тебя любит. Что ты делаешь, не смей! Отведи кинжал от своей груди, ибо если ты не смеешь убить меня, насколько более тяжкое преступление ты совершишь, лишив жизни себя, о жрец Исиды, преступивший клятвы! Тебе что, не терпится предстать пред разгневанным божеством в Аменти? Как ты думаешь, какими глазами посмотрит Небесная Мать на своего сына, который покрыл себя позором, нарушил самую свою святую клятву и вот теперь явился приветствовать ее с обагренными кровью руками? Где ты будешь искупать содеянное зло — если его тебе вообще позволят искупать!
Этого я уже не мог вынести, сердце переполнилось горечью. Увы, она была права: я не имел права умереть. Я совершил столько злодеяний, что не смел даже думать о смерти! Я бросился на ложе и заплакал слезами того отчаянья, когда у человека уже не осталось тени надежды.
Но Клеопатра подошла ко мне, присела рядом и, пытаясь утешить меня, нежно обняла.
— Не плачь, любимый, подними голову, — пел ее голос, — не все потеряно, и я вовсе не сержусь на тебя. Да, игра была не на жизнь, а на смерть, но я предупреждала тебя, что пущу в ход свои женские чары против твоего чародейства, и видишь — я победила. Но я ничего не скрою от тебя. И как женщина, и как царица я полна жалости к тебе, — не просто жалости, а сострадания; но это еще не все: мне больно видеть, как ты терзаешься. То, что ты стремился отвоевать трон, который захватили мои предки, и вернуть свободу своей древней стране Кемет, лишь справедливо и достойно восхищения. Я сама, как законная царица, поступила в свое время так же и не остановилась перед жестокостью, ибо принесла клятву. И потому все мое сочувствие отдано тебе, как я всегда отдаю его великим и отважным. Тебя ужасает глубина твоего падения, но это тоже вызывает уважение. И я как женщина — как любящая тебя женщина — разделяю твое горе. Но знай: не все потеряно. Твой план был неудачен, ибо мне хорошо известно, что Египет не может существовать сам по себе как независимая держава, пусть бы даже ты отнял у меня корону и стал править, а вам, без всякого сомнения, переворот должен был бы удаться, — так вот, Гармахис, нельзя сбрасывать со счетов Рим. И я хочу вселить в тебя надежду: меня принимают не за ту, что я есть на самом деле. Нет сердца в этой огромной стране, которое переполняла бы такая беззаветная любовь к древнему Кемету, как мое, — да, Гармахис, я люблю его даже больше, чем ты. Но до сих пор я была словно в оковах — войны, восстания, заговоры, зависть связывали меня по рукам и по ногам, я не могла служить моему народу, как мне того хотелось. Но теперь, Гармахис, ты научишь меня. Ты будешь не только моим возлюбленным, но и моим советником. Разве так просто покорить сердце Клеопатры — то самое сердце, которое ты, да будет тебе во веки веков стыдно, хотел пронзить сталью? Да, ты, именно ты поможешь мне найти путь к моему народу, мы будем править вместе, объединив в едином царстве древнюю и новую страну, новое и древнее мышление. Ты видишь, все складывается к лучшему — о таком нельзя было и мечтать: ты взойдешь на престол фараона, но тебя приведет к нему совсем не столь жестокий и кровавый путь.
Итак, мы сделаем все, Гармахис, чтобы замаскировать твое предательство. Твоя ли в том вина, что подлый римлянин донес о твоих намерениях? Что после того тебя опоили, выкрали тайные списки и без труда расшифровали? Разве тебя станут винить, что после неудачи великого заговора, когда его участники рассеялись по стране, ты, верный своему долгу, продолжал служить отчизне, пользуясь тем оружием, которое дала тебе Природа, и покорил сердце царицы Египта, надеясь с помощью ее преданной любви достичь своей цели и осенить своими мощными крылами родину Нила? Скажи, Гармахис, разве я плохо придумала?
Я поднял голову, чувствуя, как во мраке моего отчаяния блеснула слабая надежда, ибо когда мужчина тонет, он хватается за соломинку. И я в первый раз за все время заговорил:
— А те, кто был со мной… кто верил мне… что будет с ними?
— Ты спрашиваешь о своем отце Аменемхете, старом жреце из Абидоса; о дяде Сепа, этом пламенном патриоте, с такой заурядной внешностью, но с великим сердцем; ты спрашиваешь о…
Я думал, она скажет «о Хармиане», но нет, она не произнесла этого имени.
— …о многих, многих других, — да, я знаю всех!
— И что же ждет их?
— Выслушай меня, Гармахис, — ответила она, вставая и кладя мне руку на плечо. — Ради тебя я проявлю ко всем к ним великодушие. Я накажу лишь тех, кого нельзя не наказать. Клянусь моим троном и всеми богами Египта, я никогда не причиню ни малейшего зла твоему старому отцу, и если еще не поздно, я пощажу твоего дядю Сепа и всех, кто был с ним. Я не поступлю, как мой прапрадед Эпифан: когда египтяне восстали против него, он повелел привязать к своей колеснице Афиниса, Павзираса, Хезифуса и Иробастуса, как Ахилл когда-то привязал Гектора, — только те, в отличие от Гектора, были живые, заметь, — и прокатился с ними вокруг городских стен. Я пощажу всех, кроме иудеев, если они были среди вас, ибо ненавижу их.
— Иудеев среди нас нет, — ответил я.
— Тем лучше, ибо их бы я не пощадила. Неужто я в самом деле такая жестокая, как меня расписывают? В твоем списке, Гармахис, было много обреченных на смерть, а я лишила жизни одного-единственного негодяя римлянина, дважды предателя, ибо он предал и меня и тебя. Скажи, Гармахис, ты не раздавлен милостью, которую я к тебе проявила, ибо ты мне нравишься, а для женщины, поверь, это достаточно веская причина, чтобы помиловать преступника. Нет, клянусь Сераписом! — Она вдруг негромко рассмеялась. — Я передумала: пожалуй, я не дам тебе так много даром. Ты должен заплатить за мою милость, и заплатить дорогой ценой — ты поцелуешь меня, Гармахис.
— Нет, — ответил я, отворачиваясь от прекрасной искусительницы, — это действительно слишком дорогая цена. Я больше никогда не буду целовать тебя.
— Подумай, прежде чем отказываться. — Она сердито нахмурилась. — Подумай хорошенько и сделай выбор. Ведь я всего лишь женщина, Гармахис, и женщина, которая не привыкла слышать от мужчины «нет». Поступай как знаешь, но если ты мне откажешь, я отберу у тебя милость, которую решила подарить. И потому, мой целомудреннейший из жрецов, выбирай: либо ты принимаешь тяжкое бремя моей любви, либо в самом скором времени погибнут от руки палача и твой отец, и все те, кто входил в его заговор.
Я взглянул не нее и увидел, что она и в самом деле разгневана, ибо глаза ее сверкали, а грудь высоко вздымалась. Я вздохнул и поцеловал ее, и этот поцелуй замкнул цепь моего постыдного рабства. А она с торжествующей улыбкой Афродиты упорхнула, захватив с собой кинжал.
Я еще не знал, проникла ли Клеопатра в самое сердце нашего заговора; не знал, почему мне оставили жизнь, не знал, почему Клеопатра, эта женщина с сердцем тигрицы, проявила к нам милость. Да, я не знал, что она боялась убить меня, ибо заговор был слишком могуч, а двойная корона еле держалась на ее голове, и если бы разнеслась молва, что я убит, страну потряс бы бунт и вышиб из-под нее трон, хоть я его уже занять и не мог. Не знал, что лишь из страха и соображений политики проявила она подобие милости к тем, кого я выдал, и что коварный расчет, а не святая женская любовь — хотя, если говорить правду, я ей очень нравился, — побудил ее привязать меня к себе узами страсти. И все же я должен сказать слово в ее защиту: даже когда нависшая над ней туча растаяла в небе, она сохранила верность мне, и никто, кроме Павла и еще одного человека, не подвергся высшей мере наказания — смерти за участие в заговоре против Клеопатры, у которой хотели отнять корону и жизнь. Зато сколько мук эти люди перенесли!
Итак, она ушла, но ее прекрасный образ остался в моем сердце, хотя печаль и стыд гнали его. О, какие горькие часы ждали меня, ведь я не мог облегчить свое горе молитвой. Связь между мною и божественной Исидой оборвалась, богиня не отзывалась больше на призывы своего жреца. Да, горьки и черны были эти часы, но в этой тьме сияли звездные глаза Клеопатры и эхом отдавался ее голос, шепчущий слова любви. Чаша моего горя еще не переполнилась. В сердце тлела надежда, я убеждал себя, что не сумел достичь высокой цели, но выберусь из глубин пропасти, в которую упал, и найду иной, не столь тернистый путь к победе.
Так преступники обманывают себя, возлагая вину за содеянное зло на неотвратимую Судьбу, пытаясь убедить себя, что в своей порочности они могут сотворить добро, и убивают совесть, якобы подчиняясь велению необходимости. Но тщетно, тщетно все, ибо на пути порока их неизменно преследуют угрызения совести, а впереди ждет гибель, и горе тем, кто идет по этому пути! О, горе мне, преступнейшему из преступных!
Глава IX, повествующая о пребывании Гармахиса под стражей; о презрении, высказанном ему Хармианой; об освобождении Гармахиса и о прибытии Квинта Деллия
Целых одиннадцать дней прожил я в своей комнате пленником, никого не видя, кроме стражников возле моих дверей, рабов, которые молча приносили мне еду и питье, и Клеопатры, а Клеопатра почти все время была со мной. Она нескончаемо говорила мне о любви, но ни разу не обмолвилась и словом о том, что происходит в стране. Приходила она всегда разная — то весело смеялась и шутила, то делилась возвышенными мыслями, то была сама страсть, и больше для нее ничего не существовало, и в каждом настроении она была всякий раз по-новому пленительна. Она любила говорить о том, как я помогу ей вернуть величие Египту, как мы облегчим участь народа и заставим римского орла улететь восвояси. И хотя сначала я отвращал слух от ее речей, когда она начинала рисовать передо мной картины будущего, она медленно, подбираясь все ближе и ближе, опутала меня своей волшебной паутиной, из которой было не вырваться, и я стал думать точно так же, как она. Потом я приоткрыл ей свое сердце и рассказал немного о том, как я хотел возродить Египет. Она с восхищением слушала, вдумывалась в мои планы, говорила, что, по ее мнению, следует сделать, чтобы их выполнить, объясняла, каким путем она хочет вернуть Египту истинную веру и восстановить древние храмы — не только восстановить, но и построить новые, где будут поклоняться нашим богам. И она все глубже вползала в мое сердце, проникла во все его уголки и заполнила до краев, и поскольку все остальное у меня в жизни было отнято, я полюбил ее всей нерастраченной страстью моей больной души. У меня ничего не осталось, кроме любви Клеопатры, я жил ею, лелеял ее, как вдова лелеет свое единственное дитя. Вот как случилось, что виновница моего позора стала для меня источником жизни, дороже, чем зеница ока, чем весь мир, я любил ее неутолимо, с каждым часом все сильнее и сильнее, и наконец в этой любви потонуло прошлое, а настоящее стало казаться сном. Ибо она подчинила меня себе, украла мою честь, опозорила так, что вовек не отмыться, я, жалкое слепое ничтожество, падший глупец, целовал плеть, которой меня стегали, и полз за палачом на коленях, как раб.
Да и сейчас, в моих виденьях, которые слетаются, когда сон отпирает тайные запоры нашего сердца и выпускает в просторные чертоги мысли томящиеся в нем страхи, я, как и прежде, вижу эту царственную женщину, она летит ко мне, распахнув объятья, в глазах ее сияет свет любви, губы полуоткрыты, свернувшиеся в локоны волосы развеваются, а на лице небесная нежность и самозабвенная страсть, на какие была способна лишь она. Через столько лет мне снится, что она пришла ко мне, как приходила когда-то! Потом я просыпаюсь и думаю, что она — воплощение изощреннейшей лжи.
Такой однажды она пришла ко мне, когда я жил в своей комнате под стражей. Не пришла, а прибежала, объяснила она, удрала с какого-то важного совета, где обсуждались военные действия Антония в Сирии, и бросилась прямо ко мне, в парадном церемониальном одеянии, как была, со скипетром в руке и с золотым уреем, обвивающим лоб. Смеясь, она села рядом со мной на ложе; ей надоели послы, которым она давала аудиенцию в зале совета, и она объявила им, что вынуждена покинуть их, потому что получено срочное известие из Рима; собственная выдумка ее развеселила. Она вдруг поднялась, сняла диадему в виде урея и возложила на мой лоб, накинула мне на плечи свою мантию, вложила в руку жезл и склонилась предо мной. Потом снова рассмеялась, поцеловала меня в губы и сказала, что я поистине ее царь и повелитель. Но я вспомнил коронацию в Абидосском храме, вспомнил и ее венок из роз, запах которых до сих пор преследует меня, вскочил, побелев от ярости, сбросил с себя мишуру, в которую она меня обрядила, и сказал, что не позволю издеваться над собой, хоть я и ее пленник. Видно, выражение у меня было такое, что она испугалась и отпрянула от меня.
— Ну что ты, милый Гармахис, — прожурчала она, — не надо сердиться. Почему ты решил, что я над тобой издеваюсь? Почему думаешь, что тебе не стать фараоном перед богами и пред людьми?
— Как мне понять тебя? — спросил я. —
Ты что же, хочешь сочетаться со мной браком и объявить об этом всему Египту? Разве есть сейчас для меня иной путь стать фараоном?
Она потупила глаза.
— Быть может, мой возлюбленный, я в самом деле хочу сочетаться с тобой браком, — ласково сказала она. — Послушай, здесь, в этой тюрьме, ты очень побледнел и почти ничего не ешь. Не спорь, я знаю от рабов. Я держала тебя здесь, под стражей, ради того, чтобы спасти твою жизнь, Гармахис, ибо ты мне очень дорог; ради того, чтобы спасти твою жизнь и твою честь, мы должны и дальше делать вид, что ты мой пленник. Иначе тебя все будут поносить и убьют — тайно подошлют убийц, и ты умрешь. Но я не могу больше видеть, как ты здесь чахнешь. И потому я завтра освобожу тебя и объявлю, что ты ни в чем не виноват, и ты снова появишься во дворце как мой астроном. Скажу, что ты не причастен к заговору, я в этом окончательно убедилась; к тому же твои предсказания сбылись все до единого — кстати, это истинно так, хотя я не вижу причин благодарить тебя, ибо понимаю, что ты составлял предсказания исходя из интересов вашего заговора. А теперь прощай, мне пора к этим чванливым тугодумам-послам; и молю тебя, Гармахис, не поддавайся этим неожиданным вспышкам ярости, ибо ведь тебе неведомо, чем завершится наша любовь.
И, слегка кивнув головкой, она ушла, заронив мне в душу мысль, что она хочет открыто сочетаться со мной браком. И скажу правду: я уверен, что в тот миг она искренне этого желала, ибо хоть и не любила меня всепоглощающей любовью, но пылко увлеклась мной и я еще ей не успел наскучить.
Утром Клеопатра не пришла, зато пришла Хармиана — та самая Хармиана, которой я не видел с роковой ночи моей гибели. Она вошла и встала передо мной, бледная, глаза опущены, и первые же ее слова ужалили меня, точно укус змеи.
— Прошу простить меня, — проговорила она елейным голоском, — прошу простить, что я посмела явиться к тебе вместо Клеопатры. Но тебе недолго ждать встречи со своим счастьем: скоро ты ее увидишь.
Я сжался от ее слов, да это и неудивительно, а она, почувствовав, что перевес на ее стороне, стала наступать.
— Я пришла, Гармахис, — увы, больше не царственный! — сказать тебе, что ты свободен! Свободен встретиться лицом к лицу со своим позором и увидеть его отражение в глазах всех, кто верил тебе, — он будет там, подобно теням в глубинах вод. Я пришла сказать тебе, что великий заговор, который готовился больше двадцати лет, погиб безвозвратно. Правда, никого из заговорщиков не убили, может быть, только дядю Сепа, потому что он исчез. Однако всех вождей схватили и заковали в кандалы или же подвергли изгнанию, дух наших людей сломлен, борцы рассеялись по всей стране. Гроза собиралась, но так и не успела грянуть — ветер унес тучи. Египет погиб, погиб навсегда, его последняя надежда разрушена. Никогда нашей стране не подняться с оружием в руках, теперь она во веки веков будет влачить ярмо рабства и подставлять спину плетям угнетателей!
Я громко застонал.
— Увы, меня предали! Нас предал Павел.
— Тебя предали? Нет, это ты сам оказался предателем! Почему ты не убил Клеопатру, когда остался с ней наедине? Отвечай, клятвопреступник!
— Она опоила меня, — проговорил я.
— Ах, Гармахис! — воскликнула безжалостная девушка. — Как низко ты пал и как непохож стал на того царевича, которого я когда-то знала: ты теперь не гнушаешься ложью! Да, тебя опоили — опоили любовным зельем! И ты продал Египет и всех, кто жаждал его возрождения, за поцелуй распутницы! Горе тебе и вечный позор! — Она уставила в меня перст и впилась в лицо глазами. — От тебя все отвернутся, все тебя отвергнут! Ничтожнейший из ничтожных! Презренный! Посмей это опровергнуть, если можешь! Да, прочь от меня! Ты знаешь, какой ты трус, и потому правильно делаешь, что отступаешь в угол! Ползай у Клеопатриных ног, целуй ее сандалии, пока она не втопчет тебя в грязь, где тебе и место. Но от людей честных держись подальше, как можно дальше!
Душа моя корчилась в муках от ее жалящего презрения и ненависти, но ответить ей мне было нечего.
— Как случилось, — наконец спросил я хрипло, — как случилось, что тебя, единственную из всех, не выдали и ты по-прежнему приближенная царицы и по-прежнему издеваешься надо мной, хотя еще совсем недавно клялась мне в любви? Ведь ты женщина, неужели нет в твоей душе жалости и понимания, что и мужчина может оступиться?
— Моего имени не было в списке, — отвечала она, потупляя глаза. — Дарю тебе счастливую возможность: предай заодно и меня, Гармахис! Да, твое падение причинило мне особенно острую боль именно потому, что я любила тебя когда-то, — неужели ты еще это помнишь? Позор того, кто был нам дорог, становится отчасти и нашим позором, он как бы навеки прилипает к нам, потому что мы так слепо любили это ничтожество всеми сокровенными глубинами нашего сердца. Стало быть, ты такой же глупец, как все? Стало быть, ты, еще разгоряченный объятиями царственной распутницы, обращаешься за утешением ко мне — не к кому-то другому, а именно ко мне?!
— Может быть, именно ты в своей злобе и ревности предала нас, это вовсе не так невероятно, — сказал я. — Хармиана, давно, еще в самом начале, дядя Сепа предупреждал меня: «Не доверяй Хармиане», и, сказать честно, теперь, когда я вспомнил его слова…
— Как это похоже на предателя! — прервала она меня, вспыхнув до корней волос. — Предатели считают, что все вокруг предатели, и всех подозревают! Нет, я тебя не предавала; тебя предал этот жалкий мошенник Павел, нервы у него не выдержали, и он за это поплатился. Я не желаю больше слушать такие оскорбления. Гармахис, — царственным тебя уже никто больше не назовет! — Гармахис, царица Египта Клеопатра повелела мне сказать тебе, что ты свободен и что она ожидает тебя в Алебастровом Зале.
И, метнув в меня быстрый взгляд из-под своих длинных ресниц, она поклонилась и исчезла.
И вот я снова вышел из своих комнат и пошел по дворцу, пошел кружным путем, ибо меня переполняли ужас и стыд и я со страхом глядел на людей, уверенный, что увижу на их лицах презрение к предателю, каким я оказался. Но никакого презрения на лицах не было, ибо все, кто знал о заговоре, бежали, Хармиана же ни словом не проговорилась, — без сомнения, желая спасти себя. К тому же Клеопатра убедила всех, что я к заговору не причастен. Но моя вина давила на меня непереносимой тяжестью, я похудел, осунулся, никто бы не нашел меня сейчас красивым. И хоть считалось, что я свободен, на самом деле за каждым моим шагом следили, я не имел права выйти за ворота дворца.
И вот настал день, когда к нам прибыл Квинт Деллий, этот продажный римский патриций, который всегда служил лишь восходящим звездам. Он привез Клеопатре послание от триумвира Марка Антония, который, не успев одержать победу в сражении при Филиппах, перебросил свои войска из Фракии в Азию и грабил там покоренных царей, чтобы расплатиться их золотом со своими алчными легионерами.
Я хорошо помню тот день. Клеопатра в своем парадном церемониальном наряде, окруженная советниками двора, среди которых был и я, сидела в большом зале для приемов на своем золотом троне. Вот она приказала ввести посланника триумвира Антония. Огромные двери распахнулись, и среди грома фанфар, приветствуемый стражами-галлами, вошел, в сопровождении свиты военачальников, римлянин в золотых сверкающих доспехах и алом шелковом плаще. Лицо у него было бритое, — ни бороды, ни усов, — красивое и переменчивое, но с жестким ртом и лживыми прозрачными глазами. И пока глашатаи объявляли его имя, титул и должности, которые он занимает, он, уставившись, глядел во все глаза на Клеопатру, которая спокойно сидела на своем троне, сияя лучезарной красотой, и было видно, что он потрясен. Наконец глашатаи смолкли, а он все продолжал стоять и даже не шевельнулся. Тогда Клеопатра обратилась к нему на латыни:
— Приветствую тебя, благородный Деллий, посол могущественного Антония, чья тень закрыла весь мир, словно это сам Марс явился перед нами, мелкими ничтожными владыками. Добро пожаловать в нашу бедную Александрию. Прошу тебя, открой нам цель твоего приезда.
Но хитрый Деллий по-прежнему молчал и все стоял как громом пораженный.
— Что с тобой, благородный Деллий, ты утратил дар речи? — спросила Клеопатра. — Или так долго скитался по просторам Азии, что позабыл родной язык? Какой язык ты еще помнишь? Назови его, и будем говорить на нем, ибо мы знаем все языки.
И тут он наконец заговорил звучным вкрадчивым голосом:
— Прости меня, прекраснейшая царица Египта, за то, что я онемел перед тобой, но столь великая красота, подобно смерти, замыкает уста смертных и отнимает разум. Глаза того, кто смотрит на слепящее полуденное солнце, не видят ничего вокруг; вот так и я, царица Египта, ошеломленный представшим столь внезапно предо мной прекрасным видением, потерял власть над своими мыслями, над своей волей и над своими чувствами.
— Должна отдать тебе должное, — проговорила Клеопатра, — я вижу, у вас в Киликии ты прошел неплохую школу лести.
— Кажется, в Александрии есть пословица: «Сколько ни кади лестью, до облака фимиам не долетит"
[211]. Но доложу, зачем я прибыл. Вот, царица Египта, послание, с печатями и подписью Антония, где речь идет о государственных делах. Желаешь ли ты, чтобы я прочел его вслух, при всех?
— Сорви печати и прочти, — повелела она.
И он, отдав ей поклон, сорвал печати и стал читать:
— «От имени Triumviri Reipublicae Constituenae
[212] триумвир Марк Антоний приветствует Клеопатру, милостью римского народа царицу Верхнего и Нижнего Египта. Нам стало известно, что ты, Клеопатра, нарушив свое обещание и преступив свой долг, послала своего слугу Аллиена с войсками и своего слугу Серапиона, правителя Кипра, тоже с войсками, дабы поддержать убийцу Кассия, который выступил против благороднейшего триумвирата. Известно нам и то, что ты сама готовишь огромный флот ему в поддержку. Мы требуем, чтобы ты без промедления отправилась в Киликию, дабы встретиться там с благородным Антонием и собственными устами дать ему ответ на все обвинения, которые выдвигают против тебя. Предупреждаем, что если ты не выполнишь наше повеление, пеняй на себя. Прощай».
Когда Клеопатра услышала эти наглые угрозы, глаза ее засверкали и руки сжали золотые львиные головы, на которых покоились.
— Сначала нам преподнесли сладчайшую лесть, — произнесла она, — а потом, боясь, что мы пресытимся сладким, напоили желчью. Слушай меня, Деллий: все обвинения, которые перечислены в этом послании, — вернее, в этой повестке в суд, — ложь от начала до конца, и мои советники могут это подтвердить. Но в наших действиях, касающихся войн и политики, мы не собираемся отдавать отчет тебе, и уж тем более сейчас. И мы не покинем нашего царства и не поплывем в далекую Киликию, мы не станем, подобно бесправному обвиняемому, оправдываться перед судом благородного Антония. Если Антоний желает побеседовать с нами и обсудить эти важные дела, что ж — море открыто, и ему будет оказан здесь царский прием. Пусть сам плывет сюда. Вот, Деллий, наш ответ тебе и триумвирату, от имени которого ты прибыл.
Но Деллий улыбнулся улыбкой царедворца, который не снисходит до гнева, и снова заговорил:
— Царица Египта, ты не знаешь благородного Антония. Он суров в посланиях, где выражает свои мысли так, будто в руках его не стило, а копье, обагренное кровью. Но, встретившись с ним лицом к лицу, ты убедишься, что этот величайший в мире полководец столь же любезен и уступчив, сколь и отважен. Послушайся моего совета, о царица! Езжай к нему. Не отсылай меня с таким обидным ответом, ибо если Антоний, следуя твоему приглашению, прибудет в Александрию, то горе Александрии, горе народу Египта и горе тебе, царица Египта! Он приплывет с войсками, приплывет сражаться с тобой, и тяжко придется тебе, посмевшей бросить вызов могущественному Риму. Молю тебя, выполни его повеление. Прибудь в Киликию, явись с дарами мира, а не с оружием в руках. Явись во всем блеске своей красоты, в роскошнейшем одеянии, и тебе не придется бояться благородного Антония. — Он умолк, многозначительно глядя на нее; а я сообразив, куда он клонит, почувствовал, как лицо мне заливает жаркая кровь негодования.
Клеопатра тоже поняла, ибо подперла рукой подбородок и задумалась, в глазах у нее собрались тучи. Она сидела так и молчала, а лукавый царедворец Деллий с любопытством наблюдал за ней. Хармиана, стоявшая с другими придворными дамами возле трона, тоже все поняла, ибо ее лицо озарилось, как озаряется летним вечером туча, когда на небе сверкнет яркая молния. Потом оно снова побледнело и поникло.
Наконец Клеопатра заговорила:
— Дело это очень непростое, и потому, благородный Деллий, нам нужно время, чтобы все обдумать и принять решение. Отдохни пока у нас, развлекайся, насколько это позволяют наши жалкие обстоятельства. Не позже чем через десять дней ты получишь от нас ответ.
Посол подумал немного, потом ответил с улыбкой:
— Благодарю тебя, царица. На десятый день, считая от нынешнего, я приду к тебе за ответом, а на одиннадцатый отплыву к моему повелителю Антонию.
Снова по знаку, поданному Клеопатрой, затрубили фанфары, и Деллий, поклонившись, удалился.
Глава X, повествующая о смятении Клеопатры; о ее клятве Гармахису; и о тайне сокровища, лежащего в сердце пирамиды, которую открыл Клеопатре Гармахис
В ту же саму ночь Клеопатра вызвала меня к себе в покои, где она жила. Я пришел и застал ее в чрезвычайном смятении; никогда прежде не видел я ее столь встревоженной. Она была одна и металась по мраморному покою, как львица в клетке, мысли теснились у нее в голове, точно облака над морем, и тенями мелькали в глубинах ее глаз.
— Ах, наконец-то ты пришел, Гармахис, — сказала она, с облегчением вздыхая и беря меня за руку. — Дай мне совет, ибо никогда еще я не нуждалась так в мудром совете. Что за жизнь даровали мне боги — бурную, как океан! С детства на мою долю не выпало ни одного безмятежного дня и, судя по всему, никогда не выпадет. Только что моя жизнь висела на волоске, я чудом ускользнула от твоего кинжала, Гармахис, и вот теперь новая беда, точно далеко за горизонтом собралась гроза, вдруг налетела и разразилась надо мной. Как тебе понравился этот щеголь с душой хищника? Вот бы кого поймать в ловушку! Как мягко говорит! Не говорит, а мурлычет, точно кошка, и каждую минуту готов вонзить в тебя когти. А что ты скажешь о послании? Неслыханная наглость! Знаю я этого Антония. Видела его, когда была еще совсем девочка, едва вступала в пору юности, но ум у меня уже тогда был острый, женский, я сразу поняла, что он за человек. Могуч, как Геркулес, но глуп, однако сквозь эту глупость вдруг прорывается ум гения. Сластолюбив; охотно идет за теми, кто потакает ему в его слабостях, но стоит возразить — и он твой смертельный враг. Верен в дружбе, если, впрочем, любит своих друзей; часто совершает поступки, которые противоречат его собственным интересам. Великодушен, смел, в трудных обстоятельствах стоек и вынослив, в благоденствии — любитель вина и раб женщин. Вот каков Антоний. Как вести себя с мужчиной, которого Судьба и Случай, вопреки его собственной воле и желанию, вознесли на гребень успеха? Настанет день, когда волна низвергнется, но пока он летит на ней и смеется над теми, кто тонет.
— Антоний всего лишь человек, — ответил я, — и человек, у которого много врагов; а человека, у которого много врагов, можно победить.
— Да, его можно победить, но он ведь не один, Гармахис, — с ним еще двое. Кассий отправился туда, где и надлежит быть глупцу, — казалось бы, Рим отсек голову гидре. И что же? Отсечь-то голову отсекли, а на тебя уже шипит другая. Ведь есть еще Лепид и Октавиан-младший, который спокойно, с улыбкой торжества посмотрит на холодный труп Лепида ли, Антония ли, Клеопатры. Если я не поплыву в Киликию, Антоний непременно войдет в союз с парфянами и, сочтя гнусные слухи, которые распускают обо мне, правдой, — кстати, все это, конечно, и в самом деле правда, — обрушит свои легионы на Египет. И что тогда?
— Что тогда? Прогнать его обратно в Рим.
— Ах, Гармахис, тебе легко так говорить, и, может быть, если бы я не выиграла ту игру, что мы вели с тобой двенадцать дней назад, и фараоном стал бы ты, ты с легкостью разбил бы Антония, ибо весь Египет сплотился, поддерживая твой трон. Но меня Египет не любит, им ненавистна царица, в чьих жилах течет греческая кровь; а я уже разрушила великий заговор твоих сторонников, в котором объединилась половина жителей Египта. Так разве эти люди поднимутся, чтоб поддержать меня? Будь Египет верен мне, я, конечно, могла бы выстоять против всех войск, которые приведет Рим; но Египет ненавидит меня и предпочтет покориться римлянам, как в свое время покорился грекам. И все же я могла бы его защитить, будь у меня золото: я наняла бы солдат и они за деньги стали бы сражаться за меня. Но денег нет; моя казна пуста, и хоть земля наша богата, мне нечем заплатить огромные долги. Эти войны разорили меня, мне негде взять ни единого таланта. Может быть, ты, Гармахис, по праву крови жрец пирамид, — она приблизилась ко мне и посмотрела в глаза, — может быть, ты, — если легенда, дошедшая до нас сквозь десятки поколений, не лжет, — может быть, ты откроешь мне, где взять золото, чтобы спасти страну от гибели, а твою возлюбленную от участи Антониевой рабыни? Скажи, эта легенда о сокровище — сказка или правда?
Я подумал немного, потом сказал:
— Предположим, эта легенда — правда, предположим, я покажу тебе сокровище, сокрытое великим фараоном седой древности, чтобы в черный час нашей истории спасти Кемет, но могу ли я быть уверен, что ты поистине употребишь его богатства для этой благой цели?
— Так, стало быть, сокровище есть? — живо спросила она. — О, не сердись на меня, Гармахис, ибо, признаюсь тебе честно, само слово «золото» в этот роковой час бедствия наполняет сердце такой же радостью, как вид ручья в пустыне.
— Я думаю, что такое сокровище существует, — ответил я, — хотя сам его никогда не видел. Но знаю, что оно по-прежнему лежит там, куда было положено, ибо на тех, кто прикоснется к нему нечистыми руками и ради выполнения своих корыстных замыслов, падет столь страшное проклятье, что ни один из фараонов, кому сокровище было показано, не осмелился его взять даже в годину великих бедствий страны.
— Ах, в былые времена все всего боялись, — возразила она, — или же не так велики были постигшие их бедствия. Стало быть, Гармахис, ты мне покажешь это сокровище?
— Может быть, и покажу, если оно действительно все еще там, куда было положено, но ты должна поклясться мне, что употребишь его только на то, чтобы защитить Египет от Антония и облегчить жизнь его народа.
— Клянусь! — с искренним пылом воскликнула она. — Клянусь всеми богами Кемета, что если ты покажешь мне это великое сокровище, я объявлю Антонию войну и отошлю Деллия обратно в Киликию с еще более оскорбительным посланием, чем Антоний прислал мне. Но это еще не все, я сделаю больше, Гармахис: в самом скором времени я сочетаюсь с тобой браком и объявлю об этом всему миру, и ты сам будешь выполнять свои замыслы и отгонишь от нашей страны римского орла.
Так она говорила, гладя на меня со всей правдивостью и искренностью, на какие способен человек. Я ей поверил и впервые после моего падения почувствовал, что счастлив, подумал, что не все потеряно для меня и что вместе с Клеопатрой, которую я любил до крайней степени безумия, я смогу еще вернуть себе уважение египтян и власть.
— Клянись же Клеопатра! — потребовал я.
— Клянусь, любимый! И этой печатью скрепляю мою клятву! — Она поцеловала меня в лоб. Я тоже поцеловал ее, и мы стали говорить о том, как будем жить, когда станем мужем и женой, и что надо сделать, чтобы одолеть Антония.
Вот как я еще раз поддался обольщению и был обманут, хотя я верю, что если бы не злобная ревность Хармианы, которая, как вы увидите дальше, постоянно толкала ее на все новые преступления, Клеопатра в самом деле сочеталась бы со мной браком и отгородилась бы от Рима. И в конечном итоге так было бы лучше и для нее, и для Египта.
Мы просидели чуть ли не до рассвета, и я приоткрыл перед ней завесу тайны, окутывающей сокровище — несметные богатства, которые лежат в толще пирамиды. Было решено, что завтра же мы отправимся в путь и, прибыв туда через два дня, ночью начнем их искать. Рано утром была тайно снаряжена барка, Клеопатра вошла в нее, скрыв лицо под покрывалом и выдавая себя за египтянку, которая совершает паломничество к храму Хор-эм-ахета. Я тоже плыл с ней, одетый паломником, и с нами десятеро ее самых верных слуг, переодетых гребцами. Но Хармианы с нами не было. От Канопа по Нилу нас провожал попутный ветер, и в первую же ночь, плывя при свете луны, мы достигли Саиса и там немного отдохнули. На рассвете наше судно снова отчалило, весь день мы двигались быстро и покрыли большое расстояние, так что часа через два после заката солнца впереди показались огни крепости, именуемой Вавилоном. Мы подошли к противоположному берегу и незаметно причалили среди высоких зарослей тростника.
Потом мы, соблюдая величайшую осторожность, двинулись пешком в сторону пирамид, до которых было около двух лиг. Шли я, Клеопатра и преданный евнух, остальных слуг мы оставили в барке. Мне удалось поймать для Клеопатры ослика, который пасся среди поля пшеницы. Я бросил ему на спину плащ, и она села, и я повел ослика известными мне тропами, а евнух следовал за нами пешком. Через час с небольшим мы миновали большую дамбу, и перед нами встали величественные пирамиды, возносящие сквозь лунный свет свои вершины к небу; мы в благоговейном трепете умолкли и дальше шли, не произнося ни слова, по населенному духами городу мертвых, вокруг нас поднимались торжественные гробницы, и наконец мы поднялись на каменистую площадку и стали подле пирамиды Хуфу — его великолепного трона.
— Я уверена, — прошептала Клеопатра, глядя вверх на сверкающую в лучах луны мраморную грань с миллионами мистических символов, вырезанных на ней, — я уверена, что в те времена Египтом правили не люди, а боги. Это место печально, как сама смерть, и так же величественно и отчуждено от нас. Мы в эту пирамиду должны войти?
— Нет, не в нее, — ответил я. — Идем дальше.
И я повел их средь бесчисленных древних усыпальниц, пока мы не дошли до пирамиды Хефрена Великого. Остановились в ее тени и стали глядеть на красную, пронзающую небо громаду.
— Это она? — снова прошептала она.
— Нет, не она, — ответил я. — Нужно идти дальше.
Опять мы шли мимо гробниц, им не было конца, но вот мы остановились под сенью Верхней пирамиды
[213], и потрясенная Клеопатра не могла оторвать глаз от зеркальных поверхностей этой красавицы, которая тысячелетие за тысячелетием каждую ночь посылала обратно в небо лунный свет, покоясь на своем черном базальтовом основании. Поистине, из всех пирамид эта — самая прекрасная.
— Что ж, здесь? — спросила она.
— Да, здесь, — ответил я.
Мы прошли между храмом для культовых церемоний, посвященных его божественному величеству, Менкаура, воссиявшему в Осирисе, и основанием пирамиды и оказались у ее северной грани. Здесь в самой середине выбито имя фараона Менкаура, который построил эту пирамиду, дабы она стала его усыпальницей, и спрятал в ней сокровища, дабы они спасли Кемет, когда настанет черный день беды.
— Если сокровище все еще здесь — сказал я Клеопатре, — как оно было здесь во времена моего прапрапрадеда, так же как и я, верховного жреца пирамид, то оно покоится в самом сердце громады, перед которой ты стоишь, Клеопатра; и просто так его не возьмешь — потребуется великий труд, придется преодолевать огромные опасности, бороться с безумием. Готова ли ты войти в пирамиду, ибо ты сама должна в нее войти и сама принять решение?
— А ты не можешь, Гармахис, пойти туда с евнухом и принести сокровище? — спросила она, ибо мужество уже изменило ей.
— Нет, Клеопатра, — ответил я, — я не притронусь к сокровищу даже ради тебя и ради благоденствия Египта, ибо из всех преступлений это — самое кощунственное. Но вот что мне позволено. Я, по праву рождения посвященный в тайну сокровища, могу показать правящему владыке Кемета, если он того потребует, место, где лежит сокровище, и предостережение божественного Менкаура тем, кто хочет его взять. И если фараон, прочтя предостережение, решит, что положение Кемета поистине бедственно и катастрофа неотвратима, и потому не испугается проклятия богов и возьмет сокровище, — что ж, вина за совершенное святотатство падет на его голову. Три венценосца — так говорится в летописях, которые я читал, — осмелились войти в гробницу в великий час несчастья нашего Кемета. То были божественная царица Хатшепсут, это земное чудо, равное богам; ее божественный брат Тутмос Менхеперра и божественный Рамсес Ми-Амон. Но ни один из этих царственных владык не посмел прикоснуться к сокровищу, когда прочел предостережение: да, нужда в средствах была огромна, но не настолько, чтобы совершить это деяние. И, испугавшись, что проклятие падет на них, все трое с сожалением ушли.
Она задумалась, потом я понял, что отвага одолела ее страх.
— По крайней мере я увижу все собственными глазами, — сказала она.
— Быть по сему, — ответил я. И вот мы с евнухом, который сопровождал нас, стали собирать валуны и класть их друг на друга в ведомом мне месте у основания пирамиды, пока груда не поднялась выше человеческого роста; я взобрался на нее и стал искать известный одному мне выступ, маленький, как древесный листок. Долго мне пришлось его искать, ибо солнце и ветры, несущие песок пустыни, не пощадили даже базальт. Но наконец я все-таки его нашел и по-особому нажал на выступ изо всех своих сил. И вот камень, не страгиваемый с места тысячелетия, повернулся, и передо мной открылся небольшой ход, через который едва мог протиснуться человек. Едва лишь камень повернулся, из хода вырвалась огромная летучая мышь, белая, как бы седая от древности, и столь невиданных размеров, что я поразился, ибо никогда не встречал ничего подобного — она была, пожалуй, больше ястреба. Летучая мышь повисла, трепеща крылами, над Клеопатрой, потом стала медленно, кругами подниматься в небо и наконец растаяла в лунном сиянии.
С уст Клеопатры сорвался крик ужаса, а евнух, который глядел на летучую мышь, не отрывая глаз, от страха упал на землю — он был уверен, что это дух-охранитель пирамиды. Мне тоже сжал сердце страх, хоть я и ничего им не сказал. Прошло столько лет, но я и сейчас убежден, что нам явился дух воссиявшего в Осирисе Менкаура, который принял облик летучей мыши и вылетел из своего священного обиталища, дабы предостеречь нас.
Я подождал немного, чтобы проветрить коридор, в котором застоялся воздух. Достал тем временем светильники, зажег их и поставил все три у входа в коридор. Потом спустился с каменной груды вниз, отвел в сторону евнуха и заставил поклясться живым духом Того, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что он никогда не откроет никому то, чему станет свидетелем.
Он дал мне эту клятву, дрожа от головы до ног, ибо обезумел от страха. И он сдержал свою клятву.
Потом я протиснулся в отверстие, обвязал себя вокруг пояса веревкой, которую захватил с собой, и сделал знак Клеопатре, чтобы она поднималась ко мне. Она заткнула за пояс юбку своего платья и взобралась наверх, я втянул ее внутрь через отверстие, и наконец она оказалась возле меня в проходе, облицованном гранитными плитами. За ней вскарабкался евнух и тоже встал рядом с нами. Потом, сверившись с планом, который я принес с собой и который был составлен так, что только посвященные могли его прочесть, ибо был переснят с древнейших документов, дошедших до меня через сорок одно поколение моих предков, жрецов пирамиды божественного Менкаура и поминального храма этого великого фараона, воссоединившегося с Осирисом, я повел моих спутников по темному коридору в тысячелетнее безмолвие пирамиды. Дрожали неверные огоньки наших светильников, в их свете мы спустились по крутому ходу, задыхаясь от жары и духоты вязкого, застоявшегося воздуха. Но вот каменная кладка кончилась, мы оказались в галерее, выбитой в толще скалы. Сто локтей она круто шла вниз, потом спуск сделался более пологим, и вскоре мы оказались в камере с выкрашенными белой краской стенами и потолком, но до того низкой, что я, при моем высоком росте, не мог в ней выпрямиться; в длину камера была двадцать локтей, в ширину пятнадцать, и беленые ее стены сплошь покрывали рельефы. Здесь Клеопатра опустилась на пол и хотела немного отдохнуть, ибо была измучена жарой и безмерно боялась темноты.
— Встань! — приказал я. — Нельзя здесь долго оставаться, мы можем впасть в беспамятство.
И она поднялась и, взяв меня за руку, прошла вместе со мной через камеру, и мы оказались перед массивной гранитной дверью, которая спускалась с потолка, скользя по желобам. Я опять сверился с планом, нажал ногой на обозначенный там камень и стал ждать. Вдруг медленно и плавно, не знаю, с помощью каких сил, тяжелый гранит стал подниматься, открывая проход в толще скалы. Мы прошли в него и оказались перед второй гранитной дверью. И снова я нажал ногой означенный на плане камень, и эта дверь широко распахнулась перед нами как бы сама, и мы в нее вошли, но тут же увидели перед собою третью дверь, еще более массивную, чем те две, что уже пропустили нас. Следуя указаниям моего написанного тайными символами плана, я ударил по ней, где было обозначено, и дверь медленно, словно по волшебству, поползла вниз и наконец ее верхний край сровнялся с полом. Мы переступили через порог и снова оказались в коридоре, который плавно спускался вниз и через семьдесят локтей привел нас в большую камеру, сплошь облицованную черным мрамором, высотой более девяти локтей, шириной девять локтей и длиной тридцать. На мраморном полу стоял огромный гранитный саркофаг, и на его крышке были выбиты имя и титул жены фараона Менкаура. В этой камере воздух был свежий, хоть я не знаю, как он проникал туда.
— Сокровище здесь? — прошептала Клеопатра.
— Нет, — ответил я, — следуй за мной.
И я повел ее по ходу, в который мы проникли через отверстие в полу большой погребальной камеры. Отверстие закрывалось каменной дверью-пробкой, но сейчас дверь была откинута. Мы проползли по этой шахте, или, если хотите, коридору, пятьдесят локтей и наконец увидели колодец глубиной в семь локтей. Обвязав один конец веревки вокруг пояса, а другой прикрепив к кольцу, вделанному в скалу, я спустился со светильником в руке и оказался в месте последнего упокоения божественного Менкаура. Потом евнух поднял веревку, обвязал Клеопатру и спустил вниз, а я принял ее в свои объятья. Но евнуху я приказал ждать нашего возвращения наверху, у устья колодца, хоть он ужасно этого не хотел, ибо смертельно боялся остаться в одиночестве. Но ему не должно было сопровождать нас туда, куда мы шли.
Глава XI, повествующая о том, как выглядела погребальная камера божественного Менкаура; о том, что было написано на золотой пластине, лежащей на груди фараона; о том, как Клеопатра и Гармахис доставали сокровище; о духе, обитающем в погребальной камере; и о бегстве Гармахиса и Клеопатры из священной гробницы
Мы стояли в небольшой камере со сводчатым потолком, стены и пол были облицованы огромными плитами сиенского гранита. Перед нами, вытесанный из базальтовой глыбы в виде деревянного домика и покоящийся на спине сфинкса с головой литого золота, был саркофаг божественного Менкаура.
Мы замерли в благоговейном ужасе, на нас давила невыносимая тяжесть безмолвия, мрачная торжественность этой священной усыпальницы. Над нами неизмеримо высоко поднималась в небо могучая пирамида, ее овевал снаружи ласковый ночной воздух. А мы были внизу, под ее толщей, в недрах огромной скалы, ниже базальтового основания. Мы были наедине с мертвым, чей покой готовились нарушить, и ни один звук не доносился сюда из мира живых — хотя бы ветерок прошелестел, хоть бы что-то шевельнулось, напомнив о жизни и смягчив наше пронзительное одиночество. Я не мог оторвать глаз от саркофага; его тяжелая крышка была снята и стояла сбоку, вокруг толстым слоем лежала пыль тысячелетий.
— Смотри, — прошептал я, указывая на священные древние символы, которые кто-то начертал краской на стене и из которых складывалось послание.
— Прочти, Гармахис, — все так же шепотом попросила Клеопатра, — ведь я не понимаю эти письмена.
И я прочел:
«Я, Рамсес Ми-Амон посетил эту усыпальницу в день и в час великой беды, постигшей страну Кемет. Но хоть велика моя беда, а мое сердце отважно, я убоялся проклятия Менкаура. Подумай хорошо, о ты, кто придет после меня, и если душа твоя чиста, а нашему Кемету поистине грозит гибель, тогда возьми то, что я не посмел тронуть».
— Но где же сокровище? — прошептала Клеопатра. — Эта золотая голова сфинкса?
— Сокровище там, — промолвил я, указывая на саркофаг. — Подойди ближе и взгляни.
Она взяла меня за руку, и мы приблизились к саркофагу.
Крышка была снята, как я уже сказал, но внутри саркофага лежал покрытый цветной росписью гроб фараона. Мы поднялись на сфинкса, я сдул с гроба пыль и прочел то, что было написано на его крышке. Вот эти надписи:
«Фараон Менкаура, дитя неба».
«Фараон Менкаура, царственный сын Солнца».
«Фараон Менкаура, который лежал под сердцем богини Нут».
«Твоя небесная мать Нут осеняет тебя своим священным именем».
«Имя твоей небесной матери Нут — тайна неба».
«Нут, твоя небесная мать, причисляет тебя к сонму богов».
«Дыхание твоей небесной матери Нут испепеляет твоих врагов».
«О фараон Менкаура, жив ты вечно!»
— Но где же сокровище? — опять спросила Клеопатра. — Да, здесь покоится тело божественного Менкаура, но даже у фараонов тело из обыкновенной плоти, а не из золота; и если голова сфинкса золотая, то как нам ее снять?
Я ничего ей не ответил, но велел, все так же стоя на сфинксе, взяться за крышку гроба в головах фараона, а сам взялся за ее противоположный конец. Потом мы по моей команде потянули крышку вверх, она легко снялась, потому что была не прикреплена, и мы поставили ее на пол. В гробу лежала мумия фараона — в том виде, как ее положили три тысячи лет назад. Мумия была большая и убрана более чем скромно. На лице не было золотой маски, какой закрывают лица мумий сейчас, голова завернута в пожелтевшую от времени ткань и обмотана красными полотняными бинтами, под которые были засунуты стебли распустившихся лотосов. На груди тоже лежал венок из лотосов, и внутри него большая золотая пластина, сплошь покрытая священными письменами. Я взял в руки пластину и, поднеся к свету, стал читать:
«Я, Менкаура, воссоединившийся с Осирисом, бывший некогда фараоном страны Кемет, проживший отведенный мне срок жизни праведно и неизменно шедший по пути, который мне предначертал Непостижимый — начало и конец всего, — обращаюсь из своей гробницы к тем, кто после меня будет на краткий миг занимать мой трон. Слушайте же меня. Мне, Менкаура, воссоединившемуся с Осирисом, еще в дни моей жизни было явлено в пророческом сне, что настанет время, когда стране Кемет будет грозить иго чужеземцев и ее владыкам потребуются несметные богатства, дабы снарядить войска и прогнать дикарей. И вот что я в своей мудрости сделал.
Благоволящие ко мне боги в своей щедрости столь обильно одарили меня богатствами, что ни один фараон со времен Гора не мог бы соперничать со мной — у меня были тысячи коров и гусей, тысячи волов и овец, тысячи мер зерна, сотни мер золота и драгоценных камней; я берег свое богатство и в конце жизни обратил его в драгоценные камни — в изумруды, самые прекрасные и крупные в мире. И эти камни я завещаю взять, когда для Кемета настанет черный день. Но на земле всегда были и будут злодеи, которые, алкая наживы, могут похитить богатства, которые я завещал своей стране, и использовать их для собственных ничтожных целей; знай же, о ты, нерожденный, кто встанет надо мной, когда исполнятся сроки, и прочтет слова, что я повелел начертать на этой таблице: сокровище скрыто внутри моей мумии. И я предупреждаю тебя, о нерожденный, спящий до времени в утробе Нут! Если тебе богатства нужны действительно затем, чтобы спасти Кемет от врагов Кемета, без страха и без промедления вынь меня, Осириса, из гроба, сними пелены и достань из моей груди сокровище, и с тобою пребудет мое благословение и благоволение богов; прошу тебя лишь об одном: положи мои останки обратно в гроб. Но если нужда в средствах преходяща и не так уж велика или если в сердце твоем затаился коварный умысел, да падет на тебя проклятье Менкаура! Да падет проклятье на того, кто пригреет осквернившего прах! Да падет проклятье на того, кто вступит в сговор с предателем! Да падет проклятье на того, кто оскорбил великих богов! Всю жизнь тебя будут преследовать несчастья, ты умрешь кровавой смертью в муках, но муки твои будут длиться вечно, терзаньям твоим не будет конца! Ибо там, в Аменти, мы встретимся с тобой, злодей, лицом к лицу!
Для того, чтобы сохранить тайну сокровища, я, Менкаура, повелел построить на восточной стороне моего дома смерти поминальный храм. Тайну будут передавать друг другу верховные жрецы этого храма. И если один из верховных жрецов откроет эту тайну кому-то другому, кроме фараона или той, что носит корону фараона и правит Кеметом, сидя на его троне, да будет проклят и он. Так написал я, Менкаура, воссиявший в Осирисе. Но пройдет время, и ты, спящий ныне в лоне небесной Нут, встанешь передо мной и прочтешь мои слова. Так вот, подумай, молю тебя, подумай, прежде чем решиться. Ибо если тобою движет зло, на тебя падет проклятье Менкаура, от которого нет избавленья. Приветствую тебя, и прощай».
— Ты слышала все, о Клеопатра, — торжественно произнес я. — Теперь загляни в свое сердце; решай и ради собственной своей судьбы не ошибись.
Она в задумчивости опустила голову.
— Я не могу решиться, я боюсь, — наконец сказала она. — Уйдем отсюда.
— Уйдем, — сказал я с облегчением и нагнулся, чтобы поднять деревянную крышку гроба. Не скрою, мне тоже было страшно.
— Подожди минуту; что там написал на этой пластине божественный Менкаура? Кажется, он говорил про изумруды? А изумруды сейчас такая редкость, их очень трудно купить. Как я всю жизнь любила изумруды, и никогда мне не удавалось найти камень без изъянов.
— То, что ты любишь или не любишь, не имеет никакого значения, — возразил я. — Важно другое: действительно ли столь безнадежно положение Кемета и свободно ли твое сердце от тайного коварства, а это можешь знать только ты.
— Ах, Гармахис, и ты еще спрашиваешь! Можно ли представить себе время более черное? В казне нет золота, а разве можно без золота воевать с Римом? И не я ли тебе поклялась, что стану твоей супругой и объявлю войну Риму? Я повторяю сейчас свою клятву — здесь, в этой священной усыпальнице, положив руку на сердце мертвого фараона. Да, настал тот самый час, который привиделся божественному Менкаура в его вещем сне. Ты же понимаешь, что это так, иначе Хатшепсут, или Рамсес, или какой-нибудь другой фараон взяли бы из гроба изумруды. Но нет, они оставили их для нас, потому что тогда время еще не наступило. А теперь оно, я уверена, наступило, потому что, если я не возьму драгоценности, римляне, несомненно, захватят Египет, и уже не останется в нем фараонов, которым можно будет передавать тайну. Нет, прочь страх, за дело. Почему у тебя такое испуганное лицо? Тому, кто чист сердцем, нечего бояться, ты же сам это прочел Гармахис.
— Как пожелаешь, — снова сказал я, — решать тебе, но загляни еще раз в свое сердце, ибо, если ты ошибешься, на тебя падет проклятье, от которого нет избавления.
— Гармахис, ты бери фараона за плечи, а я возьму его за… О, как здесь страшно! — И она вдруг прильнула ко мне. — Мне показалось, там, в темноте, появилась тень! Она стала надвигаться на нас и потом неожиданно исчезла! Давай уйдем! Ты ничего не видел?
— Нет, Клеопатра, ничего; но, может быть, то был дух божественного Менкаура, ибо дух всегда витает возле тленной оболочки того, в ком жил когда-то. Ты права, уйдем отсюда; я рад, что ты так рассудила.
Она двинулась было к колодцу, но потом остановилась и сказала:
— Нет, никакой тени не было, мне просто померещилось, в столь ужасном месте измученное страхом воображение рождает поистине чудовищные видения. Знаешь, я должна взглянуть на эти изумруды, — пусть даже я умру, мне все равно! Не будем медлить, за дело! — И она нагнулась и собственными руками достала из саркофага один из четырех алебастровых сосудов, которые были запечатаны крышками с головами богово-хранителей и в которых хранились сердце и внутренности божественного Менкаура. Но ни в одном сосуде мы ничего не нашли, там лежало лишь то, чему полагалось лежать, — сердце и внутренности.
Потом мы вместе взобрались на сфинкса, с великим трудом извлекли из гроба мумию божественного фараона и положили ее на пол. Клеопатра взяла мой кинжал, разрезала им бинты, которые обвивали мумию поверх погребальных пелен, и цветы лотоса, чьи стебли заложила под них три тысячи лет назад чья-то любящая рука, упали в пыль. Потом мы долго искали конец пелены, но все-таки нашли — он был закреплен на спине мумии, возле шеи. Пришлось его обрезать, ибо он приклеился слишком прочно. И вот мы начали распеленывать священную мумию. Я сидел на каменном полу, прислонившись к саркофагу, мумия лежала у меня на коленях, и я поворачивал ее, а Клеопатра снимала пелены — жуткое, зловещее занятие. Вдруг что-то выпало из пелен — это оказался жезл фараона, золотой, с навершием из огромного ограненного изумруда.
Клеопатра схватила жезл и молча впилась в него взглядом. Потом положила в сторону, и мы вновь вернулись к этому святотатству. Она разворачивала пелены, и из-под них сыпались золотые украшения и предметы, которые по обычаю кладут с мертвым фараоном в гроб: браслеты, ожерелья, крошечные систры, топорик с инкрустированным топорищем, фигурка божественного Осириса, символ священного Кемета… Наконец все пелены были сняты, под ними оказался саван из грубого, затвердевшего от благовонных масел льна, — ведь в древности ремесла не были так развиты, как нынче, и искусство бальзамирования еще не достигло своих вершин. На льняном саване в овале было начертано «Менкаура, царственный сын Солнца». Мы никак не могли снять этот саван, он слишком плотно охватывал тело. И потому мы, чувствуя, что вот-вот потеряем сознание в этой жаре, задыхаясь от тысячелетней пыли и одуряющего запаха благовоний, дрожа от ужаса, ибо в священнейшем уединении древней усыпальницы совершалось кощунство, положили мумию на пол и
разрезали последний покров кинжалом. Сначала мы освободили голову фараона, и нам открылось лицо, которое три тысячи лет не видели ничьи глаза. Это было благородное лицо, с дерзновенным лбом, который венчал символ царственной власти — золотой урей, а из-под диадемы падали длинные седые пряди прямых волос, пожелтевших от благовоний. Ни холодная печать смерти, ни медленное течение трех тысячелетий не властны были обезобразить эти ссохшиеся черты, лишить величия. Мы долго глядели на это лицо, не в силах оторвать глаз, но в конце концов, осмелев от страха, стали срывать саван. И перед нами обнажилось тело — негнущееся, желтое, невыразимо ужасное, с левой стороны разрез, через который бальзамировщики вынимали внутренности фараона, но зашит он был столь искусно, что мы с трудом нашли его след.
— Драгоценные камни там, внутри, — прошептал я, ибо мумия была очень тяжелая. — Что ж, если твое сердце не дрогнет, проделай вход в этот несчастный дом, слепленный из праха, который некогда был фараоном. — И я протянул ей кинжал — тот самый кинжал, что совсем недавно отнял жизнь у Павла.
— Поздно раздумывать, — сказала она, обращая ко мне свое бледное прелестное лицо и глядя в мои глаза своими синими огромными от ужаса очами. Взяла кинжал, стиснула зубы, и вот рука живой царицы вонзилась в мертвую плоть фараона, который жил три тысячи лет тому назад. И в этот миг из шахты, у устья которой мы наверху оставили евнуха, к нам прилетел стон! Мы вскочили на ноги, но стон не повторился, из шахты по-прежнему лился сверху свет.
— Почудилось, — сказал я. — Давай же завершим начатое.
И вот, безжалостно терзая одеревеневшую плоть, мы с огромным усилием проделали отверстие, и я все время слышал, как кончик кинжала задевает лежащие внутри камни.
Клеопатра запустила руку в мертвую грудь фараона и что-то вынула. Поднесла предмет к свету и ахнула, ибо, извлеченный из тьмы фараонова нутра, сверкнул и ожил великолепнейший изумруд, какой только доводилось видеть человеку. Он был безупречного темно-зеленого цвета, очень большой, без единого изъяна, в виде скарабея, и на нижней поверхности вырезан овал, а в овале — имя божественного Менкаура, сына Солнца.
Она раз за разом погружала в отверстие руку и раз за разом вынимала из благовонных масел, налитых в грудь фараона, огромные изумруды. Некоторые камни были выделаны, некоторые нет; но все были безупречного темно-зеленого цвета и без единого изъяна, им не было цены. А ее рука все опускалась в эту ужасную грудь, и наконец мы насчитали сто сорок восемь камней, равных которым не найти во всем мире. Когда рука в последний раз нырнула в поисках камней, то извлекла не изумруды, а две огромные жемчужины, каких еще никто и никогда не видел; жемчужины были завернуты в куски льняной ткани. О судьбе этих жемчужин я поведаю позже.
Итак, мы вынули сокровище, и вот оно сверкающей грудой возвышалось перед нами. Рядом с камнями лежали золотые символы царской власти, украшения, вокруг были разбросаны пропитанные благовонными маслами пелены, от приторного запаха которых кружилась голова, и тут же растерзанный труп седого фараона Менкаура, вечноживущего Осириса, который царит в Аменти.
Мы поднялись на ноги, и нас охватил неодолимый ужас — ведь кощунство уже совершилось, и азарт поисков больше не поддерживал наше мужество, — ужас столь великий, что нас сковала немота. Я сделал знак Клеопатре. Она схватила фараона за плечи, я за ноги, мы вдвоем подняли его, взобрались на сфинкса и положили в гроб, где он лежал три тысячи лет. Я бросил на мумию разрезанный саван и сорванные с нее погребальные пелены и закрыл гроб крышкой.
Мы стали собирать огромные изумруды и те украшения, которые можно было без труда унести, и я завязал их в мой плащ. То, что осталось, Клеопатра спрятала у себя на груди. С тяжелым грузом бесценных сокровищ мы в последний раз окинули взглядом торжественную усыпальницу, саркофаг, покоящийся на спине сфинкса, чье безмятежное золотое лицо мудро улыбалось своей загадочной улыбкой, как бы издеваясь над нами. Мы отвернулись от него и пошли туда, где в потолке было отверстие.
Под ним мы остановились. Я позвал евнуха, который оставался наверху, и мне послышалось, что кто-то негромко и зловеще рассмеялся в ответ. Это было так жутко, что я не осмелился крикнуть еще раз, но я знал, что медлить нельзя, Клеопатра вот-вот лишится чувств, и потому схватился за веревку и с легкостью поднялся наверх, в коридор. Светильник горел, но евнуха я не увидел. Решив, что он, без сомнения, отошел на несколько шагов, сел и заснул — увы, моя догадка оказалась верной, — я крикнул Клеопатре, чтобы она обвязала себя веревкой вокруг пояса, и с большим трудом вытянул ее наверх. Мы немного отдохнули и, держа светильники, пошли искать евнуха.
— Ему стало страшно, и он убежал, а светильник оставил, — сказала Клеопатра. — Великие боги! Кто это там?
Я стал всматриваться в темноту, выставив перед собой светильники, и от того зрелища, которое предстало предо мной, у меня и по сей день холодеет в жилах кровь. Лицом к нам, привалившись к скале и раскинув в стороны руки, сидел на полу евнух — но он был мертв! Глаза его были вытаращены, челюсть отвалилась, толстые щеки обвисли, жидкие волосы стояли дыбом, и на лице застыло выражение такого нездешнего ужаса, что, глядя на него, и сам ты мог сойти с ума. Но это еще не все! Вцепившись в его подбородок когтями, висела огромная седая летучая мышь, которая вылетела из пирамиды, когда я открыл ход, и исчезла потом в небе, но вернулась вместе с нами в самое сердце гробницы. Она висела на подбородке мертвого евнуха и медленно раскачивалась, и мы видели, как горят ее красные глаза.
Оцепенев от страха, стояли мы на подламывающихся ногах и глядели на эту омерзительную тварь, а она вдруг расправила свои гигантские крылья, разжала когти, выпустила подбородок евнуха и поплыла к нам. Вот она остановилась в воздухе прямо перед лицом Клеопатры, медленно взмахивая своими белыми крыльями. Потом пронзительно крикнула, точно разъяренная женщина, и полетела к входу в свою оскверненную гробницу, нырнула в колодец и исчезла в камере, где стоял ее саркофаг. Я обессиленно прислонился к стене. А Клеопатра сползла на пол и, стиснув голову локтями, стала отчаянно кричать, она кричала и не могла остановиться, крики метались по пустым коридорам, эхо нескончаемо их множило, многократно усиливало, и казалось, своды сейчас расколются от хриплого пронзительного вопля.
— Встань! — приказал я. — Встань, и бежим отсюда скорее, пока не вернулся дух, который преследует нас. Если ты сейчас поддашься малодушию и будешь медлить, ты погибнешь.
Она, шатаясь, поднялась на ноги — и, боги великие, никогда я не забуду выражение ее искаженного ужасом пепельного лица и горящих глаз. Поспешно схватив светильники, мы прошли мимо ужасного, словно явившегося в кошмарном сне трупа евнуха, причем я вел ее за руку. Вот мы добрались до большой погребальной камеры, где стоял саркофаг супруги фараона Менкаура, миновали ее, потом кинулись бежать по коридору. Что, если летучая мышь закрыла все три массивные двери? Но нет, они открыты, и мы молнией бросились в них; я остановился и запер только последнюю. Прикоснулся к камню в том месте, которое было обозначено на плане, и тяжелейшая дверь рухнула вниз, отрезав нас от мертвого евнуха и от чудовища, которое раскачивалось, вцепившись в его подбородок. Мы были в белой комнате с рельефами на стенах, осталось одолеть последний крутой подъем. О, как он оказался тяжек, этот подъем! Дважды Клеопатра оскальзывалась на гладких полированных камнях пола и падала. Когда она упала во второй раз — мы уже были на середине пути, — она уронила светильник, и не удержи я ее, сама бы скатилась бы вместе с ним вниз. Но ловя ее, я тоже выпустил из рук свой светильник, он понесся вниз, подскакивая, и мы остались в полной темноте. И может быть, над нами в этой тьме витало то чудовище из кошмара!
— Будь мужественна! — воскликнул я. — О любовь моя, будь мужественна! Да, подъем крут, но нам осталось уже немного; и хоть здесь темно, коридор прямой, никакие неожиданности нас здесь не подстерегают. Если тебе тяжело нести камни, брось их.
— Ну уж нет, никогда, — прошептала она, с трудом переводя дух. — Перенести такое и потом бросить изумруды? Да я скорее умру!
Вот когда мне открылось истинное величие души этой женщины: в полнейшей тьме, дрожа от пережитых ужасов и понимая, что наша жизнь висит на волоске, она прижалась ко мне и стала подниматься по головокружительно крутому коридору. Шаг, другой… мы двигались, держа друг друга за руку, я чувствовал, что сердце вот-вот разорвется в груди, но наконец милость или гнев богов привели нас туда, откуда мы увидели пробившийся сквозь узкий ход в пирамиде слабый свет луны. Еще несколько усилий — и мы у выхода, свежий ночной ветерок овевал нам лица, точно дуновение небес. Я протиснулся сквозь отверстие и, стоя на груде валунов, поднял и вытащил наружу Клеопатру. Она спустилась вниз, медленно сползла на землю и осталась лежать без движения.
Я дрожащими руками нажал на выступ в поворотном камне, он сдвинулся и встал на место, как будто никогда не открывал тайный вход в пирамиду. Я спрыгнул вниз, разбросал валуны, которые мы складывали с евнухом и поглядел на Клеопатру. Она лежала в глубоком обмороке, и хотя лицо ее было покрыто копотью и пылью, она была так бледна, что сначала я подумал: она умерла. Я приложил руку к ее сердцу и почувствовал, что оно бьется; я сам был так измучен, что бросился на песок рядом с ней: надо хоть немного отдохнуть и восстановить силы.
Глава XII, повествующая о возвращении Гармахиса; о его встрече с Хармианой и об ответе, который Клеопатра дала послу триумвира Антония Квинту Деллию
Наконец я сел и, положив голову царицы Египта себе на колени, стал приводить ее в чувства. Как пленительно хороша она была даже сейчас, измученная, обессиленная, в плаще длинных распустившихся волос! Как мучительно прекрасно было в бледном свете луны лицо этой женщины, память о красоте и преступлениях которой переживет незыблемую пирамиду, что высится над нами! Глубокий обморок стер с ее лица налет лжи и коварства, осталось лишь божественное очарование вечной женственности, смягченное тенями ночи, в высокой отрешенности похожего на смерть сна. Я не мог отвести от нее глаз, и сердце мое разрывалось от любви к ней; мне кажется, я любил ее еще сильнее оттого, что пал так низко и совершил ради нее столько несмываемых преступлений, оттого, что вместе с ней мы пережили такой ужас. Без сил, истерзанный страхом и сознанием вины, я тянулся к ней сердцем и жаждал, чтобы она дала мне отдохновение, ибо только она одна осталась у меня на свете. Она поклялась стать моей супругой, и с помощью сокровища, которое мы сейчас добыли, мы с ней вернем Египту прежнее могущество, победим его врагов, — еще можно все поправить. Ах, если бы я знал, когда и где мне еще раз доведется держать на коленях голову этой женщины, бледную, с печатью смерти на лице! Если бы я мог провидеть в тот миг грядущее!
Я стал растирать ее руки, потом склонился и поцеловал в губы, и от моего поцелуя она очнулась — очнулась и, сдавленно вскрикнув в страхе, задрожала всем своим хрупким телом и уставилась мне в лицо широко раскрытыми глазами.
— Ах, это ты, ты! Теперь я вспомнила — ты спас меня и вывел из гробницы, где живет это чудовище! — И она обхватила меня руками, привлекла к себе и поцеловала. — Пойдем, любовь моя! Скорее прочь отсюда! Я смертельно хочу пить и… боги, как же я устала! А эти изумруды впиваются мне в грудь. Никому еще богатства не доставались такими муками. Уйдем, уйдем, на нас падает тень этой ужасной пирамиды! Смотри, небо сереет, это рассвет уже раскинул свои крылья. Как прекрасен мир, какое счастье видеть наступающий день! В этом лабиринте, где царит вечная ночь, я думала, что никогда больше не увижу лик зари! Перед моими глазами неотступно стоит лицо моего мертвого раба, и на его подбородке качается это омерзительное чудовище. Подумай только, он будет сидеть там вечно, — вечно! — запертый вместе с чудовищем! Но пойдем. Где нам найти воды? За несколько глотков воды я отдала бы изумруд!
— Вокруг возделанных полей за храмом прорыт канал, он недалеко, — сказал я. — Если кто-то нас увидит, объясним, что мы паломники, заблудились здесь ночью среди гробниц. Поэтому как можно тщательней скрой лицо под покрывалом, Клеопатра, и сама закутайся поплотнее: никто не должен видеть эти камни.
Она закуталась, спрятала лицо, я поднял ее на руки и посадил на ослика, который был привязан неподалеку. Мы медленно двинулись по долине и наконец подошли к тому месту, где в образе царственного Сфинкса, увенчанная диадемой фараонов Египта, величественно возвышается над окрестными землями статуя бога Хор-эм-ахета
[214] (греки называют его Гармахисом), глаза которого неизменно устремлены на восток. В этот миг первые лучи, посланные солнцем, пронзили рассветную дымку и упали на губы Хор-эм-ахета, выражающие небесный покой, — Заря поцеловала бога Рассвета, приветствуя его. Свет разгорался, залил сверкающие грани двадцати пирамид и, словно благословляя жизнь в смерти, хлынул в порталы десяти тысяч гробниц. Он затопил золотым потоком пески пустыни, сорвал с неба тяжелое покрывало ночи, устремился к зеленым полям, к роще пышных пальм. И вот из-за горизонта торжественно поднялся со своего ложа царственный Ра — настал день.
Мы прошли мимо храма из гранита и алебастра, который был построен в честь великого бога Хор-эм-ахета задолго до того, как на египетский трон сел фараон Хеопс, спустились по пологому склону и вышли к берегу канала. Там мы напились, и эта мутная вода показалась нам слаще самых изысканных вин Александрии. Мы также смыли с наших лиц и рук копоть и пыль гробницы, освежились, привели себя в порядок. Когда Клеопатра мыла шею, нагнувшись к воде, огромный изумруд выскользнул у нее из-за пазухи и упал в канал, и я с великим трудом отыскал его в тине. Потом я снова посадил Клеопатру на ослика, и мы медленно, ибо я едва держался на ногах от усталости, побрели к берегам Сихора, где стояло на якоре наше судно. И вот мы наконец приблизились к нему, встретив по пути всего несколько крестьян, которые шли трудиться на своих полях, я отпустил ослика в том самом месте, где вчера поймал, мы взошли на судно и увидели, что все наши гребцы спят. Мы разбудили их велели поднимать паруса, а про евнуха сказали, что он пока поживет здесь, — и это была истинная правда. Мы спрятали изумруды и все те золотые украшения и изделия, что нам удалось принести с собой, и вскорости барка отчалила.
Мы плыли в Александрию почти пять дней, ибо дул встречный ветер; и каким же счастьем были наполнены эти дни! Правда, сначала Клеопатра была молчалива и угнетена, ибо то, что она увидела и пережила в глубинах пирамиды, преследовало ее, не оставляя ни на миг. Но скоро ее царственный дух воспрянул и сбросил тяжесть, которая камнем давила ее, и она снова стала такой, как прежде, — то веселой, то поглощенной возвышенными мыслями, то страстной, то холодной, то неприступно величественной, то искренней и простой — переменчивой, как ветер, и, как небо, прекрасной, бездонной, непостижимой!
Ночь за ночью, летящие как бы вне времени и наполненные беспредельным счастьем, — это были последние часы счастья, которые подарила мне жизнь, — мы сидели с ней на палубе, держа друг друга за руку, и слушали, как плещут о борт нашего судна волны, смотрели, как убегает вдаль лунная дорожка, как мягко серебрится черная вода, пропуская в свои глубины лунные лучи. Мы бесконечно говорили о том, как любим друг друга, о том, что скоро станем мужем и женой, обсуждали, что сможем сделать для Египта. Я рассказывал ей о своих планах войны с Римом, которые у меня уже возникли, — ведь теперь у нас довольно средств, мы можем отстоять свою свободу; она их все одобряла и нежно говорила, что согласна со всем, что я задумал, ведь я так мудр. Четыре ночи миновали, как единый миг.
О, эти ночи на Ниле! Воспоминание о них терзает меня до сих пор. Во сне я снова и снова вижу, как дробится и пляшет на воде отражение луны, слышу голос Клеопатры, шепчущий слова любви, он сливается с шепотом волн. Канули в вечность те блаженные ночи, умерла луна, что озаряла их; волны, которые качали нас на своей груди, точно в колыбели, влились в соленое море и растворились в нем, и там, где мы целовали друг друга и сжимали в объятьях, когда-нибудь будут целоваться влюбленные, которые еще не родились на свет. Сколько счастья обещали эти ночи, но обещанию не суждено было сбыться, оно оказалось пустоцветом — цветок завял, упал на землю и засох, и вместо счастья меня постигло величайшее несчастье. Ибо все кончается тьмой и тленом, и тот, кто сеет глупость, пожинает скорбь. О, эти ночи на Ниле!
Но вот сон кончился — мы снова оказались за ненавистными стенами прекрасного дворца на мысе Лохиас.
— Куда это вы, Гармахис, ездили с Клеопатрой? — спросила меня Хармиана, встретившись со мной случайно в день возвращения. — Замыслил какое-то новое предательство? Или любовники просто уединились, чтобы им никто не докучал?
— Я ездил с Клеопатрой по тайным делам чрезвычайной государственной важности, — сухо ответил я.
— Ах, вот как! Любая тайна чревата злом, — не забудь, самые коварные птицы летают ночью. А ты, Гармахис, достаточно умен и понимаешь, что тебе нельзя открыто показываться в Египте.
От ее слов я вспыхнул гневом, ибо мне было непереносимо презрение этой хорошенькой девушки.
— Неужели твой язык должен язвить без передышки? — спросил я ее. — Так знай же: я был там, куда тебе не позволено и приблизиться; мы пытались добыть средства, которые помогут Египту удержаться в борьбе с Антонием и не стать его добычей.
— Вот оно что, — проговорила она, метнув в меня быстрый взгляд. — Глупец! Ты зря трудился, Египет все равно станет добычей Антония, сколько бы ты ни старался его спасти. Что ты сегодня значишь для Египта?
— Мои старания, быть может, действительно ничего не стоят; но когда против Антония выступит Клеопатра, он не сможет одолеть Египет.
— Сможет и обязательно одолеет его с помощью самой Клеопатры, — проговорила Хармиана и с горечью усмехнулась. — Когда царица торжественно проплывет со всей своей свитой по Кидну, потом за ней в Александрию, без всякого сомнения, увяжется этот солдафон Антоний — победитель и такой же, как ты, раб!
— Ложь! Ты лжешь! Клеопатра не поплывет в Тарс, и Антоний не явится в Александрию, а если явится, то только воевать.
— О, ты в этом так уверен? — И она негромко рассмеялась. — Ну что же, тешь себя такими надеждами, если тебе приятно. Через три дня ты будешь все знать. До чего же легко обвести тебя вокруг пальца, одно удовольствие смотреть! Прощай же! Иди мечтать о своей возлюбленной, ибо нет не свете ничего слаще любви.
И она исчезла, оставив меня в гневе и тревоге, которую посеяла в моем сердце.
Больше я Клеопатру в тот день не видел, но на следующий мы встретились. Она была в дурном расположении духа и не нашла для меня ласкового слова. Я завел речь о войсках, которые будут защищать Египет, но она отмахнулась от разговора.
— Зачем ты докучаешь мне? — сердито набросилась она на меня. — Разве не видишь, что я извелась от забот? Вот дам завтра Деллию ответ, и будем обсуждать дела, с которыми ты пришел.
— Хорошо, я подожду до завтра, до того, как ты дашь Деллию ответ, — сказал я. — А знаешь ли ты, что еще вчера Хармиана, которую все во дворце называют хранительницей тайн царицы, — так вот, Хармиана вчера поклялась, что ты скажешь Деллию: «Я хочу мира и поплыву к Антонию!»
— Хармиане неведомы мои замыслы, — отрезала Клеопатра и в сердцах топнула ножкой, — а если у нее такой длинный язык, она будет тотчас же изгнана из дворца, как того и заслуживает. Хотя, если говорить правду, — возразила она сама себе, — в этой головке больше ума, чем у всех моих тайных советников вместе взятых, к тому же никто не умеет так ловко этот ум применить. Ты знаешь, что я продала часть этих изумрудов богатым иудеям, которые живут в Александрии, и продала по очень дорогой цене — за каждый получила пять тысяч сестерций! Но я продала всего несколько, сказать правду, они пока больше просто не могли купить. Вот было зрелище, когда они увидели камни: от алчности и изумления глаза у них сделались огромные, как яблоки. А теперь, Гармахис, оставь меня, я очень утомлена. Никак не изгладится воспоминание о подобной кошмару ночи в пирамиде.
Я встал и поклонился, но медлил уходить.
— Прости меня Клеопатра, а как же наше бракосочетание?
— Наше бракосочетание? А разве мы не муж и жена?
— Да, но не перед миром и людьми. Ты обещала.
— Конечно, Гармахис, я обещала, и завтра, едва только я избавлюсь от этого наглеца Деллия, я выполню свое обещание и объявлю всему двору, что ты — повелитель Клеопатры. Непременно будь в зале. Ты доволен?
И она протянула мне руку для поцелуя, глядя на меня странным взглядом, как будто боролась с собой. Я ушел, но ночью попытался еще раз увидеть Клеопатру, однако это не удалось. «У царицы госпожа Хармиана», — твердили евнухи и никого не пропускали.
Утром двор собрался в большом тронном зале за час до полудня, я тоже пришел; сердце то бешено колотилось, то замирало — скорее бы дождаться, что ответит Клеопатра Деллию, и услышать, что я — соправитель царицы Египта. Двор был в полном составе, все поражали великолепием нарядов: советники, вельможи, военачальники, евнухи, придворные дамы — все были здесь, кроме Хармианы. Миновал час, но Клеопатра с Хармианой все не появлялись. Наконец через боковую дверь незаметно проскользнула Хармиана и встала среди придворных дам у трона. Она сразу же бросила взгляд на меня, и в ее глазах я увидел торжество, хотя не мог понять, по поводу чего она торжествует. Как мог я догадаться, что она уже погубила меня и обрекла на гибель Египет?
Раздались звуки фанфар, и в парадном церемониальном наряде, с золотым уреем на лбу и с огромным изумрудом в виде скарабея, который Клеопатра извлекла из нутра мертвого фараона, сияющим сейчас, как звезда, на ее груди, величественно вошла царица и двинулась к трону в сопровождении стражников-галлов в сверкающих доспехах. Ее прелестное лицо было сумрачно, дремотно-отрешенные глаза темны, и никто не мог прочесть, что в них таится, хотя все придворные так и встрепенулись в ожидании того, что произойдет. Она медленно опустилась на трон, точно каждое движение стоило ей великого труда, и обратилась к главному глашатаю по-гречески:
— Ожидает ли посланец благородного Антония?
Глашатай поклонился и ответил, что да, ожидает.
— Пусть войдет и выслушает наш ответ.
Двери распахнулись, и в сопровождении свиты военачальников в тронный зал своим мягким, кошачьим шагом вошел Деллий в золотых доспехах и пурпурном плаще и низко склонился перед престолом.
— Великая и прекраснейшая царица Египта, — вкрадчиво заговорил он, — тебе было угодно милостиво повелеть, чтобы я сегодня явился выслушать твой ответ на послание благородного триумвира Антония, к которому я завтра отплываю в Киликию, в Тарс, и вот я здесь. Молю простить дерзость моих речей, о царица, но выслушай меня: прежде чем с твоих прелестных уст сорвутся слова, которых не вернуть, подумай многажды. Объяви Антонию войну — и Антоний разобьет тебя. Но явись пред ним, сияя красотой, средь волн, пеннорожденная, подобная твоей матери — богине Афродите, и никакого поражения тебе не надо опасаться, он осыплет тебя всеми дарами, которые любы сердцу царицы и женщины, — ты получишь империю, роскошные дворцы, города, власть, славу и богатство, и никто не посмеет посягнуть на твою корону. Не забывай: Антоний держит все страны Востока в своей руке воина; его волею восходят на трон цари; вызвав его неудовольствие, они лишаются и трона, и жизни.
Он поклонился и, скрестив руки на груди, стал терпеливо ждать ответа.
Минуты шли, Клеопатра молчала, она сидела, точно сфинкс Хор-эм-ахет, безмолвная, непроницаемая, и глядела мимо стен огромного тронного зала ничего не видящими глазами.
Потом раздалась нежная музыка ее голоса — она заговорила; я с трепетом ждал, что вот сейчас Египет объявит войну Риму.
— Благородный Деллий, мы много размышляли o том, что содержится в послании, которое ты привез от великого Антония нам, отнюдь не блистающей мудростью царице Египта. Мы долго вдумывались в него, держали совет с оракулами богов, с мудрейшими из наших друзей, прислушивались к голосу нашего сердца, которое неусыпно печется о благе нашего народа, как птица о своих птенцах. Оскорбительны слова, что ты привез нам из-за моря; мне кажется, их было бы пристойнее послать какому-нибудь мелкому царьку крошечной зависимой страны, а вовсе не ее величеству царице славного Египта. И потому мы сосчитали, сколько легионов мы сможем снарядить, сколько трирем и галер поплывут по нашему приказу в море, сосчитали, сколько у нас денег, — и оказалось, что мы сможем купить все необходимое, дабы вести войну. И мы решили, что, хоть Антоний и силен, Египту его сила не страшна.
Она умолкла, по залу запорхали рукоплескания — все выражали восхищение ее гордой отповедью. Один лишь Деллий протянул вперед руки, как бы отталкивая ее слова. Но она заговорила снова!
— Благородный Деллий, нам хотелось бы завершить на этом свой ответ и, укрепившись в наших могучих каменных цитаделях и в цитаделях сердец наших воинов, перейти к действиям. Но мы этого не сделаем. Мы не совершали тех поступков, которые молва превратно донесла до слуха благородного Антония и в которых он столь грубо и оскорбительно обвинил нас; и потому мы не поплывем в Киликию оправдываться.
Снова вспыхнули рукоплескания, мое сердце бешено заколотилось от торжества; потом вновь наступила тишина, и Деллий спросил:
— Так, стало быть, царица Египта, я должен передать Антонию, что ты объявляешь ему войну?
— О нет, — ответила она, — мы объявляем мир. Слушай же: мы сказали, что не поплывем в Киликию оправдываться перед ним, и мы действительно не поплывем оправдываться. Однако, — тут она улыбнулась в первый раз за все время, — мы согласны плыть в Киликию, и плыть без промедления, дабы на берегах Кидна доказать наше царственное расположение и наше миролюбие.
Я услыхал ее слова и ушам своим не поверил. Не изменяет ли мне слух? Неужели Клеопатра так легко нарушает свои клятвы? Охваченный безумием, сам не понимая, что я делаю, я громко крикнул:
— О царица, вспомни!
Она повернулась ко мне с быстротой тигрицы, глаза вспыхнули, прелестная головка гневно вскинулась.
— Молчи, раб! — произнесла она. — Кто позволил тебе вмешиваться в нашу беседу? — Твое дело — звезды, война и мир — дело тех, кто правит миром.
Я сжался от стыда и тут увидел, как на лице Хармианы снова мелькнула улыбка торжества, потом на него набежала тень — быть может, ей было жаль меня в моем падении.
— Ты просто уничтожила этого наглого невежду, сказал Деллий, указывая на меня пальцем в сверкающих перстнях. — А теперь позволь мне, о царица Египта, поблагодарить тебя от всего сердца за твои великодушные слова и…
— Нам не нужна твоя благодарность, о благородный Деллий; и не пристало тебе корить нашего слугу, — прервала его Клеопатра, гневно хмурясь, — мы примем благодарность из уст одного лишь Антония. Возвращайся к своему повелителю и передай ему, что, как только он успеет подготовить все, чтобы оказать нам достойный прием, наши суда поплывут вслед за тобой. А теперь прощай! На борту твоего корабля тебя ожидает скромный знак нашей милости.
Деллий трижды поклонился и пошел к выходу, а все придворные встали, ожидая, что скажет царица. Я тоже ждал, надеясь, что, может быть, она все-таки выполнит клятву и назовет меня перед лицом всего Египта своим царственным супругом. Но она молчала. Все так же мрачно хмурясь, она встала и в сопровождении своих стражей прошествовала из тронного зала в Алебастровый. Тогда и придворные стали расходиться, и, проходя мимо меня, все до единого вельможи и советники презрительно кривились. Никто из них не знал моей тайны, никто не догадывался о нашей с Клеопатрой любви и о ее решении стать моей супругой, но все завидовали мне, ибо я был в милости у царицы, и теперь не просто радовались моему падению, но открыто ликовали. Однако что мне было до их радости их презрения, я стоял, окаменев от горя, и чувствовал, что надежда улетела и земля ускользает у меня из-под ног.
Глава XIII, повествующая об обвинениях, которые Гармахис бросил в лицо Клеопатре, о сражении Гармахиса с телохранителями Клеопатры; об ударе, который нанес ему Бренн, и о тайной исповеди Клеопатры
Наконец тронный зал опустел, я тоже хотел подняться к себе, но в эту минуту меня хлопнул по плечу один из евнухов и грубо приказал идти в покои царицы, ибо она желает меня видеть. Час назад этот негодяй пресмыкался бы передо мной во прахе, но он все слышал и сейчас — такова уж подлая натура рабов — готов был топтать меня ногами, как мир всегда топчет павших. Те, кто сорвался с вершины и упал, познают всю горечь позора. И потому горе великим, ибо их на каждом шагу подстерегает падение!
Я с такой яростью глянул на раба, что он отскочил от меня, точно трусливая собака; потом пошел к Алебастровому Залу, и стражи меня пропустили. В центре зала возле фонтана сидела Клеопатра, с ней были Хармиана, гречанки Ирада, Мерира и еще несколько ее придворных дам.
— Ступайте, — сказала она им, — я хочу говорить с моим астрологом.
И все они ушли, оставив нас вдвоем.
— Стой там, — произнесла она, впервые за все время подняв глаза. — Не подходи ко мне, Гармахис: я тебе не доверяю. Может быть, ты припас новый кинжал. По какому праву осмелился ты вмешаться в мою беседу с римлянином? Отвечай!
Кровь моя вскипела, в душе заклокотали горечь и гнев, точно волны во время бури.
— Нет, это ты ответь мне, Клеопатра! — властно потребовал я. — Где твоя торжественная клятва, которой ты поклялась, положив руку на мертвое сердце Менкаура, вечноживущего Осириса? Где твоя клятва, что ты объявишь войну этому римлянину Антонию? Где твоя клятва, что ты назовешь меня своим царственным супругом перед лицом всего Египта?! — Голос мой прервался, я умолк.
— О да, Гармахис, кому, как не тебе, напоминать о клятвах, ведь сам-то ты их никогда не нарушал! — язвительно проговорила она. — И все же, о ты, целомудреннейший из жрецов Исиды; вернейший в мире друг, который никогда не предавал своих друзей; честнейший, достойнейший, благороднейший муж, который никогда не отдавал свое право на трон, свою страну и ее свободу в обмен на мимолетную любовь женщины, — и все же, откуда ты знаешь, что моя клятва — пустой звук?
— Я не буду отвечать на твои упреки, Клеопатра, ответил я, изо всех сил сдерживаясь, — я все их заслужил, хоть и не из твоих уст мне их слышать. Я объясню тебе, откуда я все знаю. Ты собираешься плыть к Антонию; ты прибудешь в своем роскошнейшем одеянии, как советовал тебе этот лукавый римлянин, и станешь пировать с тем, чей труп ты должна бы выбросить стервятникам — пусть они пируют над ним. Может быть, ты даже намереваешься расточить сокровища, которые ты выкрала из мумии Менкаура, — сокровища, которые Египет хранил тысячелетия про черный день, — на буйные пиры, и этим увенчаешь бесславную гибель Египта. Знаю я потому, что ты — клятвопреступница и ловко обманула меня, а я-то, я-то полюбил тебя и свято тебе верил; знаю потому, что еще вчера ты клялась сочетаться со мной браком, а сегодня осыпаешь ядовитыми насмешками и оскорбила перед этим римлянином и перед всем двором!
— Я клялась сочетаться с тобой браком? Боги, что такое брак? Разве это истинный союз сердец, узы, прекрасные, точно летящая паутинка, и столь же невесомые, но соединяющие две души, когда они плывут по полному видений ночному океану страсти, и тающие в каплях утренней росы? Тебе не кажется, что брак скорее напоминает железную цепь, в которую насильно заковали на всю жизнь двоих, и когда тонет один, за ним на дно уходит и другой, точно приговоренный к жесточайшей смерти раб?
[215] Брак! И чтобы я в него вступила! Чтобы я пожертвовала свободой, чтобы своей волей надела на себя ярмо тягчайшего рабства, которое влачат женщины, ибо себялюбивые мужчины, пользуясь тем, что они сильнее, заставляют нас делить с ними ставшее ненавистным ложе и выполнять обязанности, давно уже не освященные любовью! Какой же тогда смысл быть царицей, если я не могу избегнуть злой судьбы рожденных в низкой доле? Запомни, Гармахис: больше всего на свете женщина страшится двух зол — смерти и брака, причем смерть для нее даже милее, ибо она дарит нам покой, а брак, если он оказался несчастливым, заживо ввергает нас во все муки, которые нам уготовали чудовища Аменти. Нет, меня не может испачкать клевета черни, которая из зависти порочит те истинно чистые, возвышенные души, которые не выносят принуждения и никогда не станут насильно удерживать привязанность другого и потому, Гармахис, я могу любить, но в брак я не вступлю никогда!
— Но лишь вчера, Клеопатра, ты клялась, что назовешь меня своим супругом и посадишь рядом с собой на трон, что ты объявишь об этом всему Египту!
— Вчера, Гармахис, красная корона вокруг луны предвещала бурю, а нынче день так ясен! Но кто знает: завтра, быть может, налетит гроза, кто знает, может быть, я выбрала лучший и самый легкий путь спасти Египет от римлян. Кто знает, Гармахис, может быть, ты еще назовешь меня своей супругой.
Больше я не мог вынести ее лжи, ведь я видел, что она играет мной. И я выплеснул в лицо ей все, что терзало мне сердце.
— Клеопатра, ты поклялась защищать Египет — и готовишься предать его Риму! Ты поклялась использовать сокровища, тайну которых я тебе открыл, только во благо Египта, — и что же? Ты готовишься с их помощью ввергнуть Египет в бесславие и навеки заковать в кандалы! Ты поклялась сочетаться со мной браком, ведь я люблю тебя и пожертвовал тебе всем, — и что же? Ты глумишься надо мной и отвергаешь меня! И потому слушай меня — не меня, а грозных богов, которые вещают моими устами: проклятие Менкаура падет на тебя, ибо ты поистине ограбила его священный прах и надругалась над ним! А теперь отпусти меня, о воплощение порока в пленительнейшей оболочке, отпусти меня, царица лжи, которую я полюбил на свою погибель и которая навлекла на меня последнее проклятье судьбы! Позволь мне где-нибудь укрыться и никогда больше не видеть твоего лица!
Она в гневе поднялась, и гнев ее был ужасен.
— Отпустить тебя, чтобы ты на свободе стал замышлять зло против меня? Нет, Гармахис, я больше не позволю тебе плести заговоры и покушаться на мой трон! Я повелеваю, чтобы ты тоже сопровождал меня, когда я поплыву к Антонию в Киликию, и там, быть может, я отпущу тебя! — И не успел я произнести в ответ хоть слово, как она ударила в серебряный гонг, что висел возле нее.
Глубокий мелодичный звон еще не замер, а в зал уже входили в одну дверь Хармиана и придворные дамы Клеопатры, в другую — четыре телохранителя царицы, могучие воины в оперенных шлемах и с длинными белокурыми волосами.
— Взять этого изменника! — крикнула Клеопатра, указывая на меня. Начальник стражи — то был Бренн — вскинул руку в салюте и двинулся ко мне с обнаженным мечом.
Но в моем отчаянии я больше не дорожил жизнью — пусть они меня зарубят, я словно обезумел и, бросившись на Бренна, нанес ему такой тяжелый удар кулаком под подбородок, что великан упал навзничь, только латы загремели на мраморном полу. Едва лишь он упал, я выхватил у него меч и круглый щит и во всеоружии встретил следующего солдата, который с воплем кинулся на меня, подставил его удару щит и сам занес над ним свой меч. Я вложил в удар всю свою силу и вонзил меч в самое основание шеи, перерубив металл доспехов: колени телохранителя согнулись, он медленно упал мертвый. Третьего, когда настал его черед, я поймал на кончик моего меча прежде, чем он успел опустить свой, пронзил его сердце, и он мгновенно умер. Потом последний устремился ко мне с криком: «Таранис!», и я рванулся ему навстречу, ибо кровь моя воспламенилась. Женщины пронзительно кричали, только Клеопатра стояла и молча наблюдала неравный бой. Вот мы сошлись, и я всей своей яростью обрушился на него — да, то был поистине могучий удар, ибо меч рассек железный щит и сам сломался, теперь я был безоружен. С торжествующим криком телохранитель высоко занес свой меч и опустил на мою голову, но я успел подставить щит. Он снова опустил меч, и снова я отбил удар, но когда он замахнулся в третий раз, я понял, что бесконечно это продолжаться не может, и с криком ткнул мой щит ему в лицо. Скользнув по его щиту, мой щит ударил солдата в грудь, и от зашатался. Он не успел обрести равновесие, я обманул его бдительность и обхватил за пояс.
Наверно, целую минуту я и высоченный страж отчаянно боролись, но я был так силен в те дни, что наконец поднял его, как игрушку, и швырнул на мраморный пол, у него не осталось ни одной целой кости, и он навек умолк. Но я и сам не удержался на ногах и рухнул на него, и, когда я упал, начальник стражи Бренн, которого я еще раньше сбил кулаком наземь и который тем временем очнулся, подкрался ко мне сзади и, подняв меч одного из тех солдат, которых я убил, полоснул меня по голове и по плечам. Но я лежал на пату, и пока меч летел такое большое расстояние, удар потерял часть своей силы, к тому же мои густые волосы и вышитая шапочка смягчили его; и потому Бренн тяжело меня ранил, но не убил. Однако сражаться я больше не мог.
Трусливые евнухи, которые сбежались, заслышав звуки боя, и наблюдали за нами, сбившись в кучу, точно стадо баранов, сейчас увидели, что я лишился сил, бросились на меня и хотели заколоть ножами. Но Бренн, теперь, когда я был повержен, не стал меня добивать, он просто стоял надо мной и ждал. А евнухи, без всякого сомнения, растерзали бы меня, потому что Клеопатра глядела на всех нас точно во сне и никого не останавливала. Вот они уже откинули мне голову назад, вот уже острия их ножей у моего горла, но тут ко мне бросилась Хармиана, растолкала их, крича: «Собаки, трусы!», и закрыла меня своим телом, так что они не могли теперь меня убить. Тогда Бренн, бормоча ругательства, схватил одного евнуха, другого, третьего и всех их отшвырнул от меня.
— Даруй ему жизнь, царица! — обратился он к Клеопатре на своей варварской латыни. — Клянусь Юпитером, вот доблестный боец! Я сам свалился от его удара, как бык на бойне, а трое моих людей лежат мертвехоньки, и ведь он был без оружия и не ожидал нападения! Нет, на такого бойца нельзя держать зла! Прояви милость, царица, даруй ему жизнь и отдай его мне.
— Да, пощади его! Даруй ему жизнь! — воскликнула Хармиана, бледная, дрожа с головы до ног.
Клеопатра приблизилась к нам и поглядела на двух мертвых телохранителей и одного умирающего, которого я разбил о мраморный пол, поглядела на меня, своего любовника, которому она всего два дня назад давала клятвы верности, а сейчас я лежал в крови, и моя раненая голова покоилась на белом одеянии Хармианы.
Я встретился глазами с царицей.
— Мне не нужна жизнь! — с усилием прошептал я. — Vae victis!
Ее лицо залилось краской — надеюсь, это была краска стыда.
— Стало быть, Хармиана, ты в глубине души все-таки его любишь, — сказала она с легким смешком, — иначе не закрыла бы его своим хрупким телом и не защитила от ножей этих бесполых псов. — И она бросила презрительный взгляд на евнухов.
— Нет! — пылко воскликнула девушка. — Я не люблю его, но мне невыносимо видеть, когда такого отважного бойца предательски убивают трусы.
— О да, он храбр, — проговорила Клеопатра, — и доблестно сражался; я даже в Риме, во время гладиаторских боев, не видела такой отчаянной схватки! Что ж, я дарую ему жизнь, хоть это и слабость с моей стороны — женская слабость. Отнесите звездочета в его комнату и охраняйте там, пока он не поправится — или пока не умрет.
Голова у меня закружилась, волной накатили дурнота и слабость, я стал проваливаться в пустоту, в ничто…
Сны, сны, сны, нескончаемые и бесконечно меняющиеся, казалось, они год за годом носят меня по океану муки. И сквозь эти сны мелькает видение нежного женского лица с темными глазами, прикосновение белой руки так отрадно, оно утишает боль. Я так же вижу иногда царственный лик, он склоняется над моим качающимся на бурных волнах ложем, — от меня все время ускользает, чей этой лик, но его красота вливается в мою бешено пульсирующую кровь, я знаю — она часть меня… мелькают картины детства, я вижу башни храма в Абидосе, вижу седого Аменемхета, моего отца… и вечно, вечно я вижу или ощущаю величественный зал в Аменти, маленький алтарь и вокруг, у стен, божества, облаченные в пламя! Там я неотступно брожу, призываю мою небесную матерь Исиду, но вспомнить ее образ не могу; зову ее — и все напрасно! Не опускается облачко на алтарь, только время от времени глас божества грозно вещает: «Вычеркните имя сына Земли Гармахиса из живой книги Той, что вечно была, есть и будет! Он погиб! Он погиб! Он погиб!»
Но другой голос ему отвечает: «Нет, нет, подождите! Он искупит содеянное зло, не вычеркивайте имя сына Земли Гармахиса из живой книги Той, что вечно была, есть и будет! Страдания искупят преступление!»
Я очнулся и увидел, что лежу в своей комнате, в башне дворца. Я был так слаб, что едва мог поднять руку, и жизнь едва трепетала в моей груди, как трепещет умирающая птица. Я не мог повернуть голову, не мог пошевелиться, но в душе было ощущение покоя, словно бы какая-то черная беда миновала. Огонь светильника резал глаза, я закрыл их и, закрывая, услышал шелест женских одежд на лестнице, услышал быстрые легкие шаги, которые так хорошо знал. То были шаги Клеопатры!
Она вошла в комнату и стала медленно приближаться ко мне. Я чувствовал, как она подходит! Мое еле теплящееся сердце отвечало ударом на каждый ее шаг, из тьмы подобного смерти сна поднялась великая любовь к ней и вместе с любовью — ненависть, они схватились в поединке, терзая мою душу. Она склонилась надо мной, над моим лицом веяло ее ароматное дыхание, я даже слышал, как бьется ее сердце! Вот она нагнулась еще ниже, и ее губы нежно коснулись моего лба.
— Бедняжка, — тихо проговорила она. — Бедняжка, ты совсем ослаб, ты умираешь! Судьба жестоко обошлась с тобой. Ты был слишком хорош, и вот оказался добычей такой хищницы, как я, заложником в той политической игре, которую я веду. Ах, Гармахис, условия этой игры должен был бы диктовать ты! Эти заговорщики-жрецы сделали из тебя ученого, но не вооружили знаниями о человеке, не защитили от непобедимого напора законов Природы. И ты всем сердцем полюбил меня — ах, мне ли это не знать! Ты, столь мужественный,
полюбил глаза, которые, точно огни разбойничьего судна, манили и манили твою барку, пока она не разбилась о скалы; ты с такой страстью целовал уста, так свято верил каждому слову, что с них слетало, а эти уста тебе лгали, даже назвали тебя рабом! Что ж, игра была на равных, ибо ты хотел убить меня; и все же мое сердце скорбит. Стало быть, ты умираешь? — Прощай, прощай же! Никогда больше мы не встретимся с тобою на земле, и, может быть, так даже лучше, ибо кто знает, как бы я поступила с тобой, если бы ты остался жив, а мимолетная нежность, что ты вызвал во мне, прошла. Да, ты умираешь, так говорят эти ученые длиннобородые глупцы, — они мне дорого заплатят, если позволят тебе умереть. И где мы встретимся потом, когда я в последний раз брошу в этой игре свой шарик? Там, в царстве Осириса, мы будем с тобою равны. Пройдет немного времени, и мы встретимся, — через несколько лет или дней, быть может, даже завтра; и не отвернешься ли ты от меня теперь, когда знаешь обо мне все? Нет, ты и там будешь любить меня так же сильно, как любил здесь! Ибо любовь, подобная твоей, бессмертна, ее не могут убить обиды. Любовь, которая наполняет благородное сердце, может убить только презрение, оно разъест ее, как кислота, и обнаружит истинную суть любимого существа во всей ее жалкой наготе. Ты должен по-прежнему боготворить меня, Гармахис, ибо при всех пороках у меня великая душа, и я не заслужила твоего презрения. О, если бы я могла любить тебя той же любовью, какой ты любишь меня! Я и почти любила, когда ты убивал моих телохранителей, — почти, но чего-то этой любви недоставало…
Какая неприступная твердыня — мое сердце, оно никому не сдается, даже когда я распахиваю ворота, ни один мужчина не может его покорить! О, как мне постыло мое одиночество, как чудесно было бы раствориться в близкой душе! На год, на месяц, хоть на час забыть и ни разу не вспомнить о политике, о людях, о роскоши моего дворца и быть всего лишь любящей женщиной! Прощай, Гармахис! Иди к великому Юлию, которого ты совсем недавно вызвал своим искусством из царства мертвых и явил передо мной, и передай ему приветствия от его царственной египтянки. Что делать, я обманула тебя, Гармахис, я обманывала и Цезаря, — быть может, Судьба еще при жизни рассчитается со мной и обманутой окажусь я. Прощай, Гармахис, прощай!
Она пошла к двери, и в это время я услышал шелест еще одного платья, свет упал на ножку другой женщины.
— А, это ты, Хармиана. Как ни выхаживаешь ты его, он умирает.
— Да, — ответил голос Хармианы, бесцветный от горя. — Да, о царица, так говорят врачи. Сорок часов он пролежал в таком глубоком забытьи, что временами это перышко почти не шевелилось возле его губ, и ухо мое не слышало, бьется ли его сердце, когда я прижимала голову к его груди. Вот уже десять нескончаемых дней я ухаживаю за ним, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, я ни на миг не заснула, и глаза мои режет, точно в них насыпали песок, мне кажется, я сейчас упаду от усталости. И вот награда за мои труды! Все погубил предательский удар этого негодяя Бренна — Гармахис умирает!
— Любовь не считает свои труды, Хармиана, и не взвешивает заботу на весах торговца. Она радостно отдает все, что у нее есть, отдает бесконечно, пока душа не опустошится, и ей все кажется, что она отдала мало. Твоему сердцу дороги эти бессонные ночи у ложа больного; твоим измученным глазам отрадно это печальное зрелище — геркулес сейчас беспомощен и нуждается в тебе, слабой женщине, как дитя в матери. Не отрекайся, Хармиана: ты любишь этого мужчину, не отвечающего на твою любовь, и теперь, когда он в твоей власти, когда в его душе воцарилась отрешенная от жизни тьма, ты изливаешь на него свою нежность и тешишь себя мечтами, что он поправится и вы еще будете счастливы.
— Я не люблю его, царица, и доказала это тебе! Как я могу любить человека, который хотел убить тебя — тебя, мою царицу, которая мне дороже сестры! Я ухаживаю за ним из жалости.
Клеопатра негромко рассмеялась.
— Жалость — та же любовь, Хармиана. Неисповедимы пути женской любви, а твоя любовь совершила нечто поистине непостижимое, мне это ведомо. Но чем сильней любовь, тем глубже пропасть, в которую она может пасть, чтобы потом опять вознестись в небеса и снова низвергнуться. Бедная Хармиана! Ты — игрушка своей собственной страсти: сейчас ты нежна, как небо на рассвете, но когда ревность терзает твое сердце, становишься жестокой, как море. Так уж мы, женщины, устроены. Скоро, скоро, когда твое горестное бдение кончится, тебе не останется ничего, кроме слез, раскаяния — и воспоминаний.
И она ушла.
Глава XIV, повествующая о нежной заботе Хармианы; о выздоровлении Гармахиса; об отплытии Клеопатры со свитой в Киликию и о словах Бренна, сказанных Гармахису
Клеопатра ушла, и я долго лежал молча, собираясь с силами, чтобы заговорить. Но вот ко мне приблизилась Хармиана, склонилась надо мной, и из ее темных глаз на мою щеку упала тяжелая слеза, как из грозовой тучи падает первая крупная капля дождя.
— Ты уходишь от меня, — прошептала она, — ты умираешь, а я не могу за тобой последовать! О Гармахис, с какою радостью я умерла бы, чтобы ты жил!
И тут я наконец открыл глаза и слабым, но ясным голосом произнес:
— Не надо так горевать, мой дорогой друг, я еще жив. И скажу тебе правду: мне кажется, что я как бы родился заново.
Она вскрикнула от радости, ее залитое слезами лицо засияло и сделалось несказанно прекрасным. Мне вспомнилось серое небо в тот печальный час, что отделяет ночь от утра, и первые лучи зари, окрашивающие его румянцем. Прелестное лицо девушки порозовело, потухшие глаза замерцали, точно звезды, сквозь слезы пробилась улыбка счастья, — так вдруг начинают серебриться легкие волны, когда море целуют лучи восходящей луны.
— Ты будешь жить! — воскликнула она и бросилась на колени перед моим ложем. — Ты жив, а я-то так боялась, что ты умрешь! Ты возвратился ко мне! Ах, что я болтаю! Какое глупое у нас, у женщин, сердце! Это все от долгих ночей у твоего ложа. Нет, нет, тебе нельзя говорить, Гармахис, ты должен сейчас спать, тебе нужен покой! Больше ни одного слова, я запрещаю! Где питье, которое оставил этот длиннобородый невежда? Нет, не надо никакого питья! Засни, Гармахис, засни! — Она присела на полу у моего ложа и опустила на мой лоб свою прохладную ладонь, шепча: — Спи, спи…
Когда я пробудился, она по-прежнему была рядом со мной, но в окно сочился рассвет. Она сидела, подогнув под себя колени, ее ладонь лежала на моем лбу, головка с рассыпавшимися локонами покоилась на вытянутой руке.
— Хармиана, — шепотом позвал я ее, — стало быть, я спал!
Она в тот же миг проснулась и с нежностью взглянула на меня.
— Да, Гармахис, ты спал.
— Сколько же я проспал?
— Девять часов.
— И все эти долгие девять часов ты провела здесь, возле меня?
— Да, но это пустяки, я ведь тоже спала — боялась разбудить тебя, если пошевелюсь.
— Иди к себе, отдохни, — попросил я. — Ты так измучилась со мной, мне стыдно. Тебе нужен отдых, Хармиана!
— Не беспокойся обо мне, — ответила она, — я велю сейчас рабыне быть неотлучно при тебе и разбудить меня, если тебе что-то понадобиться; я лягу спать здесь же, в соседней комнате. А ты отдыхай. — Она хотела подняться, но тело ее так затекло в неудобной позе, что она тут же упала на пол.
Не могу описать, каким горьким стыдом наполнилось мое сердце, когда я это увидел. Увы, я в моей великой слабости не мог поднять ее!
— Ничего, пустяки, — сказала она, — лежи и не шевелись, у меня просто нога подвернулась. Ой! — Она поднялась и снова упала. — До чего же я неловкая! Это я со сна. Ну вот, все прошло. Сейчас пришлю рабыню. — И она пошла из комнаты, пошатываясь, точно пьяная.
Я тут же снова заснул, ибо совсем обессилел. Проснулся уже в полдень и почувствовал неутолимый голод. Хармиана принесла мне еду.
Я тут же все съел.
— Стало быть, я не умер, — сказал я.
— Нет, — и она вскинула головку, — ты будешь жить. Сказать правду, зря, я расточала на тебя свою жалость.
— Твоя жалость спасла мне жизнь, — с горечью сказал я, ибо теперь все вспомнил.
— О нет, пустяки, — небрежно бросила она. — В конце концов, ведь ты — мой двоюродный брат, к тому же я люблю ухаживать за больными, это истинно женское занятие. Я точно так же стала бы выхаживать любого раба. А теперь, когда опасность миновала, я уйду.
— Лучше бы ты позволила мне умереть, Хармиана, — проговорил я после долгого молчания, — ибо в жизни меня теперь не ждет ничего, кроме нескончаемого позора… Скажи мне, когда Клеопатра собирается плыть в Киликию?
— Она отплывает через двадцать дней и готовится поразить Антония таким блеском и такой роскошью, каких Египет никогда еще не видел. Признаюсь честно: я не представляю, где она взяла средства для всего этого великолепия, разве что по всему Египту на полях крестьян пшеница дала зерна из чистого золота.
Но я-то знал, откуда взялись богатства, и ничего ей не ответил, только застонал от муки. Потом спросил:
— Ты тоже плывешь с ней, Хармиана?
— Конечно, как и весь двор. И ты… и ты тоже поплывешь.
— Я? А я-то ей зачем?
— Ты — раб Клеопатры и должен идти за ее колесницей в золоченых цепях; к тому же она боится оставить тебя здесь, в Кемете; но главное — она так пожелала, а ее желание — закон.
— Хармиана, а нельзя мне бежать?
— Бежать? Бедняга, да ты едва жив! Нет, о побеге и речи быть не может. Тебя и умирающего стерег целый отряд стражей. Но если бы ты даже убежал, где тебе спрятаться? Любой честный египтянин с презреньем плюнет тебе в лицо!
Я снова застонал про себя и почувствовал, как по моим щекам скатились слезы, вот до чего ослаб мой дух.
— Не плачь! — быстро заговорила она, отворачивая от меня свое лицо. — Ведь ты мужчина, ты должен с твердостью перенести это несчастье. Ты сам посеял семена — настало время жатвы; но после того, как урожай собран, разливается Нил, смывает высохшие корни и уносит их, а потом снова наступает сезон сева. Может быть, там, в Киликии, когда ты обретешь прежние силы, мы найдем для тебя способ бежать, — если, конечно, ты способен жить вдали от Клеопатры, не видя ее улыбки; и где-нибудь в далекой стране ты проведешь несколько лет, пока эти горестные события не забудутся. А теперь я выполнила свой долг, и потому прощай! Я буду навещать тебя и следить за тем, чтобы ты ни в чем не нуждался.
Она ушла, оставив меня на попечении врача и двух рабынь, которые со всем тщанием меня выхаживали; рана моя заживала, силы возвращались — сначала медленно, потом все быстрей и быстрей. Через четыре дня я встал на ноги, а еще через три уже мог по часу гулять в дворцовых садах; прошла еще неделя, и я начал читать и размышлять, хотя при дворе не появлялся. И вот однажды вечером пришла Хармиана и велела готовиться к путешествию, ибо через два дня суда царицы отплывают, их путь лежит вдоль берегов Сирии в пролив Исс и дальше в Киликию.
Я написал Клеопатре письмо, в котором со всей почтительностью просил позволить мне остаться дома, ссылаясь на то, что еще не оправился от болезни и вряд ли вынесу такое путешествие. Но мне передали на словах, что я должен сопровождать царицу.
И вот в назначенный день меня перенесли на носилках в лодку, и вместе с тем самым воином, который ранил меня, — начальником стражи Бренном, — и несколькими его солдатами (их нарочно послали охранять меня) мы подплыли к судну, которое стояло на якоре среди множества других кораблей, ибо Клеопатра снарядила огромный флот, как будто отправлялась воевать, и все суда были пышно убраны, но самой великолепной и дорогой была ее галера, построенная в виде дома из кедрового дерева и сплошь увешанная шелковыми занавесями и драпировками, такой роскошной мир еще никогда не видел. Но мне предстояло плыть не на этой галере, и потому я не видел ни Клеопатры, ни Хармианы, пока мы не сошли на берег у устья реки Кидн.
Вот отдана команда, и флот отплыл; ветер дул попутный, и к вечеру второго дня показалась Яффа. Ветер переменился на встречный, от Яффы мы поплыли вдоль берегов Сирии мимо Цезарии, Птолемаиды, Тира, Берита, мимо белых скал Ливана, увенчанных по гребню могучими кедрами, мимо Гераклеи и, пересекши залив Исс, приблизились к устью Кидна. И с каждым днем нашего путешествия крепкий морской ветер вливал в меня все больше сил, и я наконец почувствовал себя почти таким же легким и здоровым, каким был прежде, только на голове остался шрам от меча. Однажды ночью, когда мы уже подплывали к Кидну, мы сидели с Бренном вдвоем на палубе, и его взгляд упал на шрам от раны, нанесенной его мечом. Он разразился проклятьями, поминая всех своих языческих богов. — Если бы ты умер, — признался он, — я бы, наверное, никогда больше не мог глядеть людям в глаза. Какой предательский удар и как же мне стыдно, что это я его нанес. Эх! А ты-то, ты-то лежал на полу, лицом вниз! Знаешь, когда ты там умирал у себя в башне, я каждый день приходил справляться, как ты. Клянусь Таранисом, если бы ты умер, я бросил бы эту легкую жизнь в царицыном дворце и отправился к себе, на милый сердцу север.
— Напрасно ты коришь себя, Бренн, — ответил я; ты же выполнял свой долг.
— Долг-то долг, но не всякий долг честный человек станет выполнять, пусть даже ему приказывают все царицы Египта вместе взятые! Ты из меня всякое соображение вышиб, когда сбил наземь, иначе я бы не рубанул тебя мечом. А что случилось, Гармахис? У тебя беда, ты прогневил царицу? Почему тебя везут под стражей на эту увеселительную прогулку? Тебе известно, что нам приказано не спускать с тебя глаз, ибо если ты убежишь, мы заплатим за это жизнью?
— Да, друг, у меня великая беда, — ответил я, — но прошу тебя, не расспрашивай о ней.
— Ну что ж, ты молод, и клянусь, что в этой беде повинна женщина, и хоть я неотесан и не блещу умом, но, кажется мне, догадался, кто она. Слушай, Гармахис, что я тебе скажу. Мне надоело служить Клеопатре, надоела эта страна с ее жарой, с ее пустынями и с ее роскошью, она отнимает у человека все силы и выворачивает наизнанку карман; такая жизнь многим из нас опостылела. Давай похитим одну из этих неповоротливых посудин и уплывем на север, что ты скажешь? Я приведу тебя в прекрасный край, его не сравнить с Египтом — это страна озер и гор, страна бескрайних лесов, где растут благоухающие сосны; и там есть девушка тебе под стать — высокая и сильная, с большими голубыми глазами и длинными белокурыми волосами, когда она сожмет тебя в объятиях, у тебя хрустнут ребра; эта девушка — моя племянница. Пойдем со мной, согласен? Забудь прошлое, уедем на милый сердцу север, ты будешь мне за сына.
Я подумал немного, потом горестно покачал головой: мне страстно хотелось уйти с ним, и все же я знал, что судьба навек связала мою жизнь с Египтом и что мне не должно бежать от моей судьбы.
— Нет, Бренн, это невозможно, — отвечал я. — Чего бы я только не отдал, чтобы уйти с тобой, но я скован цепями Рока, которых мне не разорвать, мне суждено жить и умереть в Египте.
— Я не неволю тебя, Гармахис, — вздохнул старый солдат. — Но с какой бы радостью я выдал за тебя мою племянницу, принял бы в свою семью, любил, как сына… Но помни хотя бы, что, пока Бренн здесь, у тебя есть друг. И еще одно: опасайся своей прекрасной царицы, ибо, клянусь Таранисом, может настать час, когда она решит, что ты знаешь слишком много, и тогда… — Он провел рукой по своему горлу. — А сейчас покойной ночи. Выпьем кубок вина и спать, ибо завтра начнется это дурацкое представление, и тогда…
(Здесь довольно большой кусок второго папируса так сильно поврежден,
что расшифровать его оказалось невозможно.
Судя по всему, в нем описывается
путешествие Клеопатры вверх по Кидну к Тарсу.)
…И глазам тех (повествование продолжается), кто находит удовольствие в такого рода зрелищах, представилась поистине восхитительная картина. Борта нашей галеры были обшиты листами золота, паруса выкрашены финикийским пурпуром, серебряные весла погружались в воду, и ее журчанье было подобно музыке. В середине палубы, под навесом из ткани, расшитой золотом, возлежала Клеопатра в одеянии римской богини Венеры, — и, без сомнения, она затмила бы Венеру красотой! — в прозрачном хитоне из белейшего шелка, подхваченном под грудью золотым поясом с искусно вытисненными на нем любовными сценами. Вокруг нее резвились прелестные пухленькие мальчики лет четырех-пяти, вовсе без одежды, если не считать привязанных за плечами крылышек, лука и колчана со стрелами, они овевали ее опахалами из страусовых перьев. На палубах галеры стояли не грубые бородатые моряки, а красивейшие девушки в одеждах Граций и Нереид — то есть почти нагие, только в благоухающих волосах были цветы и украшения, — и с тихим пением, под аккомпанемент арф и удары по журчащей воде серебряных весел, тянули канаты, свитые из тонких, как паутина, шелковых нитей. Позади ложа стоял с обнаженным мечом Бренн, в великолепных латах и в золотом шлеме с крыльями; возле него толпа придворных в роскошных одеяниях, и среди них я — раб, и все знали, что я раб! На корме стояли курильницы, наполненные самым дорогим фимиамом, от них за нашим судном вился ароматный дым.
Словно в сказочном сне плыли мы, сопровождаемые множеством судов, к лесистым горам Тавра, у подножия которых находится город, именовавшийся в древности Таршишем. Мы приближались к нему, а на берегах волновались толпы, люди бежали впереди нас, крича: «Морские волны примчали Венеру! Венера приплыла в гости к Вакху!» Вот наконец и сам город, все его жители, кто только мог ходить и кого можно было принести, высыпали на пристань, толпа собралась многотысячная, да к тому же тут было чуть не все войско Антония, так что триумвир в конце концов остался на помосте один.
Явился льстивый Деллий, и, кланяясь чуть ли не до земли, передал приветствия Антония «богине красоты», и от его имени пригласил на пир, который его повелитель приготовили в честь гостьи. Но Клеопатра гордо отказалась: «Поистине, сегодня Антоний должен угождать нам, а не мы ему. Передай благородному Антонию, что мы сегодня вечером ждем его к нам на скромную трапезу — иначе нам придется ужинать в одиночестве».
Деллий ушел, чуть не распластавшись в поклоне; все уже было приготовлено для пира, и тут я в первый раз увидел Антония. Он приближался к нам в пурпурном плаще, высокий красивый мужчина в расцвете лет и сил, кудрявый, с яркими голубыми глазами и благородными точеными чертами, как на греческой камее. Могучего сложения, с царственной осанкой и открытым выражением лица, на котором отражались все его мысли, так что каждый мог их прочесть; и только рот выдавал слабость, которая как бы перечеркивала властную силу лба. Он шел со свитой военачальников и, подойдя к ложу Клеопатры, остановился пораженный и уставился на нее широко раскрытыми глазами. Она тоже не отрываясь смотрела на него; я видел, как порозовела ее кожа, и сердце мое пронзила острая боль ревности. От Хармианы, которая видела все из-под своих опущенных ресниц, не, укрылась и моя мука, — она улыбнулась. А Клеопатра молчала, она лишь протянула Антонию свою белую ручку для поцелуя; и он, не произнося ни слова, склонился к руке и поцеловал ее.
— Приветствую тебя, благородный Антоний! — проговорила она своим дивным мелодичным голосом. — Ты звал меня, и вот я приплыла.
— Да, приплыла Венера, — услышал я его глубокий звучный бас. — Я звал смертную женщину — и вот из пены волн поднялась богиня!
— А на суше ее встретил прекрасный бог, — смеясь, подхватила она игру. — Но довольно любезностей и лести, ибо на суше Венера проголодалась. Подай мне руку, благородный Антоний.
Затрубили фанфары, толпа, кланяясь, расступилась, и рука об руку с Антонием Клеопатра прошествовала в сопровождении своей свиты к пиршественному столу.
(Здесь в папирусе снова пропуск).
Глава XV, повествующая о пире Клеопатры; о том, как она растворила в кубке жемчужину и выпила; об угрозе Гармахиса и о любовной клятве Клеопатры
Вечером третьего дня в зале дома, который был отведен Клеопатре, снова был устроен пир, и своим великолепием этот пир затмил два предыдущих. Двенадцать лож, которые стояли вокруг стола, были украшены золотыми рельефами, а ложе Клеопатры и ложе Антония были целиком из золота и сверкали в узорах драгоценных камней. Посуда была тоже золотая с драгоценными камнями, стены зала увешаны пурпурными тканями, расшитыми золотом, пол, покрытый золотой сеткой, усыпан таким толстым слоем едва распустившихся роз, что нога тонула в них по щиколотку, и когда прислуживающие рабы ступали по ним, от пола поднимался одуряющий аромат. Мне опять было приказано стоять у ложа Клеопатры вместе с Хармианой, Ирадой и Мерирой и, как того требуют обязанности раба, объявлять каждый час пролетевшего времени. Выказать неповиновение я не мог, меня охватило бешенство, но я поклялся, что играю эту роль в последний раз, больше я себя такому позору не подвергну. Правда, я еще не верил Хармиане, которая убеждала меня, что Клеопатра вот-вот станет любовницей Антония, но это надругательство надо мной и эта изощренная пытка были невыносимы. Теперь Клеопатра больше не разговаривала со мной, только иногда бросала приказания, как царица приказывает рабу, и, мне кажется, ее жестокому сердцу доставляло удовольствие мучить меня.
И вот веселый пир в разгаре, гости смеются, поднимают кубки с вином, а я, фараон, коронованный владыка страны Кемет, стою среди евнухов и приближенных девушек у ложа царицы Египта. Глаза Антония не отрываются от лица Клеопатры, она тоже порой погружает в его глаза свой взгляд, и тогда беседа их замирает… Он рассказывает ей о войнах, о сражениях, в которых бился, отпускает соленые шуточки, не предназначенные для женских ушей. Но ее все это ничуть не смущает она, заразившись его настроением, рассказывает анекдоты более изысканные, но ничуть не менее бесстыдные.
Наконец роскошная трапеза закончилась, и Антоний оглядел окружающее его великолепие.
— Скажи мне, о прелестнейшая царица Египта, — спросил он, — что, пески в пустынях, среди которых течет Нил, все из чистого золота и потому ты можешь ночь за ночью устраивать пиры, швыряя за каждый баснословные суммы, на которые можно купить целое царство? Откуда эти несметные богатства?
Я мысленно увидел усыпальницу божественного Менкаура, священное сокровище которого она столь непристойно расточала, и поглядел на Клеопатру так, что она повернула ко мне голову и встретилась со мной глазами; прочтя мои мысли, она гневно нахмурилась.
— Ах, благородный Антоний, что тебя так поразило? У нас в Египте есть свои тайны, и мы умеем, когда нам надо, создавать богатства с помощью заклинаний. Как ты думаешь, какова цена золотых приборов, а также яств и вин, которыми я вас угощаю?
Он оглядел пиршественный стол и наугад предположил:
— Тысяча систерций?
— Увеличь цифру в два раза, благородный Антоний! Но все равно: я в знак дружбы дарю то, что ты видишь, тебе и твоим друзьям. А сейчас я удивлю тебя еще больше: я выпью в одном-единственном глотке десять тысяч систерций.
— Это немыслимо, прекрасная царица!
Она засмеялась и велела рабу принести в прозрачном стеклянном кубке немного уксуса. Уксус принесли и поставили перед ней, и она снова засмеялась, а Антоний, поднявшись со своего ложа, подошел к ней и встал рядом; все гости смолкли и устремили на нее глаза — что-то она задумала? А она — она вынула из уха одну из тех огромных жемчужин, которые извлекла из мертвой груди божественного фараона, когда в последний раз запускала туда руку, и, не успел никто догадаться о ее намерениях, как она опустила жемчужину в уксус. Наступило молчание, потрясенные гости, замерев, наблюдали, как несравненная жемчужина медленно растворяется в крепком уксусе. Вот от нее не осталось следа, и тогда Клеопатра подняла кубок, покрутила его, взбалтывая уксус, и выпила весь до последней капли.
— Еще уксусу, раб! — воскликнула она. — Моя трапеза не кончена! — И она вынула жемчужину из другого уха.
— Нет, клянусь Вакхом! Этого я не позволю! — вскричал Антоний и схватил ее за руки. — Того, что я видел, довольно.
И в эту минуту я, повинуясь неведомой мне силе, громко произнес:
— Еще один час твоей жизни пролетел, о царица, — еще на один час приблизилось свершение мести Менкаура!
По лицу Клеопатры разлилась пепельная бледность, она в бешенстве повернулась ко мне, все остальные в изумлении глядели на нас, не понимая, что означают мои слова.
— Как ты посмел пророчить мне несчастье, жалкий раб! — крикнула она. — Произнеси такое еще раз — и тебя накажут палками! Да, палками, клянусь тебе, Гармахис, — как злого колдуна, который накликает беду!
— Что хотел сказать этот астролог? — спросил Антоний. — А ну, отвечай, негодяй. И объясни все ясно, без утайки, ибо проклятьями не шутят.
— Я служу богам, благородный Антоний, и слова, которые я произношу, вкладывают в мои уста они, а смысла их я не могу прочесть, — смиренно ответил я.
— Ах, вот как, ты, стало быть, служишь богам, о многоцветный волшебник! — Это он так отозвался о моем роскошном одеянии. — А я служу богиням, они не так суровы. Но у нас с тобой много общего: я тоже произношу слова, повинуясь их воле, и тоже не понимаю, что они значат. — И он вопросительно посмотрел на Клеопатру.
— Оставь этого негодяя, — с досадой проговорила она. — Завтра мы от него избавимся. Ступай прочь, презренный.
Я поклонился и пошел из зала, и пока я шел, я слышал, как Антоний говорит:
— Что ж, может быть, он и негодяй — ведь все мужчины негодяи, — но мне твой астролог нравится: у него вид и манеры царя, к тому же он умен.
За дверью я остановился, не зная, что делать, в моем горе я растерялся. Но тут кто-то тронул меня за руку. Я подняла глаза — возле меня стояла Хармиана, она выскользнула из зала, воспользовавшись тем, что пирующие поднимаются из-за стола, и догнала меня.
В беде Хармиана всегда спасала меня.
— Идем со мной, — шепнула она, — тебе грозит опасность.
Я послушно пошел за ней. Что мне еще оставалось?
— Куда мы идем? — спросил я наконец.
— В мою комнату, — ответила она. — Не бойся; нам, придворным дамам Клеопатры, нечего терять: если нас кто-то увидит, то решит, что мы любовники и у нас свидание, и ничуть не удивится — такие уж у нас нравы.
Мы далеко обошли толпу и, никем не замеченные, оказались возле маленькой боковой двери, за которой начиналась лестница, и мы по ней поднялись. Наверху был коридор, мы двинулись по коридору и нашли с левой стороны дверь. Хармиана молча вошла в темную комнату, я за ней. Потом она заперла дверь на задвижку и, раздув тлеющий уголек, зажгла висячий светильник. Огонь разгорелся, и я стал осматривать комнату. Комната была небольшая, всего с одним окном, причем оно было тщательно занавешено. Стены выкрашены белой краской, убранство самое простое: несколько ларей для платьев; древнее кресло; что-то вроде туалетного столика, ибо на нем стояли флаконы с духами, лежали гребни и разные вещицы, которыми любят украшать себя женщины; белое ложе с накинутым на него вышитым покрывалом и с прозрачным пологом от комаров.
— Садись, Гармахис, — сказала Хармиана, указывая на кресло, а сама, откинув прозрачный полог, села напротив меня на ложе.
Мы оба молчали.
— Ты знаешь, что сказала Клеопатра, когда ты вышел из пиршественного зала? — наконец спросила она меня.
— Нет, откуда же мне знать?
— Она смотрела не отрываясь тебе в спину, и когда я подошла к ней оказать какую-то услугу, она тихо, чуть не про себя прошептала: «Клянусь Сераписом, я положу этому конец! Довольно я терпела его дерзость, завтра же его задушат!»
— Вот как, — отозвался я, — что ж, может быть; хотя после всего, что у нас с ней было, я не верю, чтобы она решилась подослать ко мне убийц.
— Да как же ты можешь не верить, глупый ты, упрямый человек? Разве ты забыл, как близок был ты к смерти в Алебастровом зале? Кто спас тебя от ножей этих подлых евнухов? Может быть, Клеопатра? Или мы с Бренном? Слушай же меня. Ты все отказываешься мне верить, потому что в твоей глупости тебе не понять, как это женщина, которая совсем недавно была твоей женой, сейчас вдруг предательски обрекает тебя на смерть. Нет, не возражай мне — я знаю все, и я тебе скажу: неизмерима глубина коварства Клеопатры, чернее самой черной тьмы зло ее сердца. Она бы не колеблясь убила тебя в Александрии, но она боялась, что весть о твоем убийстве разнесется по всему Кемету и ей несдобровать. Вот потому-то она и привезла тебя сюда, чтобы умертвить тайно. На что ты ей сейчас? Ты отдал ей всю свою любовь, она пресытилась твоей красотой и силой. Она украла у тебя трон, который принадлежит тебе по праву крови и рождения, и принудила тебя, царя, стоять среди придворных дам у ее пиршественного ложа; она украла у тебя великую тайну священного сокровища!
— Как, ты и это знаешь?
— Да, я знаю все; и сегодня ты видел, как царица Кемета, эта гречанка, эта чужеземка, узурпировавшая нашу корону, транжирит на бессмысленную роскошь святые богатства, которые хранились в сердце пирамиды три тысячелетия, чтобы спасти Кемет, когда настанет лихолетье! Ты видел, как она сдержала свою клятву вступить с тобой в освященный богами брак. Гармахис, наконец-то ты прозрел!
— Да, я прозрел, но ведь она клялась, что любит меня, а я, жалкий глупец, ей верил!
— Она клялась, что любит тебя! — проговорила Хармиана, вскидывая на меня свои темные глаза. — Сейчас я покажу тебе, как она тебя любит. Ты знаешь, что было раньше в этом доме? Школа жрецов, а жрецы, Гармахис, как тебе лучше других известно, знают много всяких хитростей. Раньше в этой небольшой комнате жил главный жрец, а в комнате, что рядом с нашей, собирались на молитву младшие жрецы. Все это мне рассказала старуха рабыня, которая убирает дом, и она же показала мне секреты, которые я сейчас тебе открою. Молчи, Гармахис, ни звука, и иди за мной!
Она задула светильник и в темноте, которую не мог разогнать свет ночи, пробивающийся сквозь занавешенное окно, взяла меня за руку и потянула в дальний угол. Здесь она нажала плечом на стену, и в ее толще открылась дверь. Мы вошли, она плотно закрыла эту дверь за нами. Мы оказались в каморке локтей пять в длину и локтя четыре в ширину, в нее неведомо откуда пробивался слабый свет и доносились чьи-то голоса. Отпустив мою руку, Хармиана на цыпочках подкралась к стене напротив и стала пристально в нее вглядываться, потом так же тихо подкралась ко мне и, прошептав «Тс-с!», повлекла за собой. И тут я увидел, что в стене множество смотровых глазков, которые с другой стороны скрыты в каменных рельефах. Я поглядел в тот глазок, что был передо мной, и вот что я увидел: локтях в шести подо мной был пол большой комнаты, освещенной светильниками, в которые были налиты благовония, и убранной с великой роскошью. Это была спальня Клеопатры, и примерно в десяти локтях от нас сидела на золоченом ложе сама Клеопатра и рядом с ней — Антоний.
— Скажи мне, — томно прошептала Клеопатра — каморка, в которой мы стояли, была так искусно устроена, что в ней было слышно каждое слово, произнесенное внизу, — скажи, благородный Антоний, тебе понравилось мое скромное празднество?
— Да, — ответил он своим звучным голосом воина, — да, царица, я сам устраивал пиры, немало пировал на празднествах, устроенных в мою честь, но ничего подобного я в жизни не видывал; и хоть язык мой груб и я не искушен в любезностях, которые так милы сердцу женщин, но я тебе скажу, что самым драгоценным украшением на этом роскошном празднестве была ты. Пурпурное вино бледнело рядом с румянцем твоих щек, когда ты подносила к устам кубок, твои волосы благоухали слаще, чем розы, и не было сапфира, который своим цветом и переменчивой игрой затмил бы красоту твоих синих, как море, глаз.
— Как, я слышу похвалу из уст Антония! Человек, который пишет суровые послания, точно команды отдает, вдруг говорит мне столь приятные слова! Да, такую похвалу надо высоко ценить!
— Ты устроила пир, поистине достойный царей, хотя мне очень жаль ту редкостную жемчужину; и потом, что значили слова этого твоего астролога, который объявлял время, он предрекал беду и поминал проклятье Менкаура?
На ее сияющее счастьем лицо набежала тень.
— Не знаю; он недавно подрался и был ранен в голову; по-моему, от этого удара он повредился рассудком.
— Он вовсе не показался мне безумным, у меня в ушах до сих пор звучит его голос, и я не могу отделаться от мысли, что это глас судьбы. И он с таким отчаянием глядел на тебя, царица, своими проницающими все тайные мысли глазами, словно он любит тебя и, борясь с любовью, ненавидит.
— Я же говорила тебе, благородный Антоний, он странный человек и к тому же ученый. Я временами сама чуть ли не боюсь его, ибо он весьма сведущ в древних магических знаниях Египта. Ты знаешь, что он царского происхождения, что в Египте был заговор и он должен был убить меня? Но я одержала над ним победу в этой игре и не стала его убивать, ибо у него есть ключ к тайнам, которые мне без него никак было не разгадать; он очень мудр, я так любила слушать его рассуждения о сокровенной сути явлений.
— Клянусь Вакхом, я начинаю ревновать тебя к этому колдуну! А что сейчас, царица?
— Сейчас? Я выжала из него все, что он знает, и больше у меня нет причин его бояться. Разве ты не видел, что я три ночи подряд заставляла его стоять, словно раба, среди моих рабов, и объявлять час летящего, пока мы пируем, времени? Ни один пленный царь, идущий в цепях за твоей колесницей, когда тебя торжественно встречал после победы Рим, не испытывал таких мук, как этот гордый египетский царевич, стоящий в своем бесславии у моего пиршественного ложа.
Тут Хармиана коснулась моей руки и сжала ее, как мне показалось, с состраданием.
— Довольно, больше он не будет тревожить нас своими предсказаньями беды, — медленно проговорила Клеопатра: — завтра он умрет — быстро, тайно, во сне, и никто никогда не узнает, что с ним произошло. Я это решила, благородный Антоний, и даже отдала распоряжения. Вот я сейчас говорю о нем, а в мое сердце вползает страх и свивается, точно холодная змея. Мне даже хочется приказать, чтобы с ним покончили сейчас, ибо, пока он жив, я не могу свободно дышать. — И она сделала движение, желая встать.
— Не надо, подожди до утра, — сказал он и поймал ее руку, — солдаты все перепились, причинят ему ненужные страдания. И потом, мне его жаль. Не люблю, когда людей убивают во сне.
— А вдруг утром сокол улетит, — сказала она задумчиво. — У этого Гармахиса острый слух, он может призвать к себе на помощь потусторонние силы. Быть может, он и сейчас слышит меня слухом своей души; признаюсь тебе: мне кажется, он рядом, здесь, я ощущаю его присутствие. Пожалуй, я открою тебе… но нет, забудем о нем! Благородный Антоний, будь сегодня моей служанкой и сними с меня эту золотую корону, она тяжелая, голова в ней устала. Осторожно, не оцарапай лоб, — вот так.
Он поднял с ее лба диадему в виде золотого урея, она встряхнула головой, и тяжелый узел волос распустился, темные волны хлынули вниз, закрыв ее, точно плащ.
— Возьми свою корону, царица Египта, — тихо произнес он, — возьми ее из моих рук; я не отниму ее у тебя — я надену ее так, что она будет еще крепче держаться на этой прелестной головке.
— Что означают твои слова, о мой властелин? — спросила она, улыбаясь и глядя в его глаза.
— Что они означают? Сейчас объясню. Ты приплыла сюда, повинуясь моему повелению, дабы оправдаться передо мной в своих действиях, касающихся политики. И знаешь, царица, окажись ты не такой, какова ты есть, не царствовать бы тебе больше в твоем Египте, ибо я уверен, что ты совершила все, в чем тебя обвиняют. Но когда я тебя встретил — и увидел, что никогда еще природа не одаривала женщину столь щедро, — я все тебе простил. Твоей красоте и очарованию я простил то, чего не простил бы добродетели, любви к отечеству, мудрой и благородной старости. Видишь, какая великая сила — ум и чары прелестной женщины, даже великие мира сего забывают перед ними свой долг и обманом вынуждают слепое Правосудие приподнять повязку, прежде чем оно занесет свой карающий меч. Возьми же свою корону, о царица! Теперь я буду заботиться, чтобы она не тяготила тебя, хоть она поистине тяжела.
— Слова, достойные царя, мой благороднейший Антоний, — ответила она, — великодушные и милосердные, такие только и может произносить великий покоритель мира! Но коль уж ты завел речь о моих былых проступках — если это и в самом деле были проступки, — могу ответить тебе только одно: в то время я не знала Антония. Ибо тот, кто знает Антония, не может злоумышлять против него. Разве хоть одна женщина способна поднять меч против мужчины, которому мы все должны, поклоняться как богу: к этому мужчине мы, увидев и узнав его, тянемся всем сердцем, как к солнцу тянутся цветы. Могу ли я сказать больше, не преступив запретов, налагаемых женской скромностью? Пожалуй, лишь одно: прошу тебя, надень на меня эту корону, великий Антоний, я приму ее как твой дар, и корона будет мне тем более драгоценна, что я получила ее из твоих рук, я клянусь: она будет отныне служить тебе. Я — твоя подданная, и моими устами вся древняя страна Египет, которой я правлю, клянется в верности триумвиру Антонию, который скоро станет римским императором Антонием и царственным владыкой Кемета!
Он возложил корону на ее голову и замер, любуясь ею, опьяненный жарким дыханием ее цветущей красоты, но вот он совсем потерял над собой власть, схватил ее за руки, привлек к себе и страстно поцеловал.
— Клеопатра, я люблю тебя… я люблю тебя, божество мое… никогда еще я никого так не любил… — пылко шептал он. Она с томной улыбкой откинулась назад в его объятьях, и от этого движения золотой венец, сплетенный из священных змей, упал с ее головы, ибо Антоний не надел его, а лишь возложил, и укатился в темноту, за пределы освещенного светильниками круга.
Сердце мое разрывалось от муки, но я сразу понял, что это очень дурное предзнаменование. Однако ни он, ни она ничего не заметили.
— Ты меня любишь? — лукаво пропела она. — А как ты мне докажешь свою любовь? Я думаю, ты любишь Фульвию, свою законную жену, ведь так, признайся?
— Нет, не люблю я Фульвию, я люблю тебя, одну тебя. Всю мою жизнь с ранней юности женщины были ко мне благосклонны, но ни одна из них не внушала мне такого непобедимого желания, как ты, о мое чудо света, единственная, несравненная! А ты, ты любишь меня, Клеопатра, ты будешь хранить мне верность — не за мое могущество и власть, не за то, что я дарю и отнимаю царства, не за то, что весь мир содрогается от железной поступи моих легионов, не за то, что моя счастливая звезда светит столь ярко, а просто потому, что я — Антоний, суровый воин, состарившийся в походах? За то, что я — гуляка, бражник, за мои слабости, за переменчивость, за то, что я никогда не предал друга, никогда не взял последнее у бедняка, не напал на врага из засады, застав его врасплох? Скажи, царица, ты будешь любить меня? О, если ты меня полюбишь, я не променяю это счастье на лавровый венок римского императора, провозглашенного в Капитолии властелином мира!
Он говорил, а она смотрела на него своими изумительными глазами, и в них сияли искренность, волнение и счастье, каких мне никогда не доводилось видеть на ее лице.
— Твои слова просты, — ответила она, — но доставляют мне большую радость — я радовалась бы, даже если бы ты лгал, ибо есть ли женщина, которая не жаждет видеть у своих ног властелина мира? Но ты не лжешь, Антоний, и что может быть прекрасней твоего признания? Какое счастье для моряка вернуться после долгих скитаний по бурному морю в тихую пристань! Какое счастье для жреца-аскета мечтать о блаженном покое среди полей Иалу, эта надежда озаряет его суровый путь жертвенного служения! Какое счастье смотреть, как просыпается розовоперстая заря и шлет улыбку заждавшейся ее земле! Но самое большое счастье — слышать твои слова любви, о мой Антоний. Слушая их, забываешь, что в жизни есть иные радости! Ведь ты не знаешь, — да и откуда тебе знать? — как пуста и безотрадна была моя жизнь, ибо только любовь исцеляет нас от одиночества, так уж мы, женщины, устроены. А я до этой дивной ночи никогда не любила — мне было неведомо, что такое любовь. Ах, обними меня, давай, давай дадим друг другу великую клятву любви и не нарушим ее до самой смерти. Так слушай же, Антоний! Отныне и навеки я принадлежу тебе, одному тебе, и эту верность я буду свято хранить, пока жива!
Хармиана взяла меня за руку и потянула прочь из каморки.
— Ну что, довольно тебе того, что ты видел? — спросила она, когда мы вернулись в ее комнату и она зажгла светильник.
— Да, — ответил я, — теперь-то я наконец прозрел.
Глава XVI, повествующая о плане побега, который замыслила Хармиана; о признании Хармианы и об ответе Гармахиса
Долго я сидел, опустив голову, душа была до краев наполнена стыдом и горечью.
Так вот, стало быть, чем все кончилось. Вот ради чего я нарушил свои священные обеты, вот ради чего открыл тайну пирамиды, вот ради чего пожертвовал своей короной, честью, быть может, надеждой на воссоединение с Осирисом! Был ли в ту ночь на свете человек, раздавленный таким же беспощадным, черным горем, как я? Нет, я уверен. Куда бежать? Что делать? Но даже буря, разрывавшая мне грудь, не могла заглушить отчаянный крик ревности. Ведь я любил эту женщину, я отдал ей все, а она сейчас, в эту минуту… О! Эта мысль была невыносима, и в пароксизме отчаяния я разразился слезами, они хлынули рекой, но такие слезы не приносят облегчения.
Хармиана подошла ко мне, и я увидел, что она тоже плачет.
— Не плачь, Гармахис! — сквозь рыдания проговорила она и опустилась возле меня на колени. — Я не могу видеть твоего горя. Ах, почему ты раньше был так слеп и глух? Ведь ты мог бы быть сейчас счастлив и могуч, никакие беды не коснулись бы тебя. Послушай меня, Гармахис! Ты помнишь, эта лживая тигрица сказала, что завтра тебя убьют?
— Пусть, я буду рад умереть, — прошептал я.
— Нет, радоваться тут нечему. Гармахис, не позволяй ей в последний раз восторжествовать над собой! Ты потерял все, кроме жизни, но пока ты жив, живет и надежда, а если жива надежда, ты можешь отомстить.
— А! — Я поднялся с кресла. — Как же я позабыл о мести? Да, ведь можно отомстить! Месть так сладка!
— Ты прав, Гармахис, месть сладка, и все же… это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил. Я сама… мне это хорошо известно. — Она тяжело вздохнула. — Но довольно предаваться горю и разговорам. У нас впереди долгая цепь тяжелых лет, наполненных одним лишь горем, а разговоры — кто знает, придется ль их вести? Ты должен бежать, бежать как можно скорее пока не наступило утро. Вот что я придумала. Еще до рассвета в Александрию отплывает галера, которая вчера привезла
оттуда фрукты и разные запасы, я знаю ее кормчего, а вот он тебя не знает. Я сейчас раздобуду тебе одежду сирийского купца, ты закутаешься в плащ и отнесешь кормчему галеры письмо, которое я тебе дам. Он отвезет тебя в Александрию, и для него ты будешь всего лишь купцом, плывущим по своим торговым делам. Сегодня ночью начальник стражи — Бренн, а Бренн и мой друг, и твой. Может быть, он о чем-то догадается, а может быть, и нет, во всяком случае, стражник без всяких подозрений пропустит сирийского купца. Что ты на это скажешь?
— Спасибо, Хармиана, я согласен, — с усилием проговорил я, — хоть мне и все равно.
— Тогда, Гармахис, отдохни пока здесь, а я займусь приготовлениями. И прошу тебя: не предавайся так беззаветно своему горю, есть люди, чье горе чернее твоего. — И она ушла, оставив меня один на один с моей мукой, которая терзала меня, как палач. И если бы не бешеная жажда мести, которая вдруг вспыхивала в моем агонизирующем сознании, точно молния над ночным морем, мне кажется, я в этот страшный час сошел бы с ума. Но вот послышались шаги Хармианы, она вошла, тяжело дыша, потому что принесла тяжелый мешок с одеждой.
— Все улажено, — сказала она, — вот твое платье, здесь есть и другое на смену, таблички для письма и все, что тебе необходимо. Я успела повидаться с Бренном и предупредила его, что за час до рассвета пройдет сирийский купец, пусть стражи его пропустят. Я думаю, он все понял, потому что, когда я пришла к нему, он притворился, будто спит, а потом стал зевать и заявил, что пусть хоть сто сирийских купцов идут, ему до них дела нет, лишь бы произнесли пароль — Антоний. Вот письмо к кормчему, ты без труда найдешь галеру, она стоит на набережной, по правую сторону, небольшая, черная, и главное — моряки не спят и готовятся к отплытию. Я сейчас выйду, а ты сними этот наряд слуги и облачись в то платье, которое я принесла.
Лишь только она закрыла дверь, я сорвал свое роскошное одеяние раба, плюнул на него и стал топтать ногами. Потом надел скромное платье купца, на ноги сандалии из грубой кожи, обвязал вощеные дощечки вокруг пояса и за пояс заткнул кинжал. Когда я был готов, вошла Хармиана и оглядела меня.
— Нет, ты все тот же царственный Гармахис, — сказала она, — сейчас попробуем тебя изменить.
Она взяла с туалетного столика ножницы, велела мне сесть и очень коротко остригла волосы. Потом искусно смешала краски, которыми женщины обводят и оттеняют глаза, и покрыла смесью мое лицо и руки, а также багровый шрам в волосах — ведь меч Бренна рассек мне голову до кости.
— Ну вот, теперь гораздо лучше, хоть ты и подурнел, Гармахис, — заметила она с горьким смешком, — пожалуй, даже я тебя бы не узнала. Подожди, еще не все. — И, подойдя к ларю, где лежала одежда, она достала из него тяжелый мешочек с золотом.
— Возьми, — сказала она, — тебе будут нужны деньги.
— Нет, Хармиана, я не могу взять у тебя золото.
— Не сомневайся, бери. Мне дал его Сепа для нужд нашего общего дела, и потому будет лишь справедливо, чтобы его истратил ты. К тому же, если мне понадобятся деньги, Антоний, без всякого сомнения, даст, сколько я скажу, ведь отныне он мой хозяин, а он мне многим обязан и хорошо это знает. Прошу тебя, не будем тратить время на пустые пререканья — ты все еще не стал купцом, Гармахис. — И она без лишних слов засунула золото в кожаную суму, которая висела у меня за плечами. Потом свернула запасную одежду и в своей женской заботливости положила вместе с нею в мешок алебастровую баночку с краской, чтобы я время от времени мазал ею лицо и руки; взяла роскошные вышитые одежды слуги, которые я в такой ярости сбросил, и спрятала их в той тайной каморке, куда меня водила. И вот все наконец готово.
— Ну что же, мне пора идти? — спросил я.
— Нет, придется немного подождать. Не торопись, Гармахис, тебе недолго осталось терпеть мое общество, скоро мы расстанемся — быть может, навсегда.
Я с досадой нахмурился — время ли сейчас язвить, неужто она не понимает?
— Прости мой злой язык, — сказала она, — но когда источник отравлен, вода в нем горькая. Сядь, Гармахис. Прежде чем ты уйдешь, я скажу тебе еще более горькие слова.
— Говори, — ответил я, — как бы горьки они ни были, сейчас меня ничто не тронет.
Она встала передо мной и скрестила на груди руки; лучи светильника ярко освещали ее прекрасное лицо. Я равнодушно подумал, что она смертельно бледна и что черные бархатные глаза обведены огромными темными кругами. Дважды она приоткрывала губы и дважды голос изменял ей. Наконец она хрипло прошептала:
— Я не могу отпустить тебя… не могу отпустить, не сказав всей правды. Гармахис, это я предала тебя!
Я вскочил на ноги, с уст сорвалось проклятье, но она схватила меня за руку.
— Ах, нет, сядь, — взмолилась она, — сядь и выслушай меня, и когда ты все узнаешь, сделай со мной все, что хочешь. Слушай же. Я люблю тебя с той злой для меня минуты, когда я увидела тебя в доме дяди Сепа, во второй раз в моей жизни, и ты даже не догадываешься, как сильна моя любовь. Удвой свою страсть к Клеопатре, потом утрой и учетвери, и ты получишь слабое представление о том, что испытывала все это время я. С каждым днем я любила тебя все более пламенно, все более неукротимо, в тебе одном сосредоточилась вся моя жизнь. Но ты был холоден — холоден не то слово: ты даже не видел, что я живая женщина, я для тебя была всего лишь средство, с помощью которого ты должен достичь цели — короны и трона. И тут я стала догадываться — задолго до того, как ты это понял сам, — что сердце твое устремилось к гибельным скалам, о которые сегодня разбилась твоя жизнь. И вот наступил вечер, тот страшный вечер, когда я, притаившись в твоей комнате за занавесом в нише, увидила как ты бросил с башни мой шарф и его унес ветер, а венок моей царственной соперницы сохранил и наговорил ей любезных слов. И тогда я, — о, знал бы ты всю меру моей муки! — я открыла тебе тайну, о которой ты и не догадывался, а ты, Гармахис, в ответ лишь посмеялся надо мной! О, какой позор и стыд, — ты в своей глупости смеялся надо мной! Я ушла, мое сердце грызла и терзала ярая ревность, какой не под силу вынести женщине, ибо я теперь уже уверилась, что ты любишь Клеопатру! Меня охватило безумие, я хотела в ту же ночь выдать тебя, но все же удержалась, я убеждала себя: нет, все еще можно поправить, завтра он смягчится. И вот настало завтра, все подготовлено, участники могущественного заговора ждут сигнала, чтобы ворваться во дворец и возвести тебя на трон. Я снова пришла к тебе — ты помнишь — и иносказательно завела речь о вчерашнем, но ты снова отмахнулся от меня, как от докуки, не стоящей даже минутного внимания. И, зная, что виной тому Клеопатра, которую ты, сам того не подозревая, любишь и должен сейчас убить, я обезумела, в меня словно вселился злой дух и подчинил меня себе, я уже не владела собой, сама не понимала, что я делаю. Ты с презреньем оттолкнул меня, и потому я пошла к Клеопатре и выдала тебя и всех, кто тебя поддерживал, предала наше священное дело и тем навлекла на себя вечный позор и скорбь! Я ей сказала, что нашла записку, которую ты уронил, и в ней прочитала о заговоре.
Я молчал, лишь тяжело перевел дух; она печально поглядела на меня и продолжала:
— Когда Клеопатра поняла, как могуществен и разветвлен по всей стране заговор и как глубоко уходят его корни, она очень испугалась и сначала хотела бежать в Саис или тайно пробраться на судно и плыть на Кипр, но я ее убедила, что ее поймают по дороге заговорщики. Тогда она решила, что тебя надо заколоть в ее покоях, и я оставила ее в этом намерении, ибо в ту минуту жаждала твоей смерти — да, Гармахис, я плакала бы потом всю жизнь на твоей могиле, но я обрекла тебя на смерть. Погоди, что я сейчас сказала? Ах да: месть, подобно стреле, может поразить того, кто ее выпустил. Так случилось со мной, ибо, когда я вышла от Клеопатры, она придумала более коварный план. Она сообразила, что убив тебя, вызовет лишь еще большую ярость восставших, и испугалась; но если она привяжет тебя к себе, вселит в народ сомнение, а потом объявит, что ты предал своих соратников, она подрубит корни заговора, и он зачахнет, как бы ни был могуч заговор, никогда нет уверенности, что он победит, и вот она сделала ставку на его поражение — нужно ли мне продолжать? Как она тебя победила — ты знаешь сам, Гармахис, и стрела мести, которую я выпустила, вонзилась в меня. Утром я узнала, что совершила преступление напрасно, что за мое предательство поплатился жизнью бедняга Павел; что я погубила дело, которому поклялась служить, и собственными руками отдала человека, которого люблю, в объятья этой распутницы.
Она низко опустила голову, но я по-прежнему молчал, и она снова заговорила:
— Я расскажу о всех моих преступлениях, Гармахис, и приму наказание, которое заслужила. Теперь ты знаешь, как все произошло. В сердце Клеопатры уже зародилась любовь к тебе, и она почти решила сделать тебя своим супругом и разделить с тобою трон. Ради этой зародившейся любви она и пощадила жизнь тех, кто, как ей стало известно, был замешан в заговоре, надеясь, что, если она сочетается с тобою браком, она с их помощью привлечет на свою сторону самых знатных и влиятельных египтян, которые ненавидят ее так же, как и всех Птолемеев. И тут она снова поймала тебя в ловушку, и ты в своей великой глупости открыл ей тайну древних сокровищ Египта, которые она сейчас бросает на ветер, желая вызвать восхищение сластолюбивого Антония; отдам ей справедливость: она в то время искренне хотела выполнить свою клятву и стать твоей супругой. Но в тот день, когда Деллий должен был прийти за ответом, она призвала меня к себе и, рассказав мне все, ибо ценит мой ум чрезвычайно высоко, спросила моего совета: объявить ли ей войну Антонию и разделить трон с тобой или выбросить из головы мысль о войне и о тебе и плыть к Антонию? И я — измерь всю тяжесть моего преступления — я, истерзанная ревностью, взбунтовалась при мысли, что она станет твоей женой, а ты — ее любящим супругом, и я буду свидетельницей вашего счастья; так вот, я ей сказала, что надо непременно плыть к Антонию, прекрасно зная — ибо у меня была беседа с Деллием, — что, если она поплывет в Тарс, влюбчивый Антоний упадет к ее ногам, как спелое яблоко, и так все и случилось. Только что я показала тебе последнюю сцену в поставленном мною представлении. Антоний влюбился в Клеопатру, Клеопатра влюбилась в Антония, а ты лишился всего, жизнь твоя висит на волоске, я тоже получила по заслугам: сегодня нет на свете женщины несчастнее меня. Когда я увидела сейчас, как разбилось твое сердце, вместе с твоим разбилось и мое, я почувствовала, что больше не могу нести бремя содеянного мной зла, что я должна покаяться в нем и принять наказание.
Мне больше нечего сказать, Гармахис; могу только поблагодарить тебя, что ты проявил милосердие и выслушал меня. Движимая великой любовью к тебе, я причинила тебе зло, за которое буду расплачиваться всю жизнь и всю нескончаемую вечность после смерти! Я погубила тебя, погубила Кемет, и себя я тоже погубила! И пусть я за это приму смерть! Убей меня, Гармахис, — какое счастье умереть от твоей руки, я поцелую несущий смерть клинок. Убей меня и иди, спасайся, ибо, если ты не убьешь меня, я сама избавлюсь от этой постылой жизни! — И она бросилась передо мной на колени и откинулась назад, чтобы мне было легче вонзить кинжал в ее прелестную грудь. И я в затмении ярости занес его над ней, ибо вдруг вспомнил, с каким презреньем эта женщина, навлекшая на меня бесславие, язвила и оскорбляла меня, когда я уже пал. Но трудно убить красивую женщину, а ведь Хармиана к тому же дважды спасла мне жизнь.
— О женщина! Бесстыдная женщина! — вырвалось у меня. — Встань, я не убью тебя. Мне ли судить тебя за твое преступление, ведь я сам повинен в таком зле, что нет на свете кары, достаточно суровой для меня.
— Убей меня, Гармахис! — простонала она. — Убей меня, или я сама себя убью! Бремя моей вины непомерно тяжело, мне его не вынести! Не будь так равнодушен и жесток! Прокляни меня и убей!
— Что ты мне недавно говорила, Хармиана, о севе и о жатве? Боги запрещают тебе убивать себя, и боги запрещают мне такому же преступнику, как ты, убить тебя, потому что на преступление меня толкнула ты. Ты посеяла семена зла, собирай же теперь кровавую жатву. Ничтожная женщина, чья беспощадная ревность навлекла такие беды на меня и на наш Египет, — живи! Живи и собирай всю жизнь горькие плоды зла! Пусть ночь за ночью тебя преследуют во сне видения разгневанных богов, чья месть ожидает и тебя, и меня в их мрачном Аменти! Пусть день за днем тебя терзают воспоминания о человеке, которого твоя свирепая любовь ввергла в позор и погубила, гляди же каждый день на Кемет, который стал добычей ненасытной Клеопатры и рабом этого сластолюбивого римлянина Антония.
— О Гармахис, не говори со мною так жестоко! Твои слова ранят больнее, чем твой кинжал, и эти раны смертельны, моя смерть будет медленной и нескончаемой агонией. Послушай, Гармахис! — Она вцепилась в мое платье руками. — Когда ты был недосягаемо высоко и в твоих руках была огромная власть, ты меня отверг. Не отвергай же меня сейчас, после того, как Клеопатра отринула тебя, когда ты беден, опозорен и бесприютен! Ведь я по-прежнему красива и вся моя жизнь — в тебе. Позволь же мне бежать с тобой и искупить свою вину беззаветной любовью, ибо я буду любить тебя до последнего дыхания. Может быть, я прошу слишком многого, тогда позволь мне быть твоей сестрой, твоей служанкой, твоей рабыней, позволь мне просто видеть твое лицо, делить твои тревоги, беды, прислуживать тебе. Молю тебя, Гармахис, возьми меня с собой, я вынесу все тяготы, ничто меня не испугает, и только смерть отторгнет меня от тебя. Я верю, что любовь, которая столкнула меня в бездну и заставила увлечь за собой и тебя, поможет мне подняться столь же высоко, сколь низко я пала, и ты — ты тоже вознесешься со мной!
— Ты искушаешь меня, толкая к новым преступлениям? Неужто, Хармиана, ты думаешь, что в той лачуге, где я буду скрываться от всего света, я смогу день за днем смотреть на твое красивое лицо и каждый раз, увидев эти губы, думать: это они меня предали? Нет, так легко искупление не дается! Я знаю, и знаю слишком хорошо: много тяжких и одиноких дней будет длиться твое покаяние. Быть может, час мести еще наступит, и ты — кто знает? — доживешь до него и поможешь мне отомстить. Ты должна остаться при дворе Клеопатры, и, пока ты будешь здесь, я, если останусь жив, найду способ посылать тебе время от времени весточку. Быть может, когда-нибудь мне снова понадобятся твои услуги. Так поклянись, что, если это случится, ты не предашь меня во второй раз.
— Клянусь, Гармахис, о клянусь! Если я хоть в самой малой малости обману твои надежды, да осудят меня боги на вечные терзания, о которых страшно и помыслить, — страшнее тех, что разрывают мою грудь сейчас; и я всю жизнь буду ждать вести от тебя.
— Довольно. Ты не посмеешь нарушить клятву, ибо дважды не предают. Я пойду своим путем, подчиняясь своей судьбе; у тебя судьба иная, ты будешь следовать ей. Быть может, нити наших судеб еще переплетутся в том узоре, который ткет жизнь. Хармиана, не любимая мною, подарившая мне свою любовь и, движимая этой своей страстной любовью, предавшая и погубившая меня, — прощай!
Ее безумный взгляд впился мне в лицо, она протянула ко мне руки, точно желая обнять, потом отчаяние сломило ее, она упала на пол.
Я взял мешок с вещами, посох и открыл дверь. Переступая порог, я бросил на нее последний взгляд. Она лежала, раскинув руки, бледнее своего белого одеяния, темные волосы рассыпались, прекрасный высокий лоб в пыли.
И я ушел, оставив ее на полу в беспамятстве. Увидел я ее лишь девять долгих лет спустя.
(На этом кончается второй, самый большой свиток папируса.)
КНИГА ТРЕТЬЯ. МЕСТЬ ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о том, как Гармахис бежал из Тарса; как его принесли в жертву морскому богу; как он жил на острове Кипр; как вернулся в Абидос и как умер его отец Аменемхет
Я благополучно спустился по лестнице и оказался во дворе огромного дома. До рассвета оставался еще час, вокруг никого не было. Угомонились пьяные, танцовщицы перестали плясать, в городе царила тишина. Я подошел к воротам, и меня окликнул начальник стражи, который стоял возле них, завернувшись в плащ из грубой ткани.
— Кто идет? — раздался голос Бренна.
— Сирийский купец, мой благородный господин, я привез из Александрии товары придворной даме царицы, эта дама оказала мне гостеприимство, и вот теперь я возвращаюсь на свое судно, — ответил я, изменив голос.
— Поздно же развлекаются со своими гостями придворные дамы царицы, — проворчал Бренн. — Ну да что там, сейчас все веселятся — праздник. Пароль знаешь, господин лавочник? Если не знаешь, придется возвращаться к своей милой и просить приюта у нее.
— Пароль — «Антоний», господин мой, и, должен сказать, удачнее слова не придумать. Много я путешествовал по разным странам, но никогда не видал такого красавца и такого великого полководца. А ведь мне где только не довелось побывать, мой благородный господин, и полководцев я встречал немало.
— Верно, пароль — «Антоний». Что ж, Антоний на свой лад неплохой полководец — когда не пьет и поблизости нет хорошенькой женщины. Я воевал с Антонием — и против него тоже воевал, так что знаю все его достоинства и слабости. Сейчас ему не до кого и не до чего, вот так-то, друг!
Беседуя со мной, страж вышагивал взад-вперед. Но сейчас он отступил вправо, пропуская меня.
— Прощай, Гармахис, иди, не медли! — быстро шепнул Бренн, шагнув ко мне. — Тебе надо спешить. Вспоминай иногда Бренна, который поставил на кон свою жизнь, чтобы спасти твою. Прощай, друг, жаль, что мы не уплыли с тобой на север. — И, отвернувшись, он запел себе под нос какую-то песню.
— Прощай, Бренн, мой верный благородный друг, — шепнул я ему и тут же исчез. Потом я много раз слышал рассказы о том, какую услугу оказал мне Бренн, когда утром начался шум и суета, ибо убийцы не могли меня найти, хотя искали повсюду. Так вот, Бренн поклялся, что через час после полуночи, когда он охранял ворота один, он увидел, как я появился на крыше, встал на парапет, раскинул плащ, который превратился в крылья, и медленно улетел на них в небо, а на него от изумления напал столбняк. Эта история обошла весь двор, и все ей поверили, ибо моя слава чародея была велика; всех охватило волнение, ибо люди не понимали, что предвещает это знамение. Сказка эта долетела до Египта и обелила меня в глазах тех, кого я предал, ибо самые невежественные среди них уверовали, что я действовал не по своей собственной воле, а повинуясь воле великих богов, которые забрали меня живым на небо. До сих пор народ наш говорит: «Египет станет свободным, когда к нам вернется Гармахис». Но увы — Гармахис не вернется! Одна лишь Клеопатра, хотя и сильно испугалась, выдумке Бренна не поверила и послала судно с вооруженными солдатами на поиски сирийского купца, однако солдаты не нашли его, о чем я поведаю ниже.
Когда я подошел к галере, о которой мне говорила Хармиана, она уже готовилась отплыть; я отдал письмо кормчему, он его внимательно прочел, с любопытством оглядел меня, однако ничего не сказал.
Я поднялся на борт, и мы быстро поплыли вниз по течению. Добрались до устья Кидна, и никто нас не остановил, хотя нам встретилось довольно много судов, и вот мы в открытом море, нас несет сильный попутный ветер, который во второй половине дня разыгрался в шторм. Моряки испугались, хотели повернуть обратно и плыть к устью Кидна, но в столь бурном море галера им не повиновалась. Шторм бушевал всю ночь, ветер сорвал мачту, могучие волны швыряли наше судно, точно щепку. Но я сидел, закутавшись в свой плащ, и ничего не замечал; в конце концов моряки, увидев, что я не чувствую никакого страха, стали кричать: «Он колдун! Он злой колдун!» — и хотели выбросить меня за борт, но кормчий воспротивился. К утру ветер начал утихать, но еще до полудня снова рассвирепел. В четвертом часу пополудни впереди показался остров Кипр, та его скалистая гряда Динарет, где есть гора Олимп, и нас понесло туда. Когда матросы увидели грозные скалы, о которые разбивались взбешенные волны, они снова испугались и стали вопить от ужаса. А я сидел все такой же безучастный, и они закричали, что я злой колдун, тут никаких сомнений быть не может, надо бросить меня в море, чтобы умилостивить морских богов. На этот раз капитан понял, что не сможет защитить меня, и не стал с ними спорить. И вот моряки подступили ко мне, а я лишь встал и с презрением проговорил: «Хотите бросить меня в море? Бросайте. Но если бросите, вас ждет гибель».
Мне и в самом деле было все равно. Я не хотел жить. Я жаждал смерти, хоть и боялся предстать перед моей небесной матерью Исидой. Но этот мучительный страх растворился в душевной опустошенности и в горечи сознания, что мне выпал столь тяжкий жребий; и когда эти разъяренные звери схватили меня, раскачали и швырнули в кипящие волны, я лишь начал молиться Исиде, готовясь предстать перед ней. Но судьбе было не угодно, чтобы я погиб: вынырнув на поверхность, я увидел неподалеку бревно, подплыл к нему и обхватил руками. В это время накатила огромная волна, подняла меня на бревне — а я, нужно сказать, еще в детстве научился плавать на Ниле и искусно управлялся с бревнами, — и пронесла мимо галеры, где с искаженными от злобы лицами сгрудились матросы — глядеть, как я буду тонуть. Когда же они увидели, что я лечу на гребне волны и проклинаю их, а лицо и руки у меня из темных стали белыми, ибо соленая вода смыла краску Хармианы, они завизжали от страха и повалились на палубу. Меня несло к прибрежным скалам, но тут еще одна огромная волна накрыла судно, перевернула вверх килем и утащила в пучину.
Галера утонула вместе со всеми матросами. Во время этого же шторма утонула и галера, которую Клеопатра послала на поиски сирийского купца. Следы мои затерялись, и царица, без сомнения, поверила, что я погиб.
А я плыл к берегу. Выл ветер, соленые волны больно секли лицо, над головой пронзительно кричали чайки, но в моем поединке с разбушевавшейся стихией я не сдавался. В душе не было и тени страха, ее наполнял ликующий восторг — когда в глаза заглянула смерть, я вдруг почувствовал, что просыпается любовь к жизни. И я стал бороться за свою жизнь: то делал могучие рывки вперед, то отдавался течению, то взлетал на гребне волн к нависшим над самым морем тучам, падал в бездонные провалы, и вот наконец совсем близко встала скалистая гряда, я видел, как пенные валы разбиваются о неколебимые утесы, я слышал сквозь свист и завывание ветра, как они с глухим гулом обрушиваются на берег, как стонут огромные камни, которые они тащат за собой в море. Могучая волна подбросила меня на самый верх, я был словно на троне в гриве ее пены, в пятидесяти локтях подо мной шипела бездна, на голову падало черное небо! Все, конец! Стихия вырвала из моих рук бревно, тяжелый мешочек с золотом и мокрая, облепившая тело одежда потянули меня вниз, и, как я ни сопротивлялся, я стал тонуть.
И вот я под водой, на миг сквозь ее толщу пробился зеленый свет, потом все залила тьма, и в этой тьме замелькали картины прошлого, одна за другой — вся моя долгая жизнь предстала предо мной. Потом я стал погружаться в сон, а в ушах звучала песнь соловья, слышался ласковый плеск летнего моря, раздавался мелодичный торжествующий смех Клеопатры… но все тише, тише, все дальше.
И снова ко мне вернулась жизнь и с нею ощущение непереносимой боли и мысль, что я смертельно болен. Я открыл глаза, увидел склонившиеся надо мной участливые лица и понял, что я в доме, в небольшой комнате.
— Как я здесь оказался? — спросил я слабым голосом.
— Мы думаем, странник, тебя принес к нам Посейдон, — ответил мужской голос на варварском греческом языке. — Ты лежал на берегу, точно мертвый дельфин, а мы нашли тебя и принесли в дом; сами мы рыбаки. И тут, у нас, ты лежишь уже давно, ибо твоя левая нога сломана — видно, волны уж очень сильно швырнули тебя на камни.
Я хотел пошевелить ногой, однако она мне не повиновалась. Да, кость действительно была сломана ниже колена.
— Кто ты и как твое имя? — спросил бородатый рыбак.
— Я — египетский путешественник, мой корабль утонул во время бури, а зовут меня Олимпий, — ответил я; мне вспомнилось, что моряки назвали гору, что возвышалась на острове, Олимпом, и я взял себе это первое попавшееся имя. С тех пор я так его и ношу.
Здесь, в семье этих простых рыбаков, я прожил почти полгода, платя за их заботы золотом, которые море выбросило на берег вместе со мной. Кости мои долго не срастались, а когда срослись, я стал калекой: я некогда такой красивый, сложенный как бог, высокий, теперь хромал, ибо сломанная нога стала короче здоровой. И даже оправившись от болезни, я продолжал жить в приютившей меня семье, трудился вместе с ними, ловил рыбу; я не знал, куда мне идти и что делать, и даже стал подумывать, что, пожалуй, останусь здесь навсегда, буду ловить рыбу, и так пройдет моя постылая жизнь. Рыбаки относились ко мне с большой добротой, хотя, как и все, с кем сталкивала меня судьба, боялись меня, считая, что я — колдун и что меня принесло к ним море. Мои несчастья наложили на мое лицо такую странную печать, что люди, глядя на него, пугались этой спокойной застывшей маски — кто знает, что за ней таится, думали все.
Так мирно тянулась моя жизнь на острове, но вот однажды ночью, когда я лежал, тщетно пытаясь заснуть, меня охватило неодолимое волнение, мне страстно захотелось еще раз увидеть Сихор. Ниспослали ли мне это желание боги, или оно родилось в моем собственном сердце, я не знаю. Но голос, который звал меня на родину, был так силен, что, не дождавшись рассвета, я встал со своей соломенной постели, надел одежду рыбака, которую носил, и покинул бедный дом, где жил, — мне не хотелось ничего объяснять этим добрым людям. Я только положил на чисто выскобленную деревянную столешницу несколько золотых монет, взял горсть муки и написал ею:
«Это дар египтянина Олимпия, который возвратился в море».
И я ушел от них и на третий день добрался до большого города Саламина, который также стоит на берегу моря. Здесь я поселился в рыбацком квартале и жил там, пока не узнал, что в Александрию отплывает судно, и тогда я нанялся на это судно моряком; кормчий, сам уроженец Пафа, охотно меня взял. Мы отплыли и при попутном ветре, который сопровождал нас, на пятый день прибыли в Александрию — в этот ненавистный мне город, и я увидел, как сверкают на солнце его золотые купола.
Здесь мне нельзя было оставаться, и я снова нанялся матросом на судно, кормчий которого за мои труды согласился довезти меня по Нилу до Абидоса. Из разговоров гребцов я узнал, что Клеопатра вернулась в Александрию и привезла с собой Антония, что оба они живут в большой роскоши в царском дворце на мысе Лохиас. Гребцы пели о них песню, работая веслами. Услышал я и о том, как галера, посланная на розыски вслед судну, на котором уплыл из Тарса сирийский купец, пошла со всей командой ко дну, а также сказку о царицыном астрономе Гармахисе, который улетел в небо с крыши дома в Тарсе, где жила царица. Моряки дивились на меня, потому что я трудился изо всех сил, но не пел вместе с ними непристойных песен о любовниках Клеопатры. Они тоже начали сторониться меня и с опаской перешептывались. Тогда я понял, что я поистине проклят и что между мною и всеми людьми лежит непреодолимая пропасть — такого, как я, нельзя любить.
На шестой день мы подплыли туда, где в нескольких часах пути находится Абидос, я сошел на берег — как мне кажется, к великой радости гребцов. Я шагал по дороге, вьющейся среди тучных полей, встречал людей, которых так хорошо знал с детства, и сердце разрывалось в моей груди. На мне была простая одежда моряка, я шел, припадая на левую ногу, и никто меня не узнавал. Когда солнце стало клониться к закату, я наконец приблизился к гигантским пилонам храмового двора; здесь я вошел в разрушенный дом напротив ворот и опустился на пол. Зачем я сюда вернулся, что мне делать, думал я. Точно заблудившийся бык, я все-таки нашел дорогу к дому, туда, где появился на свет, пришел в родные поля, но что меня здесь ждет? Если мой отец Аменемхет еще жив, он с презреньем отвернется от меня. Я не смел даже думать о встрече с ним. Сидел среди обвалившихся стропил и бессмысленно глядел на ворота — а вдруг из двора храма выйдет кто-то, кого я знаю? Но никто не вышел из ворот, и никто в них не входил, хотя они были распахнуты настежь; и тогда я увидел, что между каменными плитами, которыми вымощен двор, пробилась трава — такого еще никогда здесь не бывало. Что это означает? Неужели храм заброшен? Нет, немыслимо! Разве можно перестать служить вечным богам в этом святилище, где каждый день, тысячелетие за тысячелетием, совершались таинства и ритуальные церемонии в их славу? Так что же, значит, отец мой умер? Да, может быть. Но почему такая мертвая тишина? Где все жрецы, где люди, творящие молитву?
Больше я не мог выносить неизвестности, и, когда диск солнца налился красным, я крадучись, точно шакал, вошел в открытые ворота, миновал двор и вступил в первый огромный Зал Колонн и Статуй. Здесь я остановился и стал глядеть по сторонам — ни души в этом сумрачном святилище, ни звука, не доносится ниоткуда. Сердце мое бешено колотилось, я вошел во второй огромный зал — Зал Тридцати Шести Колонн, где некогда я был коронован венцом Верхнего и Нижнего Египта: и здесь тоже ни души, ни звука. Пугаясь шума собственных шагов, которые таким зловещим эхом отдавались в безмолвии покинутых святилищ, вошел я в галерею, где на стенах выбиты имена фараонов. Вот и покой моего отца. Дверной проем по-прежнему задернут тяжелым занавесом; что-то там, за ним, неужто тоже пустота? Я отвел занавес и неслышно скользнул внутрь. В своем резном кресле за столом сидел в жреческом одеянии мой отец Аменемхет, его длинная седая борода покоилась на мраморной столешнице. Он был так неподвижен, что в голове мелькнула мысль: он умер! Но вот он поднял голову, и я увидел, что глаза у него белые — он ослеп. Слепой, лицо прозрачное, как у покойника, истаявшее от старости и горя.
Я стоял как вкопанный и чувствовал, что его невидящие глаза изучают меня. Говорить я не мог — не смел; мне хотелось убежать и снова где-нибудь спрятаться.
Я уже повернулся и отвел было занавес, но тут услышал низкий голос отца, который произнес:
— Подойди ко мне, о ты, кто некогда был мне сыном и потом стал предателем. Подойди ко мне, Гармахис, надежда Кемета, обманувшая его. Ведь это я тебя призвал сюда из такой дали! И все это время я удерживал в своем теле жизнь, чтобы услышать, как ты крадешься по этим пустым святилищам, точно вор!
— Ах, отец! — изумленно прошептал я. — Ведь ты слеп, как же ты узнал меня?
— Как я тебя узнал? И это спрашиваешь ты, посвященный в тайны наших древних наук? Еще бы мне тебя не узнать, когда я сам призвал тебя к себе. Ах, Гармахис, лучше бы мне никогда тебя не знать! Лучше бы Непостижимый отнял у меня жизнь до того, как ты отозвался на мой зов и явился из лона богини Нут, чтобы стать моим проклятьем и позором и отнять последнюю надежду у Кемета!
— О, не говори так, отец! — простонал я. — Разве я и без того не раздавлен бременем, которое несу? Разве самого меня не предали и не отвергли, как прокаженного? Пощади меня, отец!
— Пощадить тебя? Тебя, который сам никого не пощадил? Разве ты пощадил благородного Сепа, который умер от пыток в руках палачей?
— Нет, нет, неправда, быть того не может! — воскликнул я.
— Увы, предатель, правда! Он умер в нечеловеческих муках и до последнего дыхания твердил, что ты, его убийца, ни в чем не повинен, что твоя честь осталась незапятнанной! Пощадить тебя, пожертвовавшего лучшими, храбрейшими, достойнейшими гражданами Кемета ради объятий блудницы! Как ты думаешь, Гармахис, надрываясь в подземельях рудников, в пустыне, этот цвет нашей несчастной страны пощадил бы тебя? Пощадить тебя, из-за которого этот великий священный храм Абидоса разграблен, земли его отняты, жрецы изгнаны, лишь я один, древний старик, оплакиваю здесь его гибель, — пощадить тебя, осыпавшего сокровищами Менкаура сувою любовницу, предавшего себя, свою Отчизну, свое высокое происхождение и своих богов! Нет, у меня нет жалости к тебе: я проклинаю тебя, плод моих чресел! Да будет жизнь твоя наполнена сознанием вечного несмываемого позора! Да будет смерть твоя нескончаемой агонией и да ввергнут тебя после нее великие боги в терзания преисподней! Где ты? Да, я ослеп от слез, когда узнал о преступлениях, которые ты совершил, хотя все близкие старались от меня их скрыть. Отступник, выродок, изменник, я хочу подойти к тебе и плюнуть тебе в лицо. — И он поднялся с кресла и медленно двинулся в мою сторону, рассекая воздух своим жезлом — живое олицетворение гнева. Он шел неверными шагами, вытянув вперед руки, — невыносимое зрелище, и вдруг жизнь в нем стала угасать, он вскрикнул и упал на пол, изо рта хлынула темная кровь. Я бросился к нему, поднял на руки, и он, слабея, прошептал:
— Он был мой сын, чудесный, ясноглазый мальчик, он был наша надежда, наша весна, а сейчас… сейчас… о, если бы он умер!
Он умолк, потом в горле у него заклокотало.
— Гармахис, — задыхаясь, прошептал он, — это ты?
— Да, отец, я.
— Гармахис, искупи свою вину! Слышишь — искупи! Ты еще можешь отомстить… можешь заслужить прощение… У меня есть золото, я его спрятал… Атуа… Атуа тебе покажет… о, какая боль! Прощай!
Он слабо затрепетал в моих руках и умер.
Так я и мой горячо любимый отец, царевич Аменемхет, встретились в этой жизни в последний раз и в последний раз расстались.
Глава II, повествующая об отчаянии Гармахиса; о страшном заклинании, которым он призвал Исиду; об обещании Исиды; о появлении Атуа и о ее словах, сказанных Гармахису
Я скорчился на полу, глядя на труп моего отца, который дождался меня и проклял, — меня, до скончания веков проклятого; в покой вползала и сгущалась вокруг нас темнота, и надконец мы с мертвым остались в черном беспросветном безмолвии. О, как страшны были эти часы безнадежного отчаяния! Воображение не может этого представить, слова бессильны описать. И снова я в неизмеримой глубине моего падения стал думать о смерти. За поясом у меня был нож, как легко пресечь им страдания и освободить мой дух. Освободить? Да, чтобы он свободно летел к великим богам принять их великую месть! Увы, увы, я не смел умереть. Уж лучше жизнь на земле со всеми моими горестями и скорбями, чем мгновенное погружение в невообразимые ужасы, которые уготованы в мрачном Аменти всем падшим.
Я катался по полу и плакал жгучими слезами о своей погибшей жизни, о прошлом, которого не изменить, — плакал, пока не иссякли слезы; но безмолвие не отзывалось на мое горе, не давало ответа, я слышал лишь эхо собственных рыданий. Ни проблеска надежды! В моей душе была тьма, более черная, чем темнота покоя: богов я предал, люди от меня отвернулись. Один на один с леденящим душу величием смерти, я почувствовал, что меня охватывает ужас. Скорее прочь отсюда! Я поднялся с пола. Но разве я найду дорогу в этой темноте? Я сразу же заблужусь в галереях, в залах среди колонн. И куда бежать, ведь мне негде приклонить голову. Я снова скорчился на полу, страх обручем сдавливал голову, на лбу выступил холодный пот, казалось, я сейчас умру. И тогда я, в моем смертном отчаянии, стал громко молиться Исиде, к которой уже много, много дней не смел обращаться.
— О Исида! Небесная мать! — взывал я. — Забудь на краткий миг о своем гневе и в своем неизреченном милосердии, о ты, которая сама есть милосердие, отвори сердце свое страданьям того, кто был твоим слугой и сыном, но совершил преступление, и ты отвратила от него лик своей любви! О ты, великая миродержица, живущая во всем и во все проницающая, разделяющая всякое горе, положи свое сострадание на чашу весов и уравновесь им зло, сотворенное мною! Увидь мою печаль, измерь ее; исчисли глубину моего раскаянья и силу скорби, что изливается потоком из моей души. О ты, державная, с кем мне было дано встретиться и узреть твой лик, я призываю тебя священным часом, когда ты явилась мне в Аменти; я призываю тебя великим тайным словом, что ты произнесла. Снизойди ко мне в своем милосердии и спаси меня; или же слети в гневе и положи конец мучениям, которые больше невозможно переносить.
И, поднявшись с колен, я воздел к небу руки и громко выкрикнул то страшное заклинание, произносить которое дозволено лишь в самый тяжкий час, иначе ты умрешь.
И тотчас же богиня отозвалась. В тиши покоя я услышал бряцанье систра, возвещавшего о появлении Исиды. Потом в дальнем углу слабо засветился как бы изогнутый золотой рог месяца и внутри рога — маленькое темное облачко, из которого то высовывал свою голову огненный змей, то прятался в облачке.
Ноги мои подогнулись, когда я увидел богиню, я упал перед нею ниц.
Из облачка послышался тихий нежный голос:
— Гармахис, который был моим слугой и моим сыном, я услышала твою молитву и заклинание, которое ты осмелился произнести, оно властно вызвать меня из горних миров, когда его изрекают уста того, с кем я беседовала. Но нас уже не связывают узы единой божественной любви, Гармахис, ибо ты своим деянием отверг меня. И потому теперь, после того, как я столь долго не отвечала тебе, я явилась перед тобой, Гармахис, в гневе и, быть может, даже с жаждой мести, ибо просто так Исида не покидает свою священную высокую обитель.
— Покарай меня, богиня! — воскликнул я. — Покарай и отдай тем, кто исполнит твою месть, ибо мне не под силу больше нести бремя моего горя!
— Что ж, если ты не можешь нести бремя своего наказания здесь, на земле, — ответил печальный голос, — как же ты понесешь неизмеримо более тяжелое бремя, которое возложат на тебя там, куда ты придешь, покрытый позором и не искупивший вину, — в мое мрачное царство Смерти, которая есть Жизнь в обличьи нескончаемых перемен? Нет, Гармахис, я не стану тебя карать, ибо не так уж велик мой гнев за то, что ты осмелился призвать меня страшным заклинанием: ведь я пришла к тебе. Слушай же меня, Гармахис: не я возвеличиваю и не я караю, я лишь исполнительница повелений Непостижимого, я лишь слежу, чтобы достойный был вознагражден, а недостойный понес кару; и если я дарую милосердие, я дарую его без слов похвалы, и поражаю я тоже без укора. И потому не буду утяжелять твое бремя гневной речью, хоть ты и виноват в том, что скоро, скоро госпожа волхвований, великая чарами богиня Исида станет для Египта лишь воспоминанием. Ты совершил зло, и тяжкое наказание ты за него понесешь, как я тебя и остерегала, — здесь, в этой земной жизни, и там, в моем царстве Аменти. Но я также говорила тебе, что есть путь к искуплению, и ты на него уже вступил, я это знаю, но по этому пути нужно идти, смирив гордыню, и есть горький хлеб раскаяния, пока не исполнятся сроки твоей судьбы.
— Так, стало быть, благая, нет для меня надежды?
— То, что свершилось, Гармахис, то свершилось, и ничего теперь не изменить. Никогда уже Кемет не будет свободным, храмы его разрушатся, их засыплют пески пустыни; иные народы будут завоевывать Кемет и править здесь; в тени его пирамид будут расцветать и умирать все новые и новые религии, ибо у каждого мира, у каждой эпохи, у каждого народа свои собственные боги. Вот дерево, что вырастет, Гармахис, из семени зла, которое посеял ты и те, кто искушал тебя!
— Увы! Я погиб! — воскликнул я.
— Да, ты погиб; но тебе будет дано утешение: ты погубишь ту, что погубила тебя, — так суждено во имя справедливости, которую творю я. Когда тебе будет явлено знамение, брось все, иди к Клеопатре и сверши месть, повинуясь моим повелениям, которые ты прочтешь в своем сердце. А теперь о тебе, Гармахис: ты отринул меня, и потому мы не встретимся с тобою, как тогда, в Аменти, пока в круговороте Времени с этой земли не исчезнет последний росток посеянного тобой зла! Но всю эту нескончаемую череду тысячелетий помни: любовь божественная вечна, она не умирает, хотя порою улетает в недосягаемые дали. Искупи свое преступление, мой сын, искупи зло, пока еще не поздно, чтобы в скрытом мглой конце Времен я снова могла принять тебя в свое сияние. И я, Гармахис, тебе обещаю: пусть даже ты никогда меня не будешь видеть, пусть имя, под которым ты меня знаешь, станет пустым звуком, неразгаданной тайной для тех, кто придет на землю после тебя, — и все же я, живущая вечно, я, наблюдавшая, как зарождаются, цветут и под испепеляющим дыханием Времени рушатся миры, чтобы возникнуть снова и пройти начертанный им путь, — я пребуду всегда с тобой. Где бы ты ни был, в каком бы облике ни возродился, — я буду охранять тебя! На самой далекой звезде, в глубочайших безднах Аменти — в жизни и в смерти, в снах, наяву, в воспоминаниях, в забвении всего и вся, в странствиях души в потусторонней жизни, во всех перевоплощениях твоего духа, — я неизменно буду с тобой, если ты искупишь содеянное зло и больше не забудешь меня; я буду ждать часа твоего очищения. Такова природа Божественной Любви, которая изливается на тех, кто причастился ее святости и связан с ней священными узами. Суди же сам, Гармахис: стоило ли отвергать нетленную любовь ради прихоти смертной женщины? И пока ты не исполнишь все, о чем я тебе говорила, не произноси больше Великого и Страшного Заклятья, я тебе запрещаю! А теперь, Гармахис, прощай до встречи в иной жизни!
Последний звук нежного голоса умолк, огненный змей спрятался в сердце облачка. Облачко выплыло из лунного серпа и растворилось в темноте. Месяц стал бледнеть и наконец погас. Богиня удалялась, снова донеслось тихое, наводящее ужас бряцанье систра, потом и оно смолкло.
Я закрыл лицо полой плаща, и хотя рядом со мной лежал холодный труп отца — отца, который умер, проклиная меня, я почувствовал, как в сердце возвращается надежда, я знал, что я не вовсе погиб и не отвергнут той, которую я предал и которую по-прежнему люблю. Усталость сломила меня, я сдался сну.
Когда я проснулся, сквозь отверстие в крыше пробивался серый свет зари. Зловеще глядели на меня со стен окутанные тенями скульптуры, зловеще было мертвое лицо седобородого старца — моего отца, воссиявшего в Осирисе. Я содрогнулся, вспомнив все, что произошло, потом мелькнула мысль — что же мне теперь делать, но отстраненно, словно я думал не о себе, а о ком-то другом. Я стал подниматься и тут услышал в галерее с именами фараонов на стенах чьи-то тихие шаркающие шаги.
— Ах-ха-ха-ах! — бормотал голос, который я сразу узнал, — это была старая Атуа. — Темно, будто я в жилище смерти! Великие служители богов, которые построили этот храм, не любили источник жизни — солнце, хоть и поклонялись ему. Где же занавес?
Наконец Атуа его подняла и вошла в покой отца с посохом в одной руке и с корзиной в другой. На ее лице стало еще больше морщин, в редких волосах почти
не было темных прядей, но в остальном она почти не изменилась. Старуха остановилась у занавеса и стала вглядываться в сумрак покоя своими зоркими глазами, потому что заря еще не осветила комнату отца.
— Где же он? — спросила она. — Неужто ушел ночью бродить, слепой, — да не допустит этого Осирис, славится его имя вечно! Горе мне, горе! И почему я не зашла к нему вечером? Горе всем нам, великое горе! До чего же мы дожили: верховный жрец великого и священного храма, по праву рождения правитель Абидоса, остался в своей немощи один, и только ветхая старуха, которая сама стоит одной ногой в могиле, ухаживает за ним! О Гармахис, бедный мой, несчастный мальчик, это ты навлек на нас такое горе!.. Великие боги, что это? Неужто он спит на полу? Нет, нет… он умер? Царевич! Божественный отец! Аменемхет! Проснись, восстань! — И она заковыляла к трупу. — Что с тобой? Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, ты умер? Умер один, никого не было рядом с тобой поддержать в эту священную минуту, сказать слова утешения! Ты умер, умер, умер! — И ее горестный вопль полетел к потолку, отскакивая эхом от украшенных статуями стен.
Тише, перестань кричать! — сказал я, выходя из темноты на свет.
— Ай, кто ты такой?! — крикнула она и выронила из рук корзину. — Злодей, это ты убил нашего владыку праведности, единственного владыку праведности во всем Египте? Да падет на тебя извечное проклятье, ибо хотя боги отвернулись от нас в час горького испытания, но они не оставят преступления безнаказанным и тяжко покарают того, кто убил их помазанника!
— Посмотри на меня, Атуа, — сказал я.
— А разве я не смотрю? Смотрю и вижу злодея, бродягу, который совершил это великое зло! Гармахис оказался предателем и сгинул где-то в дальних странах, а ты убил его божественного отца Аменемхета, и вот теперь я осталась одна на всем белом свете, у меня нет никого, ни единой души. Я отдала убийцам моего родного внука, пожертвовала дочерью и зятем ради предателя Гармахиса! Ну что ж, убей и меня, злодей!
Я шагнул к ней, а она, решив, что я хочу ее зарезать, в ужасе закричала:
— Нет, нет, мой господин, пощади меня! Мне восемьдесят шесть лет, клянусь извечными богами, — когда начнется разлив Нила, мне исполнится восемьдесят шесть лет, и все же я не хочу умирать, хотя Осирис милостив к тем, кто верно служил им всю жизнь! Не подходи ко мне, не подходи… На помощь! Помогите!
— Замолчи, глупая! — приказал я. — Неужто ты меня не узнаешь?
— А почему же я должна тебя узнать? Разве мне знакомы все бродяги-моряки, которым Себек позволяет добывать средства на жизнь, грабя и убивая, пока они не попадут во власть Сета? А впрочем, погоди… как странно… лицо так изменилось… и этот шрам… и ты хромаешь… О, это ты, Гармахис! Это ты, любимый мой, родной мой мальчик! Ты вернулся, мои старые глаза тебя видят, до какого счастья я дожила! Я думала, ты умер! Позволь же мне обнять тебя! Ах, я забыла: Гармахис — предатель и убийца! Вот лежит передо мной божественный Аменемхет, принявший смерть от рук отступника Гармахиса! Ступай прочь! Я не желаю видеть предателей и отцеубийц! Ступай к своей распутнице! Ты не тот, кого я с такой любовью нянчила и растила!
— Успокойся, Атуа, молю тебя: успокойся! Я не убивал отца, — увы, он умер сам, умер в моих объятьях!
— Да, конечно: в твоих объятьях и проклиная тебя, я в том уверена, Гармахис! Ты принес смерть тому, кто дал тебе жизнь! Ах-ха! Долго я живу на свете, и много выпало на мою долю горя, но такого черного часа еще не было в моей жизни! Никогда я не любила глядеть на мумию, но лучше бы мне давно усохнуть и покоиться в гробу! Уходи, молю тебя, уйди с моих глаз!
— Добрая моя старая няня, не упрекай меня! Разве я и без того не довольно вынес бед?
— Ах, да, да, я и забыла! Так что за преступление ты совершил? Тебя сгубила женщина, как женщины всегда губили и будут губить мужчин до скончания века. Да еще какая это была женщина! Ах-ха! Я видела ее, такой красавицы еще на свете не было — злые боги нарочно сотворили ее людям на погибель! А ты совсем молоденький, да к тому же жрец, проведший всю жизнь в затворничестве, — от такого воспитания добра не жди, одна пагуба! Где тебе было устоять против нее? Конечно, ты сразу попался в ее сети, что тут удивительного. Подойди ко мне, Гармахис, я поцелую тебя! Разве женщина может осудить мужчину за то, что он потерял голову от любви? Такова уж наша природа, а Природа знает, что делает, иначе сотворила бы нас другими. С нами здесь случилась беда похуже, вот это уж беда так беда! Знаешь ли ты, что твоя царица-гречанка отобрала у храма земли и доходы, разогнала жрецов — всех, кроме нашего божественного Аменемхета, который теперь лежит здесь мертвый, его она пощадила неведомо почему; мало того: она запретила служить в этих стенах нашим великим богам. А теперь и Аменемхета не стало! Скончался наш Амснемхет! Что ж, он вступил в сияние Осириса, и ему там лучше, ибо жизнь его здесь, на земле, была невыносимым бременем. Слушай же, Гармахис, что я тебе скажу: он не оставил тебя нищим; как только заговор был обезглавлен, он собрал все свои богатства, а они немалые, и спрятал их, я покажу тебе тайник, — они по праву должны перейти к тебе, ведь ты его единственный сын.
— Атуа, не надо говорить мне о богатствах. Куда мне деться, где скрыть свой позор?
— Да, да, ты прав; здесь тебе нельзя оставаться, тебя могут найти, и если найдут, то ты умрешь страшной смертью — тебя удушат в просмоленном мешке. Не бойся, я тебя спрячу, а после погребальных церемоний и плача по божественному Аменемхету мы тайно уедем отсюда и будем жить вдали от людских глаз, пока эти несчастья не забудутся. Ах-ха! Печален мир, в котором мы живем, и бед в нем не счесть, как жуков в нильском иле. Идем же, Гармахис, идем!
Глава III, повествующая о жизни того, кто стал известен всем под именем ученого затворника Олимпия, в усыпальнице арфистов гробницы Рамсеса близ Тапе; о вести, что прислала ему Хармиана; советах, которые он давал Клеопатре; и о возвращении Олимпия в Александрию
И вот что произошло потом. Восемьдесят дней прятала меня старая Атуа, пока искуснейшие из бальзамировщиков готовили труп моего отца, царевича Аменемхета, к погребению. И когда наконец все предписанные законом обряды были соблюдены, я тайно выбрался из своего убежища и совершил приношения духу моего отца, возложил ему на грудь венок из лотосов и в великой скорби удалился. А назавтра я увидел с того места, где лежал, затаившись, как собрались жрецы храма Осириса и святилища Исиды, как медленно двинулась печальная процессия к священному озеру, неся расписанный цветными красками гроб отца, как опустили его в солнечную ладью с навесом. Жрецы совершили символический ритуал суда над мертвым и провозгласили отца справедливейшим и достойнейшим среди людей, потом понесли его в глубокую усыпальницу, вырубленную в скалах неподелку от могилы всеблагого Осириса, чтобы положить рядом с моей матерью, которая уже много лет покоилась там, — надеюсь, что и я, невзирая на все свершенное мной зло, скоро тоже упокоюсь рядом с ними. И когда отца похоронили и запечатали вход в глубокую гробницу, мы с Атуа извлекли из тайника сокровища отца, надежно их укрыли, я переоделся паломником и вместе со старой Атуа поплыл по Нилу в Тапе;
[216] там, в этом огромном городе, мы поселились, и я стал искать место, куда мне будет безопасно удалиться и жить в уединении.
Такое место я наконец нашел. К северу от города возвышаются среди раскаленной солнцем пустыни бурые крутые скалы, и здесь, в этих безотрадных ущельях, мои предки — божественные фараоны — приказывали высекать себе в толще скал гробницы, большая часть которых и по сей день никем на обнаружена, так хитро маскировали вход в них. Но есть и такие, что были найдены, в них проникли окаянные персы и просто воры, которые искали спрятанные сокровища. И вот однажды ночью — ибо я не осмеливался покинуть свое убежище при свете дня, — когда небо над зубцами скал начало сереть, я вступил один в эту печальную долину смерти, подобной которой нет больше нигде на свете, и недолгое время спустя приблизился к входу в гробницу, спрятанному в складках скал, где, как я потом узнал, был похоронен божественный Рамсес, третий фараон, носящий это имя, давно вкушающий покой в царстве Осириса. В слабом свете зари, пробившемся сквозь ход, я увидел, что там, внутри, — просторное помещение и дальше много разных камер.
Поэтому на следующую ночь я вернулся со светильниками, и со мной пришла моя старая няня Атуа, которая преданно служила мне всю жизнь с младенчества, когда я, беспомощный и несмышленый, еще лежал в колыбели. Мы осмотрели величественную гробницу и наконец вошли в огромный зал, где стоит гранитный саркофаг с мумией божественного Рамсеса, который много веков почивает в нем; на стенах начертаны мистические знаки; змея, кусающая себя за хвост, — символ вечности; Ра, покоящийся на скарабее; Нут, рождающая Ра; иероглифы в виде безголовых человечков и много, много других тайных символов, которые я легко прочел, ибо принадлежу к числу посвященных. От длинной наклонной галереи отходит несколько камер с прекрасными настенными росписями. Под полом каждой камеры могила человека, о котором рассказывается в сценах росписей на стенах — знаменитого мастера в своем искусстве или ремесле, которым он славил со своими помощниками дом божественного Рамсеса. На стенах последней камеры, той, что по левую сторону галереи, если стоять лицом к залу, где саркофаг, росписи особенно хороши, они посвящены двум слепым арфистам, играющим на своих арфах перед богом Моу; а под плитами пола мирно спят эти самые арфисты, которым уже не держать в руках арфу на этой земле. И здесь, в этой печальной обители, где покоятся арфисты, я поселился в обществе мертвых и прожил восемь долгих лет, неся наказание за совершенные мною преступления и искупая свою вину. Но Атуа любила свет и потому выбрала себе камеру с изображениями барок, а эта камера первая по правую сторону галереи, если стоять лицом к усыпальнице с саркофагом Рамсеса.
Вот как проходила моя жизнь. Через день старая Атуа ходила в город и приносила воду и еду, необходимую для поддержания жизни, а также жир для светильников. На закате и на рассвете я выходил на час в ущелье и прогуливался по нему, чтобы сохранить здоровье и зрение, которого я мог лишиться в кромешной темноте гробницы. Ночью я поднимался на скалы и наблюдал звезды, все остальное время дня и ночи, когда я не спал, я проводил в молитвах и в размышлениях, и наконец груз вины, свинцовой глыбой давившей мое сердце, стал не так тяжек, я снова приблизился к богам, хотя мне не было дозволено обращаться к моей небесной матери Исиде. Я также обрел много знаний и мудрости, проникнув в тайны, которые начал постигать еще раньше. От воздержанной жизни, наполненной молитвами в печальном одиночестве, плоть моя как бы истаяла, но я научился заглядывать в самое сердце явлений и вещей глазами моего духа, и наконец меня осенило великое счастье Мудрости, живительное, точно роса.
Скоро по городу распространился слух, что в зловещей Долине Мертвых, уединившись во мраке гробницы, живет некий великий ученый по имени Олимпий, и ко мне стали приходить люди и приносить больных, чтобы я их исцелил. Я принялся изучать свойства трав и растений, в чем меня наставляла Атуа, и с помощью ее науки и заключений, которые я сделал сам в своих углубленных размышлениях, я достиг больших высот в искусстве врачевания, и многие больные излечивались. Шло время, слава обо мне достигла других городов Египта, люди, говорили, что я не только великий ученый, но и чародей, ибо беседую в своей гробнице с духами умерших. И я действительно с ними беседовал, но об этом мне не позволено рассказывать. И вот немного времени спустя Атуа перестала ходить в город за водой и пищей, все это приносили нам теперь люди, и даже гораздо больше, чем нам было нужно, ибо я не брал платы за лечение. Сначала, опасаясь, что кто-то узнает в отшельнике Олимпии пропавшего Гармахиса, я принимал посетителей лишь в темной камере гробницы. Но потом, когда я узнал, что молва разнесла по всему Египту весть о гибели Гармахиса, я стал выходить на свет и, сидя у входа в гробницу, оказывал помощь больным, а также составлял для знатных и богатых жителей гороскопы. Слава моя меж тем все росла, ко мне стали приезжать люди из Мемфиса и Александрии; от них я узнал, что Антоний оставил Клеопатру и, так как Фульвия умерла, женился на сестре цезаря Октавии. Много, много разных новостей узнавал я от посещавших меня людей.
Когда пошел второй год моего затворничества, я послал старую Атуа в Александрию под видом знахарки, торгующей целебными травами, велел ей разыскать Хармиану и, если она увидит, что Хармиана хранит верность своим клятвам, поведать ей о том, где я живу. И Атуа отправилась в Александрию, откуда приплыла через четыре с лишним месяца, привезя мне пожелания здравия и радости от Хармианы, а также ее дары. Атуа мне рассказала, как ей удалось добиться встречи с Хармианой и как она, беседуя с ней, упомянула мое имя и сказала, что я погиб, после чего Хармиана, не в силах сдержать своего горя, разразилась рыданиями. Тогда старуха, проникнув в ее помыслы и чувства, ибо была очень умна и обладала великими познаниями человеческой природы, открыла Хармиане, что Гармахис жив и посылает ей приветствие. Хармиана зарыдала еще громче — теперь уже от радости, бросилась обнимать старуху, осыпала дарами и просила передать мне, что верна своей клятве и ждет меня, чтобы свершить месть. Узнав в Александрии много такого, что другим было неведомо, Атуа вернулась в Тапе.
В том же году ко мне прибыли посланцы Клеопатры с запечатанным посланием и с богатыми дарами. Я развернул свиток и прочел:
«Клеопатра — Олимпию, ученому египтянину, живущему в Долине Мертвых близ Тапе.
Слава о твоей учености, о мудрый Олимпий, достигла наших ушей. Дай же нам совет, и если твой совет поможет нам исполнить наше желание, мы осыплем тебя почестями и богатствами, каких еще не удостаивался никто во всем Египте. Как нам вернуть любовь благородного Антония, которого околдовала злокозненная Октавия и так долго удерживает вдали от нас?»
Я понял, что Хармиана начала действовать и что это она рассказала Клеопатре о моей великой учености.
Всю ночь я размышлял, призвав на помощь мою мудрость, а утром написал ответ, который продиктовали мне великие боги, дабы погубить Клеопатру и Антония:
«Египтянин Олимпий — царице Клеопатре.
Отправляйся в Сирию с тем, кто будет послан, дабы доставить тебя туда; Антоний снова вернется в твои объятия и одарит тебя столь щедро, что ты и в самых дерзких мечтах такого не можешь представить».
Это письмо я отдал посланцам Клеопатры и велел им поделить между собой посланные мне Клеопатрой дары.
Они отбыли в великом изумлении.
Клеопатра же ухватилась за мой совет и, повинуясь порывам своей страсти, тотчас же отправилась в Сирию с Фонтейем Капито, и все случилось, как я ей предсказал. Она снова опутала Антония своими чарами, и он подарил ей большую часть Киликии, восточный берег Аравии, земли Иудеи, где добывался бальзам, Финикию, Сирию, богатый остров Кипр и библиотеку Пергама. Детей же, близнецов, которых Клеопатра после сына Птолемея родила Антонию, он кощунственно провозгласил «Владыками, детьми владык», и нарек мальчика Александром Гелиосом, что по-гречески означает солнце, а дочь — Клеопатрой Селеной, то есть крылатой луной.
Вот как развивались события дальше.
Вернувшись в Александрию, Клеопатра послала мне богатейшие дары, которых я не принял, и стала умолять меня, мудрейшего ученого Олимпия, переехать жить в ее дворец в Александрию, но время еще не наступило, и я отказался. Однако и она, и Антоний постоянно отправляли ко мне посланцев, спрашивая моего совета, и все мои советы приближали их гибель, все мои пророчества сбывались.
Один долгий год сменялся другим, еще более долгим, и вот я, отшельник Олимпий, живущий вдали от людей в гробнице, питающийся хлебом и водой, снова возвеличился в Кемете благодаря великой мудрости, которой осенили меня боги-мстители. Чем искренней я презирал потребности плоти, чем вдохновенней обращал свой взор к небу, тем большую глубину и власть обретала моя мудрость.
И вот прошло целых восемь лет. Началась и кончилась война с парфянами, по улицам Александрии провели во время триумфального шествия пленного царя Большой Армении Артавасда. Клеопатра побывала на Самосе и в Афинах; повинуясь ей, Антоний выгнал из своего дома в Риме благородную Октавию, точно опостылевшую наложницу. Он совершил столько противных здравому смыслу поступков, что добром это уже не могло кончиться. Да и удивительно ли: властелин мира потерял последние крохи великого дара богов — разума, он растворился в Клеопатре, как некогда растворялся в ней я. И кончилось все тем, что Октавиан, как и следовало ожидать, объявил ему войну.
Однажды днем я спал в камере слепых арфистов, в той самой гробнице фараона Рамсеса близ Тапе, где я по-прежнему жил, и мне во сне явился мой старый отец Аменемхет, он встал у моего ложа, опираясь на посох, и повелел:
— Смотри внимательно, мой сын.
Я стал всматриваться глазами моего духа и увидел море, скалистый берег и два флота, сражающиеся друг с другом. На судах одного флота развевались штандарты Октавиана, на судах другого — штандарты Клеопатры и Антония. Суда Антония и Клеопатры теснили флот цезаря, он отступал, и победа клонилась на сторону Антония.
Я еще пристальней вгляделся в открывшуюся моим глазам картину. На золотой палубе галеры сидела Клеопатра и в волнении наблюдала за ходом сражения. Я устремил к ней свой дух, и она услышала голос мертвого Гармахиса, который оглушил ее:
— Беги, Клеопатра, беги, иль ты погибнешь!
Она с безумным видом оглянулась и снова услышала, как мой дух кричит: «Беги!» Ее охватил необоримый страх. Она приказала морякам поднять паруса и дать сигнал всем своим кораблям плыть прочь. Моряки с изумлением, но без особой неохоты повиновались, и галера поспешно устремилась с поля боя.
Воздух задрожал от оглушительного крика, который сорвался с уст матросов Антония и Октавиана:
— Клеопатра бежит! Смотрите: Клеопатра бежит!
И я увидел, что флот Антония разбит, что море стало багровым от крови, и вышел из своего транса.
Миновало несколько дней, и снова мне во сне явился мой отец и так сказал:
— Восстань, мой сын! Час возмездия близок! Ты не напрасно трудился, молитвы твои услышаны. Боги пожелали, чтобы сердце Клеопатры сковал страх, когда она сидела на палубе своей галеры во время битвы при мысе Акциум, ей послышался твой голос, который кричал: «Беги иль ты погибнешь», и она бежала со всеми своими судами. Антоний потерпел жестокое поражение на море. Ступай к ней и выполни то, что повелят тебе боги.
Утром я проснулся, раздумывая над ночным видением, и двинулся к выходу из гробницы; там я увидел, что по ущелью ко мне приближаются посланцы Клеопатры и с ними стражник-римлянин.
— Зачем вы тревожите меня? — сурово спросил я.
— Мы принесли тебе послание от царицы и от великого Антония, — ответил главный из них, низко склоняясь передо мной, ибо я внушал всем людям до единого неодолимый страх. — Царица повелевает тебе явиться в Александрию. Много раз она обращалась к тебе с такой просьбой, но ты ей всегда отказывал; сейчас она приказывает тебе плыть в Александрию, и плыть не медля, ибо нуждается в твоем совете.
— А если я скажу «нет», то что ты сделаешь, солдат?
— Я подневольный человек, о мудрый и ученейший Олимпий: мне дан приказ доставить тебя силой.
Я громко рассмеялся.
— Ты говоришь — силой, глупец? Ко мне нельзя пытаться применить силу, иначе ты умрешь на месте. Знай, что я не только исцеляю, но и убиваю!
— Молю тебя, прости мою дерзость, — ответил он, сжавшись и побелев. — Я повторил лишь то, что мне было приказано.
— Да, да, я знаю. Не бойся, я поеду в Александрию.
И в тот же день я туда отправился вместе с моей старенькой Атуа. Исчез я так же тайно, как явился, и больше никогда уж не возвращался в гробницу божественного Рамсеса. Я взял с собою все богатства моего отца Аменемхета, ибо не желал, чтобы меня приняли в Александрии за нищего попрошайку, — пусть все видят, что я богат и знатен. По дороге я узнал, что во время сражения при Акциуме Антоний действительно бежал вслед за Клеопатрой, и понял: развязка приближается. Все это и многое другое я провидел во тьме фараоновой гробницы близ Тапе и силой своего духа воплотил.
И вот я наконец приплыл в Александрию и поселился в доме напротив дворцовых ворот, который велел снять и приготовить к моему прибытию.
И в первый же вечер, поздно, ко мне пришла Хармиана — Хармиана, которую я не видел девять долгих лет.
Глава IV, повествующая о встрече Хармианы с мудрым Олимпием; б их беседе; о встрече Олимпия с Клеопатрой; и о поручении, которое дала ему Клеопатра
Одетый в свое темное простое платье, сидел я в кое для приема гостей в доме, который был должным образом обставлен и убран. Я сидел в резном кресле с ножками в виде львиных лап и глядел на раскачивающиеся светильники, в которые было добавлено благовонное масло, на драпировочные ткани с вытканными сценами и рисунками, на драгоценные сирийские ковры, и среди всей этой роскоши вспоминал усыпальницу слепых арфистов близ Тапе, где прожил девять долгих лет во мраке и одиночестве, готовясь к этому часу. Возле двери на ковре свернулась калачиком моя старая Атуа. Волосы у нее побелели, как соль Мертвого моря, сморщенное лицо стало пергаментным, она была уже древняя старуха, и эта древняя старуха всю жизнь преданно заботилась обо мне, когда все остальные отринули меня, и в своей великой любви прощала мои великие преступления. Девять лет прошло! Девять нескончаемо долгих лет! Опять я, в предначертанном круге развития, явился, пройдя искус и затворничество, чтобы принести смерть Клеопатре; и в этот, второй раз игру выиграю я.
Но как изменились обстоятельства! Я уже не герой разыгрывающейся драмы, мне отведена более скромная роль: я лишь меч в руках правосудия; погибла надежда освободить Египет и возродить его великим и могучим. Обречен Кемет, обречен и я, Гармахис. В бурном натиске событий и лет погребен и предан забвению великий заговор, который созидался ради меня, даже память о нем подернулась пеплом. Над историей моего древнего народа скоро опустится черный полог ночи; сами его боги готовятся покинуть нас; я уже мысленно слышу торжествующий крик римского орла, летящего над дальними брегами Сихора.
Я все-таки заставил себя отстранить эти безотрадные мысли и попросил Атуа найти и принести мне зеркало, мне хотелось посмотреть, каким я стал.
И вот что я увидел в зеркале: бритая голова, худое бледное до желтизны лицо, которое никогда не улыбалось; огромные глаза, выцветшие от многолетнего созерцания темноты, пустые, точно провалы глазниц черепа; длинная борода с сильной проседью; тело, иссохшее от долгого поста, горя и молитвы; тонкие руки в переплетении голубых вен, дрожащие, точно лист на ветру; согбенные плечи; я даже стал ниже ростом. Да, время и печаль поистине оставили на мне свой след; я не мог поверить, что это тот самый царственный Гармахис, который в расцвете своих могучих сил, молодости и красоты впервые увидел женщину несказанной прелести и попал под обаяние ее чар, принесших мне гибель. И все же в моей душе горел прежний огонь; я изменился только внешне, ибо время и горе не властны над бессмертным духом человека. Сменяются времена года, может улететь Надежда, точно птица, Страсть разбивает крылья о железную клетку Судьбы; Мечты рассеиваются, точно сотканные из туманов дворцы при восходе солнца; Вера иссякает, точно бьющий из-под земли родник; Одиночество отрезает нас от людей, точно бескрайние пески пустыни; Старость подкрадывается к нам, как ночь, нависает над нашей покрытой позором седой согбенной головой — да, прикованные к колесу Судьбы, мы испытываем все превратности, которым подвергает нас жизнь: возносимся высоко на вершины, как цари; низвергаемся во прах, как рабы; то любим, то ненавидим, то утопаем в роскоши, то влачимся в жалкой нищете. И все равно во всех перипетиях нашей жизни мы остаемся неизменными, и в этом великое чудо нашей Сущности.
Я с горечью в сердце смотрел на себя в зеркало, и тут в дверь постучали.
— Отопри, Атуа! — сказал я.
Атуа поднялась с ковра и отворила дверь; в комнату вошла женщина в греческой одежде. Это была Хармиана, такая же красивая, как прежде, но с очень печальным нежным лицом, в ее опущенных глазах тлел огонь, готовый каждую минуту вспыхнуть.
Она пришла без сопровождающих ее слуг; Атуа молча указала ей на меня и удалилась.
— Старик, отведи меня к ученому Олимпию, — сказала Хармиана, обращаясь ко мне. — Меня прислала царица.
Я встал и, подняв голову, посмотрел на нее.
Глаза ее широко раскрылись, она негромко вскрикнула.
— Нет, нет, не может быть, — прошептала она, обводя взглядом комнату, — неужели ты… — Голос ее пресекся.
— …тот самый Гармахис, которого когда-то полюбило твое неразумное сердце, о Хармиана? Да, тот, кого ты видишь, прекраснейшая из женщин, и есть Гармахис. Но Гармахис, которого ты любила, умер; остался великий своей ученостью египтянин Олимпий, и он ждет, что ты ему скажешь.
— Молчи! — воскликнула она. — О прошлом скажу совсем немного, а потом… потом оставим его в покое. Плохо же ты, Гармахис, при всей своей учености и мудрости, знаешь, как велика преданность женского сердца, если поверил, что оно способно разлюбить, когда изменилась внешность любимого: даже самые страшные перемены, которым подвергает его смерть, бессильны убить любовь. Знай же, о ученый врач, что я принадлежу к тем женщинам, которые, полюбив однажды, любят до последнего дыхания, а если их любовь не встречает ответа, уносят свою девственность в могилу.
Она умолкла, и я лишь склонил перед ней голову, ибо ничего не мог сказать в ответ. Но хотя я молчал, хотя безумная страсть этой женщины погубила меня, признаюсь: я втайне был благодарен ей — ведь ее влюбленно домогались все до единого мужчины этого бесстыдного двора, а она столько нескончаемо долгих лет хранила верность изгою, который не любил ее, и когда этот жалкий, сломленный раб Судьбы вернулся в столь непривлекательном обличьи, он был все так же дорог ее сердцу. Найдется ли на свете мужчина, который не оценит этот редкий и прекрасный дар, единственное сокровище, которое не купишь и не продашь за золото — истинную любовь женщины?
— Я благодарна тебе за молчание, — проговорила Хармиана, — ибо не забыла жестоких слов, которые ты бросил мне в давно прошедшие дни там, в далеком Тарсе, израненное ими сердце до сих пор болит, оно не выдержит твоего презрения, отравленного одиночеством столь долгих лет. Не будем больше вспоминать былое. Вот, я вырываю из своей души эту губительную страсть, — она взглянула на меня и, прижав к груди руки, как бы оттолкнула что-то прочь от себя, — я вырываю ее, но забыть не смогу никогда! С прошлым покончено, Гармахис; моя любовь больше не будет тебя тревожить. Я счастлива, что моим глазам было дано еще раз увидеть тебя до того, как их смежит вечный сон. Ты помнишь, как я жаждала умереть от твоей столь любимой мною руки, но ты не захотел меня убить, ты обрек меня жить и собирать горькие плоды моего преступления, ты помнишь, как проклял меня и предсказал, что я никогда не избавлюсь от видений сотворенного мной зла и от воспоминаний о тебе, кого я погубила?
— Да, Хармиана, я все помню.
— Поверь, я выпила до дна чашу страданий. О, если бы ты мог заглянуть мне в душу и прочесть повесть о пытках, которым я подвергалась и которые переносила с улыбкой на устах, ты понял бы, что я искупила свою вину.
— И все же, Хармиана, молва твердит, что при дворе тебя никто не может затмить, ты самая могущественная среди царедворцев и пользуешься самой большой любовью. Не признавался ли сам Октавиан, что объявляет войну не Антонию и даже не его любовнице Клеопатре, а Хармиане и Ираде?
— Да, Гармахис, а ты хоть раз представил себе, что в это время испытываю я — я, поклявшаяся тебе страшной клятвой и вынужденная есть хлеб той, кого я так люто ненавижу, есть ее хлеб и служить ей, хотя она отняла у меня тебя и, играя на струнах моей ревности, вынудила меня изменить нашему святому делу, покрыть бесславием тебя и погубить нашу отчизну, наш Кемет! Разве богатства, драгоценности и лесть царевичей и вельмож способны принести счастье такой женщине, как я, — ах, я завидую нищей судомойке, ее доля и то легче, чем моя! Я всю ночь не осушаю глаз, а потом настает утро, и я поднимаюсь, убираю себя и с улыбкой иду выполнять повеления царицы и этого тупоголового Антония. Да ниспошлют мне великие боги счастье увидеть их обоих мертвыми — и ее, и его! Тогда я умру спокойно! Тяжка была твоя жизнь, Гармахис, но ты по крайней мере был свободен, а я — сколько раз завидовала я твоему ненарушаемому покою в этой мрачной гробнице!
— Я убедился, Хармиана, что ты верна своим обетам, и это меня радует, ибо час мести близок.
— Да, я верна своим обетам, более того: все эти годы я тайно трудилась для тебя — чтобы помочь тебе и наконец-то погубить Клеопатру и ее любовника римлянина. Я разжигала его страсть и ее ревность, я толкала ее на злодейства, а его на глупости, и обо всех их поступках по моему указанию доносили цезарю. Слушай же, как обстоят дела. Ты знаешь, чем кончилось сражение при Акциуме. Туда прибыла Клеопатра со всем своим флотом, хотя Антоний бурно возражал. Но я, повинуясь твоим наставлениям, стала со слезами умолять его, чтобы он позволил царице сопровождать его, ибо если он оставит ее, она умрет от горя; и он, этот ничтожный глупец, поверил мне. И вот она поплыла с ним и в самый разгар боя, неведомо по какой причине, хотя тебе, Гармахис, эта причина, быть может, и известна. Клеопатра приказала своим судам повернуть обратно и, покинув поле боя, поплыла к Пелопоннесу. И к чему это привело! Когда Антоний увидел, что она бежит, он в своем безумии бросил свои суда и кинулся за ней, так что его флот был разбит и потоплен, а его огромное войско в Греции, состоящее из двадцати легионов и двенадцати тысяч конницы, осталось без полководца. Никто бы не поверил, что Антоний, этот любимец богов, падет так низко. Войско сколько-то времени ждало, но сегодня вечером военачальник Канидий прибыл с вестью, что легионам надоело неведение, в котором они пребывали, они решили, что Антоний их бросил, и все огромное войско перешло на сторону цезаря.
— А где же Антоний?
— Он построил себе жилище на островке в Большой Бухте и назвал его Тимониум, ибо, подобно Тимону, скорбит о людской неблагодарности, считая, что все его предали. Там он скрывается в великом смятении духа, и туда к нему ты должен отправиться на рассвете, так желает царица, — ты излечишь его от его помрачения и вернешь в ее объятия, ибо он не желает видеть ее и еще не знает всей меры постигших его бед. Но сначала я должна отвести тебя к Клеопатре, которая желает получить от тебя совет, и как можно скорее.
— Ну что ж! — Я встал. — Веди меня.
Мы вошли в дворцовые ворота, вот и Алебастровый Зал, я снова стою перед дверью в покои Клеопатры, и снова Хармиана оставляет меня одного и проскальзывает за занавес сообщить Клеопатре, что я здесь.
Через минуту она вернулась и сделала мне знак рукой.
— Укрепи свое сердце, — шепнула она, — и не выдай себя, ведь глаза у Клеопатры очень острые. Входи же!
— О нет, не настолько остры ее глаза, чтобы прозреть в ученом Олимпии юного Гармахиса! Ты и сама бы не узнала меня, Хармиана, не пожелай я того, — ответил я.
И после этих слов вступил в покой, который так хорошо помнил, и снова услышал журчанье фонтана, песнь соловья, ласковый плеск летнего моря. Я двинулся вперед неверным шагом, низко склонив голову, и вот наконец приблизился к ложу Клеопатры — к тому самому золотому ложу, на котором она сидела в ту ночь, когда я пал ее жертвой. Я собрался с духом и посмотрел на нее. Передо мной была Клеопатра, ослепительная как и прежде, но до чего же изменилась она с той ночи, когда я видел ее в последний раз в Тарсе, в объятиях Антония! Красота ее была по-прежнему подобна драгоценному наряду, глаза такие же синие и бездонные, как море, лицо пленительно в своем совершенстве и высшей гармонии черт. И все же это была другая женщина. Время, которое не властно было отнять у нее дарованные богами чары, наложило на ее лицо печать безмерной усталости и скорби. Страсть, переполнявшая ее необузданное сердце, оставила свои следы на лбу, глаза мерцали, точно две печальные звезды.
Я низко поклонился этой царственнейшей женщине, которая когда-то была моей любовницей и погубила меня, а сейчас даже не узнала.
Она усталым взглядом поглядела на меня и неспешно заговорила своим низким голосом, который я так хорошо помнил:
— Итак, ты наконец пришел ко мне, врач. Как звать тебя? Олимпий? Это имя вселяет надежду, ибо теперь, когда египетские боги нас покинули, нам очень нужна помощь богов Олимпа. Да, ты, без сомнения, ученый, ибо ученость редко сочетается с красотой. Странно, ты мне кого-то напоминаешь, но вот кого — не могу вспомнить. Скажи, Олимпий, мы встречались раньше?
— Нет, царица, никогда до этого часа мои глаза не созерцали тебя в телесной оболочке, — ответил я, изменив голос. — Я прибыл сюда, оставив свою затворническую жизнь, дабы исполнить твои повеления и излечить тебя от болезней.
— Странно! Даже голос… никак не всплывет в памяти. В телесной оболочке, ты сказал? Так, может быть, я видела тебя во сне?
— О да, царица: мы встречались с тобою в снах.
— Ты странный человек, и речи твои странны, но люди утверждают, что ты — великий ученый, и я в это верю, ибо помню, как ты повелел мне ехать к моему возлюбленному властелину Антонию в Сирию и как твое прорицание исполнилось. Ты чрезвычайно искусен в составлении гороскопов и в предсказаниях по звездам, в чем наши александрийские невежды полные профаны. Однажды мне встретился столь же ученый астролог, некий Гармахис, — она вздохнула, — но он давно умер, — как жаль, что я тоже не умерла! — и я порой о нем скорблю.
Она умолкла, я опустил голову на грудь и тоже не произносил ни слова.
— Олимпий, растолкуй мне, что со мной случилось. Во время этого ужасного сражения при Акциуме, в самый разгар боя, когда победа уже начала улыбаться нам, мое сердце сжал невыносимый страх, глаза застлала темнота, и в ушах раздался голос Гармахиса, — того самого Гармахиса, который давно умер. «Беги! — кричал Гармахис. — Беги иль ты погибнешь!» И я бежала. Но мой страх передался Антонию, он бросился следом за мной, и мы проиграли сражение. Скажи мне, кто из богов сотворил это зло?
— Нет, царица, боги тут не при чем, — ответил я, — разве ты прогневила богов Египта? Разве ограбила храмы, где им поклоняются? Разве презрела свой долг перед Египтом? А раз ты не повинна в этих преступлениях, за что же египетским богам наказывать тебя? Не надо страшится, то был всего лишь плод воображения, ибо твоей нежной душе невыносимо зрелище кровавой бойни, невыносимо было слышать крики умирающих; что же до благородного Антония, то он всегда устремляется за тобой, куда бы ты ни последовала.
Когда я начал говорить, Клеопатра побледнела и задрожала, она не спускала с меня глаз, пытаясь понять, что означают мои слова. Я успокаивал ее, но сам-то знал, что она бежала, повинуясь воле богов, избравших меня своим мстителем.
— Ученый Олимпий, мой повелитель Антоний болен и вне себя от горя, — сказала она, не отвечая на мое объяснение. — Точно жалкий беглый раб, прячется он в этой башне на острове среди моря и никого к себе не допускает, даже меня, перенесшую из-за него столько мук. И вот что я желаю, чтобы ты исполнил. Завтра, как только начнет светать, ты и моя придворная дама Хармиана сядете в лодку, подплывете к острову и попросите стражей впустить вас в башню, объявив, что привезли вести от военачальников Антония. Он прикажет отворить вам дверь, и тогда ты, Хармиана, должна будешь сообщить ему горестные вести, что привез Канидий, ибо самого Канидия я не решаюсь к нему послать. И когда взрыв горя утихнет, прошу тебя, Олимпий, исцели его измученное тело своими знаменитыми снадобьями, а душу — словами утешения и привези его ко мне, ведь все еще можно исправить. Если тебе это удастся, я дарую тебе столько богатств, что и не счесть, ведь я еще царица и могу щедро оплатить услуги тех, кто выполняет мою волю.
— Не тревожься, о царица, — ответил я, — я выполню все, что ты желаешь, и не возьму награды, ибо пришел, чтобы служить тебе до самого конца.
Я отдал ей поклон и вышел, а дома попросил Атуа приготовить нужное мне снадобье.
Глава V, повествующая о том, как Антоний был привезен из Тимониума к Клеопатре; о пире Клеопатры; и о том, какой смертью умер управитель Клеопатры Евдосий
Еще не рассвело, а Харамиана уже опять пришла ко мне, и мы с ней спустились к тайной дворцовой пристани. Там мы сели в лодку и поплыли к скалистому острову, на котором возвышается Тимониум — небольшая круглая башня с куполом, хорошо укрепленная. Мы высадились на острове, подошли к двери башни и постучали, но никто не отозвался, и мы постучали еще раз, после чего в двери открылось забранное решеткой оконце, в него выглянул старый евнух и грубо спросил, что нам здесь надо.
— Нам нужен благородный Антоний, — ответила Хармиана.
— А вы ему не нужны, ибо мой хозяин, благородный Антоний, не желает видеть никого — ни мужчин, ни женщин.
— Но нас он допустит к себе, мы привезли ему важный новости. Ступай к своему хозяину и доложи, что здесь госпожа Хармиана с вестями от его военачальников.
Евнух ушел, но скоро вернулся.
— Мой господин Антоний желает знать, дурные это вести или добрые, ибо с дурными он вас к себе не пустит, слишком их много было за последние дни, с него довольно.
— Одним словом не скажешь — наши вести и добрые, и дурные. Отопри дверь, раб, я сама буду говорить с твоим хозяином! — И Хармиана просунула через прутья решетки тяжелый кошелек с золотом.
— Что же с вами делать, — проворчал он, беря кошелек, — времена сейчас тяжелые, а грядут и того тяжелее; чем кормиться шакалу, когда льва убьют? Добрые вести или дурные — мне все равно, лишь бы вам удалось выманить благородного Антония из этой обители стенаний. Ну вот, я отпер дверь, ступайте по этому коридору в столовую.
Мы вошли и оказались в узком коридоре, евнух принялся возиться с запорами и задвижками, а мы двинулись вперед и наконец оказались перед занавесом. Подняли его и вступили в сводчатое помещение, тускло освещенное через оконца в потолке. В дальнем углу этой пустой комнаты лежали друг на друге несколько ковров, и на этом ложе сидел, скорчившись, мужчина, лицо его было скрыто складками тоги.
— Благороднейший Антоний, — произнесла Хармиана, приближаясь к нему, — открой свое лицо и выслушай меня, ибо я принесла тебе вести.
Он поднял голову. Его лицо было искажено страданьем; поседевшие взлохмаченные волосы падали на глаза, из которых глядела пустота, подбородок оброс седой колючей щетиной. Одежда мятая, грязная, вид жалкий, точно у нищего возле храмовых ворот. Вот до чего довела любовь Клеопатры блистательного, прославленного Антония, которому некогда принадлежала половина мира!
— Зачем ты тревожишь меня? — спросил он. — Я хочу умереть здесь в одиночестве. Кто этот человек, пришедший посмотреть на сломленного опозоренного Антония?
— Благородный Антоний, это Олимпий, знаменитый врач, великий прорицатель судеб, о котором ты много слышал и которого Клеопатра, неустанно пекущаяся о твоем благе, хоть ты и безразличен к ее скорби, прислала, чтобы он помог тебе.
— И что же, этот твой врач может исцелить горе, постигшее меня? Его снадобья вернут мне мои галеры, честь, спокойствие души? Прочь с моих глаз, я не желаю видеть никаких врачей! Что ты за вести привезла мне? Ну же, скорее! Может быть. Канидий разбил цезаря? Скажи, что это так, и я подарю тебе царство, клянусь! А если к тому же погиб Октавиан, ты получишь двадцать тысяч систерций в придачу. Говори же… нет, молчи! За всю мою жизнь я ничего так не боялся, как слова, которое ты сейчас произнесешь. Что, колесо Фортуны повернулось и Канидий победил? Ведь верно? Ну, не томи же меня, это нестерпимо!
— О благородный Антоний, — начала она, — обрати свое сердце в сталь, дабы выслушать вести, которые я привезла! Канидий в Александрии. Он прибыл издалека и не медлил в пути, и вот что сообщил нам. Семь долгих дней дожидались легионы, когда прибудет к ним Антоний и, как в былые времена, поведет в победоносный бой, и никто из твоих солдат даже слушать не хотел посланников цезаря, которые сманивали их на свою сторону. Но Антония все не было. И тогда поползли слухи, что Антоний бежал на Тенар, следуя за Клеопатрой. Первого, кто принес в лагерь это известие, легионеры, пылая негодованием, избили до смерти. Но слух упорно распространялся, и скоро твои люди перестали сомневаться, что тот несчастный говорил правду; и тогда, Антоний, центурионы и легаты стали один за другим переходить на сторону цезаря, а вместе с военачальниками и их солдаты. Но это еще не все: твои союзники — царь Мавритании Бокх, правитель Киликии Таркондимот, царь Коммагены Митридат, правитель Фракии Адалл, правитель Пафлагонии Филадельф, правитель Каппадокии Архелай, иудейский царь Ирод, правитель Галатии Аминт, правитель Понта Полемон и правитель Аравии Мальх — все до единого бежали либо приказали своим военачальникам вернуться с войсками домой, и уже сейчас их послы пытаются снискать расположение сурового цезаря.
— Ну что, ворона в павлиньих перьях, ты кончила каркать или твой зловещий голос будет еще долго меня терзать? — спросил раздавленный вестями Антоний и отнял от посеревшего лица дрожащие руки. — Ну продолжай же, скажи, что прекраснейшая в мире женщина, царица Египта, умерла; что Октавиан высадился у Канопских ворот; что мертвый Цицерон и с ним все духи Аида кричат о гибели Антония! Да, собери все беды, что могут поразить великих, которым некогда принадлежал мир, и обрушь их на седую голову того, кого ты, в своей лицемерной учтивости, по-прежнему изволишь именовать «благородным Антонием!»
— Я все сказала, о господин мой, больше ничего не будет.
— Да, ты права, не будет ничего! Это конец, конец всему, осталось сделать лишь последнее движение! — И он, схватив с ложа свой меч, хотел вонзить его себе в сердце, но я быстрее молнии метнулся к нему и перехватил руку. В мои расчеты не входило, чтобы он скончался сейчас, ибо умри он, Клеопатра тотчас же заключила бы мир с цезарем,
а цезарь хотел не столько покорить Египет, сколько убить Антония.
— Антоний, ты обезумел, неужто ты стал трусом? — вскричала Хармиана. — Ты хочешь бежать от своих бед в смерть и возложить все бремя горестей на плечи любящей тебя женщины — пусть она одна несет за все расплату?
— А почему нет, Хармиана, почему бы нет? Ей не придется долго быть одной. Цезарь разделит ее одиночество. Октавиан хоть и суров, но любит красивых женщин, а Клеопатра все еще прекрасна. Ну что ж, Олимпий, ты удержал мою руку и не позволил умереть, дай же мне в своей великой мудрости совет. Значит, ты считаешь, что я, триумвир, дважды занимавший пост консула, бывший властелин всех царств Востока, должен сдаться цезарю и идти пленником во время его триумфального шествия по улицам Рима, того самого Рима, который столько раз восторженно рукоплескал мне, триумфатору?
— Нет, мой благородный повелитель, — ответил я. — Если ты сдашься, ты обречен. Вчера всю ночь я наблюдал звезды, пытаясь прочесть твою судьбу, и вот что я увидел: когда твоя звезда приблизилась к звезде цезаря, свет ее начал бледнеть и наконец совсем померк, но лишь только она вышла из области сияния цезаревой, она стала разгораться все ярче, все лучистей и вскоре сравнялась с ней по величине. Поверь, не все потеряно, и пока сохраняется хоть крошечная часть, можно вернуть целое. Можно собрать войска и удержать Египет. Цезарь пока бездействует; его войска не приближаются к воротам Александрии, и, может быть, с ним удастся договориться. Лихорадка твоих мыслей передалась твоему телу; ты болен и не способен сейчас судить здраво. Вот, смотри, я привез снадобье, которые тебя излечит, ведь я весьма сведущ в искусстве врачевания. — И я протянул ему фиал.
— Ты сказал — снадобье?! — закричал он. — Это не снадобье, а яд, а сам ты — убийца, тебя подослала коварная Клеопатра, она хочет избавиться от меня, ведь я ей теперь не нужен. Голова Антония в обмен на мир с Октавианом — она пошлет ее цезарю, она, из-за которой я потерял все! Давай твое снадобье. Пусть это эликсир смерти, — клянусь Вакхом, я выпью его до последней капли!
— Нет, благородный Антоний, это не яд, а я не убийца. Я сам выпью глоток, если желаешь, смотри. — И я пригубил снадобье, которое обладает способностью вливать силы в кровь людей.
— Давай же, врач. Тем, кто дошел до последней черты отчаяния, не страшно ничего. Пью!.. Боги, что это? Ты дал мне чудодейственный напиток! Все мои беды рассеялись, словно налетел южный ветер и унес грозовые тучи; сердце ожило, точно пустыня весной, в нем расцвела надежда! Я — прежний Антоний, я снова вижу, как сверкают на солнце копья моих легионов, я слышу подобный грому рев — это войска, мои войска приветствуют Антония, своего любимого полководца, который едет в сверкающих доспехах вдоль нескончаемых шеренг! Нет, нет, не все потеряно! Судьба переменится! Я еще увижу, как с сурового лба цезаря — того самого цезаря, который никогда не ошибается, разве что ему выгодно совершить ошибку, — будет сорван лавровый венок победителя и как этот лоб навеки увенчается позором!
— Ты прав! — вскричала Хармиана. — Конечно, судьба переменится, но ты должен вести себя как подобает мужчине! О господин мой, вернись со мною во дворец, вернись в объятья любящей тебя Клеопатры! По всем ночам она лежит без сна на своем золотом ложе, и темнота покоя, рыдая, зовет вместе с ней: «Антоний!», а Антоний отгородился от мира своим горем, забыл и свой долг, и свою любовь!
— Я еду, еду! Как мог я усомниться в ней? Позор мне! Раб, принесли воды и пурпурное одеянье — в таком виде я не могу предстать пред Клеопатрой. Сейчас я вымоюсь, переоденусь — и к ней, к ней!
Вот так мы убедили Антония вернуться к Клеопатре, чтобы вернее погубить обоих.
Все трое прошли мы через Алебастровый Зал в покои Клеопатры, где она лежала на золотом ложе в облаке своих волос и нескончаемо лила слезы.
— Моя египтянка! — воскликнул он. — Я у твоих ног, взгляни!
Она соскочила с ложа.
— Неужели это ты, любимый мой? — залепетала она. — Ну вот, опять все хорошо. Иди ко мне, забудь свои тревоги в моих объятьях, обрати мое горе в радость. О мой Антоний, пока мы любим друг друга, нет никого на свете счастливее нас!
И она упала ему на грудь и страстно поцеловала.
В тот же день ко мне пришла Хармиана и попросила приготовить сильный смертельный ад. Я сначала отказался, испугавшись, что Клеопатра хочет отравить им Антония, а время для этого еще не наступило. Но Хармиана объяснила, что мои опасения напрасны, и рассказала, для какой цели этот ад предназначен. Поэтому я призвал Атуа, столь сведущую в свойствах трав и растений, и несколько часов мы с ней трудились, готовя смертоносное зелье. Когда оно было готово, снова пришла Хармиана с венком из только что срезанных роз и попросила меня погрузить венок в зелье.
Я сделал, как она велела.
В тот вечер на пиру, который устроила Клеопатра, я сидел возле Антония, а Антоний сидел рядом с ней, и на голове его был отравленный венок. Пир был роскошный, вино лилось рекой, и наконец Антоний и царица развеселились. Она рассказывала ему о том, какой план она придумала: ее галеры сейчас стягиваются в Героополитанский залив по каналу, который прорыт от Бубастиса, что на Пелузийском рукаве Нила. Она решила, что если цезарь не пойдет на уступки, они с Антонием, забрав все ее сокровища, спустятся в Аравийский залив, где у цезаря нет флота, и найдут убежище в Индии, куда враги не смогут за ними последовать. Но этот ее замысел не осуществился, потому что арабы из Петры сожгли галеры, получив известие о планах Клеопатры от живущих в Александрии иудеев, которые ненавидели Клеопатру, а Клеопатра ненавидела их. Это я сообщил иудеям о том, что она задумала.
И вот сейчас, во время пира, посвятив Антония в своих намерения, царица попросила его выпить с ней за успех, но сначала пусть он опустит в свою чашу розовый венок, чтобы вино стало еще слаще. Антоний снял венок и опустил в чашу, она подняла свою. Он тоже поднял, но вдруг она схватила его за руку, вскрикнула: «Подожди!», и он в удивлении замер.
Нужно сказать, что среди слуг Клеопатры был управитель, которого звали Евдосий; и этот Евдосий, убедившись, что счастье изменило Клеопатре, задумал в ту самую ночь перебежать к цезарю, как уже переметнулись многие и поважнее его, причем заранее украл все, что можно было украсть во дворце из дорогих вещей, и припрятал, чтобы захватить с собой. Но Клеопатра прознала о замысле Евдосия и решила достойно наказать изменника.
— Евдосий, — позвала она его, ибо управитель стоял неподалеку, — подойди к нам, наш верный слуга! Взгляни на этого человека, благороднейший Антоний: он остался нам верен невзирая на все превратности нашей судьбы, всегда поддерживал нас. И потому он будет награжден согласно его заслугам и преданности из твоих собственных рук. Дай ему эту золотую чашу с вином, пусть он выпьет за наш успех, а чашу примет как, наш дар.
Все еще ничего не понимая, Антоний протянул управителю чашу, и тот, дрожа всем телом, ибо совесть его была нечиста и он испугался, взял ее. Но пить не стал.
— Пей! Пей же, раб! — вскричала Клеопатра, приподнимаясь со своего ложа и впиваясь в его побледневшее лицо зловещим взглядом. — Клянусь Сераписом, если ты посмеешь пренебречь вниманием своего господина Антония, я прикажу высечь тебя и превратить в кусок кровавого мяса, а потом вылью на твои раны это вино вместо целебной примочки, — это так же верно, как то, что я победительницей войду в Капитолий в Риме! Ага, ты все-таки выпил! О, что с тобою, преданный Евдосий? Тебе дурно? Наверно, это вино похоже на ту воду иудеев, что убивает предателей и придает силы честным. Эй, кто-нибудь, обыщите его комнату: мне кажется, он замыслил недоброе!
Управитель стоял, стиснув голову руками. Вот по телу его пробежала судорога, он страшно закричал и упал наземь. Потом поднялся, раздирая руками грудь, точно хотел вырвать свое сердце. Лицо исказилось невыразимой мукой, его покрыла мертвенная бледность, на губах закипела пена, и он, шатаясь, двинулся туда, где возлежала Клеопатра и глядела на него, спокойно, зловеще улыбалась.
— Ну что, изменник? Ты выпил свою чашу, — произнесла она. — теперь поведай нам, сладка ли смерть?
— Подлая распутница! — прохрипел умирающий. — Ты отравила меня! Так умри ж и ты! — И он с пронзительным воплем кинулся на нее. Но она разгадала его намерение и с быстротой и легкостью тигрицы метнулась в сторону, он лишь вцепился в ее царскую мантию, пристегнутую огромным изумрудом, и сорвал. Евдосий рухнул на пол и стал кататься, ее пурпурная мантия обернулась вокруг него, но вот он наконец затих и умер, на лице застыла страшная гримаса боли, широко открытые глаза остекленели.
— Раб умер в великолепных мучениях, — с презрительным смешком проговорила Клеопатра, — да еще меня хотел с собой увлечь. Смотрите, он сам надел на себя саван — мою мантию. Унесите его прочь и похороните в этой пелене.
— Клеопатра, что все это значит? — спросил Антоний, когда стражи уносили труп. — Он выпил вино из моей чаши. Как понять твою жестокую шутку?
— У меня была двойная цель, мой благородный Антоний. Нынешней ночью этот негодяй хотел бежать к Октавиану и унести с собой наши ценности. Что ж, я одолжила ему крылья, ибо если живым приходится идти, то мертвые летят. Но это еще не все: ты опасался, мой повелитель, что я отравлю тебя, не спорь, я это знаю. Теперь ты видишь, Антоний, как легко мне было бы убить тебя, если бы я захотела. Этот венок из роз, который ты опустил в чашу с вином, был покрыт сильнейшим ядом. И пожелай я твоей гибели, разве остановила бы я твою руку? О Антоний, молю тебя: верь мне всегда! Для меня один-единственный волосок с твоей любимой головы дороже моей жизни. Ну вот, вернулись слуги. Говорите, что вы нашли?
— Великая царица Египта, осмотрев комнату Евдосия, мы обнаружили, что он приготовился бежать и что в его вещах много разных ценностей.
— Слышали? — спросила она, зловеще улыбаясь. — Теперь вы знаете, мои верные слуги, что предавать Клеопатру безнаказанно никому не удается. Пусть судьба этого римлянина послужит вам уроком.
В пиршенственном зале воцарилась мертвая тишина, Антоний тоже сидел и молчал.
Глава VI, повествующая о беседах ученого Олимпия с жрецами и правителями в Мемфисе; о том, как Клеопатра отравила своих слуг; как Антоний говорил со своими легатами и центурионами и о том, как великая богиня Исида навек покинула страну Кемет
Я должен спешить, у меня осталось совсем мало времени, я не успею рассказать все, о чем хотел поведать в этой повести, лишь коротко опишу главное. Мне уже объявили, что дни мои сочтены и скоро, скоро я предстану перед великим судом. Итак, после того, как мы выманили Антония из Тимониума, наступило тягостное затишье, подобное тому, которое сметают налетающие из пустыни ветры. Антоний и Клеопатра продолжали тратить безумные деньги на роскошь, каждый вечер устраивали во дворце великолепные пиры. Они отправили своих послов к цезарю, но цезарь послов не принял; и когда надежда на заключение мира исчезла, они стали готовить защиту Александрии. Строили суда, вербовали солдат, собрали огромное войско, готовое дать отпор цезарю.
А я с помощью Хармианы начал последние приготовления, чтобы свершилась месть, взлелеянная ненавистью. Я проник во все хитросплетения дворцовых тайн, и все советы, которые я давал, несли лишь зло. Я убеждал Клеопатру, что нужно развлекать Антония и не позволять ему задумываться над постигшими их бедами, и потому она послушно топила его силы и энергию в изнеживающей роскоши и в вине. Я давал ему мои снадобья — снадобья, которые опьяняли его мечтами о счастье и о власти, но погружали в еще более глубокое отчаяние, когда после пробуждения наступало похмелье. Скоро он уже не мог спать без моих лекарств, а я всегда был подле него и настолько подчинил его ослабшую волю своей, что он уже был не способен что-то предпринять без моего одобрения. Клеопатра тоже стала очень суеверна и постоянно обращалась ко мне за помощью; я составлял ей прорицания, вернее, лжепророчества. Но это еще не все, я плел свою паутину везде, где только мог. Меня высоко почитали в Египте, ибо во время моего долгого отшельничества близ Тапе слава моя распространилась по всей стране. И потому ко мне приходили многие именитые люди, желая исцелиться от какого-нибудь недуга или же зная, как взыскан я милостями Антония и царицы, ибо в те смутные тревожные дни все пытались выведать, что можно, как обстоят дела в стране. Со всеми с ними я говорил уклончиво, незаметно вселяя недоверие к царице, многих вовсе отвратил от нее, но никто не мог бы уличить меня в злонамеренных речах и в подстрекательстве к измене. Клеопатра послала меня в Мемфис, чтобы я встретился там с верховными жрецами и с правителями и поручил им набрать в Верхнем Египте людей для пополнения войск, которые будут защищать Александрию. И я поехал туда и начал говорить перед верховными жрецами таким глубоким и тонким иносказанием, что они узнали во мне одного из посвященных в сокровенные таинства древних знаний. Но никто из них не мог понять, почему я, ученый врач Олимпий, вдруг оказался посвященным. Они стали окольными путями выведывать, как такое могло произойти, и тогда я сделал священный жест, который известен лишь членам братства и просил их не допытываться у меня, кто я такой, но выполнять мои повеления и не оказывать помощи Клеопатре. Нужно заручиться поддержкой цезаря, ибо только его благоволение может спасти наши храмы, иначе служение богам Кемета навсегда заглохнет. И вот после знамения, которое жрецы получили от божественного Аписа, они обещали мне на словах заверить Клеопатру, что окажут ей всяческую помощь, но в тайне от нее отправят посланцев к цезарю.
Вот почему Египет не встал на защиту столь ненавистной ему царицы-гречанки. Из Мемфиса я вернулся в Александрию и, успокоив Клеопатру, сообщением, что Верхний Египет обещал ей поддержку, продолжал свои тайные козни. Жителей Александрии было очень легко в них вовлечь, недаром же народ наш сложил пословицу: «Ослу бы надо избавиться от хозяина, а он лишь хочет сбросить свою ношу». Да, слишком жестоко их угнетала Клеопатра, и потому они ждали римлян, как избавителей.
А время между тем летело, и с каждым днем у Клеопатры оставалось все меньше и меньше друзей, ибо в беде наши друзья улетают, как ласточки перед сезоном дождей. Но Клеопатра хранила верность Антонию, которого по-прежнему любила, хотя как мне стало известно, цезарь через своего вольноотпущенника Тирея обещал ей, что оставит ей и ее детям прежние владения, если она убьет Антония или выдаст его живым. Но против этого бунтовало ее женское сердце, — ибо сердца она еще не лишилась, — к тому же мы с Хармианой всячески поддерживали этот бунт, нам во что бы то ни стало нужно было удержать его при ней, ведь если Антоний бежит или его убьют, Клеопатра еще может пережить надвигающуюся бурю и остаться царицей Египта. И душа моя скорбела, ибо хоть Антоний сейчас и растерялся, в нем еще оставалось довольно мужества, он был истинно великий человек; к тому же в его судьбе, как в зеркале, я видел отражение собственной гибели. Разве не роднило нас с ним общее несчастье? Разве не та же самая женщина украла у нас царство, друзей, честь? Но в политических делах нет места жалости, она не должна совлечь меня с пути мести, по которому меня направили высшие силы. Цезарь приближался; Пелузий пал; еще немного — и наступит развязка. Весть о падении Пелузия принесла царице и Антонию Хармиана, когда они почивали в самое знойное время дня в покое, где был фонтан; я пришел туда вместе с ней.
— Проснись! — закричала Хармиана. — Проснитесь, не время спать! Селевк сдал цезарю Пелузий, цезарь со своими войсками идет на Александрию!
С уст Антония сорвалось проклятье, он вскочил с ложа и стиснул рукой плечо Клеопатры.
— Ты предала меня, клянусь богами! Теперь расплачивайся за свою измену! — Он выхватил из ножен меч и занес над ней.
— Антоний, опусти свой меч! — взмолилась она. — зачем ты меня винишь в измене, я ничего не знала! — Она бросилась ему на грудь и, рыдая, крепко обняла. — О повелитель мой, поверь, я ничего не знала! Возьми жену Селевка и его маленьких детей, которых я держу под стражей, и отомсти. Антоний, мой Антоний, как можешь ты сомневаться во мне?
Антоний швырнул меч на мраморный пол, упал на ложе, уткнулся лицом в подушки и от безысходности застонал.
Зато Хармиана улыбнулась, ибо никто иной, как она тайно посоветовала Селевку, с которым была в доброй дружбе, сдаться без боя, заверив, что Александрия сопротивляться не будет. В ту же ночь Клеопатра собрала весь свой огромный запас жемчуга и те изумруды, что остались от сокровища Менкаура, все золото, эбеновое дерево, слоновую кость, корицу — несметные, бесценные богатства — и приказала перенести все в гранитный мавзолей, который, по египетскому обычаю, построила для себя на холме возле храма богини Исиды. Все эти сокровища она сложила на снопы льна, которые в случае надобности подожжет — пусть все погибнет в пламени, лишь бы не досталось алчному Октавиану. И стала после этого ночевать в гробнице без Антония, одна, но день проводила с ним во дворце.
Недолгое время спустя, когда цезарь со всем своим могучим войском уже переправился через Канопский рукав Нила и подступал к Александрии, Клеопатра приказала мне явиться во дворец, и я пришел к ней. Она была в Алебастровом Зале, одетая в свой парадный церемониальный наряд, ее глаза горели, точно у безумной, с ней были Ирада и Хармиана, а также ее телохранители; на мраморном полу валялось несколько трупов, один из мужчин был еще жив.
— Приветствую тебя, Олимпий! — воскликнула она. — Вот зрелище, которое должно наполнить сердце врача радостью, — одни умерли, другие умирают!
— Что ты делаешь, царица? — в испуге спросил я.
— Ты спрашиваешь, что я делаю? Творю правосудие над этими изменниками и преступниками, а заодно, Олимпий, знакомлюсь с повадками Смерти. Я приказала дать этим рабам шесть разных ядов, а потом внимательно наблюдала, как они действуют. Вот этот — она указала на нубийца, — потерял рассудок, начал тосковать о своих родных пустынях и о матери. Дурачок, ему представилось, что он опять ребенок, он звал мать и умолял ее прижать его к своей груди и защитить от тьмы, которая к нему подкрадывается. Грек кричал и кричал, пока не умер. А вот этот трус лил слезы, молил сжалиться над ним, спасти от смерти. Египтянин — видишь, он еще жив и стонет, — выпил яд первым, причем мне клялись, что это самый сильный яд, и представляешь — презренный так пламенно любит жизнь, что никак не может с ней расстаться! Смотри, он все пытается извергнуть из себя яд; я дала рабу второй кубок, а ему все мало. Сколько же надо, чтобы его убить, — бочку? Глупец, глупец, неужто ты не знаешь, что только в смерти мы обретаем покой? Перестань цепляться за жизнь, тебя ждет отдохновение. — И едва она произнесла эти слова, несчастный пронзительно вскрикнул и испустил дух.
— Ну вот, наконец-то фарс кончился! — воскликнула она. — Я втолкнула этих рабов в царство радости через разные ворота. Убрать! — И она хлопнула в ладоши. Но когда слуги унесли трупы, она приблизилась ко мне и вот что сказала: — Олимпий, ты предсказываешь нам счастливый исход, но я-то знаю: конец наш близок. Цезарь победит, я и мой повелитель Антоний обречены. Драма земной жизни сыграна, и я должна покинуть сцену как подобает царице. Мне надо подготовиться, и потому я испытывала сейчас действие этих ядов — ведь скоро мне самой придется пережить все те страдания, которым я сегодня подвергла злосчастных слуг. Эти зелья мне не подходят: одни причиняют слишком мучительную боль, отторгая душу от тела, другие убивают невыносимо медленно. Но ты искусен в приготовлении смертельных ядов. Составь же мне такой, чтобы погасил мою жизнь мгновенно и без боли.
В мое опустошенное горем сердце хлынуло торжество: теперь я знал, что эта обреченная женщина погибнет от моей руки и что моей рукой свершится правосудие богов.
— Повеление, достойное царицы, о Клеопатра! — ответил я. — Смерть исцелит твои недуги, а я сделаю тебе вино, ты его выпьешь, и Смерть тотчас же примет тебя в объятья, точно любящая мать, и уплывет с тобою в море сна, от которого ты никогда уже на этой земле не пробудишься. О царица, не страшись Смерти: Смерть сулит надежду, и я уверен, что ты предстанешь пред грозным судом богов безгрешной и с чистым сердцем.
Она содрогнулась.
— А если сердце не вполне чисто, скажи мне, о таинственный Олимпий, что ждет меня тогда? Но нет, я не боюсь богов! Ведь если карающие боги — мужчины, я сумею их победить. Я была царица в жизни, останусь ей вовек и после смерти.
В тот миг у дворцовых ворот раздался громкий шум, послышались радостные клики.
— Что там такое? — спросила она, быстро вставая с ложа.
— Победа! Победа! — ширился крик. — Антоний победил!
Она как птица полетела навстречу ему, длинные волосы подхватил ветер. Я устремился за ней, но так быстро бежать не мог, я миновал тронный зал, дворцовый двор, вон наконец ворота. В них как раз въезжал Антоний с ликующей улыбкой, в сверкающих римских доспехах. Увидев Клеопатру, он спрыгнул с коня и, как был, в полном боевом снаряжении, прижал ее к груди.
— Рассказывай скорее! — воскликнула она. — Ты разбил цезаря?
— Нет, не совсем, моя египтянка, но мы отогнали его конницу к самому лагерю, а это добрый знак, теперь уж мы не отступим — недаром я люблю пословицу: «Славное начало — славный конец». Но это еще не все, я вызвал цезаря на поединок, и если он со мною встретится лицом к лицу с оружием в руках, то мир увидит, кто сильнее — Антоний или Октавиан.
Его слова потонули в ликующих криках, но в это время мы услышали: «Посланец цезаря!»
Гонец вошел, и низко поклонившись, протянул Антонию письмо, снова отдал поклон и удалился. Клеопатра выхватила письмо из рук Антония, сорвала шелковый шнурок и вслух прочла:
— «Цезарь — Антонию.
Приветствую тебя. Вот мой ответ на твой вызов: неужели Антоний не мог придумать более достойной смерти, чем от меча цезаря? Прощай!»
Больше не раздалось ни одного радостного возгласа.
Настал вечер, Антоний пировал с друзьями, которые сегодня так искренне скорбели о его поражениях, а завтра им предстояло его предать. Незадолго до полуночи он вышел к собравшимся перед дворцом военачальникам легионов, конницы и флота, среди которых был и я.
Они окружили его, а он снял шлем и, озаренный светом луны, торжественно заговорил:
— Друзья, соратники, хранящие мне верность, к вам обращаюсь я! Я столько раз вас приводил к победе, а завтра вы, может быть, бесславно ляжете навеки в немую землю. Вот что мы решили: довольно нам плыть по течению войны, мы ринемся навстречу волнам и вырвем из рук врага венец победителя, а если судьба того не пожелает, пойдем на дно. Если вы не оставите меня, не предадите свою честь, у вас есть еще надежда занять места по правую руку от меня в римском Капитолии, и все будут с завистью взирать на вас. Но если вы сейчас измените мне и Антоний проиграет — проиграете вместе с ним и вы. Да, много крови прольется в завтрашнем сраженье, но мы столько раз одерживали верх и над более грозным противником, мы разметали войско за войском, точно пески пустыни, ни один враг не мог противостоять натиску наших победоносных легионов, и солнце еще не успевало сесть, а мы уже делили отнятые у царей богатства. Чего же нам бояться теперь? Да, наши союзники бежали, но ведь наша армия не слабее цезаревой! И если мы будем биться столь же доблестно, клянусь вам моим словом императора: завтра вечером я украшу Канопские ворота головами Октавиана и его военачальников!
Да, да, ликуйте! Как я люблю эти воинственные клики, они словно вырываются из сердец, объединенных преданностью Антонию, разве их сравнишь со звуками фанфар, которым все равно, в чью славу трубить — Антония ли, Цезаря. Но довольно, друзья, сейчас поговорим тихо, как над могилой дорогого нам усопшего. Слушайте же: если Фортуна все-таки отвернется от меня, если солдат Антоний не сможет одолеть напавших на него и умрет смертью солдата, оставив вас скорбеть о том, кто был всегда вашим другом, я, по суровому обычаю воинов, сейчас объявлю вам мою волю и завещаю выполнить ее. Вы знаете, где спрятаны мои сокровища. Возьмите их, любимые друзья, и честно разделите между собой на память об Антонии. Потом идите к Цезарю и так ему скажите: «Мертвый Антоний приветствует живого цезаря и во имя прежней дружбы и в память о тех боях, когда вы с ним сражались рядом, за одно и то же дело, просит проявить великодушие к тем, кто остался ему верен до конца, и не отнимать его даров».
Я не могу сдержать слез, но вам не подобает плакать. Перестаньте, ведь это слабость, ведь вы мужчины! Мы все умрем, и смерть была бы счастьем, если бы не обнажала наше беспощадное одиночество. Прошу вас, позаботьтесь о моих детях, если я погибну, — ведь может так случиться, что они останутся совсем беспомощны. Все, солдаты, довольно! Завтра на рассвете мы бросим все наши силы на цезаря на суше и на море. Поклянитесь, что будете верны мне до последнего!
— Клянемся! — воскликнули они. — Клянемся, благороднейший Антоний!
— Благодарю! Моя звезда еще снова засияет; завтра она поднимется высоко в небе и, быть может, затмит звезду цезаря. Итак, до утра, прощайте!
Он повернулся и хотел уйти. Но потрясенные военачальники брали его за руку и целовали, многие плакали, как дети; Антоний тоже не мог совладать со своим горьким волнением, я видел при свете луны, как по его лицу с резкими складками текут слезы и падают на могучую грудь.
В сердце у меня зашевелилась тревога. Я хорошо знал, что если эти люди сохранят преданность Антонию, беда вполне может миновать Клеопатру; и хоть я не питал к Антонию зла, но он был обречен, он должен погибнуть и увлечь за собой женщину, которая, подобно ядовитому растению, обвилась вокруг этого гиганта и выпила всю его силу, задушила в своих объятиях.
И потому, когда Антоний ушел, я остался, лишь отступил в тень и принялся внимательно изучать лица его военачальников.
— Итак, все решено! — произнес командующий флотом. — Мы все до одного клянемся стоять за благородного Антония до конца, как бы ни повернулась Судьба!
— Клянемся! И выполним нашу клятву! — подхватили остальные.
— Да, выполните свою клятву! — сказал я, не выходя из тени. — Стойте за благородного Антония до конца, и всех вас постигнет смерть!
Они кинулись ко мне и в ярости схватили.
— Кто он такой? — вскричал один из них.
— Презренный пес Олимпий! — отвечал другой. — Олимпий, злой волшебник!
— Предатель! — раздался возглас. — Убьем его, пусть сгинут его злые чары! — И тот, кто это крикнул, выхватил свой меч.
— Да, убей его! Он должен исцелять благородного Антония от недугов, а сам хочет предать его!
— Остановитесь! — приказал я властно и торжественно. — Не в вашей власти убить того, кто служит богам. Я не предатель. Я сам останусь здесь, в Александрии, но вам я говорю: бегите, переходите на сторону цезаря! Я служу Антонию и царице — служу им со всей верностью и преданностью; но еще более преданно я служу великим богам; и то, что они мне открыли, благородные господа, ведомо лишь мне. Но я вас посвящу в божественное откровение: Антоний погибнет, погибнет Клеопатра, победа суждена цезарю. И потому, благородные воины, я говорю вам, ибо высоко чту вас и преисполнен жалости к вашим женам, над которыми нависла печальная участь вдов, и к вашим детям, которые будут проданы в рабство, если останутся сиротами, — я говорю вам: если вы решили хранить верность Антонию и умереть — умрите; но если вам дорога жизнь — идите к цезарю! Так определили боги, я лишь передал вам предначертанное ими.
— Боги! Что нам твои боги? — в ярости закричали они. — Перережьте предателю горло, довольно нам его зловещих предсказаний!
— Пусть явит нам знамение своих богов, иначе ему смерть: я не верю этому колдуну!
— Отойдите прочь, глупцы! — потребовал я. — Освободите мои руки и прочь, подальше от меня, я покажу вам священное знамение. — И такое было у меня в тот миг лицо, что они испугались, выпустили меня и отступили на несколько шагов. А я — я воздел к небу руки и, сосредоточив все силы свой души в едином порыве, устремил их в просторы вселенной, и вот мой дух встретился там с духом священной матери Исиды. Но я не произнес Великое Заклинание, ибо мне это было запрещено. И державная владычица миров и тайн ответила на мой призыв: леденящее кровь безмолвие возвестило, что она летит к земле. Это страшное безмолвие вязко сгущалось, даже собаки перестали лаять, а люди в городе замерли, охваченные ужасом. Но вот где-то вдали послышалось тихое бряцание систр. Сначала оно лишь призрачно овеяло нас, но, приближаясь, стало набирать силу, мощь, вот самый воздух задрожал от грозных, неведомых земле звуков. Я ничего не говорил, лишь указал рукой не небо. Там, в вышине, парило окутанное покрывалом божество, оно медленно плыло к нам в нарастающем громе систр, вот тень его упала на нас… Божество приблизилось, проплыло мимо и стало удаляться в сторону цезарева лагеря, музыка замерла вдали, вызвавший благоговейный ужас образ растаял в ночном небе.
— Это Вакх! — воскликнул кто-то из военачальников. — Вакх покинул Антония, Антоний обречен!
У всех вырвался вопль ужаса.
Но я-то знал, что это был не римский лжебог Вакх, а наша божественная покровительница Исида, она сейчас покинула Кемет и, миновав бездну, разделявшую миры, устремилась в просторы вселенной, где будет жить, забытая людьми. Да, Исиде продолжают еще поклоняться в Египте, она по-прежнему здесь, на земле, как и во всех других мирах, но наши призывания к ней безответны. Я закрыл лицо руками и стал молиться, а когда опустил руки и посмотрел вокруг, увидел, что военачальники Антония ушли и я один.
Глава VII, повествующая о том, как войско и флот Антония сдались цезарю у Канопских ворот; о том, как благородный Антоний умер и как Гармахис приготовил смертельный яд
На рассвете Антоний приказал своему огромному флоту двинуться против флота цезаря, а своей многочисленной коннице устремиться на цезареву конницу. Выстроенные в три линии суда поплыли навстречу судам цезаря, которые уже готовились принять бой. Но когда два флота сблизились, галеры Антония подняли весла в знак приветствия, присоединились к галерам цезаря, и оба флота уплыли вместе прочь. В это время из-за Ипподрома показалась голова конницы Антония, мчавшейся на конницу цезаря, но, встретившись с ней, воины Антония опустили мечи и перешли в стан цезаря — и они тоже покинули Антония. Антоний обезумел от ярости, на него было страшно смотреть. Он закричал своим легионам, чтобы они не смели отступать и ждали боя; и легионы остались на месте. Однако вскоре один из легатов — тот самый, который вчера вечером хотел убить меня, — попытался незаметно ускользнуть; но Антоний схватил его, швырнул на землю и, соскочив с коня, выхватил из ножен меч и хотел убить. Он высоко занес меч, а легат закрыл лицо руками, ожидая смерти. Но вдруг Антоний опустил свой меч и приказал легату встать.
— Иди! — сказал он. — Иди к цезарю и благоденствуй! Я любил тебя когда-то. Почему же из всех бесчисленных предателей я должен убить одного тебя?
Легат поднялся и горестно посмотрел на Антония. Его жег стыд, он с громким криком сорвал с себя панцирь, вонзил в грудь меч и упал мертвый. Антоний стоял и глядел на него, но так и не произнес ни слова. А колонны цезаря тем временем подступали все ближе, и едва они взметнули копья, как легионы Антония бросились бежать. Солдаты цезаря остановились, провожая их издевательским хохотом; они не устремились им вдогонку, никто из воинов Антония не был убит.
— Беги, мой повелитель, беги! — вскричал приближенный Антония Эрос, который один из всего войска остался вместе со мной подле него. — Беги, иначе тебя схватят и поведут пленником к цезарю!
У Антония вырвался тяжкий стон, он повернул коня и поскакал к городу. Я за ним, и когда мы въезжали в Канопские ворота, где собралась огромная толпа любопытных, Антоний сказал мне:
— Теперь оставь меня, Олимпий; езжай к царице и скажи: «Антоний приветствует Клеопатру, предавшую его! Желает здравствовать и радоваться и прощается навек!»
Я двинулся к мавзолею, Антоний же во весь опор помчался во дворец. У мавзолея я спешился и постучал в дверь, в окно выглянула Хармиана.
— Впусти меня! — крикнул я, и она отперла засовы.
— Какие новости, Гармахис? — шепотом спросила она.
— Хармиана, конец близок, — ответил я. — Антоний бежал.
— Слава богам! Я истомилась от ожидания.
Клеопатра сидела на своем золотом ложе.
— Скорее, говори! — приказала она.
— Антоний бежал, его войска бежали, цезарь подходит к Александрии. Великий Антоний приветствует Клеопатру и прощается с ней. Желает здравствовать и радоваться Клеопатре, предавшей его, и прощается навек.
— Ложь! — крикнула она. — Я не предавала его! Олимпий, скачи к Антонию и передай ему: «Клеопатра, которая никогда не предавала Антония, приветствует его и прощается навек. Клеопатра умерла».
И я поехал исполнять ее повеление, ибо все шло как я задумал. Антония я нашел в Алебастровом Зале, он метался по нему, как тигр в клетке, вскидывал руки к небу; с ним был один лишь Эрос, ибо все остальные слуги покинули этого гибнущего властелина.
— Мой благородный повелитель Антоний, — проговорил я, — царица Египта прощается с тобой. Она рассталась с жизнью по своей воле.
— Умерла? Царица умерла? — прошептал он. — Моей египтянки больше нет? И это прекраснейшее в мире лицо и тело станут добычей червей? О, она была истинная женщина и царица! Мое сердце разрывается от любви к ней. Неужто в ней больше силы духа, чем во мне, чья слава некогда гремела по всему свету; неужто я так низко пал, что женщина в своем царственном величии первой ушла туда, куда я страшусь за ней последовать? Эрос, ты с детства предан мне, ты помнишь, как я нашел тебя в пустыне, где ты умирал от голода, как я возвысил тебя, даровал богатства? Теперь спаси меня ты. Возьми свой меч и пресеки страдания Антония.
— Нет, повелитель, не могу! — воскликнул грек. — Разве у меня поднимется рука убить богоподобного Антония?
— Ни слова, Эрос, в этот страшный час я вверяю мою судьбу тебе. Повинуйся или уйди прочь, я останусь один. Предатель, я не желаю больше тебя видеть!
Тогда Эрос выхватил свой меч, а Антоний упал перед ним на колени и, сорвав панцирь, поднял глаза к небу. Но Эрос крикнул: «Нет, не могу!», вонзил меч в собственное сердце и рухнул на пол мертвый.
Антоний медленно встал на ноги, не отрывая от него глаз.
— О Эрос, как благородно ты поступил, — тихо произнес он. — Какое величие души, какой урок ты преподал мне! — Он опустился на колени и поцеловал умершего.
Потом вскочил, вырвал меч из сердца Эроса, вонзил себе в живот и со стоном повалился на ложе.
— О Олимпий, — воскликнул он, — мне больно, невыносимо больно! Положи конец этой муке, Олимпий!
Но я не мог его убить, меня переполняла жалость.
И потому я осторожно извлек из него меч, остановил льющуюся кровь, прогнал любопытных, которые сгрудились у входа в зал смотреть, как будет умирать Антоний, и велел им бежать в мой дом возле дворцовых ворот и привести Атуа. Атуа тотчас же явилась со своими травами и снадобьями, возвращающими жизнь. Я дал их Антонию и послал Атуа к Клеопатре, пусть поспешит на своих старых ногах к ней в мавзолей и расскажет об Антонии.
Атуа пошла и спустя недолгое время вернулась и сказала нам, что царица еще жива и просит принести к ней Антония, он должен умереть в ее объятиях. Вместе с Атуа пришел и Диомед. Когда Антоний услышал весть, что принесла Атуа, силы вернулись к нему — так страстно он хотел еще раз увидеть Клеопатру. И вот я кликнул рабов — они выглядывали из-за занавеса и из-за колонн, уж очень им хотелось посмотреть, как умирает этот великий человек, — и мы бережно понесли Антония к мавзолею.
Но Клеопатра боялась измены и больше не позволяла отпирать дверь; она спустила из окна веревку, и мы обвязали Антония под мышками. Рыдающая горькими слезами Клеопатра, Хармиана и гречанка Ирада изо всех сил стали тянуть веревку вверх, а мы поддерживали умирающего Антония снизу, и вот он наконец поднялся в воздух, из зияющей раны капала кровь, он хрипло стонал. Дважды он чуть не сорвался на землю. Но Клеопатра удержала его, ибо любовь и отчаяние удесятерили ее силы, вот он наконец возле окна, вот она втаскивает его внутрь; все, кто смотрел на это душераздирающее зрелище, давились слезами и били себя в грудь — все, кроме Хармианы и меня.
Когда Антоний был уже внутри, Хармиана снова спустила веревку и стала держать, а я поднялся по ней и втянул ее за собой. Антоний лежал на золотом ложе Клеопатры, а она, вся в слезах, с обнаженной грудью, с разметавшимися в диком беспорядке волосами, стояла возле него на коленях и страстно целовала, отрываясь на миг, чтобы вытереть текущую из раны кровь своим одеянием или волосами. Мне стыдно, и все же я признаюсь: когда я стоял и глядел на нее, во мне проснулась прежняя любовь к ней, мое сердце чуть не разорвалось от ревности, ибо я был властен убить и его, и ее, но не в моей власти было убить их любовь.
— О мой Антоний! Мой возлюбленный, мой муж, мой бог! — задыхаясь от рыданий, шептала она. — Как ты жесток, ты не пожалел меня и решил умереть один, оставить меня в моем позоре! Но я тотчас же последую за тобой в могилу. Очнись, Антоний мой, очнись!
Он приподнял голову и попросил вина, в которое я подмешивал снадобье, утишающее боль, а он страдал невыносимо. Он выпил кубок и попросил Клеопатру лечь рядом с ним на ложе и обнять его; и она легла и обняла его. Теперь Антоний снова почувствовал себя мужчиной, он забыл свое бесславие и свою боль и принялся наставлять ее, что она должна делать, чтобы спасти себя, но она не стала его слушать.
— У нас так мало времени, — прервала она его, — давай же будем говорить о нашей великой любви, которая длилась так долго и будет длиться бесконечно за чертой Смерти. Ты помнишь ночь, когда ты в первый раз обнял меня и сказал, что любишь? О, ночь невыразимого счастья! Если Судьба подарила человеку такую ночь, значит, он не зря прожил жизнь, пусть даже конец этой жизни так горек!
— Да, моя египтянка, мне ли забыть эту ночь, она всегда со мной, хотя с той ночи Фортуна отвернулась от меня — я утонул в моей бездонной любви к тебе, прекраснейшая. О, я все помню! — шептал он. — Помню, как ты в своей безумной прихоти выпила жемчужину и как потом твой звездочет провозгласил: «Час наступает — час, когда на тебя падет проклятье Менкаура». Все эти годы его слова преследуют меня, даже сейчас, в эти последние мгновенья, они звучат в моих ушах.
— Любимый мой, он давно умер, — прошептала она.
— Если он умер, значит, он рядом со мной. Что означали его слова?
— Этот презренный негодяй умер, зачем его вспоминать? О, милый, поцелуй меня, твое лицо бледнеет. Конец близок.
Он поцеловал ее в губы долгим поцелуем, и до самого последнего мгновения они то целовались, то лепетали друг другу на ухо слова любви, точно влюбленные новобрачные. Мое сердце терзала ревность, но я завороженно глядел на них, исполненный неведомым волнением.
Но вот я увидел, что на его лицо легла печать Смерти. Голова откинулась на ложе.
— Прощай, моя египтянка, прощай! Я умираю…
Клеопатра приподнялась на руках, безумным взглядом впилась в его серое, как пепел, лицо, дико вскрикнула и упала без чувств.
Но Антоний был еще жив, хотя говорить уже не мог. Я приблизился к нему и, опустившись на колени, взял вино со снадобьем и поднял, как бы желая дать ему глоток. И в этот миг я прошептал ему на ухо:
— Антоний, прежде чем полюбить тебя, Клеопатра была моей любовницей. Я — тот Гармахис, тот астролог, что стоял за твоим ложем в Тарсе. И это я погубил тебя. Умри, Антоний, на тебя пало проклятье Менкаура!
Он поднял голову и в ужасе уставился мне в лицо. Он не мог вымолвить ни слова, с уст срывались лишь невнятные звуки, он протянул ко мне дрожащий перст. Потом протяжно застонал, и дух покинул его тело.
Так я отомстил римлянину Антонию, который был когда-то властелином мира.
Мы привели Клеопатру в чувство, ибо ее время умирать еще не пришло. Получив согласие цезаря, мы с Атуа поручили Антония заботам самых искусных бальзамировщиков, чтобы похоронить его по обычаям Египта, накрыли лицо золотой маской, которая в точности повторяла черты Антония. Я написал на груди мумии поверх пелен его имя и титулы, на внутренней крышке гроба его имя и имя его отца и нарисовал на ней богиню Нут, распростершую над мертвым свои охранительные крылья.
Клеопатра повелела с великой пышностью отнести гроб в заранее приготовленную усыпальницу и опустить в алебастровый саркофаг. Саркофаг этот был необычно больших размеров, его вытесали для двух гробов, ибо Клеопатра решила упокоиться рядом с Антонием.
И вот как развивались события дальше. Прошло немного времени, и я узнал о намерениях цезаря, мне сообщил о них один из приближенных Октавиана, римский патриций Корнелий Долабелла, который пленился красотой женщины, покоряющей сердца всех, кто хоть раз взглянул на нее, и пожалел Клеопатру в ее несчастьях. Он попросил меня предупредить ее — мне, как ее врачу, было позволено выходить из мавзолея, где она жила, и возвращаться к ней, — что через три дня ее отправят в Рим вместе с оставшимися в живых детьми, ибо Цезариона Октавиан уже убил, и все они пройдут в цепях по улицам Рима, который будет приветствовать триумфатора-цезаря. Я сразу же пошел к Клеопатре и увидел, что она, как и всегда теперь, сидит оцепенело в кресле, и на коленях у нее то платье, которым она вытирала кровь Антония. Она целыми днями глядела на эти пятна крови.
— Смотри, Олимпий, как они выцвели, — сказала она, поднимая ко мне скорбное лицо и указывая на бурые разводы, — а он ведь только что умер! Даже благодарность живет дольше. Какие новости ты мне принес? Дурные, судя по выражению твоих больших темных глаз — они всегда тревожат меня каким-то смутным воспоминанием, но это воспоминание вечно ускользает.
— Да, новости дурные, о царица, — ответил я. — Мне сообщил их Долабелла, а Долабелла узнал от секретаря цезаря. На третий день, считая от нынешнего, цезарь отправляет тебя, царевичей Птолемея и Александра, а также царевну Клеопатру в Рим, чтобы на вас глазела римская чернь, когда Октавиан под ее приветственные клики торжественно проследует к Капитолию, где ты клялась воздвигнуть свой трон.
— Нет, никогда! — вскричала она, вскакивая с кресла. — Никогда я не пойду в цепях за колесницей цезаря-триумфатора! Что же мне
делать? Хармиана, помоги, скажи, есть ли спасение?
И Хармиана встала перед Клеопатрой, глядя на нее сквозь длинные опущенные ресницы.
— Есть, о царица: ты можешь умереть, — тихо произнесла она.
— Ах да, конечно, как же я забыла, ведь можно умереть! Олимпий, ты приготовил яд?
— Нет, но если царица пожелает, завтра утром он будет к твоим услугам — яд, действующий столь быстро и надежно, что выпивших его даже боги не смогут пробудить от сна.
— Ну что ж, готовь его, владыка Смерти.
Я поклонился Клеопатре и покинул мавзолей; и всю ту ночь мы с Атуа трудились, готовя смертоносный яд. И вот он наконец готов, и Атуа наливает его в хрустальный фиал и подносит к огню светильника: жидкость прозрачна, как чистейшая вода.
— Ах-ха! Питье, поистине достойное царицы! — пропела она своим пронзительным хриплым голосом. — Когда Клеопатра поднесет эту прозрачную воду, над которой я столько колдовала, к своим алым губам и выпьет пятьдесят капель, твоя месть свершится, о мой Гармахис! Ах, если бы я могла быть там, с тобой, и видеть, как погубившая тебя погибнет! Ах-ха! Какое сладостное зрелище!
— Месть — это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил, — ответил я, вспомнив слова произнесенные Хармианой.
Глава VIII, повествующая о последнем ужине Клеопатры; о том, как Хармиана пела ей прощальную песнь; как Клеопатра выпила смертельный яд; как Гармахис открыл ей свое имя; как вызвал перед нею духов из царства Осириса и о том, как Клеопатра умерла
Утром Клеопатра, получив согласие Октавиана, отправилась в усыпальницу Антония и долго плакала, сетуя, что боги Египта оставили ее. Поцеловала гроб, осыпала его цветами лотоса и, вернувшись, погрузилась в бассейн, после чего ее умастили благовониями, облекли в роскошнейший из ее нарядов, и вместе с Ирадой, Хармианой и со мной она села ужинать. Во время ужина она вдруг загорелась безудержным весельем — так порою ярко вспыхивает закатное небо; она опять смеялась, блистательно шутила, как в былые времена, рассказывала о пирах, которые устраивали они с Антонием. Никогда не была она столь прекрасной, как в тот последний роковой вечер перед свершением моей мести. И так случилось, что, вспоминая о пирах, она заговорила о том пире в Тарсе, когда растворила и выпила жемчужину.
— Как странно, — сказала она, — как странно, что в последние минуты перед смертью из всех пиров Антоний вспомнил именно этот и повторил слова Гармахиса. Ты помнишь, Хармиана, того египтянина?
— О да, царица, я его помню, — помедлив, ответила Хармиана.
— А кто был этот Гармахис? — спросил я, ибо мне хотелось знать, хранит ли ее сердце печаль обо мне.
— Я расскажу тебе. Странная тогда случилась история, но теперь, когда все счеты с жизнью кончены, ее можно рассказать, ничего не страшась. Этот Гармахис был потомок древних фараонов Египта по прямой линии, его тайно короновали на царство в Абидосе и послали сюда, в Александрию, возглавить могучий заговор, который составили египтяне, желая свергнуть нас, царственных Лагидов. Он приехал, проник во дворец и занял должность моего астролога, ибо обладал великими познаниями в древнем искусстве магии — как и ты, Олимпий, — и к тому же был удивительно красив. Он должен был убить меня и стать фараоном. Да, это был могущественный враг, ибо его поддерживал почти весь Египет, а у меня сторонников было мало. Но в ту самую ночь, когда ему надлежало осуществить свой замысел, за несколько минут до его прихода ко мне явилась Хармиана и рассказала о заговоре, тайна которого открылась ей случайно. Я ничего тебе не говорила, Хармиана, но очень скоро усомнилась, что ты и в самом деле узнала о заговоре случайно: клянусь богами, я уверена: ты любила Гармахиса и предала его из мести, потому что он тебя отверг, и по той же причине потом не захотела стать женой и матерью, а это противно природе женщины. Признайся, Хармиана, я угадала? Сейчас, когда в глаза нам глядит Смерть, можно признаваться во всем без боязни.
Хармиана задрожала.
— Да, это правда, о царица; я тоже принадлежала к заговорщикам, и когда Гармахис отверг мою любовь, я предала его; из-за моей великой любви к нему я осталась на всю жизнь одна. — Она взглянула на меня, встретилась со мною взглядом и смиренно опустила ресницы.
— Ага, я не ошиблась. Кто поймет сердце женщины? Не думаю, однако, что твой Гармахис был благодарен тебе за твою любовь. А ты, что скажешь ты, Олимпий? Ах, Хармиана, Хармиана, значит, и ты оказалась предательницей. Поистине, монархов на каждом шагу подстерегает измена. Но я прощаю тебя, ибо с тех пор ты служила мне верно и преданно.
Но мы отвлеклись от Гармахиса. Убить его я не посмела — боялась, что огромная армия его сторонников в ярости поднимется против меня и сбросит с трона. Но события приняли неожиданный оборот. Нужно сказать, что, хотя Гармахис готовился меня убить, он, сам того не понимая, полюбил меня, а я довольно скоро об этом догадалась. Конечно, я с самого начала постаралась завоевать его, ведь он был так хорош собой и образован; а если Клеопатра захотела, чтобы ее полюбили, ни одно мужское сердце не могло перед ней устоять. И потому когда он пришел ко мне с кинжалом в складках своего одеяния, чтобы убить, я пустила в ход все свои чары обольщения, желая отнять у него волю, и кто усомнится, что в этом поединке женщина победила мужчину? О, забыть ли мне взгляд, каким глядел на меня этот поверженный царевич, этот нарушивший священные обеты жрец, этот утративший свою законную корону фараон, когда я дала ему маковый отвар и он беспомощно проваливался в сон, который навеки отнимал у него честь и славу! Однако я увлеклась Гармахисом, хотя любовью это чувство не назовешь, но потом он мне наскучил — уж очень он был учен и мрачен, больная совесть и вина мешали ему предаваться веселью. А он — он любил меня, поистине забыв обо всем на свете, тянулся ко мне, как пьяница к вину, которое его губит. В надежде, что я стану его супругой, он открыл мне тайну сокровища, спрятанного в пирамиде Менкаура, ибо в то время мне были необходимы средства, и мы вместе с ним спустились в ужасную гробницу и извлекли сокровище из груди мертвого фараона. Смотрите, вот этот изумруд тоже лежал там! — И она указала на огромного скарабея, которого извлекла из груди божественного Менкаура. — И вот я, испугавшись тех страшных слов, которые были начертаны в усыпальнице, и чудовища, которое мы видели в гробнице, — ах, почему это омерзительное воспоминание явилось мне сейчас? — а также из политических соображений, ибо мне хотелось завоевать любовь Египта, решила стать супругой Гармахиса и объявить всему миру, что он — истинный законный потомок фараонов и коронованный на царство фараон, а потом с его помощью защищать Египет от Рима. Ведь как раз в то время Деллий привез мне от Антония послание, в котором триумвир требовал, чтобы я явилась к нему на суд, и после долгих размышлений решила объявить Антонию войну. Но как раз когда служанки убирали меня для выхода в тронный зал, где я должна была дать ответ Деллию, явилась Хармиана, и я ей все рассказала, ибо хотела знать, что она думает о моем решении. Ты и представить себе не можешь, Олимпий, какая великая сила — ревность: с помощью этого крошечного клина можно расщепить могучее древо империи, этот тайный молот выковывает судьбы монархов! Как, мужчина, которого Хармиана любит, станет моим мужем?! Станет мужем женщины, которую он сам так самозабвенно любит? Этого Хармиана допустить не могла, попробуй опровергнуть мои слова, Хармиана, тебе это не удастся, ибо теперь я знаю все! И потому она принялась убеждать меня тончайшими, изощреннейшими доводами, что брак с Гармахисом был бы величайшей ошибкой и что мне следует плыть к Антонию, и сейчас, когда жить мне осталось какой-нибудь час, я признаюсь тебе, Хармиана: я бесконечно благодарна тебе за твой совет. Я и сама сомневалась, а ее слова окончательно склонили чашу весов в пользу Антония — я поплыла к нему. И чем все кончилось, что породила злая ревность красавицы Хармианы и страсть мужчины, который был послушен мне, как струны арфы пальцам музыканта? Октавиан захватил Александрию; Антоний потерял свои владения, свою былую славу и умер; и я сегодня ночью тоже умру! Ах, Хармиана, Хармиана, за многое тебе придется держать ответ — ведь ты изменила ход истории. И все-таки даже сейчас, в эти последние минуты, я повторю: какое счастье, что все случилось так, а не иначе!
Она умолкла и закрыла глаза рукой; я поднял взгляд и увидел, что по щеке Хармианы медленно катится огромная слеза.
— А что ж Гармахис? — спросил я. — Где он сейчас, моя царица?
— Где он сейчас? Увы, в Аменти — наверно, искупает свою вину перед Исидой. В Тарсе я увидела Антония и полюбила его, и с этого мгновения мне стал ненавистен египтянин, я даже видеть его не могла без отвращения и поклялась убить — это лучший способ избавиться от опостылевшего любовника. А он, воспламененный ревностью, предрек мне гибель во время пира, когда я выпила жемчужину; и тогда я решила подослать к нему убийц в ту же ночь, но опоздала — он успел бежать.
— Куда же он бежал?
— Того не знаю. Бренн — он был начальником дворцовой стражи и всего год назад уехал к своим соплеменникам на север — так вот, Бренн клялся, что собственными глазами видел, как Гармахис улетел в небо; но я не верю Бренну: мне кажется, он питал к Гармахису дружбу. Гармахис бежал, его судно потерпело крушение неподалеку от Кипра, и он утонул. Быть может, Хармиана расскажет, как ему удалось бежать?
— Я ничего не знаю, о царица; знаю только одно: Гармахис погиб.
— К счастью для всех, Хармиана, ибо он нес людям зло — да, он был моим возлюбленным, и все же я рада его гибели. Он помог мне в тяжкие времена, но я не любила его истинной любовью и боялась, я даже сейчас его боюсь; мне кажется, во время битвы при Акциуме я сквозь шум и крики услышала его голос, он приказал мне бежать. Возблагодарим же богов, что он погиб, как ты уверяешь, Хармиана, и пусть он во веки не воскреснет.
Но после этих слов я сосредоточил свою волю и, применив приемы искусства, которым я владею, окутал тенью моего духа дух Клеопатры, так что она почувствовала рядом с собой присутствие Гармахиса.
— О, боги, что это? — воскликнула она. — Клянусь Сераписом! Мне страшно, страшно! Клянусь Сераписом, Гармахис здесь, я это чувствую, хотя уж десять лет, как он умер! Воспоминания о нем нахлынули на меня, точно волны, вот-вот затянут в водоворот! О, в такой миг это просто святотатство!
— Не бойся, о царица, — сказал я, — ибо если он умер, его дух разлит повсюду, и в этот миг — миг твоей смерти, Гармахис может приблизиться к тебе, чтобы приветствовать твой дух, когда он отлетит от тела.
— Не говори так, Олимпий! Я не желаю больше видеть Гармахиса; слишком велика моя вина перед ним, в ином мире нам, быть может, легче будет встретиться. Ну вот, ужас отступает! Я просто поддалась малодушию. Что ж, история этого злосчастного глупца помогла нам скоротать самый страшный час нашей жизни — час, который обрывает Смерть. Спой мне, Хармиана, голос твой нежен, он вольет покой в мою душу и усыпит ее. Странно, этот выплывший из прошлого Гармахис почему-то меня растревожил. Ты столько лет услаждала мой слух своими чудесными песнями. Теперь спой последнюю.
— В столь горький час петь нелегко, о царица! — сказала Хармиана, но все-таки подошла к арфе и запела. Она выбрала плач по возлюбленной сладкогласного сирийца Мелеагра и пела его тихо, проникающим в самое сердце голосом:
Моя возлюбленная умерла, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Владычица души и сердца умерла, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
О слезы, выжгите глаза мне, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Проникните сквозь мрак к любимой, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Навеки я в плену страданья без исхода, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Остались только память и печаль мне, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Цветами осыпаю я твою могилу, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Не видишь ты цветов благоуханных, нежных, -
Лейтесь слезы, лейтесь.
Не слышишь горьких песен, что пою я, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Земля, баюкай мой цветок в своих объятьях, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Лелей нежнейшую из роз — любимую мою, -
Лейтесь, слезы, лейтесь.
Последние звуки нежной, печальной музыки замерли, Ирада плакала, даже в грозовых глазах Клеопатры сверкали слезы: один я не плакал — мои слезы давно иссякли.
— Печальна твоя песня, Хармиана, — произнесла царица. — И ты права: в столь горький час петь нелегко, но ты спела не песню, а плач. Когда я буду лежать мертвая, Хармиана, спой его надо мною еще раз. А сейчас простимся с музыкой, не будем заставлять Смерть ждать. Олимпий, возьми этот пергамент и напиши то, что я сейчас продиктую.
Я взял кусок пергамента и тростниковое перо и написал по-латыни:
«Клеопатра — Октавиану.
Приветствую тебя. Наступил час, когда мы наконец почувствовали, что больше не в силах выносить постигшие нас несчастья, душе пора расстаться с бренной оболочкой и улететь туда, где нет памяти о прошлом. Цезарь, ты победил: возьми добычу, которая принадлежит тебе по праву. Но Клеопатра не пойдет за твоей колесницей в том триумфальном шествии, к которому сейчас готовится Рим. Когда все погибло, мы сами должны идти навстречу гибели. И потому в пустыне одинокого отчаяния мужественные обретают решимость. Клеопатра не уступит Антонию в своем величии духа, и ее смерть не умалит ее славы. Рабы согласны жить и в унижении, но цари гордо входят через ворота унижения в Царство Смерти. Об одном лишь просит цезаря царица Египта: пусть он позволит положить ее в саркофаг рядом с Антонием. Прощай!»
Я запечатал послание, Клеопатра приказала мне отдать его кому-нибудь из стражи, чтобы он отнес цезарю и вернулся. Я вышел из мавзолея, кликнул солдата, который только что сменился, дал ему денег и велел доставить письмо цезарю. Потом вошел в мавзолей — три женщины молча стояли в комнате. Клеопатра приникла к плечу Ирады, Хармиана смотрела на них.
— Если ты в самом деле решила расстаться с жизнью, о царица, то не медли, — сказал я, — ибо скоро здесь будут люди цезаря, он их пришлет, едва получит твое письмо. — И я поставил на стол фиал с сильнейшим ядом, прозрачным, как ключевая вода.
Она взяла фиал в руки и стала рассматривать.
— Как странно, стало быть, это моя смерть, — сказала Клеопатра, — а с виду никогда не заподозришь.
— Это не только твоя смерть, царица. Здесь хватит яда, чтобы убить еще десятерых. Довольно нескольких капель.
— Я боюсь… — Ее голос прервался. — Кто поручится, что он убьет мгновенно? Столько людей умирало на моих глазах от яда, и почти все мучились. А некоторые… о, даже вспомнить страшно!
— Не бойся, — проговорил я, — я мастер в своем искусстве. Впрочем, если страх твой так велик, вылей яд и живи. Быть может, в Риме тебя еще ожидает счастье: ты пойдешь за колесницей триумфатора-цезаря по римским улицам, и смех римлянок, глядящих на тебя с презрением, заглушит звон твоих золотых цепей.
— Нет, нет, Олимпий, смерть, только смерть. О, если бы кто-нибудь указал мне путь!
Ирада высвободила руку и шагнула ко мне.
— Налей мне своего яду, врач, — сказала она. — Я пойду первой и встречу там мою царицу.
— Да, вот истинная верность, — сказал я, — но ты сама выбрала свою судьбу! — И налил немного жидкости из фиала в маленький золотой кубок.
Ирада подняла его, низко поклонилась Клеопатре, подошла к ней и поцеловала в лоб, потом поцеловала Хармиану. Молиться она не стала, ибо была гречанка, и, не медля ни мгновенья, выпила яд, подняла руку ко лбу, тотчас же упала и умерла.
— Ты видишь, — сказал я, прервав долгое молчание, — теперь ты видишь, как быстро он действует.
— Вижу, Олимпий; ты истинно велик в своем искусстве. Теперь мой черед утолить жажду; налей мне кубок, Ирада уже ждет меня у ворот царства Осириса, и ей там одиноко!
Я снова налил яду, но на сей раз, ополаскивая кубок, оставил там немного воды, ибо перед смертью Клеопатра должна была узнать меня.
И царственная Клеопатра, взяв кубок в руки, подняла к небу свои прекрасные глаза и стала говорить:
— О боги Египта, вы покинули меня, и потому я не стану вам молиться, ведь ваши уши глухи к моим стенаниям, а глаза не видят моих слез! Я взываю к тому единственному другу, которого боги, отворачиваясь от обездоленных, нам оставляют. Спеши ко мне, о Смерть, ты, осеняющая своими сумеречными крыльями весь мир, и выслушай меня! Я жду тебя, владыка всех владык, уравнивающая в своем царстве баловней судьбы и несчастнейших рабов, своей десницей пресекающая трепет нашей жизни на этой горестной земле. Укрой меня там, где не дуют ветры и где остановились воды, где не бывает войн и куда не придут легионы цезаря! Отнеси меня в иные миры и коронуй на царство в Стране Покоя! Ты моя державная владычица, о Смерть, поцелуй меня! Моя душа сейчас рождается заново, видишь: она стоит у черты Времени! Все, прощай, Жизнь! Здравствуй, Вечный Сон! Здравствуй, мой Антоний!
И, взглянув еще раз на небо, она выпила яд и бросила кубок на пол.
И вот тут наконец настал миг, которого я столько лет дожидался — миг моей мести, мести поруганных богов Египта, мести Менкаура, проклятие которого обрушилось на совершившую кощунство.
— Что это? — вскричала Клеопатра. — Я вся похолодела, но я жива! Ты обманул меня, мой мрачный врач, ты меня предал!
— Терпенье, Клеопатра! Ты скоро умрешь и изведаешь всю ярость богов! На тебя пало проклятье Менкаура! Месть свершилась! Вглядись в меня, о женщина! Вглядись в это погасшее лицо, вглядись в эти иссохшие руки, вглядись в это живое воплощение скорби! Смотри внимательно! Ну что, узнала?
Она не могла оторвать от меня расширенных в смертельном ужасе глаз.
— О, боги! — закричала она, выбрасывая перед собой руки. — Да, наконец-то я тебя узнала! Ты — Гармахис, тот самый Гармахис, ты пришел ко мне из царства мертвых!
— Да, я Гармахис, и я пришел к тебе из царства мертвых, чтобы увлечь тебя туда на вечные терзания! Так знай же, Клеопатра: это я погубил тебя, как ты много лет назад погубила меня! Долго я трудился, скрытый тьмою, разгневанные боги помогали мне, и вот теперь я признаюсь тебе — я тайная причина всех твоих несчастий. Это я наполнил твое сердце страхом во время битвы при Акциуме; это я лишил тебя поддержки египтян; это я отнял все силы у Антония; я показал знамение твоим военачальникам, и потому они перешли на сторону Октавиана! И от моей руки ты сейчас умираешь, ибо великие боги избрали меня своим мстителем! Гибель за гибель, измена за измену, смерть за смерть! Подойди ко мне, Хармиана, заговорщица, предавшая меня, но искупившая потом свою вину, подойди ко мне и раздели мое торжество: мы будем вместе смотреть, как умирает эта презренная распутница.
Услышав мои слова, Клеопатра опустилась на золотое ложе и прошептала:
— И ты, Хармиана!
Она умолкла, но потом ее царственный дух вознесся в недосягаемые, ослепительные высоты.
Она с трудом поднялась с ложа и, протянув ко мне руки, прокляла меня.
— О, если бы судьба мне даровала один только час жизни! — воскликнула она. — Единственный короткий час! Ты умер бы в таких мучениях, какие не приснятся в самом страшном сне, — и ты, и эта лживая потаскуха, предавшая и тебя, и меня! И ты любил меня, ты! А, вот она, твоя казнь! Смотри, коварный, лицемерный, плетущий заговоры жрец! — Она разорвала на груди свое роскошное одеяние. — Смотри, на этой прекрасной груди много ночей покоилась твоя голова, ты засыпал в объятиях этих рук. Забудь меня, если сможешь! Не сможешь, я вижу это в твоих глазах! Все мои муки ничто в сравнении с той пыткой, которая терзает твою мрачную душу, ты вечно будешь жаждать, и никогда тебе не утолить твоей жажды! Гармахис, жалкий раб, как мелко твое торжество по сравнению с моим: я, побежденная, победила тебя! Прими мое презрение, ничтожный! Я, умирая, обрекаю тебя на пытки твоей неиссякаемой любви ко мне! О Антоний, я иду к тебе, мой Антоний, я спешу в твои объятья! Мы скоро встретимся и, осененные нашей божественной любовью, вместе поплывем по бескрайним просторам вселенной — уста к устам, глаза в глаза, и с каждым глотком напиток страсти будет казаться нам все слаще! А если я не найду тебя там, в потустороннем царстве, то я уйду в поля маков и среди них засну. Ночь станет нежно баюкать меня на груди, а мне в моих грезах будет казаться, что я лежу у тебя на груди, мой Антоний! Я умираю… приди, мой Антоний, даруй мне покой!
О, я полыхал гневом, но гнев не выдержал ее презрения, слова царицы, точно стрелы, вонзились мне в сердце. Увы, случилось то, что и предсказывала Хармиана: моя месть поразила меня самого — никогда еще я не любил Клеопатру так мучительно, как сейчас. Мою душу терзала ревность, и я поклялся, что так просто она не умрет.
— Ты жаждешь покоя? — воскликнул я. — Да разве ты заслужила покой? О, боги священной триады, молю вас, услышьте меня! Осирис, распахни врата преисподней и выпусти тех, к кому я взываю! Явись, Птолемей, отравленный своей сестрой Клеопатрой; явись, Арсиноя, убитая в святилище своей сестрой Клеопатрой; явись, божественный Менкаура, чье тело Клеопатра растерзала, презрев из алчности угрозу мести и проклятье богов; явитесь все до одного, кто умер от руки жестокой Клеопатры! Покиньте колыбель Нут и встаньте перед той, что умертвила вас! Духи, взываю к вам именем мистического единства и всего сущего великим знаком жизни — явитесь!
Я произнес заклинание; Хармиана в ужасе вцепилась в мое платье, умирающая Клеопатра медленно раскачивалась, опираясь руками о край ложа, и глядела перед собой ничего не видящими глазами.
И вот боги ответили на мой призыв. С шумом распахнулись створки окна, и в комнату влетела та огромная седая летучая мышь, которая висела, вцепившись в подбородок евнуха, когда мы с Клеопатрой были в сердце пирамиды фараона Менкаура. Она трижды облетела комнату, повисла, трепеща крылами, над трупом Ирады, потом устремилась туда, где стояла умирающая Клеопатра. Седое чудовище село ей на грудь, вцепилось в изумруд, который столько тысячелетий покоился в мумии божественного фараона Менкаура, трижды пронзительно крикнуло, трижды взмахнуло огромными костлявыми крылами и исчезло, как будто его и не было.
И вдруг мы увидели, что комнату заполнили тени умерших. Вот красавица Арсиноя, зарезанная ножом подосланного убийцы. Юноша Птолемей с искаженным мукой лицом, умирающий от яда. Божественный Менкаура с золотым уреем на лбу; скорбный Сепа, весь истерзанный крючьями палачей; отравленные рабы, бесчисленное множество ее жертв, страшных, призрачных; они набились в небольшую комнату и молча стояли, вперив остекленевшие глаза в ту, что отняла у них жизнь!
— Смотри же, Клеопатра! — приказал я. — Вот какой покой тебя ожидает! Взгляни и умри!
— Да! — подхватила Хармиана. — Взгляни же и умри, о ты, укравшая у меня достоинство, а у Египта — его царя!
Клеопатра подняла глаза, увидела ужасные тени — быть может, ее покидающий тело дух услышал слова, которых я не мог уловить. На ее лице застыл невыразимый ужас, огромные глаза словно выцвели, Клеопатра пронзительно закричала, упала и умерла: сопровождаемая своей зловещей свитой, она полетела туда, где ее уже ждали.
Так я, Гармахис, совершил месть, которую столь долго лелеяла моя душа, восстановил справедливость, как повелели мне боги, но сердце мое было пусто, в нем не мелькнуло ни блестки радости. Пусть самое дорогое для нас существо несет нам гибель, ибо Любовь более жестока, чем Смерть, и мы, когда приходит час, отплачиваем за наши муки той же монетой, — мы все равно не можем перестать любить, мы с тоской протягиваем руки к тому, что было предметом наших страстных желаний, и кровь нашего сердца льется на алтарь развенчанного божества.
Ибо Любовь — веяние Мирового Духа, она не знает Смерти.
Глава IX, повествующая о прощании Хармианы с Гармахисом; о смерти Хармианы; о смерти старой Атуа; о возвращении Гармахиса в Абидос; о его признании в Зале Тридцати Шести Колонн и о приговоре, который вынесли Гармахису верховные жрецы
Хармиана выпустила мою руку, которую все это время судорожно сжимала.
— Как страшна оказалась твоя месть, о сумрачный Гармахис, — хрипло прошептала она. — О Клеопатра, Клеопатра, ты совершила много преступлений, но ты была поистине великая царица!.. А теперь помоги мне, царевич: положим эту бренную оболочку на ложе и уберем по-царски, пусть эта последняя царица Египта своим безмолвием скажет посланцам цезаря все, что может сказать царица.
Я ничего ей не ответил, на сердце была каменная тяжесть, и теперь, когда все свершилось, я чувствовал, что у меня нет сил. Но мы вместе с Хармианой подняли мертвую Клеопатру и положили на золотое ложе. Хармиана надела на ее матовый, как слоновая кость, лоб венец в виде золотого урея, расчесала волосы цвета безлунной и беззвездной ночи, в которых не было ни единой серебряной пряди, закрыла навсегда глаза, в которых еще совсем недавно синело и бушевало переменчивое море. Она сложила похолодевшие руки на груди, в которой оттрепетала страсть, выпрямила согнувшиеся в коленях ноги, расправила складки роскошного вышитого платья, поставила в головах цветы. Сейчас, в холодном величии смерти, Клеопатра была еще прекраснее, чем в лучезарном сиянии полноты жизни и счастья.
Мы отошли и посмотрели на нее, на мертвую Ираду у ее ног.
— Все, конец, — проговорила Хармиана, — мы отомстили, Гармахис, и что теперь? Пойдем за ней? — Она кивнула в сторону фиала, стоявшего на столе.
— Нет, Хармиана. Я умру, но умру куда более мучительной смертью. Мой срок земного искупления еще не кончился, а сам я не могу его прервать.
— Ты лучше знаешь, как тебе поступить, Гармахис. А я — я сейчас уйду из этой жизни, и крылья смерти унесут меня легко и быстро. Я свою игру сыграла. И тоже искупила свою вину. О, какая горькая мне выпала судьба — я принесла несчастье всем, кого любила, и вот теперь я умираю, и ни одна душа не вспомнит обо мне с любовью! Я искупила свою вину перед тобой, Гармахис; я искупила вину перед разгневанными богами; теперь мне надо заслужить прощенье Клеопатры там, в аду, где она сейчас и куда я последую за ней. Гармахис, ведь она меня любила; и теперь, когда ее нет, я поняла, что после тебя я любила ее больше всех на свете. И потому я наполню сейчас кубок, из которого она пила с Ирадой! — Хармиана взяла фиал и недрогнувшей рукой вылила в кубок остатки яда.
— Подумай, Хармиана, — сказал я, — ведь ты еще так молода, перед тобою вся жизнь; ты спрячешь эти горестные воспоминания глубоко в сердце и будешь жить много, много лет.
— Да, я могла бы, но не хочу. Жить, терзаемая памятью о сотворенном зле, носить в душе незаживающую рану скорби, которая будет год за годом кровоточить бессонными ночами, жить, умирая от стыда, жить под невыносимым бременем любви, которую я не в силах вырвать из сердца, жить одиноко, точно искалеченное бурей дерево на краю пустыни, которое скрипит от ветра и ждет, когда в него ударит молния, а молния все медлит, — нет, Гармахис, такая жизнь не для меня! Моя душа давно умерла, я лишь продолжала существовать, чтобы служить тебе; теперь я тебе больше не нужна и потому умру. Прощай, прощай навек! Никогда больше я не увижу твоего лица. Тебя не будет там, куда я ухожу. Ведь ты не любишь меня, ты по-прежнему любишь эту царственную женщину, которую ты загнал до смерти, как гончая. Но ее ты никогда не завоюешь, как мне никогда не завоевать тебя, — как беспощадно распорядилась нами Судьба! Послушай, Гармахис, пока я еще не умерла и не превратилась для тебя в постыдное воспоминанье, я хочу молить тебя о милости. Скажи мне, что ты простил меня, насколько это в твоей власти — прощать, и в знак прощения поцелуй меня, не как влюбленный, о нет, просто поцелуй в лоб, и тогда я отойду с миром.
Она подошла ко мне и протянула руки, губы ее дрожали от сдерживаемых слез, глаза не отрывались от моего лица.
— Хармиана, в нашей воле выбрать путь добра или зла, — ответил я, — но я уверен, что нашими судьбами управляет иная, высшая Судьба, она, точно ураган, принесшийся неведомо откуда, вдруг подхватывает наши утлые ладьи, и, как бы мы ни боролись с ветром, разбивает их и топит. Я прощаю тебя, Хармиана, как, надеюсь, когда-нибудь боги простят меня, и этим поцелуем, первым и последним, скрепляю мир между тобой и мной. — И я коснулся губами ее лба.
Она молчала, только стояла неподвижно, и долго, печально смотрела на меня. Потом подняла кубок.
— Царственный Гармахис, этот яд я пью за твое здоровье. Мне надо было выпить его раньше, до того, как я увидела тебя! Прощай же, фараон! Когда минуют сроки искупления, ты будешь править высшими мирами, куда мне нет пути, и скипетр в твоих руках будет скипетром божества, царский жезл, которого я тебя лишила, — пустая игрушка рядом с ним. Прощай, навек прощай!
Она выпила яд, бросила кубок и осталась стоять, глядя широко открытыми глазами в пустоту, словно искала в ней Смерть. И Смерть пришла, египтянка Хармиана упала ничком на пол, бездыханная. А я остался один средь мертвых. Потом я тихо приблизился к ложу Клеопатры, сел рядом с ней — никто ведь нас теперь не видел, — и положил ее голову к себе на колени, как много лет назад под сенью извечной пирамиды, в ту ночь, когда мы совершили святотатство. Я поцеловал ее ледяной лоб и покинул дом Смерти — отмщенный, но раздавленный отчаяньем.
— Эй, врач, — окликнул меня начальник стражи, когда я выходил из ворот, — что происходит в мавзолее? Я слышал крики, не умер ли там кто-нибудь?
— Там ничего не происходит, все уже произошло, — ответил я ему и ушел прочь. Скоро в темноте я услышал голоса и быстрые шаги людей цезаря.
Я побежал домой и у ворот увидел Атуа, она ждала меня. Атуа тотчас же увлекла меня в дальнюю комнату в заперла засовы.
— Ну что, все кончено? — спросила она, вглядываясь в меня при свете светильника, лучи которого падали на ее иссохшее лицо и белые, как соль, волосы. — Глупая, зачем мне спрашивать — я и так знаю, что кончено.
— Да, Атуа, все кончено, мы не напрасно трудились. Все умерли: Клеопатра, Ирада, Хармиана, один лишь я остался жить.
Старуха выпрямила свои согбенные плечи и воскликнула:
— Ну вот, теперь позволь и мне отойти с миром, ибо исполнились мои желания: твои враги и враги Кемета мертвы. Ах-ха! Не зря я жила на этом свете больше срока, отпущенного людям! Я выполнила назначенное мне богами: долго я собирала росу Смерти, и вот твои враги ее наконец выпили! Упала корона с этого надменного лба! Повержена в прах та, что столько лет бесславила Кемет! Ах, почему я не видела, как умирает эта распутница!
— Довольно, Атуа, довольно! Мертвые принадлежат царству мертвых. Осирис тотчас призывает их к себе, и вечное молчание смыкает их уста. Не надо оскорблять великих после того, как они пали. Давай лучше поспешим, нам надо плыть в Абидос, ведь еще не все завершено.
— Плыви, Гармахис, плыви, мой внук, я уже не буду сопровождать тебя. Я не могла позволить моей жизни оборваться лишь потому, что жаждала покарать твоих врагов. Теперь я развяжу узел, который держит мою жизнь, и отпущу мой дух на свободу. Прощай, царевич, паломница закончила свой путь. Гармахис, мое дитя, я любила тебя всю жизнь, с колыбели, люблю с такой же нежностью и сейчас, но больше в этом мире я не смогу делить с тобой твои невзгоды — иссякли мои силы. Прими мой дух, Осирис! — Ее дрожащие колени подогнулись, она медленно опустилась на пол.
Я подбежал к ней, поднял на руки, стал вглядываться в ее лицо. Она была мертва, я остался один на этом свете, без единого друга, который поддержал бы меня.
Я вышел из дому и пошел по улицам, никто меня не остановил, ибо весь город был в смятении, добрался до гавани, где меня ждало заранее приготовленное судно, и покинул Александрию. На восьмой день я высадился на берег и зашагал пешком мимо возделанных полей туда, где должна была решиться моя судьба — к священным храмам Абидоса. Я знал, что здесь, в святилище божественного Сети, возобновилось служение богам, это Хармиана убедила Клеопатру смягчиться и отменить запрет, а также вернуть храму земли, которые когда-то отняла, хотя с его богатствами Клеопатра не пожелала расстаться. Храм подвергся очищению, и вот сейчас, во время мистерий, посвященных Осирису и Исиде, здесь собрались верховные жрецы всех древних храмов Египта, чтобы отпраздновать возвращение богов в их священный дом.
Я вошел в город. Был седьмой день празднеств в честь Осириса и Исиды. По улицам, которые я так хорошо помнил, вилась нескончаемая процессия. Я влился в нее, и когда мы прошли сквозь храмовые ворота между могучими пилонами и вступили в не подвластные разрушительной силе Времени залы, я вместе со всеми запел торжественные слова призывания. Как хорошо я их знал!
Несем свою скорбь мы в залы великого храма,
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ.
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»
И вот священное песнопение смолкло, и, как прежде, едва лишь божественный Ра скрылся за горизонтом, верховный жрец взял статую воскресшего Осириса и поднял высоко перед толпой.
С радостными возгласами: «Осирис! Наша надежда, Осирис!» — люди сбросили с себя черные балахоны, под которыми оказались белые одежды, и все, как один, склонились перед великим богом.
Потом все разошлись по домам, где их ждал праздничный ужин; один лишь я остался во дворе храма.
Немного погодя ко мне подошел один из младших жрецов и спросил, какое дело привело меня сюда. Я объявил ему, что прибыл из Александрии и хочу предстать перед Советом верховных жрецов, ибо мне ведомо, что великие жрецы собрались сейчас и обсуждают события, которые произошли в Александрии.
Жрец ушел, а верховные жрецы, услышав, откуда я приплыл, велели ему тотчас же привести меня к ним, во второй Зал Колонн и Статуй, и жрец меня повел. Уже стемнело, между огромными колоннами горели светильники, как в ту ночь, когда меня короновали фараоном Верхнего и Нижнего Египта. Как и тогда, в резных креслах, поставленных длинным рядом, сидели духовные владыки и беседовали. Все было как прежде, те же бесстрастные лики богов и царей взирали с не подвластных Времени стен своими пустыми глазами. Но это еще не все! Среди собравшихся на совет было пятеро сановников из верхушки великого заговора, они присутствовали на моей коронации, и только им одним удалось избегнуть расправы Клеопатры и разящей косы Времени.
Я встал на то же место, где стоял, когда на меня возлагали корону, и с горечью в сердце, которую невозможно описать, приготовился к тому, что презрение этих достойнейших граждан Египта сейчас испепелит меня.
— Да это же врач Олимпий, — сказал кто-то из верховных жрецов. — Тот самый, что долго жил отшельником в гробнице фараона близ Тапе, а потом стал приближенным Клеопатры. Скажи, врач, это правда, что царица умерла, что она совершила самоубийство?
— Да, великие духовные наставники, я тот самый врач, кого называют Олимпием, это правда; правда и то, что Клеопатра умерла, но она не совершала самоубийства — ее убил я.
— Ты?! Как это возможно? Но все равно: мы истинно ликуем, что этой отвратительной блудницы больше нет.
— Выслушайте меня, о великие духовные наставники, я все вам расскажу, для того я и явился к вам сюда. Быть может, кто-то из вас сидел здесь, в этом зале одиннадцать лет назад, на тайной коронации некоего Гармахиса, который был провозглашен фараоном Кемета? Мне кажется, я вижу несколько знакомых лиц.
— Да, верно! — раздались возгласы. — Но как, Олимпий, может быть тебе такое ведомо?
— Вас всего пять, — продолжал я, не отвечая на их вопрос, — а было тридцать семь знатнейших и достойнейших. Иные умерли, как умер Аменемхет; иных казнили, как казнили Сепа; иные, может быть, и по сей день надрываются в шахтах, как последние рабы; иные бежали в чужие края, опасаясь мести.
— Все так, — сказали они, — увы, все это так. Подлый изменник Гармахис предал наш заговор и все позабыл ради этой распутной Клеопатры!
— Да, это правда, — сказал я и поднял голову. — Гармахис предал заговор и все забыл ради Клеопатры. Достойнейшие из достойных, этот Гармахис — я.
Ошеломленные жрецы и сановники воззрились на меня. Кто-то вскочил с кресла, начал взволнованно говорить, другие молчали.
— Да, я тот самый Гармахис! Тот самый изменник, трижды клятвопреступник, предавший моих богов, мою отчизну, мои священные обеты! И я пришел сюда сказать все это вам. Я учинил божественное правосудие над той, что погубила меня и отдала Египет Риму. Много лет я упорно трудился и терпеливо ждал, и вот теперь, когда моя мудрость и вдохновение разгневанных богов помогли мне совершить возмездие, я принес на ваш суд мои преступления и мой позор, я готов принять кару, которая должна постигнуть предателя!
— Ты знаешь ли, какая казнь ждет нарушившего священную клятву, ту клятву, которую не должно нарушать? — зловеще спросил меня тот из жрецов, который первым узнал во мне Олимпия.
— Да, знаю, — ответил я, — я жажду этой казни.
— О ты, который был Гармахисом, рассказывай же нам, как все произошло.
И я спокойно, ясно поведал им о своих злодеяниях, не утаив ни одного. И с каждым моим словом их лица все мрачнели, я понял, что милости ко мне у них не будет; да я ее и не просил, а если б попросил, они бы вознегодовали.
И вот я наконец закончил свой рассказ; жрецы велели мне удалиться и стали решать мою судьбу. Потом снова призвали к себе, и самый старший среди них, всеми почитаемый девяностолетний верховный жрец храма божественной Хатшепсут из Тапе, торжественно возгласил:
— Гармахис, мы обсудили все, что ты нам сейчас рассказал. Ты совершил три самых тяжких преступления, какие только может совершить на этом свете человек. Ты вверг в несчастья наш Кемет, порабощенный ныне Римом. Ты нанес жестокое оскорбление небесной матери Исиде. Ты нарушил священную клятву. Тебе известно, что для всех этих преступлений есть лишь одна кара, и мы приговариваем тебя к ней. Да, ты лишил жизни распутницу, которая соблазнила тебя на путь бесчестия; ты назвал себя самым гнусным злодеем, который когда-либо стоял средь этих стен, но все это не смягчило наш приговор. О ты, нарушивший священные обеты жрец, продавший свою отчизну египтянин, лишившийся своей законной диадемы фараон, и на тебя падет проклятие Менкаура! Здесь, где мы венчали твою главу Двойной Короной, мы приговариваем тебя к казни! Иди в темницу и жди, когда падет меч Судьбы! Сиди там и вспоминай, какое тебе было уготовано величие, и сравнивай утраченный блеск с бесславным концом, который тебя постиг! Быть может, боги, которым по твоей вине скоро перестанут поклоняться в этих святынях, проявят к тебе милосердие — от нас его не жди! Уведите его!
Меня схватили и повели прочь. Я шел, опустив голову, не поднимая взгляда, и все же чувствовал, как жгут меня их горящие гневом глаза.
Такого мучительного позора я за всю свою жизнь не переживал.
Глава X, повествующая о последних днях потомка египетских фараонов Гармахиса
Меня отвели в тюремную камеру, что находится высоко в привратной башне храма, и здесь я дожидаюсь часа моей казни. Мне неведомо, когда опустится меч Судьбы. Течет неделя за неделей, месяц сменяется месяцем, а Судьба все медлит. Но я каждую минуту чувствую, что меч занесен над моей головой. Он упадет, я знаю, не знаю лишь — когда. Быть может, я проснусь в глухой час ночи и услышу шаги крадущихся ко мне убийц. Быть может, убийцы уже близко, рядом. Меня повлекут в тайную гробницу! Потом настанет непереносимый ужас! Меня положат в безымянный гроб! И наконец все кончится! О, скорее! Смерть, я жду тебя, спеши!
Я кончил свою повесть и ничего в ней не утаил — ни преступлений, которые я совершил, ни мести, которой покарал виновников. Теперь все поглотила тьма, все обратится в прах, я готовлюсь к тем мукам, что предстоят мне в иных мирах. Я ухожу из этого мира, но ухожу с надеждой: увы, я больше не вижу великую Исиду, она не отзывается на мои молитвы, но я знаю, что она со мной, она никогда меня не оставит, мы с нею встретимся, я снова увижу ее лик. И тогда наконец, в тот далекий день, мне будет даровано прощение; тогда с меня спадет тяжесть содеянного мною зла и чистота души вернется, озарит меня и принесет божественный покой.
О дорогая сердцу страна Кемет, сколь ясно я провижу твое будущее! Я вижу, как чужеземцы, народ за народом, утверждают на берегах священного Сихора свои знамена, как надевают на твою шею ярмо. Я вижу, как на твоей земле одна вера сменяется другой, третьей, десятой… как твой народ зовут молиться иным богам. Я вижу, как твои храмы — твои великие святыни — обращаются в руины, и те, кому когда-то еще только предстоит родиться, дивятся их несравненной красоте, проникают в священные гробницы и подвергают поруганию останки твоих великих фараонов. Я слышу, как профаны глумятся над божественными таинствами твоих знаний, как твоя древняя мудрость развевается по ветру, точно пески пустыни. Я вижу, как римский орел ломает крылья и разбивается о камни, хотя с его клюва еще каплет кровь его жертв; я вижу, как пляшут отблески костров на копьях варваров, которые придут на смену римским легионам… И вот наконец ты снова обретешь величие, о мой Кемет, ты снова обретешь свободу, к тебе вернутся твои боги, — да, твои истинные боги, хотя у них будет иной облик, иные имена, но все же это будут боги, которые хранили тебя в древности!
За Абидосом садится солнце. Закатные лучи Ра зажгли огнем крыши храмов, облили красным сиянием зеленые поля пшеницы, окрасили в пурпурный цвет воды бескрайнего животворящего Сихора. Вот так же в детстве я наблюдал закат, вот так же последний луч Ра с прощальной лаской касался хмурого чела пилона, и та же тень ложилась на гробницы. Ничто не изменилось! Изменился лишь я, один только я, я стал совсем другим — и все-таки я прежний!
О Клеопатра! Клеопатра, погубившая меня! Если бы я мог вырвать твой образ из моего сердца! Среди всех моих несчастий ты — самое горькое: я никогда не разлюблю тебя. Я обречен вечно лелеять этот укус змеи в моем сердце. В моих ушах будет вечно звучать твой тихий торжествующий смех… журчанье струй фонтана… песнь соло…
(На этом записи в третьем свитке обрываются. Есть основания
предположить, что к пишущему в это мгновенье пришли палачи,
чтобы вести его на казнь.)
Генри Райдер Хаггард
Дева Солнца
Дитчингем, 24 окт.
1921г.
Дорогой Литл!
Лет тридцать пять тому назад мы имели обыкновение обсуждать многие вещи, и среди них, помнится, историю и романтические легенды исчезнувших
империй Центральной Америки.
В память об этих давно минувших днях примите рассказ, который касается одной из них — Империи удивительных Инка Перу; а также легенды о том, что еще задолго до того, как туда явились испанские завоеватели со своей миссией грабежа и разрушения, там, в той не открытой стране, жил и умер Белый Бог, поднявшийся из моря.
Всегда искренне Ваш,
Г. Райдер Хаггард
Джемсу Стэнли Литлу, эсквайру.
ВВЕДЕНИЕ
Есть люди, находящие глубокий интерес и даже утешение среди тревог и волнений жизни в том, чтобы собирать реликвии прошлого, унесенные волнами или давно затонувшие сокровища, которые океан времени выбросил на наш современный берег.
Из этих людей не выходят крупные коллекционеры. Последние, располагая большими средствами, приобретают любую редкостную вещь, попадающую на рынок, и добавляют ее к своим коллекциям, которые в свое время — быть может, тотчас после смерти их владельцев — снова попадут на рынок и перейдут в руки других знатоков. Не выходят из их среды и торговцы, которые покупают для того, чтобы вновь продать и таким образом умножить свои богатства. Нет среди них и музейных агентов, скупающих во многих странах на благо нации бесценные предметы; эти предметы скапливаются в определенных общественных зданиях, которые, возможно (одна мысль об этом приводит в содрогание), будут когда-нибудь разграблены или преданы огню неприятелем или разъяренной жадной чернью.
Собиратели, которых имеет в виду издатель настоящей книги и один из которых фактически передал ему историю, опубликованную на этих страницах, принадлежат к совершенно другой категории: это люди с малыми средствами, они покупают старинные вещи — чаще всего на захолустных распродажах или у частных лиц, — потому что эти вещи им нравятся, и иногда продают их, потому что вынуждены к этому обстоятельствами. Нередко эти старинные предметы притягивают не своей возможной ценностью и даже не красотой, ибо они порой начисто лишены привлекательности даже для опытного глаза, а скорее своими ассоциациями. Такие люди любят раздумывать и размышлять о давно умерших владельцах этих реликвий — о тех, кто ел суп этой потускневшей елизаветинской ложкой, кто сидел за этим шатким дубовым столом, обнаруженным в кухне или в сарае, или на этом сломанном древнем стуле. Они любят думать о детях, чьи ловкие, усталые ручонки вышивали этот выцветший узор и чьи блестящие глаза болели от его бесчисленных стежков.
Кем, например, была эта Мэй Шор (с ласковым прозвищем «Фея», вышитым внизу), которая закончила вон ту изощренную вышивку в день, когда ей исполнилось десять лет, — 1 мая (откуда, несомненно, и происходит ее имя) 1702года, и на каком далеком берегу отмечает она теперь свои дни рождения? Никто никогда не узнает. Она исчезла в том великом море тайн, откуда она явилась, и там она живет и существует, забытая на земле, или спит, и спит, и спит. Умерла ли она молодой или старой, замужней или одинокой? Заставляла ли она своих детей вышивать другие узоры, или она была бездетной? Была ли она счастлива или несчастна, простовата или красива? Была ли она грешницей или святой? И об этом тоже никто никогда не узнает. Она родилась 1 мая 1702 года и, конечно, в какой-то день с нигде не отмеченной датой умерла. И в этом, насколько доступно человеческому знанию, заключена вся ее история, то малое — или то многое, — что останется и от большинства из нас, живущих сегодня, когда наша земля успела совершить еще двести восемнадцать оборотов вокруг солнца.
Но лучшим примером упомянутого собирателя редкостей может служить владелец той рукописи, содержание которой в несколько модернизированном виде изложено на этих страницах. С тех пор, как он умер, прошло уже несколько лет; и поскольку он не оставил после себя никакой родни, по его завещанию, те предметы его пестрой коллекции, которые представляли общий интерес, поступили в местный музей, а остальные вместе со всей его собственностью были проданы для поддержания одного мистического братства — ибо этот славный старик был в некотором роде спиритуалистом. Поэтому нет ничего предосудительного в том, если мы приведем здесь его плебейское имя, — Потс. Мистер Потс имел небольшую мануфактурную лавку в ничем не примечательном и редко посещаемом провинциальном городке на востоке Англии, и эту лавку он содержал с помощью почти такого же старика и чудака, каким был он сам. Извлекал ли он из нее какой-либо доход или жил на какие-то частные средства, осталось неизвестным и не имеет значения. Во всяком случае, когда ему представлялась возможность купить что-либо, имевшее антикварный интерес или ценность, у него обычно находились деньги, хотя временами ему и приходилось продавать для этого какую-нибудь вещь. Фактически это была единственная возможность купить у мистера Потса что-нибудь, кроме обычной мануфактуры.
И вот я, издатель, и тоже любитель старинных вещей — отчего мистер Потс в душе мне симпатизировал, — знал об этом и договорился с его чудаковатым помощником о том, чтобы тот сообщал мне о каждом денежном кризисе, возникавшем всякий раз, когда местный банк обращал внимание мистера Потса на состояние его счета. Таким образом, в одни прекрасный день я получил следующее письмо:
«Сэр, хозяин совсем с ума сошел насчет какой-то треснувшей фарфоровой посудины, самой уродливой, какую я когда-либо видел, хотя не мне судить. Так что если вы хотите купить те старые напольные часы или что-нибудь еще из его хлама, то у вас, думаю, есть все шансы. Во всяком случае, держите это в тайне согласно уговору.
Покорнейше ваш — Том».
(Он всегда подписывался «Том», вероятно, для мистификации, хотя, как мне помнится, его настоящее имя было Беттерни).
Результатом этого послания была долгая и неприятная поездка на велосипеде в дождливый осенний день и визит, в лавку мистера Потса. Том, он же Беттерни, который в этот момент пытался продать какое-то таинственное нижнее белье толстой старухе, заметил меня и подмигнул.
В полутемном углу лавки на высоком стуле восседал сам мистер Потс, сморщенный маленький старичок с сутулой спиной, лысой головой и крючковатым носом, на котором сидели огромные очки в роговой оправе, подчеркивая его общее сходство с совой, сидящей на краю своего дупла. Он был всецело занят ничегонеделанием и созерцанием пустоты, что было, по словам Тома, его привычкой, когда он общался с тем, что Том называл его «треклятыми духами».
— Покупатель! — сказал Том резким голосом. — Прощу прощения, что беспокою вас во время молитвы, хозяин, но, имея только одну пару рук, я не могу обслужить толпу. — Он имел в виду старуху с нижним бельем и меня.
Мистер Потс соскользнул со стула и приготовился к действию. Однако, увидев, кто этот покупатель, он весь ощетинился — иначе это не назовешь. Надо признаться, что, хотя нас связывала внутренняя духовная симпатия, внешне между нами была открытая враждебность. Дважды я обошел мистера Потса на местном аукционе, купив вещи, которые страстно хотел приобрести сам мистер Потс. Более того, как всякий хороший коллекционер, он считал своим долгом ненавидеть меня как другого коллекционера. И, наконец, несколько раз я предлагал ему более низкую цену за вещи, которые, по его мнению, стоили намного дороже. Правда, я давно уже отказался торговаться с ним по той простой причине, что мистер Потс никогда бы не взял меньше назначенной им цены. Он следовал примеру продавца сивиллиных книг в Древнем Риме. Конечно, он не уничтожал свой товар, как делал тот, и не требовал за последний оставшийся экземпляр цену всех вместе взятых книг, но он неизменно повышал цену вещи на десять процентов и не уступал ни одного фартинга.
— А что вам угодно, сэр? — спросил он ворчливо. — Жилетки, трико, воротнички или носки?
— О, я думаю — носки, — ответил я первое, что в голову пришло, поскольку этот товар был самым легким на вес.
В ответ на это мистер Потс извлек какие-то особенно противные и бесформенные шерстяные изделия и почти швырнул их мне, говоря, что это все, что имеется в лавке. Надо сказать, что я терпеть не могу шерстяные носки и никогда их не ношу. Все же я купил их, сочувственно подумав о моем старом садовнике, чьи ноги будут скоро чесаться от них, и пока их упаковывали, я спросил вкрадчивым голосом:
— Что-нибудь новенькое наверху, мистер Потс?
— Нет, сэр, — отрезал он, — по крайней мере, не много; но даже если б что и было, какой смысл показывать вам после той истории с часами?
— Вы, кажется, просили за них 15 фунтов, мистер Потс? — спросил я.
— Нет, сэр, семнадцать, а теперь они на десять процентов дороже. Можете сами сосчитать, сколько это будет.
— Ладно, дайте взглянуть на них еще раз, мистер Потс, — сказал я смиренно, после чего он, ворчливо приказав Тому следить за лавкой, повел меня наверх.
Дом, в котором жил мистер Потс, некогда отличался большими претензиями и был очень, очень стар, пожалуй, еще елизаветинских времен, хотя его фасад и украшала отвратительная штукатурная лепка, добавленная из желания угодить современным вкусам. Дубовая лестница, еще крепкая, но узкая, вела на второй этаж и на чердак, где находились многочисленные комнатушки; часть их была отделана панелями и имела дубовые балки, теперь побеленные, как и панели, — по крайней мере, их когда-то побелили, возможно, в предыдущем поколении.
Эти комнатушки были буквально забиты всевозможными предметами старинной мебели, большей частью ветхой, хотя за многие из этих вещей торговцы дали бы хорошую цену. Но на торговцах мистер Потс поставил крест; ни один из них никогда не ступал на дубовую лестницу. Дом был заполнен этой мебелью до самого чердака, а также и другими предметами, такими, как книги, фарфор и бог весть что еще, и все это грудами лежало на полу. Где мистер Потс спал, было тайной
: может быть, под прилавком у себя в лавке, а может быть, он по ночам устраивался на источенной жучком старинной кровати времен короля Иакова I, стоявшей на чердаке; во всяком случае, я заметил что-то вроде узкого прохода, ведущего к ней между рядами безногих стульев, а также какие-то грязные одеяла, выглядывавшие из-под изъеденного молью полога. Вблизи этой кровати, прислоненные к стене в положении, напоминавшем позу пьяного, стояли часы, которые мне так хотелось купить. Это был один из первых экземпляров «регуляторных» часов с деревянным маятником, и по ним сам мастер, их создавший, проверял точность всех других часов; они были заключены в футляр из чистого, великолепного красного дерева, выполненный в лучшем стиле эпохи. Действительно, это была вещь столь совершенной красоты, что я влюбился в них с первого взгляда, и хотя возникло препятствие в деле окончательного решения, или, другими словами, в вопросе о цене, сейчас я почувствовал, что отныне эти часы и я уже не сможем разлучиться.
Поэтому я согласился заплатить старому Потсу те двадцать фунтов, или точнее — восемнадцать фунтов и четырнадцать шиллингов, которые он потребовал по принципу десятипроцентной надбавки к первоначальной цене; в душе я был рад, что он не запросил больше, и собрался уходить. Однако едва я повернулся, как мой взгляд упал на большой ящик или сундучок из почти несокрушимого дерева — кипариса, из которого, говорят, были сделаны врата Св. Петра в Риме, простоявшие восемьсот лет и, насколько я знаю, находящиеся там и поныне в том же состоянии, в каком они были в тот день, когда их навесили,
— Свадебный сундук, — сказал Потс, отвечая на мой немой вопрос.
— Итальянской работы, около 1600 года? — предположил я.
— Может быть, и так, а возможно, сделан в Голландии итальянскими мастерами; но только еще раньше, ибо на крышке кто-то выжег раскаленным железом дату — 1597 год. Но он не продается, нет, нет; уж слишком он для этого хорош. Просто загляните внутрь — вон там старинный ключ привязан к замку. Ни разу в жизни не встречал другой такой работы. Выжигание! Боги и богини и невесть что еще. А в середине — Венера, сидит в гирлянде из цветов в чем мать родила и держит в руках два сердца: а это и означает, что сундук свадебный. Когда-то чья-то молодая жена держала в нем все свое приданое — простыни, белье, платья и всякую всячину. Хотел бы я знать, где она сейчас? Надеюсь, не там, где моль не ест одежды. Купил его у одной распавшейся старинной семьи — они бежали в Норфолк, когда был восстановлен Нантский эдикт: гугеноты, конечно. Давно это было, много лет назад. Целый век в него не заглядывал, но думаю, там теперь ничего нет, кроме старого хлама.
Все это он бормотал, пока отвязывал и прилаживал к замку старый ключ. От долгого бездействия и отсутствия смазки пружинный замок не хотел поворачиваться, но наконец поддался; мы подняли крышку — и нашим взорам открылась вся красота и великолепие выжженного на внутренней стороне крышки и на стенках рисунка. Это были действительно красота и великолепие; я никогда не видел еще подобного мастерства.
— Плохо видно, — пробормотал Потс. — Окна давно не мыты — с тех пор, как умерла жена, а тому уже двадцать лет. Конечно, мне ее недостает, но зато теперь, слава Богу, никаких весенних уборок. Сколько вещей было поломано во время этих уборок! Да и пропало тоже! Именно после одной такой уборки я и сказал жене, что теперь мне понятно, почему магометане считают, что у женщин нет души. Когда она поняла, что я хочу сказать, она устроила мне скандал и швырнула в меня дрезденской статуэткой. К счастью, я успел ее поймать, я ведь в молодости играл в крикет, Ну, а теперь ее нет в живых; и, конечно, на небесах стало намного чище, чем раньше, — то есть, разумеется, если там терпят ее возню, в чем я сильно сомневаюсь. Посмотрите на эту Венеру, разве не красавица? Могла бы быть созданием Тициана, когда б у него кончились краски и ему пришлось бы взяться за раскаленное железо, чтобы воплощать свои замыслы. Что, плохо видно? Погодите-ка, я принесу фонарь. Я не держу здесь свечей — слишком ценные здесь вещи: такие не купишь ни за какие деньги. Из-за этих свечей у нас с женой тоже был скандал, а может, из-за парафиновой лампы. Вот садитесь на тот старый стул для молитвы и смотрите.
Он стал медленно спускаться по лестнице, оставив меня в раздумье. Что за человек была миссис Потс, о которой я сейчас впервые услышал? Неприятная женщина, решил я, ибо каковы бы ни были разногласия между мужчинами, в отношении «весенних уборок» их мнение едино. Несомненно, без нее Потсу только лучше. Зачем ему жена, — этому старому, высохшему художнику?
Выбросив миссис Потс из головы, где, сказать по правде, для этого призрачного, гипотетического существа не было места, я принялся рассматривать сундучок. О, это было просто чудо! В два счета часы были разжалованы, и сундучок стал султаншей моего сераля красивых вещей. Часы были легким увлечением, любовью на час. А тут передо мной вечная королева, — если, конечно, не существует еще более прекрасный сундучок и мне не доведется найти его. А пока что придется заплатить любую сумму, какую запросит этот старый работорговец Потс, даже если она превысит мои тощие сбережения в банке. Ведь любой сераль — дорогостоящее предприятие, роскошь, доступная настоящим богачам. Правда, если речь идет о древностях, их можно потом продать, чего нельзя сказать о человеческих ценностях; ибо кто же захочет купить толпу древних, старомодных старух?
В сундучке было полно вещей — какие-то остатки гобелена, старые платья, бывшие в моде при королеве Анне и, без сомнения, сложенные сюда для сохранности, ибо моль не любит кипарисового дерева. Было здесь также несколько книг и какой-то таинственный сверток в весьма любопытной шали с вытканными в ней яркими цветными полосками. Этот сверток возбудил во мне желание заглянуть внутрь, что я и сделал, раздвинув бахрому шали. Насколько я мог видеть, внутри было еще одно платье яркого цвета и толстая пачка пергаментных листов весьма плохого качества, исписанных поблекшим от времени старинным готическим шрифтом и подгнивших с одного края, вероятно, от сырости. Должно быть, небрежный писец пользовался жидкими чернилами, потому что буквы выцвели и побледнели.
В свертке из шали были и другие вещи — например, шкатулка из какого-то неизвестного мне красного дерева, но я не успел ничего рассмотреть толком, так как на лестнице послышались шаги старого Потса, и я счел за лучшее положить сверток на место. Он явился, неся фонарь, и при свете его мы подробнее рассмотрели сундучок и украшавшие его фигуры.
— Очень мило, — сказал я, — очень мило, хотя и порядком потрепалось.
— Еще бы, сэр, — ответил он саркастическим тоном. — А вам бы хотелось, чтобы он был чистым да новеньким после четырехсот-то лет службы? Что ж, могу указать, где найти такой, что пришелся бы вам по вкусу. Пять лет назад я сам сделал эскиз для одного парня, которому очень хотелось научиться мастерить древности. Теперь он за решеткой, а его «древности» продаются по дешевке. Я помог засадить его туда, чтобы убрать его подальше, как опасного для общества.
— И сколько стоит этот сундучок? — спросил я как бы просто так, из чистого любопытства.
— Разве я не сказал, что он не продается? Вот подождите, пока я умру, тогда и приходите и покупайте его с молотка. Да нет, и тогда не купите: у него другое назначение.
Я не ответил, продолжая рассматривать сундучок. Между тем Потс опустился на молитвенный стул и, казалось, полностью отключился от действительности.
— Ну что ж, — сказал я наконец, чувствуя, что оставаться дольше уже неприлично. — Если вы не хотите его продавать, то нечего мне и смотреть. Несомненно, вы хотите придержать его для человека более богатого, и, конечно, вы правы. Пожалуйста, мистер Потс, распорядитесь, чтобы мне доставили часы, а я вышлю вам чек. А теперь мне пора. Мне ведь ехать десять миль, а через час уже стемнеет.
— Стойте, — произнес Потс глухим голосом. — Что значит езда в темноте по сравнению с таким делом, даже если у вас нет фонаря? Стойте и не двигайтесь. Я слушаю.
Я остановился и начал было набивать трубку.
— Уберите трубку, — сказал Потс, как бы очнувшись, — где трубка, там и спичка. Никаких спичек!
Я повиновался, и он снова ушел в себя; и постепенно — то ли потому, что я оказался между таинственным сундучком и изъеденной жучком кроватью времен Иакова I, то ли под впечатлением старого Потса, восседавшего на молитвенном стуле, — у меня возникло такое чувство, будто меня опутывают какие-то гипнотические чары. Наконец Потс поднялся и сказал тем же глухим голосом:
— Молодой человек, можете забирать этот сундучок. Его цена — пятьдесят фунтов. Только, ради Бога, не предлагайте мне сорок, иначе вы и до порога не дойдете, как будут все сто.
— Со всем содержимым? — спросил я как бы между прочим.
— Да, со всем, что в нем есть. Именно это и велено вам передать.
— Послушайте, Потс, — сказал я с раздражением, — что вы, черт возьми, хотите сказать? В этой комнате только мы с вами, так что никто не мог вам ничего велеть, разве что старый Том, который остался внизу.
— Том? — произнес он с непередаваемым сарказмом. — Том! Уж не имеете ли вы в виду огородное чучело, что отпугивает птиц от гороха? По крайней мере, у него в голове больше, чем у Тома. По-вашему, здесь никого нет? О, как же некоторые люди глупы! Да их здесь полно!
— Кого «их»?
— Кого? Ну, конечно, призраков, как вы их называете в своем невежестве. Духи умерших — вот как я их называю. Да еще какие прекрасные — некоторые из них. Взгляните вон на того, — и он поднял фонарь и показал на груду столбиков от старинной кровати в стиле Чиппендейл.
— Всего доброго, Потс, — сказал я поспешно.
— Да стойте же, — повторил Потс. — Вы мне пока еще не верите, но поживите с мое, тогда и вспомните мои слова и поверите сильнее, чем я, и увидите яснее, чем я, потому что они у вас в душе — да, семена у вас в душе, хотя пока еще их и душат мирская суета, плоть и дьявол. Подождите, пока ваши грехи не ввергнут вас в беду; пока пламя несчастья не опалит и не уничтожит вашу плоть; подождите, пока вы не возжаждете Света, и не обрящете Свет, и не пребудете в Свете, — и вот тогда вы поверите, тогда вы увидите.
Все это он произнес очень торжественно; и, право же, стоя в этой полутемной комнате в окружении того, что осталось от вещей, которые когда-то были дороги людям, уже давно умершим, размахивая фонарем и пристально глядя перед собой (на что он смотрел?) — старый Потс произвел на меня глубокое впечатление. В его искривленной фигуре и уродливом лице появилось нечто одухотворенное; он выглядел человеком, который «обрел Свет и пребывает в Свете».
— Вы мне еще не верите, — продолжал он, — но я передам вам то, что сказала мне некая женщина. Очень странная женщина, никогда такой не видел: чужестранка, и смуглая, в странной, богатой одежде и с чем-то таким на голове. Вон, вон она — вон там, — и он указал сквозь пыльное оконное стекло на взошедший в небе серп молодой луны. — Прекрасная женщина, — продолжал он, — и — о, небо! Какие глаза — никогда в жизни не видел таких глаз. Большие и нежные, как глаза лани — там, в парке. И гордая она, как правительница, и леди — хотя и чужестранка. Вот уж никогда раньше не влюблялся, но сейчас у меня такое чувство, будто я влюблен, да и вы, молодой человек, влюбились бы, если бы могли ее видеть; и в то время кто-нибудь, наверно, был в нее влюблен;
— Что же она вам сказала? — спросил я, ибо он пробудил во мне живейший интерес. Да и кто бы не заинтересовался, слушая, как старик Потс вдруг взялся описывать красивых женщин.
— Пересказать это довольно трудно, ибо она говорила на каком-то чужом языке, так что мне приходилось ее слова как бы переводить снова в уме. Но вот вам самая суть: вы должны взять этот сундучок со всем, что в нем есть; Там, сказала она, есть записки — или часть рукописи, потому что кое-что пропало, сгнило от сырости. Вы, или кто другой по вашему выбору, должны прочитать эту рукопись и опубликовать ее, чтобы весь мир мог узнать, что в ней написано. Так, сказала она, хочет Хьюберт. Я уверен, что правильно запомнил, имя — Хьюберт, хотя она называла его еще с каким-то титулом, которого я не понял. Вот и все, что мне запомнилось… Впрочем, еще что-то о городе, да, о Золотом городе и о последней великой битве, в которой Хьюберт погиб, покрыв себя славой победителя. Я понял, что она хотела рассказать мне об этой битве, потому что этого нет в рукописи, но тут как раз вы ее прервали, и, конечно, она исчезла. Да, цена — пятьдесят фунтов, и ни фартингом меньше, но вы можете заплатить, когда вам удобно; я ведь знаю, что вы честный, как и большинство людей; к тому же, заплатите вы или нет, все равно сундучок предназначен для вас и ни для кого другого, — и сундучок, и все, что в нем есть.
— Ну ладно, — сказал я. — Но только не поручайте его грузчику. Я сам пришлю за ним завтра утром. А сейчас заприте его и дайте мне ключ.
Сундучок прибыл в назначенное время, и я исследовал сверток и его содержимое; об остальных вещах упоминать не стану, хотя кое-какие из них и представляли интерес. В свертке я обнаружил своего рода документ, или записку, — она была приколота булавкой к внутренней стороне шали. В записке не было ни даты, ни подписи, но по почерку и стилю я заключил, что ее автор — женщина, я бы сказал леди, и что написана она лет шестьдесят тому назад. Вот ее содержание:
«Мой покойный отец, который в молодости был великим путешественником и так любил исследовать чужие страны, привез эти вещи, кажется, из Южной Америки, из поездки, которую он совершил еще до своей женитьбы. Однажды он рассказал мне, что это платье было обнаружено в гробнице на мумии женщины, и что эта женщина при жизни была, вероятно, знатной дамой, ибо ее окружали другие женщины, должно быть, ее служанки, которых хоронили рядом с ней по мере того, как они умирали. Все они располагались в сидячем положении на каменной плите, и среди них были обнаружены останки мужчины. Отец нашел их в гробнице, над которой был насыпан большой холм изземли,близ развалин какого-то лесного города. Тело госпожи, окутанное подобием савана из шкур длинношерстных овец как бы для того, чтобы сохранить ее платье, было набальзамировано особым способом, который, по словам местных жителей, указывал на ее принадлежность к царственному роду. Остальные уже превратились в скелеты, державшиеся только благодаря коже, но на черепе мужчины сохранились светлые волосы и длинная рыжеватая борода, а рядом лежал меч с крестообразной рукояткой и янтарным верхом, потемневшим от времени до черноты. Меч рассыпался при первом же прикосновении, кроме рукоятки. Помню, отец сказал, что у ног мужчины лежал пакет из овечьей кожи или пергамента с рукописью, сильно подпорченной сыростью. Он рассказал мне, что заплатил тем, кто нашел эту гробницу, большие деньги за платье, золотые украшения и изумрудное ожерелье, так как никогда еще не находил более совершенных произведений рук человеческих, а ткань, из которой сделано платье, вся пронизана золотой нитью. Отец также высказал мне свое желание, чтобы эти вещи никогда не были проданы».
На этом запись кончалась.
Прочитав ее, я внимательно рассмотрел платье. Мне еще никогда не доводилось видеть такой одежды, хотя эксперты, которым я его показывал, говорят, что оно, несомненно, южноамериканского происхождения и так же, как и украшения, относится к очень древнему периоду, возможно даже, предшествовавшему эпохе перуанских инка. По расцветке — яркой и богатой оттенками — оно напоминает старинные индийские шали; создается общее впечатление малинового цвета. Это малиновое одеяние, очевидно, носили поверх полотняной юбки, отделанной фиолетовой или пурпурной каймой. В шкатулке, о которой я уже говорил, лежали украшения сплошь из чистого потускневшего золота: пояс; головной убор в виде золотого обруча, украшенного серпом молодой луны; и изумрудное ожерелье из цельных камней, сейчас уже изрядно попорченных, не знаю, по какой причине, но отшлифованных и довольно грубо оправленных чистым золотом. Были там также два кольца. Одно из них было обернуто листком бумаги, на котором уже другим почерком (возможно, отцом женщины, оставившей записку) было написано:
«Снято с указательного пальца женской мумии, которую, к моему великому сожалению, при данных обстоятельствах совершенно невозможно было увезти».
Это — широкое кольцо из золота с плоской пластинкой, на которой когда-то была гравировка, теперь уже стершаяся и ставшая неразборчивой. Видно, это перстень с печаткой старинной европейской работы, но какого века и какой страны — определить невозможно. Второе кольцо хранилось в маленьком кожаном мешочке, затейливо вышитом золотой нитью или очень тонкой проволочкой и составлявшем, как я полагаю, деталь женского наряда. Оно похоже на очень массивное обручальное кольцо, только раз в шесть или семь толще, и покрыто выгравированным традиционным узором, напоминавшим звезды с расходившимися от них лучами или, может быть, цветы с лепестками. И, наконец, там была рукоятка меча, о которой я ниже скажу несколько слов.
Таковы были обнаруженные мною безделушки, если можно их так назвать. Сами по себе они не имеют особой ценности, не считая веса золота, потому что, как я уже сказал, изумруды сильно попорчены — как будто они пострадали от огня или по какой-то другой причине. Более того, в них нет и доли того изящества и очарования, каким отличаются драгоценности Древнего Египта; очевидно, они принадлежали более грубому веку и более грубой цивилизации. И все же в моем воображении они имели и до сих пор имеют особое, свойственное только им достоинство.
К тому же — в этом на меня повлиял дух оригинального Потса — все эти вещи несут в себе множество человеческих ассоциаций. Кто носил это малиновое платье с вышитыми на нем золотыми крестиками (конечно, они не могли быть христианскими крестами), и эту окаймленную пурпуром юбку, и изумрудное ожерелье, и золотой обруч с серпом молодой луны? Очевидно, та, что превратилась в мумию в гробнице, та давно умершая женщина странного незнакомого племени. Была ли она такой, какой увидел ее этот старый безумец Потс, вообразивший, будто она стоит перед ним в грязной, загроможденной вещами комнате ветхого дома в английском провинциальном городе, женщина с большими глазами, напоминающими глаза лани, и с царственной осанкой?
Нет, все это чепуха. Потс так долго жил с призраками, что поверил в их реальность, тогда как они возникли в его воображении и снова возвратились в него. Но все-таки это была некая женщина, и у нее, по-видимому, был возлюбленный или муж, человек с пышной светлой бородой. Каким образом в ту эпоху, должно быть, весьма отдаленную, какой-то златобородый мужчина мог сблизиться с женщиной, носившей такие богатые платья и украшения? А этот меч с рукояткой, отполированной частым прикосновением чьей-то руки и украшенной янтарным верхом, — откуда он? По-моему, думал я, — и впоследствии эксперты подтвердили мое предположение, — эта рукоятка по стилю очень напоминает древнескандинавское оружие. Я читал саги и помнил, что в одной из них рассказывалось о нескольких смелых скандинавах, которые приплыли к берегам земли, известной ныне под названием Америка, — кажется, их предводителем был некто Эрик. Может быть, светловолосый человек в гробнице был одним из этих викингов?
Так размышлял я, еще не заглядывая в пачку пергаментных листов, изготовленных из овечьей кожи человеком, который имел самые элементарные познания относительно обработки подобного материала; я еще не знал, что в этих листах скрывается ответ на многие из моих вопросов. К ним я обратился в последнюю очередь, ибо всех нас отпугивают пергаментные рукописи; ведь их так трудно и скучно читать. А здесь их была целая пачка, обвязанная чем-то вроде соломенной бечевки — эта тонкая соломка напомнила мне ту, из которой делают панамы. Но бечевка почти сгнила внизу, так же, как и нижние листы пергамента, от которых остались лишь обрывки, хрупкие и покрытые засохшей плесенью. Поэтому я без труда удалил эту бечевку. Оставалось только снять обнаруженный под ней и скреплявший листы вместе какой-то толстый, сравнительно современного вида шнур. Вплетенная в него красная нить указывала на то, что это флотский шнур старого образца.
Освободив таким образом пачку пергамента, я снял верхний лист чистой кожи. Под ним открылся первый лист пергамента, сплошь покрытый мелкими буквами «черного письма» — старинного английского готического шрифта, столь тусклого и поблекшего, что даже умей я читать английский готический шрифт (а я не умею), то и. тогда я бы ничего не смог разобрать. Безнадежное дело! Несомненно, в этой рукописи — ключ к тайне, но она никогда не будет расшифрована ни мною, ни кем-либо другим. Леди с глазами лани явилась старому Потсу напрасно; напрасно она велела вручить мне эту рукопись.
Так думал я в то время, не зная возможностей науки. Однако позже я отнес эту толстую пачку к одному из друзей, ученому другу, чье жизненное призвание состояло в обработке и расшифровке старинных рукописей.
— Похоже, что безнадежно, — сказал он после пристального осмотра рукописи. — Все же попробуем, не попробуешь — не узнаешь.
Он подошел к шкафу, стоявшему в его рабочем кабинете, и вынул оттуда бутылку, наполненную какой-то жидкостью соломенного цвета; обмакнув в ней обыкновенную кисточку, какой пользуются живописцы, он несколько раз провел ею по первым строкам рукописи и стал ждать. Не прошло и минуты, как пред моим изумленным взором эти бледные неразборчивые буквы стали черными, как уголь, словно они были только вчера выведены самыми лучшими современными чернилами.
— Все в порядке, — сказал он торжественно. — Это были растительные чернила, а мое снадобье имеет силу восстанавливать их в том виде, какой они имели при первоначальном употреблении. Они останутся такими недели две, а потом опять поблекнут. Ваш манускрипт, мой друг, весьма древний, я бы сказал, времен Ричарда II
[217], но я достаточно легко его читаю. Вот послушайте начало: «Я, Хьюберт де Гастингс, пишу это в стране Тавантинсуйу, далеко от Англии, где я родился и куда никогда более не вернусь, будучи скитальцем, как и предсказано руной на мече моего предка Торгриммера, каковой меч моя мать вручила мне в тот день, когда французы сожгли Гастингс…», — и так далее. — Здесь мой друг умолк.
— Ну, так прочтите же это, ради Бога! — сказал я.
— Дорогой друг; — ответил он, — насколько я понимаю, это работа на несколько месяцев, а за мое время — простите, что я так говорю, — мне платят жалованье. Но я скажу вам, что нужно сделать. Все это писанье нужно обработать лист за листом, и когда оно почернеет, нужно его сфотографировать, прежде чем оно снова поблекнет. Затем следует пригласить опытного специалиста, — мне уже пришли в голову два имени, — который и расшифрует рукопись, тоже лист за листом. Конечно, вам это обойдется недешево, но, по-моему, дело стоит того. Кстати, черт возьми, где находится — или находилась — эта страна Тавантинсуйу?
— А я знаю, — сказал я, радуясь, что хотя бы в одном скромном пункте я оказался выше моего ученого друга. — Тавантинсуйу было туземным названием Империи Перу до испанского вторжения. Но как этот Хьюберт попал туда во времена Ричарда II? Ведь это на несколько столетий раньше, чем Писарро ступил на ее берега.
— Вот и докопайтесь, — ответил он. — Это развлечет вас на долгое время, а результаты, возможно, окупят затраты на расшифровку — если рукопись окажется достойной публикации. Я-то думаю, что нет, если сказать по правде, я прочел массу старинных рукописей и нашел, что большинство их ужасно скучны.
Итак, дело сделано — о том, какой ценой, я предпочту умолчать; и вот вам результат, более или менее модернизированный, поскольку Хьюберт из Гастингса часто выражал свои мысли в странной и архаичной форме. Иногда он употреблял также индейские слова, как будто он так долго говорил на языке этих перуанцев, или скорее на его разновидности — чанка, что начал забывать родной язык. Я лично нашел его рассказ романтичным и интересным и надеюсь, что и многие другие присоединятся к моему мнению, Пусть судят сами.
Но как бы я хотел знать конец этой истории!
Несомненно, кое-что об этом было написано на истлевших страницах, хотя, конечно, не о той великой битве, в которой он погиб; ведь Куилла совсем не умела писать, тем более по-английски, хотя она, думаю, пережила и его, и эту битву.
Единственный намек на то, чем все закончилось, может быть, содержится в сновидении — или видении — старого Потса, но чего стоят сны и видения?
КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА I. МЕЧ И КОЛЬЦО
Я, Хьюберт из Гастингса, пишу это в стране Тавантинсуйу, далеко от Англии, где я родился и куда никогда более не вернусь, будучи скитальцем, как и предсказано руной на мече моего предка Торгриммера, каковой меч моя мать вручила мне в тот день, когда французы сожгли Гастингс. Я пишу это пером, добытым из крыла большого горного орла и отточенным мною до нужной формы; чернилами, которые я приготовил из сока открытых мной определенных растений; и на пергаменте, который я получил, расщепляя кожи здешних овец собственными руками, но боюсь, что плохо, хотя я и видел, как практиковали это ремесло, когда был купцом в городе Лондоне.
Начну сначала.
Я — сын владельца рыболовецкой флотилии, и торговал рыбой в древнем городе Гастингсе, а мой отец утонул в открытом море во время лова. Будучи его единственным сыном, оставшимся в живых, я унаследовал его дело и однажды с двумя моими подручными вышел в море ловить сетями рыбу. Я был тогда молод — лет двадцати трех — и не лишен привлекательности. У меня были длинные светлые вьющиеся волосы и широко расставленные большие голубые глаза: они и сейчас такие же, хотя несколько впали и потемнели в этой стране палящего, яркого солнца. Нос с широкими ноздрями был довольно велик, так же, как и рот, хотя моя мать, да и некоторые другие находили, что он красивой формы. Сказать по правде, я вообще был крупного сложения, хотя и не очень высокого роста, с необыкновенно плотным и крепким телом и очень сильный; настолько сильный, что мало кто мог сбить меня с ног, даже когда я был ребенком.
В остальном, подобно царю Давиду, я, теперь такой загорелый и обветренный, что если бы не светлые волосы и борода, меня даже на небольшом расстоянии могли бы принять за одного из окружающих меня индейских вождей, — имел свежий и приятный вид, возможно, благодаря удивительному здоровью, ибо я ни одного дня не знал, что такое болезнь; и отличался легким покладистым характером, какой часто, сопутствует здоровью. Добавлю также — почему бы и нет? — что я не был глуп, а напротив, принадлежал к тем, кто преуспевает в том, к чему может приложить свой ум. Будь я глуп, я бы не был ныне властителем великого народа и мужем их царицы; скажу больше — меня бы давно не было в живых.
Но довольно обо мне и моей внешности в те годы, которые кажутся мне теперь такими далекими, как будто все это было где-то в стране сновидений.
Итак, я и двое моих подручных, таких же моряков, как я и большинство жителей Гастингса, в один летний вечер вышли в море с намерением ловить всю ночь и вернуться домой на заре. Мы прибыли на место лова и забросили сеть, и тут нас посетила необыкновенная удача, ибо к трем часам утра наша большая шхуна была вся заполнена самой разнообразной рыбой. Никогда еще наши сети не приносили нам столь богатой добычи.
Оглядываясь теперь на тот обильный улов, как и на все другие, даже мелкие, события моей юности, случавшиеся со мной до того, как я стал скитальцем и изгнанником — я вижу в нем как бы некое предзнаменование. Ибо разве не было моим постоянным уделом в жизни — быть сначала обласканным Фортуной, а потом вдруг терять все собранные большие богатства, так же как мне суждено было потерять то великое множество рыбы?
Сегодня, когда я пишу это, я вновь обладаю огромным богатством величия, любви, власти, а также золота, — больше, чем я могу сосчитать. При моем появлении мои армии, которые все еще смотрят на меня как на полубога, приветствуют меня громкими криками и целуют воздух по своему языческому обычаю. Моя прекрасная жена — царица — склоняется передо мной, а женщины моего дома повергаются в прах. Люди древнего Золотого Города поворачиваются лицом к стене, а дети прикрывают глаза ладонями, не смея взглянуть на мое великолепие, когда я прохожу мимо, в то время как бросают передо мною цветы, чтобы мои ноги не ступали по голой земле. От моего суждения зависит жизнь или смерть, и каждое мое слово, даже брошенное вскользь, воспринимается как голос с неба. Все это — мое, как и многое другое, все атрибуты власти и имущества — прерогатива Повелителя из Моря, который принес победу людям Чанка и привел их обратно на их древнюю родину, где они могли бы жить в безопасности, вдали от ярости Инка.
И все же часто, когда я сижу один среди всего этого великолепия на крыше древнего дворца или брожу под звездным небом в дворцовых садах, я вспоминаю тот богатый улов у берегов Англии и то, что было потом. Я вспоминаю также дни процветания и богатства, сделавшие меня одним из первых купцов Лондона, и то, что было потом. Я вспоминаю, наконец, как я завоевал Бланш Эйлис, столь превосходившую меня по знатности и положению, и то, что было потом. И тогда мной овладевает страх, что может последовать за нынешним часом мира, любви и благоденствия.
Одно последует несомненно, и это — смерть. Быть может, она еще далеко, быть может, — близко. Но вчера мои шпионы донесли мне, что Кари Упанки, Инка Тавантинсуйу, — тот, кто когда-то любил меня, как брата, а теперь ненавидит из-за своих суеверий и за то, что я взял в жены Деву Солнца, — собирает большое войско, намереваясь пройти той же дорогой, по которой много лет назад прошли мы, когда народ Чанка бежал от тирании Инка на свою родину, в древний Золотой Город, — прийти сюда и уничтожить нас. По слухам, это войско сможет выступить не раньше, чем через год, и еще один год пройдет, прежде чем они сюда явятся. Однако, зная Кари, я уверен, что они выступят, и более того — что они придут сюда, и тогда начнется великая битва в горных ущельях, куда, как в старину, я уведу армии Чанка.
Может быть, мне суждено пасть в этой битве. Разве руна, начерченная на мече моего предка Торгриммера «Взвейся-Пламя», не говорит о том, кто владеет им, что
«Став победителем, он будет побежден,
В дальнем краю уснет со мною он…»?
Что ж, если народ Чанка одержит верх, что мне до того, что я сам буду побежден? Это была бы славная и чистая смерть — погибнуть от копья Кари, зная, что и его войско тоже погибнет, — а я клянусь, что они погибнут, и да поможет мне Святой Хьюберт! Тогда, по крайней мере, Куилла и ее дети жили бы в мире и величии, поскольку никто бы им больше не угрожал.
Смерть… Что такое смерть? Я скажу, что это надежда для каждого из нас, а больше всего — для изгнанника и скитальца. В лучшем случае это слава, в худшем — сон. Более того, уж так ли я счастлив, чтобы бояться умереть? Куилла не сумеет прочесть то, что я пишу, и поэтому я отвечу: нет. Я христианин, а она и окружающие ее люди — даже мои собственные дети — поклоняются луне и небесному воинству. У меня белая кожа, а у них — с оттенком меди, хотя, правда, моя малютка, дочь Гудруда, которой я дал имя моей матери, — почти белая, как я. В их сердцах скрываются тайны, которых я никогда не узнаю, так же как в моем сердце есть тайны, которых они никогда не разгадают, — потому что у нас разная кровь. И однако, видит Бог, я искренне полюбил их и больше всего — эту величайшую из женщин — Куиллу.
О! Истина в том, что здесь, на земле, для человека нет счастья.
Слух о предстоящем нашествии Кари с его войском и заставил меня приняться за дело, которое давно уже было у меня на уме, — написать кое-что из моей истории как в Англии, так и в этой стране — ведь я первый белый, чья нога ступила на ее землю. Наверно, это глупая затея, ибо кто же прочтет то, что я напишу, и что случится с тем, что будет мною написано? Я распоряжусь, чтобы рукопись положили в гробницу у моих ног, но кто и когда найдет эту гробницу? И все же я пишу, ибо что-то в моем сердце побуждает меня взяться за эту задачу.
Возвращаюсь к давно прошедшим дням. Когда наша шхуна наполнилась рыбой, мы с веселым сердцем подставили парус легкому ветерку, дувшему с моря к берегам Гастингса. Было еще почти темно, и над морем висел густой туман, но этого слабого ветра было достаточно, чтобы шхуна продвигалась вперед. И вдруг мы услышали голоса, как будто вокруг разговаривали люди, и скрип мачт. В это время порыв ветра на мгновение разорвал завесу тумана, и мы увидели, что находимся среди большой флотилии — французской флотилии, ибо на их
мачтах развевались лилии Франции; мы увидели также, что носы кораблей устремлены к берегу Гастингса, хотя в эту минуту они как будто замерли в своем движении, поскольку ветер, силы которого было достаточно для нашей легкой рыбацкой шхуны с большим парусом, был слишком слаб, чтобы приводить в движение тяжеловесные корабли. Как назло, нас тоже заметили, и с ближайшего корабля на нас посыпались угрозы и проклятья, а вслед за криками в нас полетели стрелы, которые лишь чудом не задели нас.
Потом туман снова сомкнулся, и под его прикрытием мы проскользнули сквозь французскую флотилию.
Прошел почти час, прежде чем мы достигли Гастингса. Едва шхуна коснулась причала, как я выскочил на мостки с криком: «Тревога! Тревога! На нас идут французы! К оружию! Мы прошли сквозь целую флотилию в тумане».
В одно мгновение сонная набережная как будто проснулась. С расположенного поблизости рыбного рынка, из других мест — отовсюду бежали моряки и разные другие люди, за ними — дети, а из дальних домов выбегали женщины с испуганными лицами, будто затравленные кролики из своих норок. Через минуту меня уже обступила толпа, все наперебой и хором засыпали меня вопросами, на которые я мог ответить только криком: «Тревога! На нас напали французы! К оружию, говорю я! К оружию!»
Туг сквозь толпу ко мне приблизился старик с белой бородой и официальной бляхой на груди, громко взывая к преграждавшей ему путь массе людей: «Дорогу бейлифу!
[218]»
Толпа послушно расступилась, и мы оказались с ним лицом к лицу.
— В чем дело, Хьюберт из Гастингса? — спросил он. — Или где-нибудь пожар, что ты так громко кричишь?
— Да, ваша милость, — отвечал я. — Пожар, и убийство, и все дары, которые французы приготовили для Англии. Флот французов приближается к Гастингсу, пятьдесят кораблей, а то и больше. Мы пробрались между ними в тумане, ибо ветер, слишком слабый для больших кораблей, нам благоприятствовал, да и они не обратили особенного внимания на рыбацкую шхуну — выпустили пару стрел, вот и все.
— Откуда они явились? — спросил бейлиф, совершенно озадаченный внезапностью события.
— Не знаю, но люди из встречной лодки крикнули нам, что эти французы грабят все побережье и направляются к Гастингсу, чтобы предать его огню и мечу. Но это и все, что мы услышали, потому что лодка исчезла в тумане; могу сказать лишь одно — не пройдет и часа, как французы будут здесь.
Не сказав ни слова, бейлиф повернулся и бросился бежать по направлению к городу, и вскоре зазвонили колокола в церквях Всех Святых и Св. Клемента, а глашатаи стали созывать всех мужчин на Рыночную площадь. Бросив печальный взгляд на свою шхуну с таким богатым уловом, я тоже направился в город вместе с моими двумя помощниками.
Вскоре я очутился перед старинным бревенчатым домом, невысоким, длинным и обширным, с примыкавшим к нему двором, наполненным бочками, якорями и другими предметами морского промысла, снастями вроде канатов и тому подобными принадлежностями моего ремесла.
И вот я, Хьюберт, охваченный страхом, хотя и не за себя, и чувствуя то волнение в крови, которое естественно испытывает человек моих лет перед предстоящей ему первой битвой, бросился к этому дому, но на мгновение задержался у большого вяза, растущего у входа; его нижние ветви были спилены, чтобы не заслонять окна от света, Я очень хорошо помню этот вяз, прежде всего потому, что, когда я был ребенком, в его дупле гнездились скворцы, и я вырастил одного из птенцов в сплетенной из прутьев клетке и научил его говорить. Он прожил у меня несколько лет. Он стал таким ручным, что часто сопровождал меня, сидя у меня на плече, пока наконец в одну их моих прогулок за город его не спугнула кошка, и прежде чем я успел его поймать, он стал добычей ястреба; впоследствии я отомстил за него, застрелив этого ястреба из лука.
Я помню старый вяз еще и потому, что в то утро, когда я остановился возле него, я заметил, какой он густой и зеленый. А на следующее утро после пожара я вновь увидел его — обугленным и почерневшим, с завявшей, опаленной листвой. Этот контраст запечатлелся в моей памяти, и всякий раз, когда я вижу, как удача и процветание сменяются разорением, или жизнь — смертью, я всегда вспоминаю этот вяз. Ибо именно такие мелочи, которые мы видели сами, а не то, о чем пишут и рассказывают другие, помогают нам оценивать и сопоставлять события.
Причина, побуждавшая меня спешить к этому дому, заключалась в том, что в нем жила моя вдовствующая мать. Зная, что появление французов означает зло и бедствия, ибо пролетевшая у меня над головой стрела, а может быть, и донесшиеся с одного из кораблей обрывки брани не предвещали ничего хорошего, — первое, что я решил сделать, это увести мать в какое-нибудь безопасное место. Это было нелегко, так как с возрастом моя мать сильно ослабела, и я невольно остановился, чтобы представить себе свои возможные действия. Впрочем, вторым, что задержало меня у вяза, была мысль о том, как бы не слишком испугать ее своим сообщением. Обдумав все это, я вошел в дом.
Дверь вела в общую комнату с низким оштукатуренным потолком, покоившимся на крепких дубовых балках. Там я и застал мою мать. Она стояла на коленях, придерживаясь рукой за край стола, на котором все было приготовлено к завтраку: жареная сельдь, холодное мясо и кружка эля. По своему обыкновению, мать молилась; она была очень религиозна, хотя и на новый лад, ибо следовала проповеднику по имени Уиклиф
[219], который в те дни будоражил и смущал Церковь. Видимо, она уснула во время молитвы, и я с минуту молча смотрел на нее, не решаясь ее разбудить. Даже в старости (я родился, когда она прожила в замужестве лет двадцать, если не больше) она была очень красивой женщиной, с белыми волосами и тонкими чертами лица, говорившими о благородной крови: она была более высокого происхождения, чем мой отец, и поссорилась со своей родней, выйдя за него замуж.
При звуке моих шагов она очнулась и увидела меня.
— Странно, — сказала она. — Я уснула за молитвой, а ночью почти не спала — как бывает со мной, когда ты уходишь в море, да простит меня Бог; и мне приснилось, будто нас ждет какая-то беда. Не брани меня, Хьюберт. Ведь если море уже забрало отца и двух сыновей, не удивительно, что мне страшно за последнего из моих отпрысков. Помоги мне подняться, Хьюберт; кажется, мои руки и ноги налились водой, такие они тяжелые. Лекарь говорит, что однажды она доберется до сердца, и тогда все будет кончено.
Я повиновался, поцеловал ее в лоб, и когда она уже сидела за столом в своем кресле, сказал:
— Твой сон в руку, матушка. Нас ждет беда. Слышишь? Колокола Св. Клемента говорят о ней. Нас собираются посетить французы. Я знаю потому, что на рассвете прошел сквозь их флотилию.
— Вот как? — сказала она спокойно. — Я боялась худшего. Боялась, что ты последовал за братьями в пучину. Ну что же, французы пока еще не появились, а ты здесь, слава Богу. Так что ешь и пей; ведь мы в Англии сражаемся лучше на полный желудок.
Я снова повиновался, ибо после долгой ночи был голоден и хотел пить; и только я успел поесть и выпить кружку эля, как мы услышали крики и топот бегущих людей.
— Ты слышишь, Хьюберт? Хочешь присоединиться к остальным и послать одного-двух французов в ад с помощью твоего большого лука? — спросила мать.
— Нет, — ответил я, — я спешу увести тебя из этого города, который, боюсь, будет сожжен. Близ Миннес-Рок есть одна пещера; там, думаю, ты будешь вне опасности, матушка.
— От моих предков, Хьюберт, я унаследовала одно качество, свойственное женщинам Севера, — никогда не прятаться, как за щит, за спины своих мужчин, когда долг призывает их быть где-то в другом месте. Мои ноги совсем ослабели, мне не под силу пробираться по скалам и прятаться в пещерах, а нести меня в гору слишком тяжело. Я останусь здесь, где прожила эти сорок пять лет, выживу или умру — на то воля Божья. Ступай же и выполняй свой долг. Постой! Собери наших девушек и вели им уходить из города в их деревни. Они молоды и проворны, и никакой француз их не догонит.
Я созвал служанок, которые с побелевшими от страха лицами столпились на чердаке у окна. Через три минуты их уже и след простыл, хотя одна из них, самая храбрая, и хотела было остаться со своей хозяйкой.
Я проводил их взглядом, пока они не затерялись в потоке людей, покидавших Гастингс, и вернулся к матери. В эту минуту мощный многоголосый крик известил нас, что французский флот появился в виду Гастингса.
— Хьюберт, — сказала мать, — возьми этот ключ от комода и ступай ко мне в спальню, приподними белье, что лежит сверху, и возьми и принеси мне то, что под ним лежит, завернутое в тряпку.
Я выполнил то, что она велела, и вернулся с длинным и узким свертком. Взяв нож, она разрезала скреплявший его шнурок. Внутри оказался мешочек с деньгами и меч в старинных ножнах, покрытых грубой кожей, которую я счел кожей акулы, и местами отделанных золотом.
— Вынь его из ножен, — сказала мать.
Я повиновался, и перед глазами блеснул обоюдоострый клинок вороненой стали. Я никогда не видел такого меча, ибо на его клинке были выгравированы странные знаки, совершенно мне не приятные, хотя я умел читать и писать, еще в детстве научившись грамоте у монахов. Рукоятка в форме креста была тоже отделана золотом и увенчана шарообразной верхушкой из янтаря, потускневшего от частого употребления. В целом это было прекрасное оружие, к тому же хорошо сбалансированное.
— Что это за меч? — спросил я.
— Слушай, сын. Вместе с твоим луком, — и она указала на прислоненные к столу лук и колчан, — этот меч прошел через руки многих поколений. Мой отец рассказывал, что он принадлежал некоему Торгриммеру, его предку-скандинаву — отец называл его викингом, — который был с теми, кто завоевал Англию до того, как ее захватили норманны. Я охотно этому верю, поскольку имя моего отца — как и мое имя до замужества — было Гриммер. Этот меч тоже имеет имя — «Взвейся-Пламя». Рассказывают, что с его помощью Торгриммер совершал великие подвиги, убивая по обыкновению язычников множество людей в битвах на суше и на море. Ибо он странствовал по свету и однажды, говорят, даже высадился на неизвестной земле далеко за океаном; наконец после многих удивительных приключений он стал одним из завоевателей Англии, где и погиб в какой-то схватке. Вот и все, что я знаю, не считая того, что один ученый человек с севера однажды растолковал отцу моего отца, что означает эта надпись на мече:
Тот, кто взметнет высоко Взвейся-Пламя,
Прожив в любви, умрет на поле брани.
Носимый бурями, моря пересечет
И в чуждых землях свой приют найдет.
Став победителем, он будет побежден,
В дальнем краю уснет со мною он.
Я запомнил эту надпись, потому что она в стихах, а также потому, что, видимо, такова и была участь Торгриммера и его меча, который его внук извлек из гробницы.
Тут я бы охотно расспросил мать о внуке Торгриммера и о гробнице, но на это ушло бы много времени, и я промолчал.
— Всю жизнь я хранила этот меч, — продолжала мать, — не давая его ни твоему отцу, ни братьям, чтобы их не постигла предсказанная в этих стихах участь: ведь эти древние северные маги, которые с таким искусством и трудолюбием ковали подобное оружие, были способны предвидеть будущее, как временами могу и я, это у меня в крови. Но сейчас, Хьюберт, что-то побуждает меня вручить тебе этот меч. Возьми его и иди туда, куда поведет тебя его пламя и твоя судьба, какова бы она ни была, — я знаю, что ты употребишь его не хуже самого Торгриммера.
После минутной паузы она продолжала:
— Хьюберт, быть может, это наша последняя разлука, ибо я чувствую, что близится мой час. Но пусть это тебя не огорчает — я рада соединиться с теми, кто ушел до меня, и со всеми другими — может статься, с самим Торгриммером, Послушай, Хьюберт: если что-нибудь случится со мной или с этим домом — не оставайся здесь. Поезжай в Лондон и разыщи там моего брата, Джона Триммера. Он богатый купец и золотых дел мастер и живет в той части города, что называется Чип
[220]. Он знал тебя ребенком и любил тебя, и поскольку у него нет детей, он охотно примет тебя ради нас обоих. Мой отец не хотел вручать Джону меч, чтобы не навлечь на него беды, но я знаю, что Джон будет рад приютить члена нашего рода, владеющего этим мечом. Бери же его, а заодно и это золото, оно может тебе пригодиться еще до того, как все будет кончено. Да, и еще одно — вот это кольцо: по преданию, оно перешло от предков вместе с мечом и луком, и когда-то на нем тоже была надпись, только давно уже стерлась. Возьми его и носи, пока не наступит день, когда ты, может быть, наденешь его на чью-то руку, как это однажды сделала я.
Дивясь всей этой истории, которую моя мать со свойственной ей сдержанностью до этой минуты хранила от меня в тайне, я надел кольцо на палец.
— Я отдала это кольцо твоему отцу в день нашего обручения, — продолжала мать, — и сняла его с его мертвой руки, после того как его тело нашли в море. А теперь я передаю его тебе — быть может, единственному, кто скоро останется в живых из нас обоих. Слышишь? Глашатай сзывает всех мужчин с оружием на Рыночную площадь, чтобы сразиться с врагами Англии. Еще одно слово, пока я опоясаю тебя этим мечом, как, несомненно, опоясали им твоего предка Торгриммера его женщины. Да будет на тебе мое благословение, Хьюберт. Будь таким, как Торгриммер, — ведь мы, в ком течет скандинавская кровь, не хотим, чтобы наши любимые и сыновья оказались в последних рядах, когда сверкают мечи и летают стрелы. Но будь в чем-то выше Торгриммера — будь христианином; помни, пока ты жив и Девы-Воительницы еще не отметили тебя роковой меткой, что в какой-то день ты все же умрешь и будешь призван к ответу.
Хьюберт, ты из тех, кого любят женщины; кто боюсь, будет тоже любить женщин, ибо по законам самой природы эта слабость сопутствует всегда силе и мужеству. Будь осторожен с женщинами, Хьюберт, и если сможешь, общайся с теми, в ком нет фальши, и выбери ту, которая будет и верна тебе больше всех других. Ты будешь скитаться в дальних краях — я вижу по твоим глазам, что тебе суждены далекие странствия, — но в душе всегда оставайся англичанином. Поцелуй меня и ступай! Мальчик мой! Ты не забыл захватить запасные стрелы и кожаную куртку, что носил твой отец? И то, и другое тебе сегодня понадобится. Теперь прощай! Да хранит тебя Бог и Христос, — и стреляй ты метко, и рази крепко. Нет, нет, не надо слов — они замутят мой взгляд, а ведь я подымусь на чердак и буду смотреть из окна, как ты сражаешься.
ГЛАВА II. ЛЕДИ БЛАНШ
Яушел с тяжелым сердцем, так как помнил — хотя и был еще тогда ребенком, — что когда отец и братья утонули, это не было для моей матери неожиданностью, она предвидела их гибель, и я боялся, что она окажется права и в отношении своей собственной судьбы. Я любил свою мать. Правда, она была женщиной суровой, лишенной мягкости: я думаю, она унаследовала это качество вместе с кровью своих предков. Но она обладала великим сердцем, и ее последние слова были полны благородства. И все же, несмотря на такое чувство, я был доволен, как был бы доволен на моем месте всякий молодой человек, получив в дар удивительный меч, некогда принадлежавший Торгриммеру, моряку-скитальцу, чья кровь текла в моем теле, опоясанном этим мечом; и я надеялся, что мне представится случай воспользоваться им столь же достойно, как им пользовался Торгриммер в давно забытых битвах. Обладая живым воображением, я подумал о том, знает ли меч, что после долгого сна он вновь явился на свет, чтобы упиться кровью врагов.
Я был доволен и другим: мать сказала, что я проживу свой срок и не умру сегодня от руки француза, и что я узнаю любовь — о которой, сказать по правде, уже немного знал, ибо я был красивый малый, и женщины от меня не бегали, а если убегали, то скоро останавливались. Я хотел жить, хотел пройти через множество приключений и завоевать великую любовь. Единственное, что мне не понравилось, это приказ, данный мне матерью: ехать в Лондон, чтобы засесть там в мастерской золотых дел мастера. Однако я слыхал, что в Лондоне много интересного, и уж во всяком случае там все не так, как в Гастингсе.
Улица перед нашим домом была полна народа. Мужчины спешили к Рыночной площади, пробираясь среди цепляющихся за них и плачущих жен и детей; другие — старики, женщины и девушки, и малые дети — устремились прочь из города. Я обнаружил, что оба моряка — те, что были со мной в лодке, — ждут меня. Это были закаленные малые по имени Джек Гривз и Уильям Булл, служившие у нас со времен моего детства, и тот, и другой столь же отличные рыбаки, как и воины; один из них, Уильям Булл, даже участвовал в войнах с Францией.
— Мы знали, что вы придете, и поджидали вас здесь, — сказал Уильям Булл, который, будучи некогда стрелком, был вооружен луком и Коротким кинжалом, в то время как у Джека были только топор да нож, которым у нас чистят рыбу.
Я кивнул им, и мы направились к Рыночной площади, присоединившись к толпе мужчин, которые во множестве стекались туда, чтобы защищать Гастингс и свои дома. Мы явились как нельзя вовремя, ибо французские корабли были уже в нескольких ярдах от берега, а некоторые уже пристали, и матросы и вооруженные люди устремлялись к берегу в шлюпках и вброд.
На площади царила неразбериха, ибо — как всегда бывало в Англии — к атаке неприятеля совершенно не готовились, хотя все сознавали реальную опасность нападения.
Бейлиф бегал среди толпы, выкрикивая приказания, то же делали и другие, но настоящих военачальников не было, и в конечном итоге каждый действовал по своему разумению. Одни бежали на берег и осыпали французов стрелами. Другие искали убежища в домах, третьи топтались на месте в нерешительности, ожидая приказа и не зная, что предпринять. Я и оба мои товарища были среди тех, кто устремился на берег, и я выпустил несколько стрел из моего большого черного лука, и увидел, как один человек упал, сраженный одной из них.
Но наши усилия оказались тщетными, ибо эти французы были хорошо обученными солдатами под надлежащим командованием. Они построились в роты и стали наступать, оттесняя нас с берега. Я держался, сколько мог, и, выхватив меч Взвейся-Пламя, сразился с французом, который был впереди других. Более того, нацелившись ему в голову, я промахнулся, мой удар пришелся ему по руке и отсек ее, ибо я видел, как она упала наземь. Тут на меня набросились другие, и я бежал, спасая свою жизнь.
Каким-то образом я очутился на склоне Замкового холма вместе с толпой других жителей Гастингса, которых преследовали французы. Мы достигли замка и проникли внутрь, но решетка старых замковых ворот не опускалась, а стены в некоторых местах обвалились. Мы здесь обнаружили кучку женщин, которые взобрались на холм, надеясь, что в старом замке они будут в безопасности. Среди них была красивая знатная девушка, которую я знал по виду. Ее Отец был сэр Роберт Эйлис, бывший тогда, по-моему, смотрителем замка Левенси, и ее величали леди Бланш. Однажды я даже разговаривал с нею в связи с одним случаем, о котором слишком долго рассказывать. Тогда ее большие голубые глаза, которыми она умела искусно пользоваться, совершенно вскружили мне голову, ибо она была очень красивая, нежная и грациозная, с удивительно мягким голосом, и совершенно не походила ни на одну из знакомых мне женщин; и при всем том она совсем не была гордячкой. Но тут явился ее отец, старый дворянин, о котором во всей округе никто не сказал доброго слова и которого молва нарекла любителем золота, и быстро увлек ее прочь, спрашивая, с чего это ей вздумалось разговаривать с каким-то грубым простолюдином-рыболовом. Это случилось за несколько месяцев до описываемых событий.
И вот я вновь увидел ее — в этом старом замке и как будто одну; она сразу узнала меня и бросилась ко мне, умоляя о защите. Более того, она начала длинный рассказ (который мне некогда было слушать) о том, как она приехала в Гастингс вместе со своим отцом, сэром Робертом, и молодым лордом по имени Делеруа, который, как я понял, был ее родственником, и ночевала в городе. А также о том, как она потеряла их в толпе, когда они пытались вернуться в замок Левенси, который ее отец должен был охранять, потому что ее лошадь испугалась и понесла, и как кто-то в конце концов взял ее за руку и привел в этот старый замок, уверяя ее, что это самое безопасное место.
— Значит, тут вы и должны остаться, леди Бланш, — сказал я, прервав ее рассказ. — Держитесь за меня, и я спасу вас, если смогу, даже если это будет стоить мне жизни.
Разумеется, она держалась за меня до конца этого ужасного дня, как вы увидите дальше.
С вершины холма мы увидели, как в Гастингсе начался пожар, когда французы подожгли город; построенный из дерева, он вскоре в нескольких местах был охвачен бушующим пламенем. Мы также видели (и слышали) страшные и отвратительные сцены насилия и грабежа, какие происходят в этом нашем христианском мире, когда мирные жители оказываются во власти свирепых захватчиков. В домах людей сжигали; на улицах их убивали, если не хуже. Да, убивали даже детей; позже я видел трупы многих из них.
Спустя некоторое время мы увидели сквозь клубы дыма, что отряды французов собираются атаковать замок. Их было, пожалуй, человек триста, а нас едва ли пятьдесят, из коих многие были почти не вооружены, и целая толпа стариков, женщин и детей. Не знаю, что сталось с другими мужчинами, но поскольку команды отдавались с разных сторон, некоторые устремились в одном направлении, другие — в другом, а кое-кто, думаю, просто бежал, лишенный предводителей.
Поднявшись на холм, французы принялись атаковать наши слабо укрепленные ворота, тараня их толстыми деревянными балками, Те из нас, у кого были луки, сразили некоторых из нападающих, хотя враги были хорошо вооружены, и большинство стрел отскакивало от их кольчуг. Да и немногие из нас имели луки. Более того, стоило нам оказаться на виду, как нас засыпали таким количеством стрел, дротиков и пик, что многие, не имея на себе кольчуг, были убиты или ранены. Наконец враги разбили восточные ворота и через них, а также через проломы в стенах, ворвались внутрь. Мы сражались, как могли; я сам убил двоих мечом Взвейся-Пламя, разрубив одному шлем, — так крепка была сталь моего меча. Рядом со мной был убит Джек Гривз; он был сражен ударом пики и умер, призывая меня бороться за старую Англию и город Гастингс; под конец он сказал что-то насчет пива и испустил дух.
Все завершилось тем, что оставшиеся в живых были вытеснены из замка вместе с женщинами и детьми, причем французские убийцы добивали каждого раненого тут же на месте и пытались захватить любую женщину, которая казалась им достаточно молодой и красивой. Особенно опасным было положение леди Бланш, потому что она была не только прекрасна, но и знатна. Но, по счастливой случайности, я спас ее от этой участи.
Мы оказались среди последних, кто покинул замок, откуда, по правде говоря, я не хотел уходить, ибо кровь во мне кипела, и я вместе с несколькими другими сражался до тех пор, пока нас окончательно не вытеснили за ворота. Я умолял леди Бланш бежать вместе с остальными женщинами. Но она упорствовала, твердя, что не верит никому, кроме меня, и останется со мной даже под угрозой смерти, — как будто это могло помочь хоть одному из нас.
Поэтому и случилось, что высокий французский рыцарь, заметив ее, обогнал своих товарищей, которые устали и перестраивали свои ряды на склоне холма, и, схватив ее поперек талии, попытался унести прочь. Я настиг его, и мы схватились. На нем была кольчуга, в руке — щит, у меня же не было ни того, ни другого, но я имел меч, а он — лишь короткую алебарду. Я знал, что, если он нанесет мне удар этой алебардой, мне конец, ибо моя кожаная куртка не защитит меня. Поэтому моей задачей было держаться вне пределов его досягаемости. Я был молод и подвижен, и по большей части мне это удавалось, тем более что он не мог двигаться достаточно быстро в тяжелых доспехах. В конце концов я ранил его в руку, и он ринулся на меня, выкрикивая проклятья на своем языке.
Я отскочил в сторону и изо всех сил ударил его мечом. Удар пришелся между шеей и плечом, как бы сзади, и такова была закалка этого меча под именем Взвейся-Пламя, что он прошел сквозь кольчугу и проник глубоко в тело — наверное, до самого позвоночника. Во всяком случае француз рухнул наземь — я помню и сейчас, как загремели его доспехи, когда он упал, — и осталсянедвижим. Тогда мы бросились бежать вниз по крутой тропинке, в одной руке я держал окровавленный меч, другой поддерживая леди Бланш, которая благодарила меня взглядом.
Наконец мы снова были в городе, и на моей улице. По обе стороны горели дома, позади появился новый отряд французов. Смрад ел глаза, и мы то и дело спотыкались о тела убитых или потерявших сознание людей.
Взглянув налево, я увидел вяз, о котором уже говорил, — тот вяз, что рос перед нашим домом, — и за ним языки пламени: наш дом горел. Да, я увидел нечто большее — у распахнутого окна чердака, окруженная как бы огненной аркой, сидела моя мать. Более того, она пела. Я услышал ее голос и какие-то дикие непонятные слова — как ни странно было, но женщина пела перед лицом такой смерти. Она тоже увидела меня и узнала, так как замахала мне руками, а потом указала в сторону моря, — почему, я не понял в ту минуту. Я приостановился, намереваясь спасти ее, хотя такая попытка стоила бы мне жизни, ибо весь фасад дома был объят пламенем. Но в этот миг крыша рухнула, выбросив огненные струи вверх и в стороны, и это был последний раз, что я видел свою мать. Правда, позже мы нашли ее тело и предали его земле вместе с телами других жертв.
Однако нельзя было медлить, так как победоносные французы уже появились в начале улицы позади нас, стреляя на ходу и убивая всех, кто не успел скрыться. Мы побежали дальше, поднимаясь по крутому склону Миннес-Рок. Я предпочел бы бегство в глубь страны, но леди Бланш совсем лишилась сил. Дважды она падала наземь, сраженная ужасом и слабостью, и каждый раз умоляла меня не бросать ее; да я и не собирался ее покинуть. В конце концов Уильям Булл и я подхватили ее и с большими трудами, пробираясь по скалам, понесли в ту пещеру, о которой я говорил матери. На это ушло много сил и времени, так как местами не за что было даже уцепиться. Более того, группа французов, заметив наше бегство, бросилась преследовать нас. Возможно, кто-то из них догадался, кто эта молодая леди, которая была с нами, и они решили захватить ее и потребовать выкупа.
Во всяком случае они двигались следом за нами и теми немногими женщинами, которые присоединились к нам, не имея сил бежать дальше, а может быть, веря в то, что Уильям Булл и я сможем защитить их.
Мы достигли пещеры, и, пропустив женщин внутрь, мы с Уильямом остались у входа и стали ждать. У него не было лука, а у меня осталось только три стрелы, но я был хорошим стрелком и решил употребить их наилучшим образом. Я вынул их из колчана, натянул тетиву и присел, чтобы перевести дух. Французы наступали, крича и угрожая перерезать нам горло и захватить прекрасную даму как свою добычу.
— Она будет моей! — вопил огромный малый с плоским носом и широким ртом. Он бежал впереди других и был уже не далее чем в пятидесяти ярдах от нас.
Я поднялся и, обратясь с молитвой к моему покровителю, доброму Св. Хьюберту, чье имя мне дали, раз я впервые увидел свет в его день, 23 ноября, — натянул тетиву моего большого лука до отказа, прицелился и спустил стрелу. Любитель меткой стрельбы, Св. Хьюберт не покинул меня в моей нужде: стрела попала французу прямо в его большой рот и пригвоздила язык к шейному позвонку.
Он рухнул как подкошенный, и, ободренный этим зрелищем, я спустил вторую стрелу в следующего. И этого она сразила, и он упал почти на своего товарища.
Я приладил третью — последнюю — стрелу и переждал мгновение. Позади первых двух бежал коренастый приземистый человек, вероятно, рыцарь, ибо на нем были латы, панцирь и шлем, а в руке щит с изображением петуха. Этот человек, испуганный судьбой своих товарищей, но в то же время не желая уступить добычу тем, кто следовал за ним, согнулся почти вдвое и, заслонив шлем щитом, ринулся вперед.
Я выждал, пока между нами не осталось ярдов двадцать пять, надеясь, что он споткнется о неровности почвы, и щит, сдвинувшись, откроет его голову. Но он не споткнулся, и наконец, вновь помолившись Св. Хьюберту, я натянул тетиву так, что она коснулась моего уха, и отпустил ее. Стрела с наконечником из вороненой стали ударила прямо в центр щита и, клянусь Богом, пробила его и прикрываемую им плоть, так что и этот тоже нашел свою смерть.
— Вот это выстрел! — сказал Уильям. — Ни один лук в мире не дал бы такого.
— Неплохо, — ответил я, — Но это была последняя стрела. Теперь у нас только меч и алебарда — будем держаться, как сможем, пока нас не прикончат.
Уильям кивнул, а женщины в пещере стали плакать и причитать, увидев, что я прячу свой лук в футляр, — скорее, наверно, по привычке, ибо я не надеялся когда-нибудь снова взять его в руки.
Именно в этот момент с французских кораблей в гавани донеслись сигналы тревоги, и французы неожиданно запнулись, повернулись и бросились бежать к берегу. Мы с Уильямом выглянули из пещеры.
Там, на море, приближаясь с востока под хорошим ветром, шли корабли, и на их мачтах развевались флаги Англии — их золотые леопарды сияли на солнце.
— Это наш флот, Уильям, — сказал я. — Сейчас они побеседуют с этими французами.
— Хотел бы я, чтобы они сделали это раньше, — ответил Уильям. — Но все-таки лучше поздно, чем никогда.
Так мы были спасены благодаря Амо де Оффингтону, настоятелю Бэтл Эбби, как мне сказали впоследствии, который собрал войско на суше и на море и отогнал французов, хотя и после того, как они разграбили остров Айн-оф-Уайт, атаковали Уинчелси и сожгли большую часть Гастингса. Так что в конечном счете эти пираты извлекли мало пользы из своих злодейств, поскольку они потеряли целый ряд кораблей со всем, что было на борту, а другие отчалили так поспешно, что их люди остались на берегу и были убиты разъяренной толпой, как только стало понятно, что они брошены своими товарищами. Тем более что действия толпы были поддержаны отрядом настоятеля, прибывшим из Бэтла. Но при всем этом я бездействовал, потому что теперь, когда сражение закончилось, я чувствовал себя, как ребенок, и видел перед собой только образ матери, гибнущей в огне пожара.
Вскоре, однако, случилось нечто, пробудившее меня в моем горе и снова оживившее во мне кровь. Узнав, что опасность миновала, леди Бланш вышла из пещеры, у входа в которую все еще стоял я, прислонясь к скале и сжимая рукоятку меча Взвейся-Пламя, обнаженного для последней смертельной схватки. Какими только нежными словами она меня не называла — и героем, и своим спасителем, и Бог весть как еще.
Наконец, не получив ответа, — ведь я был как в тумане, да и удар, нанесенный мне в грудь французом, которого я убил еще возле замка, уже дал себя почувствовать, — она сделала нечто большее. Обхватив меня руками, она трижды поцеловала меня в щеки и губы; несомненно, она была возбуждена и в порыве благодарности забыла девическую сдержанность, хотя, как потом сказал мне Уильям Булл, эта забывчивость не проявилась в отношении него, несмотря на то, что Уильям тоже помогал ей добраться до пещеры.
Ее поцелуи подействовали на меня, как вино; даже странно, какое влияние, по установлению природы, оказывает на нас в юности первое прикосновение уст прекрасной женщины, если мы ее любим. Мы можем забыть все, что угодно, но его мы помним всегда, как бы фальшивы ни оказались впоследствии эти уста. Значит, когда воск еще мягкий, штамп врезается глубоко, столь глубоко, что никакой жар не может потом расплавить его отпечатка, и ничто не может стереть его, пока мы живем на земле.
Итак, молодая кровь во мне взыграла, и я собирался вернуть эти поцелуи с процентами и уже приступил было к делу, как вдруг услышал грубый голос, изрыгавший непонятные проклятья, и хихиканье женщин, которые с нами прятались в пещере, а теперь на минуту забыли о своих несчастьях, как часто бывает с представителями их пола, когда дело доходит до поцелуев.
— Черт побери! — произнес грубый голос. — Кто это лапает там мою дочь, как будто они час как обвенчались? А ну, убери свои губы, парень, не то я отсеку их от твоей физиономии!
Изумленный, я оглянулся и увидел сэра Роберта Эйлиса, восседающего на сером коне, в сопровождении отряда вооруженных людей, которыми, по-видимому, командовал самоуверенный молодой капитан с темными глазами и длинными волосами и в самом диковинном одеянии, какого я никогда не видел. Набрось он на свои латы одеяние Иосифа, то и тогда бы не получилось такой яркости красок; и я заметил также, что носки его туфель так сильно загнуты кверху, что я невольно подивился, как он мог попасть в стремена, и что было бы с ним, если бы его выбили из седла.
Растерявшись, я не ответил, но Уильям Булл, хотя и грубоватый малый, был находчив и не лез за словом в карман.
— Если хотите знать, — сказал он по-сассекски растягивая слова, — я скажу вам, кто этот человек, сэр Роберт Эйлис. Это мой достойнейший хозяин, Хьюберт из Гастингса, владелец судов, дома и торгового дела в этом городе. Или был им, по крайней мере, так как его суда и дом, кажется, сгорели, как и его мать. А что касается торговли, то пройдет немало дней, прежде чем она снова появится в Гастингсе.
— Возможно, — сказал сэр Роберт, добавив несколько ругательств, — но почему он целует мою дочь?
— Может быть, потому, что он хочет отдать лучшее, что у него есть, — таков закон среди честных купцов, благородный сэр Роберт. Или потому, что он больше, чем любой другой из людей, имеет право целовать ее: если бы не он, она была бы сейчас зловонным трупом или бросовой вещью для француза.
Здесь нарядный молодой капитан прервал его, говоря:
— Что бы ни потерял этот достойный торговец, в трубаче он не нуждается.
— Совершенно верно, милорд Делеруа, — ответил Уильям, ничуть не смутившись, — ибо когда я нахожу хорошую песню, мне нравится ее петь. Взгляните-ка вон на тех трех человек, что лежат на склоне, и вы увидите, что на сразивших их стрелах метка моего хозяина. А потом ступайте на Замковый холм и найдите там рыцаря, у которого голова почти отсечена от плеч, и проверьте, не этим ли вот мечом это сделано. И на других тоже посмотрите — они были все убиты для того, чтобы спасти эту прекрасную леди. Ступайте и поглядите — вы, в вашей нарядной, незапятнанной одежде, а потом возвращайтесь и болтайте о трубачах.
— Вот еще! — произнес лорд Делеруа, пожав плечами. — Просто леди слишком потрясена и ухватилась за какого-то простолюдина, как женщина, которая целует ноги деревянной статуи святого, воображая, что тот спас ее от беды.
Слушая все это как во сне, при последних словах я как бы очнулся, ибо сказанное уязвило меня. Кроме того, я слыхал, что этот роскошный Делеруа был из тех, кто получил свой пост и чин милостью короля, так же как и свое имя, будучи, как говорили, незаконным сыном одного князя, родственника сэра Роберта, которого он поэтому называл кузеном.
— Сэр, — сказал я, — вам лучше знать, кто из нас имеет больше оснований называться простолюдином. Оставим это. По крайней мере, я держу в руках меч, принадлежавший предку моих предков сотни лет назад, некоему Торгриммеру, который в свое время был великим человеком. Сегодня я уже достаточно сражался, а вы — несомненно, не по своей вине, — совсем не участвовали в битве. Будьте же любезны сойти с этого коня и сразиться со мной, хотя я и устал, и доказать мое простолюдинство на моем теле. Сделайте это в вашей знатности, ибо в конце концов мы все из одной плоти. Уязвленный в свою очередь, он сделал движение, как бы намереваясь выполнить мое требование, но в этот момент, взглянув на своего отца, который, не двигаясь, сидел на коне, видимо, озадаченный, леди Бланш впервые подала голос.
— Не сходите с ума, кузен, — сказала она. — Говорю вам, этот джентльмен сегодня дважды спас мою жизнь и честь. Неужели после этого удивительно, что я отблагодарила его наилучшим образом, каким может женщина, и этим навлекла на него ваши оскорбления?
Он колебался, хотя один из его загнутых вверх носков уже освободился от стремени, как вдруг сэр Роберт заговорил своим мощным голосом:
— Святая правда, кузен, вы поступите лучше всего, если оставите этого молодого петушка в покое, мне не нравится вид его красной шпоры, — и он взглянул на мой меч Взвейся-Пламя. — Хотя он, возможно, и устал, в нем наверняка сохранились кое-какие силенки.
Потом он повернулся ко мне и добавил:
— Сэр, вы отлично дрались; многие получали рыцарское звание за меньшее, и если красивая девушка отблагодарила вас на свой лад, вы в этом не виноваты. Я, ее отец, тоже благодарю вас и желаю вам всяческих удач до той поры, когда мы снова встретимся. Прощайте. Дочка, садись на мою лошадь вместе со мной — и в путь, в замок Левенси, куда, может статься, этим французам завтра захочется нанести визит.
Спустя минуту их уже и след простыл, и я заметил не без боли, как, помахав мне на прощанье, леди Бланш быстро заговорила с кузеном Делеруа, и как он взял ее за руку, поддерживая ее на коне ее отца.
ГЛАВА III. ХЬЮБЕРТ ПРИЕЗЖАЕТ В ЛОНДОН
Когда леди Бланш исчезла из виду, а следом за ней и женщины, прятавшиеся в пещере, Уильям и я отправились к известному нам ручью, протекавшему неподалеку, и утолили мучившую нас жажду. Потом мы пошли к тем троим, кого я убил из моего большого лука, надеясь вернуть мои последние стрелы. Однако это оказалось невозможным: одна из стрел — третья — была сломана, а две другие так глубоко впились в плоть и кость, что высвободить их могла только пила хирурга.
Поэтому мы оставили все как есть; и пока убитых не зарыли, многие приходили подивиться на это зрелище, считая почти чудом, что я убил этих троих тремя стрелами, и что лук, согнутый человеческой рукой, мог выпустить последнюю из стрел с такой силой, что она пробила железный щит и нагрудник.
Должен заметить, что эти доспехи Уильям взял себе, поскольку они были ему по росту. Я тоже, вернувшись на следующее утро на Замковый холм, снял с рыцаря, убитого мечом Взвейся-Пламя, его великолепную миланскую кольчугу, нагрудник которой был выложен золотом, и которая прикрывалась как бы короткой мантией из сетки, защищавшей швы; именно через такой шов меч врезался в плечо рыцаря. По странной случайности герб, или эмблема, на щите рыцаря представлял собой изображение трех зазубренных стрел, но имени рыцаря я так никогда и не узнал. Эти доспехи, которые, должно быть, стоили большой суммы денег, бейлиф отдал мне в дар, поскольку я убил их владельца и хорошо показал себя в битве. Более того, я сделал эти три стрелы своей эмблемой, хотя, по правде сказать, не имел права ни на какой герб, будучи в те дни только торговцем. (Если бы я знал тогда, какую службу мне сослужат эти доспехи в последующие годы!)
Приближалась ночь, и так как от устья пещеры нам было видно, что та часть Гастингса, которая расположена в направлении деревни Сент-Ленардс, по-видимому, уцелела от пожара, туда мы и направились, выбрав путь вдоль берега, подальше от жара и падающих обломков горящего города. По пути мы встречали других жителей и от них узнали о том, что произошло. Похоже было, что французы потеряли убитыми больше, чем мы, поскольку многие из них оказались отрезанными на берегу, когда их корабли снялись с якоря, а последние не все смогли отойти от берега или были частично потоплены вместе с находившимися на борту людьми подоспевшими английскими судами. Но ущерб, нанесенный Гастингсу, был столь велик, что едва ли одно поколение могло справиться с его последствиями, ибо большая часть города сгорела дотла или все еще была охвачена пожаром. Многие, как моя мать, погибли в пламени — больные, старики, роженицы, а также те, кто по той или иной причине были забыты или неспособны покинуть помещения. Сотни людей собрались на берегу, охваченные отчаянием, и не только женщины и дети плакали в этот вечер.
Что до меня, то мы с Уильямом миновали пожарище и пришли в дом к одному старому священнику, который был моим духовником, а до меня исповедовал моего отца; и там мы нашли стол и кров, а он вознес благодарственную молитву Богу за мое спасение и постарался утешить меня, потерявшего мать и лишившегося всего имущества.
В ту ночь я почти не спал, как не могут спать те, кто утомлен сверх меры. К тому же это было мое боевое крещение, и я вновь и вновь видел в воображении, как падают эти люди от моего меча и стрел, я гордился тем, что убил их, этих жестоких грабителей, и радовался тому, что с мальчишества учился владеть мечом и луком, так что мог сразиться с кем угодно и, пожалуй, стал самым метким стрелком в Гастингсе и завоевал серебряную стрелу на последнем состязании, один среди лучников всех возрастов. Однако картины смерти убитых мною захватчиков преследовали меня, и я представлял себе, как легко их участь могла быть моей, если бы они опередили меня, нанеся удар мечом или выпустив стрелу первыми.
— Где они теперь? — думал я. — В раю или в аду, о которых рассказывают священники? Признаются ли они в своих грехах какому-нибудь ангелу, в то время как тот со строгим замкнутым лицом проверяет их по своей книге, напоминая им о многих прегрешениях, о которых они забыли? Или они крепко спят вечным сном, как один тонкий мыслитель, которого я знал, говорил мне по секрету, признаваясь в своем убеждении, что такова судьба каждого из нас, что бы ни говорили нам и во что бы ни верили священники? И где сейчас моя мать, которую я так любил и которая любила меня, хотя внешне и была суровой женщиной, — моя мать, которая на моих глазах сгорела заживо и пела, охваченная пламенем? О, как порочен и мерзок этот мир, и как странно, что Бог заставляет мужчин и женщин появляться на свет для того, чтобы прийти к такому жестокому концу. Однако кто мы такие, чтобы сомневаться в Его установлениях, о которых мы не знаем ни начала, ни конца?
Во всяком случае я радовался тому, что я жив, ибо теперь, когда все позади, меня мучили страх и дрожь, чего я совершенно не испытывал во время битвы, даже когда казалось, что настал мой последний час.
И наконец, эта знатная леди, Бланш Эйлис, с которой так странно свела меня в тот день судьба. Ее голубые глаза пронзили мое сердце, как стрелы, и никакими усилиями я не мог вытеснить из головы мысли о ней и звук ее мягкого голоса из моего слуха, а ее поцелуи, казалось, все еще горели у меня на губах. Меня мучила мысль о том, что, быть может, я никогда больше ее не увижу, а если увижу, то не
смогу говорить с ней, — ведь я был настолько ниже, чем она, по своему положению и уже успел навлечь на себя гнев ее отца и (как я догадывался) возбудить ревность ее надушенного кузена, которого, говорили, король любил, как родного брата.
Что велела мне моя мать? Покинуть эти места и уехать в Лондон, найти там моего дядю Джона Триммера, купца и золотых дел мастера, который был моим крестным отцом, и попросить его взять меня в свое дело. Я помнил моего дядю, потому что лет семь или восемь тому назад, когда я был еще подростком, он навестил нас в Гастингсе в то время, когда Лондон постигла чума. Однако он прожил у нас всего неделю; по его словам, морской воздух плохо действовал на его желудок, и лучше рискнуть заболеть чумой, имея здоровый желудок, чем избежать ее, но с больным желудком. Правда, по-моему, он думал о своем деле, а вовсе не о желудке.
Странный он был старик, чем-то похожий на мою мать, но только нос у него был более горбатый, глаза маленькие, а лысая голова прикрыта бархатной шапочкой. Даже в летнюю жару ему всегда было холодно, и он носил старую, облезшую по краям шубу (меховую накидку), громко жалуясь на сквозняки. Он даже походил на старого еврея, хотя и был добрым христианином, и посмеивался про себя, поскольку, по его словам, это было выгодно для его торговли — евреев всегда боялись и считали, что обмануть и переспорить их просто невозможно.
В остальном я помню только, что он проэкзаменовал меня насчет моей учености и остался недоволен, и что он обошел наши владения, оценивая наши товары и показывая матери, как нас обманывают и как мы могли бы получать больше денег, чем мы имеем. Уезжая, он подарил мне золотой слиток и сказал, что жизнь — не более чем суета сует, и что я должен молиться за упокой его души, когда он умрет, так как он уверен, что она будет нуждаться в такой помощи; а также, что я должен употребить этот слиток золота с выгодой для себя. Это я и сделал — купил огромного свирепого дога, привезенного на корабле из Норвегии, которого я страстно хотел приобрести; этот дог укусил одного большого человека в нашем городе, и тот потащил мать в суд к бейлифу и добился уничтожения бедного зверя, к моей великой ярости.
Перебирая все это в памяти, я подумал, что в сущности мне ведь нравился дядя Джон, хотя он и отличался от всех окружающих. Почему бы мне не поехать к нему? Потому что я, любя море и свежий воздух, не хотел сидеть в лондонской лавке, а также из страха, что он может спросить меня, что я сделал с тем слитком золота, и поднять меня на смех из-за собаки. Однако мать велела мне ехать, и это было ее последнее приказание, предсмертное слово, ослушание которого могло бы привести к несчастью. К тому же наши корабли и дом сгорели, и мне придется долго и упорно трудиться, прежде чем я смогу восстановить утраченное. И наконец, в Лондоне я не буду видеть леди Бланш Эйлис и постепенно забуду огоньки в ее голубых глазах. Поэтому я решил, что уеду, и, наконец, заснул.
На следующее утро я исповедовался старому священнику, прося его среди прочих вещей снять с меня грех пролитой крови, на что он, будучи в душе убежденным англичанином, ответил, что этот поступок не нуждается в прощении ни Бога, ни человека. Я посоветовался с ним о том, что мне следует делать, и он сказал, что мой долг — повиноваться желаниям моей матери, поскольку предсмертные слова такого рода часто бывают внушены свыше и выражают волю неба. Далее он подчеркнул, что не мешало бы мне избегать леди Бланш Эйлис, которая намного выше меня по положению, и поэтому попытки видеться с ней могли бы кончиться для меня бедой и даже смертью. И кроме всего прочего, сказал он, я мог бы вернуть себе утраченное состояние с помощью моего дяди, по слухам — очень богатого человека, которому он напишет обо мне письмо.
Таким образом, вопрос был решен.
Однако прошло несколько дней, прежде чем я смог покинуть Гастингс: нужно было дождаться, пока остынет пепел на месте нашего дома, чтобы найти останки моей матери. Те, кто наконец нашли ее тело, говорили, что она обгорела гораздо меньше, чем можно было ожидать, но об этом я не могу судить, так как я не мог заставить себя взглянуть на нее, — ведь она хотела, чтобы я помнил ее такой, какой она была при жизни. Ее похоронили рядом с утонувшим отцом, на кладбище церкви Св. Клемента, и когда все удалились, я немного поплакал на ее могиле.
Оставшаяся часть дня прошла в приготовлениях к путешествию. Оказалось, что часть хозяйственных построек в дальнем конце двора уцелела от пожара, и в стойлах я обнаружил двух живых лошадей — серого жеребца для верховой езды и кобылу, которая возила на берег сети и снасти, а с берега — улов рыбы. Обе лошади, хотя и напуганные и одичавшие, были целы и невредимы. Я обнаружил также некоторые запасы — сетей, вяленой рыбы в бочках и еще каких-то вещей, в которых я не стал разбираться. Лошадей я оставил себе, а все остальное, включая и территорию, на которой стоял дом и хозяйственные постройки, передал Уильяму, а тот обещал выплатить мне стоимость всего этого, когда настанут лучшие времена и он сможет зарабатывать достаточно денег.
На следующее утро я выехал в Лондон на моем сером жеребце, погрузив доспехи убитого мною рыцаря и кое-какое оставшееся имущество на кобылу, которую я вел на веревке. Никто не пришел проститься со мной, кроме Уильяма, ибо отчаяние гастингцев было столь глубоко, что все были поглощены собственными переживаниями или оплакивали своих мертвецов. Я не жалел, что так получилось, поскольку мне было так тяжело покидать места, где я родился и жил всю жизнь, что я бы, наверно, разразился слезами, если бы кто-нибудь из моих бывших друзей обратился ко мне с добрым словом, — а мужчине не подобает плакать. Никогда еще я не чувствовал себя столь одиноким, как в ту минуту, когда, въехав на холм, я оглянулся на руины Гастингса, над которыми еще висела тонкая пелена дыма. Мужество, казалось, совсем меня покинуло; со страхом смотрел я в будущее, думая, что я рожден неудачником, что мне нечего ждать от жизни, и что, наверно, я кончу свои дни простым солдатом или рыболовом, а может быть, в тюрьме или на виселице. Я страдал от таких приступов мрачности с детства, но никогда еще мое отчаяние не было столь безнадежным и глубоким.
Наконец взошло и засияло солнце, и мое настроение изменилось. Я вспомнил, что я не только вышел живым из боя, но и невредим, молод и здоров, что у меня есть меч, лук и доспехи, да в придачу еще сколько-то золотых монет в мешочке, который мне дала матушка, вручая меч Взвейся-Пламя. Во мне вспыхнула надежда, что мой дядя примет меня как родного; а если нет, то найдется немало рыцарей, которые будут рады иметь оруженосца, умеющего стрелять не хуже любого лучника и владеющего мечом наравне с лучшими воинами.
Итак, вознеся бесхитростную молитву Св. Хьюберту, я взбодрил своего коня и, воспрянув духом, добрался до конца длинного подъема и очутился почти лицом к лицу с веселой кавалькадой, которая, судя по тому, что всадники держали на запястьях соколов, а за лошадьми бежали собаки, направлялась охотиться на болотах Левенси. Еще на расстоянии я узнал их — это были сэр Роберт Эйлис, его дочь Бланш и фаворит короля, молодой лорд Делеруа, в сопровождении слуг. Я хотел было уклониться в сторону, но, вспомнив, что имею такое же право, как они, ездить по дорогам короля, и призвав на помощь свою гордость, решил проехать мимо, не обращая на них внимания, разве что они заметили бы меня сами. Но они тоже узнали меня, ибо, имея острый слух, я уловил восклицание сэра Роберта: «Опять этот молодой рыбак! Проезжай мимо, дочка, не говори ни слова!»; услышал также пренебрежительное замечание лорда Делеруа; «Кажется, он обобрал убитых и теперь, как хороший коробейник, везет их доспехи для тайной распродажи».
Однако леди Бланш не ответила ни тому, ни другому, а смотрела прямо перед собой, делая вид, что разговаривает с соколом, сидевшим у нее на руке. Теперь, когда она пришла в себя и была спокойна, она показалась мне еще прекраснее, чем тогда, в отблесках пожара.
Так мы встретились и разъехались снова; я равнодушно взглянул на них, объезжая их по обочине дороги. Когда нас разделяло уже ярдов десять, я вдруг услышал возглас леди Бланш:
— О, мой сокол!
Я оглянулся и увидел, что ее сокол каким-то образом оказался на земле, и так как голова его была накрыта колпачком, он бился, хлопая крыльями, между копытами лошадей, в то время как одна из собак пыталась схватить и растерзать его. Поднялась суматоха, и в то время как все взоры устремились на сокола и собаку, леди Бланш с невозмутимым спокойствием обернулась, подняла руку, как бы стараясь понять, каким образом сокол мог упасть с нее, и быстрым движением, приложив пальцы к губам, послала мне воздушный поцелуй.
Я ответил таким же быстрым поклоном и продолжал свой путь; сердце мое сильно билось. Несколько мгновений меня переполняла радость, так как я не мог сомневаться в значении этого поцелуя. Но затем, подобно апрельской туче, налетела печаль; моя рана, которая была близка к заживлению, вновь открылась. Я уже начал забывать леди Бланш, или, скорее, усилием воли изгонять ее из головы, как велел мой исповедник. Но теперь на крыльях этого воздушного поцелуя она снова проникла в мои мысли и поселилась там на много дней.
Ночь я провел в Торнбридже, в уютном и спокойном трактире, где хозяин долго взирал на золотую монету, которую я вынул из мешочка, расплачиваясь за ночлег, и ни за что не хотел принять ее, потому что на ней была изображена голова какого-то древнего короля. Наконец один купец из Торнбриджа, зашедший в трактир, чтобы выпить свою утреннюю кружку эля, убедил его, что это настоящие деньги, так что все благополучно уладилось.
Около двух часов я достиг Саутварка — города, который показался мне столь же большим, каким был Гастингс до его разрушения. В Саутварке был прекрасный трактир под названием «Табард», в котором я и остановился, чтобы накормить лошадей и подкрепиться пищей и кружкой эля. Потом я отправился дальше и переехал через великую реку Темзу, по которой сновало множество кораблей и лодок. Я пересек ее по Лондонскому мосту, сооружению столь удивительному, что трудно было представить себе, как рука человека могла создать его, и такому широкому, что по обе стороны проезжей части умещались лавки, полные самых разнообразных товаров. Расспросив, как мне попасть в Чипсайд, я наконец добрался туда, прокладывая путь сквозь несметную толпу людей, — по крайней мере, так мне казалось, ибо я еще никогда не видал такого скопища мужчин и женщин, устремляющихся каждый в свою сторону и как будто не замечающих друг друга.
Я выехал на длинную и многолюдную улицу, по обе стороны которой теснились дома под островерхими крышами, демонстрируя всевозможные товары и ремесла. По ней я и потрусил, то и дело навлекая на себя проклятия, потому что моя вьючная кобыла, которую я вел на веревке, испуганно шарахалась из стороны в сторону и преграждала путь телегам, вынуждая их останавливаться и ждать, пока я распутаю веревку и приберу мою лошадь к рукам. После третьей такой заминки я отъехал к краю пешеходной дорожки, остановился позади повозки с бочками и огляделся, вконец ошеломленный.
Налево был дом, немного отстоявший от общей линии домов, и перед ним небольшой садик, в котором рос неухоженный и чахлый на вид кустарник. Очевидно, это был не просто жилой дом, потому что на железном пруте, укрепленном на фасаде, виднелась странная фигура — изображение лодки с приподнятыми кормой и носом и высоким бикхедом в форме головы дракона.
В то время как я разглядывал эту своеобразную вывеску, праздно размышляя о том, что это за судно и какой народ выходил на нем в море, на садовой дорожке показался человек, подошел к калитке и, облокотясь на нее, в свою очередь уставился на меня. Он был стар и выглядел как-то странно, в выцветшем и порыжевшем плаще с капюшоном, надвинутым на голову так, что были видны только острая белая бородка и пара блестящих черных глаз, которые, казалось, пронзали меня, как шило сапожника пронзает кожу.
— Что это вы, молодой человек, — сказал он высоким тонким голосом, — загородили мои ворота своими клячами? Или вы желаете продать эти доспехи? Если так, то я не интересуюсь такими вещами, хотя, кажется, ваш товар и неплохого качества. Так что ступайте куда-нибудь в другое место.
— Нет, сэр, — ответил я, — мне нечего продавать, я только ищу в этом улье торговцев одну пчелу и не могу ее найти.
— В улье торговцев! Поистине, богатые купцы Чипсайда были бы польщены. Так они уже успели ужалить тебя, молодого деревенского простофилю, каков ты есть, коли я не ошибаюсь? Но какую пчелу ты ищешь? Постой, я, кажется, догадываюсь. Уж не старого ли мошенника по имени Джон Гриммер, что торгует золотом, бриллиантами и другими драгоценностями и которому, если воздать по заслугам, самое место в тюрьме?
— Да, да, именно его, — сказал я.
— Он тоже будет наверняка польщен, — воскликнул старик, посмеиваясь. — Это мой друг, и я расскажу ему про твою шутку.
— Лучше бы сказали, где мне его найти.
— Все в свое время. Но сперва, мой юный сэр, откуда у вас эти прекрасные доспехи? Если вы их украли, вам следовало бы спрятать их получше.
— Я — украл? — начал я гневно. — Что я, лондонский коробейник?..
— Думаю, что нет, во всяком случае — пока, но кто из нас знает, какие злые шутки может сыграть с нами Фортуна? Ну ладно, если вы их не украли, то, может быть, вы прикончили того, кто их носил, и тогда вы — убийца; вон я вижу на стали черные пятна от крови.
— Убийца! — воскликнул я, едва не задохнувшись.
— Ага, такой же убийца, как Джон Гриммер — мошенник. Но если нет, то, возможно, вы сняли их с французского рыцаря, которого вы убили на Гастингском холме, прежде чем выпустить три стрелы у пещеры в Миннес-Рок.
Тут я уставился на него в изумлении.
— Закройте рот, молодой человек, а то у вас выпадут зубы. Удивляетесь, откуда я знаю? Ну так вот, мой друг Джон Гриммер, этот ювелир-мошенник, имеет магический кристалл, который он купил у одного человека, приехавшего с Востока. В этом кристалле я все и увидел.
Говоря так, он как бы случайно откинул капюшон, закрывавший его голову, и я увидел старческое морщинистое лицо и насмешливый рот с одним слегка опущенным уголком, — рот, который я сразу узнал, хотя с той поры, когда я был мальчишкой, прошло много лет.
— Вы — Джон Гриммер! — пробормотал я.
— Да, Хьюберт из Гастингса, я и есть этот мошенник! А теперь скажи мне, что ты сделал с тем золотым слитком, который я дал тебе лет двенадцать тому назад?
Я хотел было солгать, так как этот старик внушал мне какое-то чувство страха. Но, устыдившись, я признался, что потратил его на собаку. Он искренне рассмеялся и сказал:
— Молись, чтоб не отправиться вслед за этим слитком к чертям собачьим! Ну что ж, мне нравится, что ты говоришь правду, несмотря на соблазн лжи. Ты не погнушаешься найти на время пристанище под крышей купца-мошенника Джона Триммера?
— Вы смеетесь надо мной, сэр, — произнес я, заикаясь.
— Возможно, возможно! Но ведь в каждой шутке есть доля правды; если ты еще не знаешь, то впоследствии узнаешь, что все мы, каждый по-своему, мошенники, и если не обманываешь других, то обманываешь себя, и я, пожалуй, больше, чем остальные. Суета сует! Все на свете — суета.
Не ожидая ответа, он вынул из-под своего старого плаща серебряный свисток и приложил его к губам, и на его звук — столь быстро, что я невольно подумал, уж не ждал ли он поблизости, — явился коренастый слуга, которому старик сказал:
— Отведи этих лошадей в стойло и обиходь их, как моих собственных. Разгрузи это вьючное животное, почисть доспехи и отнеси их вместе с остальной кладью в ту комнату, что приготовлена для этого молодого господина, Хьюберта из Гастингса, моего племянника.
Не сказав ни слова, слуга увел лошадей прочь.
— Не бойся, — сказал, посмеиваясь, Джон Триммер, — хоть я и мошенник, собака не съест собаку, и никто — ни я, ни те, кто мне служат, — не возьмет ни одной из твоих вещей. А теперь — входи, — и он ввел меня в дом, открыв ключом, который вынул из кармана, дубовую дверь, украшенную железными шишечками.
Мы оказались в лавке, где я увидел много драгоценных вещей, таких, как меха и золотые украшения.
— Крошки для приманки птиц, особенно пташек-милашек
[221], — сказал он, указав на разложенные вокруг сокровища; потом провел меня через лавку в коридор, а оттуда — в комнату направо. Комната была небольшая, но такой обстановки я никогда в жизни не видел. В центре стоял стол черного дуба с изощренными резными ножками; на столе были расставлены серебряные чашки, а посередине — видимо, золотая ваза благородной формы. С потолка свисали серебряные светильники, уже зажженные (ибо уже смеркалось) и распространяющие сладостный аромат. В комнате был также очаг с дымоходом — что было большой редкостью, — и в нем горел маленький костер из дров; стены были увешаны гобеленами и расшитыми шелками.
Пока я с увлечением и удивлением оглядывался вокруг, дядя сбросил свой плащ, под которым оказался богатый, но довольно поношенный костюм; голову дяди покрывала бархатная шапочка. Он велел мне тоже снять плащ, и когда я повиновался, оглядел меня с головы до ног.
— Юноша что надо, — бормотал он про себя, — и я отдал бы все, чтобы быть молодым и таким, как он. Эти руки и мускулы, полагаю, у него от отца, ибо я всегда был худым и поджарым, как мой отец. Племянник Хьюберт, я слышал всю историю о том, как ты в Гастингсе расправился с французами, да падет на них божья кара; и могу прямо тебе сказать, что горжусь тобой: не знаю, как в будущем, но сейчас горжусь. Подойди ко мне.
Я приблизился, и он, взяв меня тонкой рукой за вьющиеся волосы, притянул к себе мою голову и поцеловал меня в лоб, бормоча: «Ни сына у меня, ни дочери — один только этот потомок древней крови. Да будет он ее достоин».
Потом он жестом велел мне сесть и позвонил в серебряный колокольчик, который взял со стола. Как и давеча со слугой, ответ последовал немедленно, из чего я заключил, что у Джона Триммера хорошие слуги. Не успело замереть эхо колокольчика, как отворилась скрытая за гобеленом дверь, и появились две молодые служанки, обе красивые, высокие и стройные, которые принесли ужин.
— Красивые женщины, племянник, неудивительно, что ты на них засмотрелся, — сказал он, когда они ушли, чтобы принести еще другие блюда. — Я люблю, чтобы в старости вокруг меня были такие. Женщины в доме, мужчины во дворе — таков закон природы, и несчастным будет тот день, когда он изменится. Однако остерегайся красивых женщин, племянник, и, пожалуйста, не целуй этих служанок, как ты целовал леди Бланш Эйлис в Гастингсе, не то весь мой уклад перевернется вверх дном, и служанки станут госпожами.
Я не ответил, смущенный тем, что дядя так много знает обо мне и моих делах; впоследствии я обнаружил, что эти сведения, по крайней мере частично, он получил от старого священника, моего духовника, который написал ему обо мне и моей истории и послал свое письмо с нарочным короля, выехавшим в Лондон на следующее утро после того, как начался пожар.
Но дядя и не ждал от меня ответа, а велел сесть к столу и приступить к ужину, угощая меня разными блюдами с самыми гонкими приправами, которые я не успевал поглощать, и наливая мне такие редкие вина, каких я ни разу до того не пробовал — их он доставал из шкафа, где они хранились в причудливых стеклянных сосудах. Однако сам он, как я заметил, ел очень мало, пощипав от грудинки жареной курицы и отпив лишь половину из маленького серебряного кубка, наполненного вином.
— Аппетит, как и все другие хорошие вещи, — это для молодых, — сказал он со вздохом, наблюдая, с каким удовольствием я ем. — Однако помни, племянник, что настанет день — если ты до него доживешь, — когда твой аппетит будет так же мал, как сейчас мой. Суета сует, сказал праведник, все на свете суета!
Наконец, когда я не мог больше съесть ни кусочка, он снова позвонил в серебряный звоночек, и те же красивые служанки, одинаково одетые в зеленое, появились и убрали все со стола. Когда они ушли, дядя подсел, сгорбившись, к огню, потирая худые руки, чтобы согреть их, и неожиданно сказал:
— А теперь расскажи о смерти моей сестры, и все остальное, что с тобой было.
И я, насколько мог лучше, рассказал ему все, что произошло, начиная с той минуты, когда я увидел французский флот с борта моей шхуны, и до самого конца.
— Ты не глуп, — сказал он, когда я умолк, — если можешь говорить, как любой образованный человек, и преподносить вещи так, что слушатель будто видит их своими глазами; я заметил, что на это способны весьма немногие. Значит, вот так все это было… Ну что ж, у твоей матери была великая душа, и смерть ее тоже была великой — такой, какая люба нашему северному народу и какой даже я, старый мошенник-купец, желал бы умереть, но не умру, ибо мне суждено умереть, подобно корове, на соломе. Молись Всеобщему отцу Одину — нет, это ересь, за которую меня сожгли бы на костре, если бы ты или мои девушки рассказали об этом священникам, — я хочу сказать, молись Богу, чтобы он даровал тебе лучший конец, такой, какой он даровал Торгриммеру, если это правда, — Торгриммеру, чей меч ты носишь и уже применил так умело, — об этом знает тот рыцарь-француз, который сейчас в аду.
— Кто был Один? — спросил я.
— Великий Бог скандинавов. Разве твоя матушка не рассказывала тебе о нем? Да нет, она была слишком хорошей христианкой. И все же, племянник, — он жив! Я хочу сказать, что Один живет в крови каждого воина, так же как Фрейя живет в сердце каждого юноши и каждой девушки, которые любят. Боги сменяют свои имена, но — молчок! Молчок! Не болтай об Одине и Фрейе, я ведь сказал, что это — ересь или язычество, что еще хуже. Что ты собираешься делать? Почему приехал в Лондон?
— Потому что так велела матушка. И чтобы попытать счастья.
— Счастье, — что есть счастье? Молодость и здоровье — вот это счастье. Хотя если знать, как пользоваться богатством, то многие, кто его имеет, могут пойти дальше других. Красивые вещи тоже приятны для глаз, и собирать их большая радость. И, однако, в конечном счете все это не имеет значения, ибо нагими вышли мы из тьмы и нагими туда вернемся. Суета сует, все на свете — суета!

ГЛАВА IV. КАРИ
Так началась моя жизнь в Лондоне, в доме моего дяди Джона Триммера, прозванного Золотых-Дел-Мастером. В действительности, однако, его деятельность была намного значительнее. Он давал деньги взаймы под проценты большим людям, которые в них нуждались, и даже королю Ричарду и его двору. Он имел корабли и вел оживленную торговлю с Голландией, Францией, — да, и с Францией, а также с Испанией и Италией. Хотя внешне он и выглядел весьма скромно, его богатство было велико и постоянно росло, как снежный ком, катящийся с горы. Более того, он владел большими участками земли, особенно близ Лондона, где было больше вероятности, что она повысится в цене.
— Деньги тают, — говорил он. — Меха портятся от моли и времени, богатство растаскивают воры. Но земля — если на нее имеешь право — остается. Поэтому покупай землю, ее никто не унесет; лучше всего близ торгового или растущего города; а потом сдавай ее в аренду дуракам, которые любят копаться в ней, или же продавай ее другим дуракам, которые желают строить огромные дома и тратят свои богатства, кормя множество бездельников-слуг. Дома требуют пищи, Хьюберт, и чем они больше, тем больше они съедают.
О том, чтобы я поселился у него, он не сказал ни слова, тем не менее здесь я и остался, как бы с обоюдного согласия. На следующее утро явился портной, чтобы снять с меня мерку и сшить мне одежду, какая, по мнению дяди, приличествовала моему положению; и поскольку с меня не потребовали платы, об этом, очевидно, позаботился сам дядя. Он также предложил, чтобы я обставил мою комнату по своему вкусу, так же, как и вторую комнату в глубине дома, которая была намного больше, чем казалась, и, по его словам, предназначалась мне для работы, хотя о том, какую именно работу мне предстояло в ней выполнять, не было сказано ни слова.
Несколько дней я бездельничал, бродя по Лондону с широко открытыми глазами и встречаясь с дядей только за едой, иногда наедине, а иногда в компании морских капитанов и ученых людей или же других купцов. Все они относились к нему с большим почтением и, как я скоро понял, фактически служили ему. Вечерами, однако, мы всегда были одни, и тогда он изливал на меня свою мудрость, в то время как я внимал ему, не говоря почти ни слова. На шестой день, устав от безделья, я осмелился спросить у него, не найдется ли для меня какой-нибудь работы.
— Еще бы не найтись, если ты расположен поработать, — ответил он. — Вот, садись сюда, возьми перо и бумагу и пиши, что я тебе скажу.
Затем он продиктовал мне короткое письмо насчет доставки вина из Испании и, посыпав лист песком, внимательно прочел написанное.
— Все правильно, — сказал он, явно довольный, — и почерк у тебя четкий, хотя немного детский. Видно, тебя неплохо учили в Гастингсе — не только тому, как обращаться с канатами и стрелами? Работа? Да тут уйма работы, особенно частного характера: я не могу ее дать первому попавшемуся писцу, который мог бы выдать мои секреты. Ибо знай, — добавил он суровым тоном, — что одного я не прощаю никогда, и это — предательство. Об этом помни, племянник Хьюберт, даже в объятиях твоих любимых или даже во хмелю.
Говоря так, он подошел к железному шкафчику, отпер его и, достав оттуда пергаментный свиток, велел мне отнести его в мою рабочую комнату и переписать с него копию. Я засел за работу и обнаружил, что это перечень всех его товаров и владений, и — о, каким длинным был этот список! Прежде чем я дошел до конца, я чуть ли не пожалел, что мой дядя так богат. Весь этот долгий день я трудился, оторвавшись лишь в полдень, чтобы перекусить, пока наконец у меня не заболели пальцы и не пошла кругом голова. И, однако, я испытал чувство гордости, догадываясь, что дядя поручил мне эту работу по двум причинам: во-первых, чтобы выказать мне свое доверие, и, во-вторых, чтобы познакомить меня с состоянием своих дел, но не просто со стороны, а как бы в виде рабочего поручения. К вечеру я закончил и сверил копию с оригиналом, спрятав и то, и другое в своей одежде, когда девушка в зеленом платье позвала меня ужинать.
За столом дядя спросил меня, что я сегодня видел, и я ответил — ничего, только цифры и неразборчивые надписи, и передал ему оба свитка, которые он сверил пункт за пунктом.
— Я доволен тобой, — сказал он наконец, — так как нашел одну-единственную ошибку, да и та не твоя, а моя. Кроме того, ты сделал двухдневную работу за один день. И все же не годится тому, кто привык работать на открытом воздухе, все время корпеть над актами и описями. Поэтому завтра я дам тебе другое поручение, тем более что и лошадь твоя застоялась.
Так оно и было, и на следующее утро он послал меня из Лондона в сопровождении двух слуг осмотреть одно из его владений у берегов Темзы, посетить его арендаторов и потом доложить о состоянии их хозяйства, а также о состоянии определенного леса, где он собирался рубить дуб для постройки корабля. Все это я выполнил с помощью посланных со мною слуг, которые познакомили меня с арендаторами; вечером после возвращения домой я рассказал дяде все, что тот рад был услышать, поскольку он, видимо, не был на этом участке целых пять лет.
В другой раз он послал меня на корабли, которые загружались его товарами, а однажды взял меня на распродажу мехов, прибывших с далекого севера, где, как мне рассказывали, никогда не тает снег, а море всегда сковано льдом.
Он также представил меня купцам, с которыми торговал; своим агентам, которые были весьма многочисленны, хоть и действовали большей частью секретно; и другим ювелирам, которые получали от него взаймы и в некотором смысле были партнерами, образуя род товарищества, гарантирующего получение больших сумм в случае внезапной нужды. Наконец, его клеркам и подчиненным было дано понять, что если я отдаю приказ, он должен быть выполнен, — хотя это случилось несколько позже, когда я пробыл у дяди уже некоторое время.
Таким образом, через год я знал все нити большого дела Джона Триммера, а на протяжении второго года оно стало все больше переходить в мои руки. Последним, с чем он меня познакомил, были займы, которые он предоставлял сильным мира сего и даже государству. Но наконец я освоился и с этим и узнал ближе некоторых из этих людей, которые наедине с нами были смиренными должниками, но, встречая нас на улице, проходили мимо с кивком, каким высшие удостаивают низших. В таких случаях мой дядя низко кланялся, не отрывая глаз от земли, и велел мне поступать таким же образом. Но когда они были уже далеко и не могли нас услышать, он посмеивался и говорил:
— Рыбки в моих сетях, золотые рыбки! Посмотри, как они сияют, а ведь через минуту будут биться и извиваться на берегу. Суета сует! Все вообще — суета, и Соломон в свое время, конечно, это знал.
Я работал все упорнее и упорнее, ворочая рычагами всех этих больших дел, и, чтобы поддерживать свое здоровье, по возможности урывал время для участия в соревнованиях лучников, где никто не мог меня превзойти, или упражнялся во владении мечом в школе военного искусства, которую содержал мастер этого дела из Италии. По праздникам и по воскресеньям после мессы я выезжал верхом из Лондона осматривать дядины поместья, где иногда и ночевал, а время от времени сопровождал партии его товаров в Голландию или Кале.
Однажды — это было месяцев восемнадцать спустя после моего приезда в Лондон — он вдруг сказал мне:
— Ты пашешь и сеешь, Хьюберт, а урожай не собираешь, довольствуясь тем, что уделяет тебе хозяин. Отныне бери у него сколько хочешь. Я не требую отчета.
Итак, я оказался богачом, хотя, говоря по правде, тратил на себя очень мало, отчасти потому, что вкусы мои были просты, а также потому, что частью дядиной политики было держаться скромно и не выставлять напоказ свое богатство, чтобы, как он говорил, не возбуждать к себе зависти. С этого времени он постепенно стал отходить от дел. Истинная причина, однако, заключалась в том, что возраст брал свое, и он понемногу терял силы. Он предоставил мне самые важные дела, лишь спрашивая о результатах и по временам давая советы. Но, не желая оставаться праздным, он занимался своей лавкой, которую он шутя называл силками для птиц, торгуя мехами и украшениями с таким жаром, как будто от каждой вырученной монеты зависел его хлеб насущный, и руководя изготовлением драгоценностей и прекрасных кубков, образцы которых он, как истинный художник, создавал для своих опытных и высокооплачиваемых работников, среди которых были и иностранцы.
— Мы пришли к тому, с чего начали, — говорил он, бывало. — Мастером был я с детства, мастером и умру. Что за судьба для потомка Торгриммера! И, однако, я, кажется, продаю тебя в такое же рабство. А впрочем, как знать? Как знать? Мы предполагаем, а Бог располагает.
Следует заметить, что когда старики отходят от занятий, заполнявших их жизнь, очень часто они вскоре уходят и из самой жизни. Так случилось и с моим дядей. День ото дня он хирел, пока наконец, с наступлением третьей зимы, что я жил с ним, не слег, все больше слабея, и в час рождения нового года он умер.
До самого конца он сохранил ясность и силу мысли, и никогда ум его не был яснее, чем в ночь его смерти. В тот вечер, поев, я, как обычно, пошел к нему в комнату и застал его за чтением прекрасной рукописной копии с книги мудрости царя Соломона под названием «Экклезиаст», — произведения, которое он предпочитал всем другим, так как высказанные в нем мысли совпадали с его мыслями. «Я собирал серебро и золото, и сокровища, достойные королей, — прочел он вслух то ли для себя, то ли обращаясь ко мне, и продолжал: — и стал я выше и богаче всех, кто был до меня… Потом посмотрел я на творения рук моих и на труды, мною затраченные; и увидел, что все это суета и смущение духа, и что никто ничего не выгадывает в этом мире».
Он закрыл книгу и сказал:
— К этому же придешь и ты, племянник, как приходит всякий в горькие дни старости, — когда ты скажешь: «Я больше не нахожу в них удовольствия». Хьюберт, я ухожу в вечную обитель, но я не печалюсь. В молодости я познал горе, ибо — хотя я никогда тебе не рассказывал, — я был женат, и у меня был сын — умный, живой мальчик. Как я любил его и его мать! Чума унесла обоих. Никого у меня не осталось, а по природе я из тех, кто может научиться жить без женщин — чего, боюсь, нельзя сказать о тебе, Хьюберт. И вот, видя, как много в мире страданий и горя, и как те, что зовутся благородными и кого я ненавижу, топчут незнатных и бедных, я занялся добрыми делами. Половину моих доходов я отдавал и отдаю тем, кто помогает бедным и больным; ты найдешь их список, когда я умру, — если, конечно, захочешь продолжать: я тебя ничем не обязываю. Но знай, Хьюберт, — я оставил тебе все, что имею: золото и корабли и все движимое и недвижимое имущество — в полное твое владение, а земли, главное богатство, — пожизненно, а после твоей смерти — твоим детям или, если ты умрешь бездетным, — определенным приютам, где заботятся о больных.
Я хотел поблагодарить его, но он отмахнулся от моих слов и продолжал:
— Ты говорил, что твоя мать предсказала тебе участь скитальца. Странно, но сейчас я подумал то же самое. Мне кажется, я вижу тебя где-то далеко отсюда — в сражении, в любви, в роскоши, — с поднятым Взвейся-Пламя, который когда-то сверкал в руке Торгриммера, нашего родоначальника. Ну что же, иди, куда влечет тебя душа, или куда поведут обстоятельства, хотя тебе и есть ради чего жить дома. Я бы хотел, чтобы ты женился, ведь брак — это якорь, с которого срывается редко какой корабль. Да только я не уверен, — как знать, на ком ты захотел бы жениться; а этот якорь, раз его бросишь, уже не поднять никаким воротом, одна лишь смерть может разрубить его цепь. Еще одно слово, Хьюберт. Хотя ты так молод и силен, помни, что когда-нибудь ты станешь таким же, как сейчас я. Сегодня я, а завтра — ты, сказал один мудрый старик, так всегда было и есть.
Хьюберт, я не знаю, почему мы рождаемся — чтобы бороться и страдать, пока наконец судьба не затянет на нас свою петлю. И все-таки я надеюсь, что священники правы и что есть вторая жизнь, хотя Соломон этого не думал, — то есть, конечно, если мы продолжаем жить там, где нет ни греха, ни скорби, ни страха смерти. Если это правда, то будь уверен, что в каком-то ином мире мы встретимся снова, и там я спрошу у тебя отчета, о том как ты употребил доверенное тебе богатство. Думай иногда обо мне с добрым чувством, ибо я полюбил тебя как родного; ведь пока мы живем в сердцах тех, кого любим, мы воистину не умерли. Подойди сюда, чтобы я мог тебя благословить в твоих делах и поступках, пока ты еще ходишь под солнцем.
И он благословил меня в прекрасных и нежных словах и поцеловал в лоб, после чего попросил оставить его и прислать смотревшую за ним женщину, ибо ему хочется соснуть.
Когда она в полночь взглянула на него — как раз когда колокола возвестили приход нового года — он был уже мертв.
Согласно его желанию, Джона Триммера — последнего, кто носил это имя — похоронили в приделе церкви, которая была в двух шагах от его дома, ибо здесь же покоились останки его всеми забытой жены и ребенка, покинувших этот свет более пятидесяти лет тому назад. Также по его желанию, погребение совершилось без пышности и великолепия, однако на похороны собралось много народу, и среди них кое-кто высокого звания, хотя день был холодный, и шел снег. Кроме того, я заметил, что теперь, когда стало известно, что я — наследник покойного, многие из тех, кто раньше никогда не заговаривал со мной, обращались со мной почтительно, а некоторые, улучив подходящую минуту, отзывали меня в сторону и выражали надежду, что я, в свою очередь, буду поддерживать дружбу, которая издавна существовала между ними и моим дядей.
Позже я нашел их имена в его записной книжке и обнаружил, что те, кто говорил со мной, были все без исключения его должниками.
Когда завещание было утверждено под присягой и я оказался обладателем такой массы денег, земель и других богатств, какая мне даже не снилась, я сначала был склонен отказаться от дел и поселиться в одном из моих поместий, где я мог бы жить в довольстве и изобилии до конца своих дней. Однако я этого не сделал, отчасти потому, что избегал новых лиц и новой обстановки, а отчасти из-за уверенности в том, что это было бы вопреки желанию моего дяди.
Вместо этого я поставил своей целью продолжать и даже повести дальше его игру. Он умер богатым человеком; я решил, что, умирая, буду в пять или шесть раз богаче, если возможно — самым богатым человеком в Англии, и не потому, что я жаждал денег — я тратил на свои нужды очень мало, — а потому, что добывание их и власть, которую они давали, казались мне высшим видом игры. Настроившись на такой лад, я удваивал и утраивал свои усилия в разных направлениях и выигрывал вновь и вновь даже там, где не хватало умения и предусмотрительности, словно сама Фортуна помогала мне с такой странной настойчивостью, что наконец я стал чувствовать суеверный страх перед ее дарами. Я стал также старательно скрывать свои богатства от посторонних глаз, помещая деньги на имя тех, кому я мог доверять, и ведя скромную жизнь в старом доме, чтобы не стать предметом зависти для голодных и добычей для знатных мотов и расточителей.
Это случилось в первое лето после смерти дяди. Я поехал в доки на Темзе, чтобы присутствовать при разгрузке корабля из Венеции, доставившего среди прочих и закупленные мной товары с Востока, такие, как слоновая кость, шелка, пряности, стекло, ковры и многое другое. Закончив свои дела и проследив, чтобы эти сокровища были перенесены на склад, я передал их список соответствующему работнику и оглянулся, ища мою лошадь.
В этот момент я и увидел, что толпа подростков и других бездельников издевается над человеком, который стоял среди них, закутавшись в плащ, с виду как будто из потрепанной овчины, но на самом деле, очевидно, из чего-то другого, ибо мех на нем имел красноватый оттенок и выглядел длинным и мягким; человек натянул на голову капюшон, так что лица почти не было видно. Он стоял, высокий и молчаливый, терпеливо, как мученик у столба, в то время как эти мерзкие парни швыряли в него всякие отбросы вроде рыбьих голов и гнилых фруктов, которыми была усеяна набережная, и выкрикивали оскорбительные слова. Одно я уловил: «черномазый».
Подобные сцены были достаточно обычны, но меня привлекло спокойное достоинство жертвы этого издевательства, и я подошел к разнузданной черни и велел им разойтись. Один из них, грубый мужлан, не зная, кто я, оттолкнул меня в сторону, посоветовал не соваться не в свое дело, на что я ответил ему таким ударом между глаз, что он рухнул, как поверженный бык, и остался лежать, ошеломленный. Его товарищи начали было мне угрожать, но я вынул свисток, и тотчас прибежали двое моих слуг, без которых я редко выходил из дому в те смутные времена, и схватились за короткие мечи; при виде их бездельники пустились наутек.
Когда они скрылись, я повернулся и взглянул на незнакомца. Капюшон спал у него с головы, и я увидел, что это человек лет тридцати, со смуглым и благородным лицом, безбородый, но с прямыми черными волосами, с черными сверкающими глазами и орлиным носом. И еще одно бросилось мне в глаза — мочка его уха была проколота, и притом странным образом, так что в проколе могло бы поместиться маленькое яблочко. Он был так худ, что отовсюду торчали кости, как у голодающих, на руках виднелись порезы и царапины, а на лбу темнела большая ссадина. Он был, видимо, совсем сбит с толку, и почти лишился сил, однако понял, как мне показалось, что я дружески расположен к нему, ибо он поклонился мне и трижды поцеловал воздух — но тогда я еще не знал, каков смысл этого жеста.
Я заговорил с ним по-английски, но он мягко покачал головой, показывая, что не понимает меня. Потом, как бы сообразив что-то, он несколько раз похлопал себя по груди, каждый раз повторяя до странности мягким голосом: «Кари». Я решил, что это слово — его имя. По крайней мере, с этой минуты и всегда я звал его «Кари».
Теперь возник вопрос о том, что с ним делать. Оставить его здесь на посмешище или на погибель я не мог, отослать его тоже было некуда. Оставалось только одно — взять его с собой. И вот, осторожно взяв его за руку, я увел его с набережной туда, где стояли наши лошади, и знаками предложил ему сесть на одну из них, велев слуге, который на ней ездил, дойти до дому пешком. Однако при виде лошадей незнакомца охватил дикий ужас, он задрожал всем телом, на лице выступил пот, и он вцепился в меня, словно ища защиты; очевидно, он никогда не видел подобных животных. В самом деле, ничто не могло убедить его сесть на лошадь. Он отрицательно качал головой и показывал на ноги, давая мне таким образом понять, что он предпочитает пойти пешком, несмотря на всю свою слабость.
В конце концов он действительно пошел пешком, от Темзы до Чипсайда, а вместе с ним и я, потому что я не решился оставить его одного из боязни, что он сбежит. Странное это было зрелище — я и этот смуглый странник, которого я вел по лондонским улицам; и я порадовался, что уже вечер и лишь немногие могут нас видеть, а те, кто нам встречался, вероятно, думали, что я поймал вора-иноземца и теперь веду его в тюрьму.
Наконец мы достигли «Корабельного дома», как называли мое жилище, по изображению судна древних викингов, которое мой дядя вырезал из дерева и прикрепил над входом; и я провел его в дом и вверх по лестнице в пустовавшую комнату для гостей. По пути он озирался вокруг, смотря во все глаза, которые на его худом лице казались огромными, как глаза совы, а лестница и вовсе озадачила его, так что он брал как бы приступом каждую ступеньку, задирая ногу высоко вверх.
В комнате, кроме кровати и другой мебели, был еще серебряный умывальник с полагавшимся к нему кувшином — прекраснейшие вещи, которые среди прочих — не знаю, откуда — привез в свое время Джон Гриммер. Они тотчас приковали к себе взгляд Кари, и он смотрел на них при свете зажженных мною свечей с таким выражением, как будто они были для него старыми знакомыми. Более того, — взглянув на меня, как бы прося разрешения, — он подошел к кувшину, наполненному водой в ожидании посетителей, которые часто приходили ко мне по делу, поднял его и, пролив на пол несколько капель воды, как бы принося некую жертву, стал жадно пить, показывая тем самым, насколько его изнурила жажда.
Потом он, не спеша, наполнил умывальник и, сбросив свой истрепанный плащ, стал мыться до пояса, ниже которого на нем осталось
лишь нечто похожее на женскую нижнюю юбку, как мне показалось, из грязной хлопчатобумажной ткани. Наблюдая за ним, я заместил две вещи: во-первых, что его бедное тело было так же исцарапано и покрыто шрамами, словно от шипов, как его лицо и руки, а также испещрено синяками и ссадинами, будто от пинков и ударов; и, во-вторых, что на шнурке вокруг шеи он носил удивительную фигурку из золота длиной примерно в четыре дюйма. Это было грубо сделанное изображение человека с поджатыми под подбородок коленями, но лицо, с глазами из крошечных изумрудов, выражало глубокое и торжественное достоинство.
Эту фигурку Кари вымыл прежде, чем плеснул на себя хоть каплю воды, и при этом кланялся ей, а увидев, что я наблюдаю за ним, поднял глаза к небу и произнес какое-то слово, звучавшее как «Пачакамак»; из чего я заключил, что это некий идол, которому бедняга поклоняется. Последним, что я на нем заметил, был привязанный у пояса кожаный мешочек, наполовину чем-то заполненный.
Я нашел моющий шарик
[222], изготовленный из оливкового масла и золы бука, и показал, как им пользоваться. Сначала он отшатнулся от этого странного предмета, но, поняв его назначение, охотно им воспользовался, улыбаясь тому, как хорошо он очищает его кожу. Потом я достал шелковую рубашку и пару домашних туфель, подбитый мехом халат, принадлежавший дяде, а также штаны, и показал ему, как их надеть; это он освоил достаточно быстро. С гребенкой и щеткой, лежавшими на столе, он уже познакомился, когда еще до умывания приводил в порядок свои спутанные волосы.
Когда все было в некотором роде закончено, я снова повел его вниз, в столовую, где нас ждал ужин, и подвинул ему еду, при виде которой глаза его заблестели, ибо он уже просто умирал от голода. Сесть на стул он отказался, то ли из почтения ко мне, то ли потому, что этот предмет был ему не знаком, — не знаю, но заметив обитую ковром скамеечку, на которую дядя, бывало, клал усталые ноги, он устроился на ней, и так, сгорбившись, съел все, что я ему давал, — очень деликатно, несмотря на то, что был очень голоден. Потом я налил в кубок вина, полученного из Португалии, и немного отпил сам, чтобы показать ему, что оно безвредно, после чего, попробовав глоток, он выпил все до последней капли.
Закончив ужин (который я счел нужным сократить, из-за того что голодному и ослабевшему человеку много есть опасно), он снова поднял глаза к небу, как бы в знак благодарности, а потом — возможно, из благодарности ко мне, — опустился передо мной на колени, взял мою руку и прижал ее к своему лбу: тем самым (но тогда я этого не знал) он поклялся служить мне. Видя, как сильно он утомлен, я проводил его обратно в его комнату и указал ему на кровать, закрывая при этом глаза, чтобы он понял, что на этой кровати он будет спать. Он, однако, наотрез отказался от кровати и упорствовал до тех пор, пока не стянул на пол все постельное белье; из этого я заключил, что, к какому бы народу он ни принадлежал, он и его соплеменники имели обыкновение спать на земле.
Снова и снова я задавался вопросом, кто этот человек и к какому народу он принадлежит, так как никогда и нигде я не встречал человеческое существо, которое хоть чем-нибудь было на него похоже. Лишь в одном я был уверен — в том, что он человек высокого ранга, поскольку ни один представитель знати в тех странах, которые я знал, не вел себя с такой мягкой деликатностью и не обладал столь утонченными манерами. Я не раз видел черных людей, которых называли неграми, и других, повыше сортом, которых называли маврами, — по большей части это были грубые, вульгарные малые, готовые в состоянии раздражения перерезать вам горло, но я никогда не встречал такого, как этот Кари.
Прошло много времени, прежде чем я смог удовлетворить свое любопытство, но и тогда я узнал сравнительно мало. Медленно и постепенно Кари выучил, хотя бы в какой-то мере, английский язык, но не настолько, чтобы бегло говорить на нем: казалось, что в уме он всегда переводит на английский с какого-то другого языка, полного странных образов и выражений. Когда спустя много месяцев он уже достаточно освоился с нашим языком, я попросил его рассказать мне свою историю, и он попытался это сделать. Однако все, что я извлек из его рассказа, сводилось к следующему.
Он сказал, что он — сын царя, который властвует над могучей империей далеко-далеко отсюда, за тысячи миль морского пути, в той стране неба, где садится солнце. По его словам, он — самый старший законный сын, родившийся от сестры царя (что, по моим представлениям, совершенно ужасно, — хотя он, быть может, имел в виду двоюродную сестру или родственницу), однако, кроме него, у его отца еще десятки других детей, что показывает, что этот царь, должно быть, человек весьма свободного нрава, напоминающий в своей домашней жизни мудрого Соломона, которого так любил мой дядя.
Далее из рассказа следует, что этот царь, отец Кари, имел еще одного сына от другой жены, и что он его любил больше, чем моего гостя. Этого сына звали Урко, и он ревновал и ненавидел Кари — законного наследника. Более того: как часто бывает, в этом была замешана женщина. Дело в том, что Кари имел, жену, самую прелестную женщину в стране, хотя, как я понял, из другого племени или рода, и Урко влюбился в эту жену Кари. И так пламенно он желал ее, — кстати, у него было множество собственных жен, — что, будучи полководцем царских войск, он с согласия царя послал Кари командовать армией, которая должна была справиться с народом одной отдаленной и дикой страны; он надеялся, что Кари будет убит, так же как надеялся Давид в истории с Урией и Катшебой, о которых рассказано в Библии. Но случилось иначе: вместо того чтобы погибнуть в сражении, как Урия, Кари одержал победу и через два года вернулся ко двору царя. Здесь он обнаружил, что брат его Урко увлек его жену и взял ее к себе в дом. Разгневанный Кари вернул свою жену по приказу царя, но предал ее смерти за ее измену.
За это царь, его отец, — человек весьма суровый — изгнал его из страны, раз он нарушил ее законы, запрещающие личную месть по отношению к женщине, которая не принадлежит к царском роду, будь она даже самая красивая из всех женщин. Однако прежде чем Кари покинул родину, Урко, в ярости от потери своей любимой, велел тайно подмешать Кари яд, который хотя и не убивает (на это Урко не решился из-за высокого положения брата), но приводит к потере разума, иногда полностью, а иногда на год или больше. После этого, рассказывал Кари, он ничего или почти ничего не помнил, кроме долгих странствий по морю и через леса, а потом — снова по морю на плоту или в лодке; и на этот раз он был один в течение многих и многих дней, имея при себе только кувшин с водой и сушеное мясо, которое он ел вместе с удивительным зельем, известным его народу; это зелье обладает способностью неделями поддерживать в человеке жизнь, даже если этот человек изнемогает от тяжелого труда. Немного этого зелья еще осталось в кожаном мешочке, который я видел у Кари.
Наконец, сказал он, его подобрал большой корабль, такого корабля он никогда не видел, но плохо его запомнил. В сущности, он ничего не помнил до того, как очутился на набережной Темзы, где я его и обнаружил, и тут вдруг разум как будто вернулся к нему. Но ему казалось, что его привезли на берег в лодке, в которой были рыбаки и в которую его ссадили с большого корабля, державшего курс в какое-то другое место, и что он долго шел по берегу какой-то реки. Эта история отчасти объяснила ссадины у него на лбу и теле, но многое оставалось неясным, а к тому времени, когда я услышал эту историю, обнаружить какие-либо следы рыбаков и их лодки было невозможно. Я спросил его, как называется его страна. Он отвечал, что ее название — Тавантинсуйу. Он добавил, что это чудесная страна, в которой есть города и церкви, и высокие горы с покрытыми снегами вершинами, плодородные долины и плато, и жаркие леса, через которые текут широкие реки.
У всех ученых людей, которых мне доводилось встречать, и особенно у тех, кто совершал далекие путешествия, я спрашивал о стране под названием Тавантинсуйу, но никто даже не слыхал такого названия. Они заявляли, что мой смуглый гость, должно быть, прибыл из Африки и, будучи не в своем уме, просто придумал эту диковинную страну, которая, по его словам, лежит далеко на западе, где заходит солнце.
Пришлось на этом поставить точку, хотя лично я был уверен, что Кари не сумасшедший, чем бы он ни был в прошлом. Он был большим мечтателем, это правда, уверяя, что подсыпанный ему братом яд «проел дырку у него в мозгу», и через эту дырку он может видеть и слышать то, чего не могут другие. Так, он был способен с удивительной ясностью читать тайные мотивы мужчин и женщин, так что иногда я спрашивал его, смеясь, не может ли он дать мне немного этого яда, чтобы я мог сам проникать в сердца тех, с кем я имею дело. Еще в одном он был всегда уверен — в том, что непременно вернется в свою страну Тавантинсуйу, о которой он думал день и ночь, и что я должен сопровождать его. В ответ я смеялся, говоря, что если это и так, это случится после нашей смерти.
Постепенно он вполне овладел английским языком и даже научился читать и писать на нем; в свою очередь, он научил меня многому, что было характерно в его собственном языке, который он называл куичуа: это мягкий и прекрасный язык, хотя, говорил он, в его стране существует и много других, в том числе секретный язык, известный только царю и его семье. Кари не имел права разглашать его, хотя хорошо им владел. Со временем я настолько освоился с его «куичуа», что мог перекидываться с Кари короткими фразами, когда мне не хотелось, чтобы окружающие поняли, о чем я говорю.
Сказать по правде, пока я изучал этот язык и слушал чудесные рассказы Кари, во мне возникло страстное желание увидеть эту страну и завязать с ней торговые отношения; по его словам, золото было там так же обычно, как у нас железо. Я подумал даже о том, чтобы плыть на запад в поисках неведомой земли, но когда я рассказал о своем намерении кое-кому из капитанов, даже самые смелые и предприимчивые мореплаватели посмеялись надо мной, говоря, что подождут с этим путешествием до той поры, когда им самим придется «идти на запад», что на их морском жаргоне, которому они выучились в Средиземноморье, означало «умереть»
[223].
Когда я поделился этим с Кари, он улыбнулся своей загадочной улыбкой и ответил, что все равно мы — я и он — совершим это путешествие вместе еще до того, как умрем; что и случилось на самом деле, хотя не по моей и не по его воле.
В остальном Кари очень заинтересовало изготовление украшений, предназначенных для продажи знатным людям, и особенно дамам двора. Видя, как мои мастера обрабатывают золото и оправляют им драгоценные камни, он попросил разрешить ему заняться этим искусством, в котором, по его словам, он тоже кое-что смыслил, — и таким образом зарабатывать свой хлеб. Я ответил согласием, ибо понимал, как тяготит его гордую натуру зависимое положение, и предоставил ему серебро и золото и небольшое помещение с плавильной печью, где он мог успешно работать. Первое, что он сделал, была странная вещица около двух дюймов в поперечнике, круглая и с желобком на обратной стороне, в то время как лицевую сторону украшало изображение солнца в виде человеческого лица с расходящимися от него лучами. Я спросил его, что означает этот предмет. Он взял его у меня из рук и вставил себе в ухо, в тот разрез, сделанный в его мочке, который я ранее описал. Потом он объяснил мне, что в его стране все люди благородного происхождения носят такие украшения и называются поэтому «ушниками» в отличие от простонародья. Он рассказал мне также много других подробностей, пересказ которых здесь занял бы слишком много места, но которые еще больше разожгли мое желание увидеть эту империю своими глазами; в том, что это империя, именно Кари убедил меня своими рассказами.
Впоследствии Кари делал много таких украшений, которые я продавал в качестве брошей, снабженных булавкой на обратной стороне. Он создавал и другие вещи — чашки и тарелки необычных образцов и с богатым орнаментом, которые успешно продавались по высокой цене, ибо искусство Кари было удивительно. Но всякий раз в центре или какой-нибудь другой части его произведения присутствовало изображение солнца. Я спросил его, почему. Он ответил: потому что солнце — его Бог, ибо его народ поклоняется солнцу. Я напомнил ему, как он говорил, что его Бог — некий Пачакамак, чье изображение он носит на шее. На это он сказал:
— Да, Пачакамак — это Бог над всеми богами, Созидатель, Мировой Дух, но Солнце — это его зримый дом и одеяние, в котором все могут его видеть и поклоняться ему.
Я подумал, что в этом утверждении есть доля правды, поскольку вся Природа — это одеяние, в котором Бог являет себя нам.
Я пытался обучить Кари нашей вере, но хотя он терпеливо слушал и, как мне казалось, понимал меня, он не стал христианином, ясно дав мне понять, что, по его мнению, человек должен жить и умереть в той вере, в какой он родился, и что все увиденное им в Лондоне не убеждает его в том, что христиане чем-то лучше тех, кто поклоняется Солнцу и Великому Духу — Пачакамаку. Поэтому я отказался от своих попыток, хотя и сознавал, что положение его как язычника может в любой момент стать опасным. И в самом деле, два-три раза священники осведомлялись насчет его вероисповедания, проявляя любопытство ко всему, что его касалось. Однако я заставил их замолчать, отговорившись тем, что сам наставляю его по мере сил и умения, и что он еще слишком, плохо знает английский язык, чтобы воспринять их святые речи. А когда они попытались все же настоять на своем, я послал щедрые дары их монастырям, а если это были приходские священники — их церквам и приходам.
И все-таки этот вопрос меня беспокоил, ибо некоторые из этих священнослужителей были весьма свирепы и нетерпимы, и я был уверен, что со временем они вновь возьмутся за это дело.
Я заметил еще одну черту Кари — он избегал женщин и даже как будто ненавидел их. Служанки, оставшиеся со мной после смерти дяди, почувствовали это, по своей женской натуре, и в отместку стали отказываться служить ему. В конце концов, боясь, что они донесут на него священникам или причинят ему еще какое-либо зло, я заменил их мужчинами. Такую неприязнь Кари к женщинам я приписывал страданиям, которые доставила ему его неверная красавица-жена; я думаю, я был прав.
ГЛАВА V. ПОЯВЛЕНИЕ БЛАНШ
Однажды — это было в последний день года, годовщину смерти моего дяди, о доброте и мудрости которого я все чаще и больше думал, — я, освободившись на время от более важных дел, сидел в лавке, которую Джон Гриммер называл силками для ловли «пташек-милашек» и которая продолжала существовать, — таково было бы желание дяди. Я с удовольствием разглядывал прекрасные вещицы, приготовленные для продажи, в то время как старший мастер объяснял мне некоторые детали, так как я все еще мало знал об искусстве их изготовления.
В это время в лавку вошли двое — очень нарядная и утонченная леди и еще более нарядный молодой лорд. Правда, в своих одинаковых, подбитых горностаем плащах с капюшонами они казались столь похожими друг на друга, что с первого взгляда трудно было различить, кто мужчина, а кто женщина, но когда они сбросили плащи, так как после улицы в лавке было тепло, сердце мое на миг остановилось, ибо я не только отличил их друг от друга, но увидел, что это не кто иные, как леди Бланш Эйлис и ее родственник лорд Делеруа.
Если в те давние дни сожжения Гастингса ее можно было сравнить с лилейным бутоном, то теперь она была раскрывшимся цветком и поражала красотой: поистине в своем стиле она была прекраснейшей женщиной, какую я когда-либо видел. Высокая и величественная, как цветок лилии, она, как лилия, сияла белизной, подчеркивавшей ее чудесные голубые глаза с загнутыми темными ресницами. Столь же совершенной была ее фигура — с полной, но не слишком полной, грудью, тонкой талией и изящными руками, — настоящая Венера, как та, что я видел воплощенной в древнем мраморе, которую привезли из Италии, как я полагаю, в дар королю, любителю подобных вещей, и которая украшала его дворец.
Милорд тоже выглядел лучше, чем прежде, — красивее, крепче и мужественнее, хотя он по-прежнему одевался и щеголевато, и ярко, а носки его башмаков, загнутые кверху, закреплялись под коленями тонкими золотыми цепочками. И все-таки это был красивый мужчина с живыми черными глазами, подвижным ртом и острой бородкой, от которой, как и от его волос, пахло духами. Увидев меня в купеческом обличье — ибо я помнил дядины советы относительно манеры одеваться — он заговорил со мной тоном, каким большие люди говорят с лавочниками.
— Вот так встреча, мистер! — сказал он своим звучным, хорошо поставленным голосом. — Я бы хотел сделать новогодний подарок вот этой леди, а мне сказали, что у вас можно найти лучшие образцы изделий из серебра и золота: золотые чашки, бриллианты в богатой и редкой оправе, и все с изображением солнца, — очень кстати в такой день, как сегодня. Однако позовите Джона Триммера. Я не привык иметь дело с мелкими сошками. Или проводите меня к нему.
Я поклонился ему, потирая руки, и, поддаваясь настроению, ответил:
— Тогда, боюсь, мне придется отвести милорда гораздо дальше, чем ему сейчас хотелось бы; хотя кто знает? Может быть, милорд, как и любой из нас, отправится в это путешествие раньше, чем он думает.
При звуке моего голоса леди Бланш пристально взглянула на меня, пытаясь рассмотреть мое лицо, закрытое в этот холодный день наброшенным на голову капюшоном.
Делеруа вздрогнул и отрывисто спросил:
— То есть?
— Очень просто, милорд. Джон Триммер умер, и где он сейчас пребывает, я не знаю, ибо он унес эту тайну с собой. Но я, его достойный продолжатель, к вашим услугам.
Я повернулся и велел приказчику передать Кари, чтобы он пришел и принес с собой самые лучшие из наших кубков, чашек и драгоценных камней.
Приказчик ушел, а я пригласил знатных покупателей отдохнуть у огня. Когда я ставил для них кресла, я случайно коснулся руки леди Бланш, которая опять попыталась заглянуть под мой капюшон. Как будто сама природа в ней узнала это прикосновение, как узнает инстинктивно каждая женщина, если губы коснувшегося хоть раз приближались к ее губам, хотя бы это было и много лет назад. Но я лишь отвернулся и еще глубже натянул капюшон.
Явился Кари, а с ним и приказчик, который нес драгоценный товар. На Кари был шерстяной плащ, очень простой, который, однако, так шел ему, что Кари с его тонким лицом и сверкающими глазами выглядел как переодетый восточный принц. Он сразу привлек внимание этой утонченной пары, ибо они никогда еще не видели подобного человека, но тот не обратил на это никакого внимания и с многократными поклонами стал показывать им драгоценности, одну за другой. Среди них была одна брошка, особенно высокой стоимости — большой, имеющий форму сердца рубин, который Кари оправил золотом в виде переплетающихся змеек с поднятыми головами, как бы готовых ужалить, и с глазами из крошечных алмазов. Леди Бланш не могла отвести глаз от этой броши и, отодвинув в сторону все остальные украшения, любовалась и играла ею до тех пор, пока лорд Делеруа, наконец, не спросил о цене. Я посоветовался с Кари, объяснив, что сам не занимаюсь этой отраслью своего дела, и затем небрежно назвал цену; это была очень большая сумма.
— Ей-богу, Бланш, — сказал Делеруа, — этот купец воображает, что я сделан из золота! Ты должна выбрать что-нибудь подешевле, хотя это и новогодний подарок, иначе ему придется подождать, пока я смогу заплатить.
— На что я, возможно, и согласился бы ради покупателя вашего сорта, милорд, — прервал я его, поклонившись.
Он взглянул на меня и сказал:
— Могу я поговорить с вами наедине?
Я снова поклонился и провел его в столовую, где он с изумлением оглядел богатую обстановку. Я подвинул ему резной стул и, смиренно стоя перед ним, пока он обводил взглядом комнату, ждал, что он скажет.
— Мне говорили, — начал он наконец, — что Джон Гриммер вел и другие дела, кроме торговли ювелирными изделиями.
— Да, милорд, торговлю с некоторыми странами.
— И внутри страны тоже. Я имею в виду денежные займы.
— По временам, милорд, под солидное поручительство и под определенный процент. Может быть, милорд перейдет прямо к делу?
— Коротко и просто: те из нас, кто бывает при дворе, всегда нуждаются в деньгах, или, по крайней мере, в золоте, чтобы добиться продвижения и заработать королевскую милость через того, кто не платит.
— Будьте любезны, милорд, назвать сумму и имя поручителя.
Он назвал и то, и другое. Сумма была большая, а поручительство — сомнительное.
— Есть ли кто-нибудь еще, достаточно состоятельный, кто мог бы реально поручиться за вас, милорд?
— Да, человек большого состояния, сэр Роберт Эйлис — у него обширные земли в Сассексе.
— Я слыхал это имя, и если милорд соблаговолит поручить своим адвокатам изложить все это на бумаге, я велю оценить эти земли и дать вам ответ как можно скорее.
— Для молодого человека вы слишком осторожны, купец.
— Увы! Без этого нельзя, если хочешь сохранить в наши смутные времена войн и потрясений свои скромные доходы. Сумма, которую вы назвали, равна всем нашим сбережениям, которые стоили Джону Триммеру и мне многих лет труда.
Он снова оглядел обстановку комнаты и пожал плечами, потом сказал:
— Хорошо. Это будет сделано, ибо вопрос не терпит отлагательства. Кому адресовать письмо?
— Джону Триммеру, Корабельный Дом, Чипсайд.
— Но вы сказали, Джон Гриммер умер?
— Так и есть, милорд, но имя его остается.
После этого мы вернулись в лавку, и пока мы шли, я сказал:
— Если вашей леди, милорд, так понравился этот рубин, я могу некоторое время подождать с оплатой — я понимаю, как трудно отказывать жене в ее желаниях.
— Да она мне вовсе не жена, а дальняя родственница, Я бы рад жениться, но как могут пожениться двое знатных нищих?
— Может быть, ради этого милорд и хочет получить ссуду?
Он опять пожал плечами, и мы вошли в лавку. Войдя, я откинул капюшон и остался в бархатной шапочке, какие обычно носят люди купеческого звания. Леди Бланш увидела меня и вздрогнула.
— Конечно же, конечно, — начала она, — вы тот, кто выпустил знаменитые три стрелы у пещеры в Гастингсе.
— Да, миледи, а как ваш сокол? Удалось спасти его от собак тогда, на лондонской дороге?
— Нет, его покалечили, и он погиб… И это было первой из многих неприятностей, и моя удача уехала в тот день вместе с вами, мистер Хьюберт из Гастингса, — добавила она со вздохом.
— Соколов много, а удача возвращается, — ответил я, поклонившись. — Может быть, эта безделушка вернет вам ее, миледи, — и с этими словами я подал ей рубиновое сердце, обвитое змейками.
— О! — произнесла она, и ее голубые глаза просияли от удовольствия. — О, она прекрасна, но где же взять деньги для такой дорогой вещи?
— Думаю, это тот случай, когда с деньгами можно подождать.
В этот момент лорд Делеруа вмешался со словами:
— Так это вы убили французского рыцаря старинным мечом, а потом застрелили еще трех французов, пробив одной стрелой щит, и кольчугу, и тело — об этом после много рассказывали, даже в Лондоне. Ей-богу, вам следовало бы служить королю в его войсках, а не самому себе, стоя за прилавком.
— Служить можно разными способами, милорд, — отвечал я, — не только сталью и стрелами, но также пером и товаром. Для меня лично настала очередь вторых. Хотя может статься, что древний меч и черный лук только ждут своего времени.
Он уставился на меня и пробормотал почти про себя:
— Странный купец и безжалостный, как, может быть, подумали те мертвые французы. Признаться, господин торговец, от ваших речей и взглядов этого мавра у меня по спине бегут мурашки; такое чувство, будто кто-то прошел по моей могиле. Пойдем, Бланш, пора, а то как бы наши лошади не продрогли, как я. Мастер Гриммер или Гастингс, я вам напишу, если не найду другого способа устроить свои дела. А на эту безделушку напишите мне счет, когда вам будет удобно.
Засим они уехали; но, выходя из лавки, леди Бланш за что-то зацепилась плащом, и, задержавшись на миг, обернулась и метнула на меня один из тех нежных взглядов, которые я так хорошо помнил.
Кари проводил их до двери и проследил, как они вскочили на своих лошадей у ворот, потом опустил глаза, словно разглядывая землю у своих ног.
— За что она зацепилась? — спросил я.
— За мечту, или за воздух — здесь больше не за что зацепиться. Те, что бросают копья за спину, должны сначала оглянуться назад.
— Что ты думаешь об этой парочке, Кари?
— Думаю, что они не заплатят за ваш рубин, но, возможно, это была приманка на крючке.
— А что еще, Кари?
— Думаю, что эта леди очень красива и вероломна, и что сердце этого большого лорда так же черно, как его глаза. А еще думаю, что они дороги друг другу и хорошо подходят один другому. Но, видимо, вы встречали их и раньше, мастер, так что знаете их лучше, чем ваш раб.
— Да, встречал, — ответил я резко, расстроенный тем, что он сказал о Бланш, и добавил: — Я заметил, Кари, что у тебя никогда не найдется доброго слова о тех, кто мне нравится. Ты ревнив от природы, Кари, особенно в отношении женщин.
— Вы спрашиваете, я отвечаю, — смиренно возразил он, нарушая правила английской грамматики, как всегда в минуты волнения, — и это правда, что кто много влюблен, много ревнив. Это недостаток моего народа. А также я не люблю женщин. А теперь я иду делать другую брошь вместо той, что мастер отдал леди. Только в этот раз это будет все — змея, и никакого сердца.
Он ушел, захватив с собой поднос с драгоценностями, а я отправился в столовую и стал думать.
Какой странной была эта встреча. Я никогда не забывал леди Бланш, но в каком-то смысле всем своим образом жизни заставил себя приглушить память о ней и, помня дядин совет, не искал встречи с ней, отчего и держался вдали от Гастингса, думая, что она по-прежнему там. И вот она в Лондоне, и в моем доме, словно сама судьба привела ее ко мне. И это еще не все, ибо ее голубые глаза пробудили угасший огонь в моем сердце, и, сидя теперь наедине с собой, я знал, что люблю ее; более того, никогда не переставал любить. Для меня она была дороже, чем все мои богатства, дороже всего на свете, а между нами — увы! — все та же глубокая бездна.
Правда, она не замужем, но она — знатная леди, а я всего лишь купец, который даже не может назвать себя сквайром или законно носить одежду из определенных тканей, которыми я ежедневно торгую в своей лавке. Как же перейти через эту бездну?
Потом среди этих размышлений в моей памяти всплыли некоторые высказывания моего дяди, мудрого старика, а вместе с ними и ответ на этот вопрос. Золото перекидывает мосты через самые широкие реки, разделяющие людей друг от друга. Эти отпрыски знати, кичащиеся своим высоким положением, на самом деле бедны. Они приходят ко мне занять денег, чтобы позолотить свои гербы и удовлетворить назойливых кредиторов, осаждающих их пороги, — иначе их выбросят с их высоких мест и оттеснят в ряды тех, кто составляет простое стадо, потому что они уже не могут ни давать, ни платить тем, кто дает.
И, в конце концов, уж так ли велика разница между ними и мною? Прадед сэра Роберта Эйлиса, как мне рассказывали, накопил свои богатства посредством торговли и ростовщичества в пору прежних войн; говорили даже, что он был из тех, кто разводил и продавал скот; а лорд Делеруа, как утверждают, — незаконный сын, хотя и голубой крови, такой голубой, что она приближается к королевской крови. Ну, а моя? Со стороны отца — саксы, потомки танов, которые попали под власть норманнов и в дальнейшем превратились в скромных землевладельцев более мелкого пошиба. На стороне матери — древние властители морей, которые сражались и побеждали во всех концах известного им мира. Намного ли я ниже нынешней знати? Нет, конечно; но, подобно моему отцу и дяде, я тот, кто покупает и продает, а рука красильщика всегда запятнана краской из его чана.
Итак, все ясно. Я, человек упорный, не обойденный природой и Фортуной, принесшей мне богатство, я решил завоевать эту женщину, которая, как мне казалось, смотрела на меня благосклонно с тех пор, как я избавил ее от грозивших ей опасностей. Не сходя с места, я поклялся себе, что я ее завоюю. Вопрос лишь в том, как это сделать? Я мог бы поступить на службу к королю и сражаться в его битвах и, несомненно, заслужить рыцарское или даже более высокое звание, которое открыло бы мне запертые ворота.
Но нет. Это слишком долго, а что-то во мне говорило, что время не терпит. Этот непонятный чужестранец Кари сказал, что леди Бланш увлечена своим родственником Делеруа; и хотя я негодовал против Кари и приписывал его слова ревности ко всякому, на кого я смотрел с симпатией, я хорошо знал его дар проницательности. Если я стану мешкать, эта редкая белая птица упорхнет из моей руки в клетку другого хозяина. Я должен либо действовать немедленно, либо оставить все как есть. Ну что ж, у меня есть богатство — так пусть богатство будет мне другом. А если оно не поможет, я всегда успею попытать счастья на войне.
На третий день нового года в разгар придворных пирушек и увеселений — что показывало, насколько велика нужда Делеруа в деньгах, — я получил указанные мной сведения вместе со списком земель и имущества, которые сэр Роберт Эйлис был готов отдать мне в залог ради своего друга и родственника Делеруа. Почему он идет на это? — думал я. Ответ может быть лишь один: потому что именно он, а не Делеруа, должен получить эти деньги или большую их часть.
Но нет, есть еще одна вероятная причина: потому что он смотрит на Делеруа как на своего наследника, каким тот будет, когда женится на леди Бланш. А если так, то я должен действовать, и притом быстро, иначе я никогда больше не увижу леди Бланш; и единственная дорога к ней — этот выложенный золотом путь. Я стал изучать списки земель. Оказалось, что большая часть их мне известна, так как они лежали в окрестностях Левенси и Гастингса; и я увидел, что они едва ли стоят тех денег, которые у меня просят. Ну и что же? Суть этого дела ведь не в торговой выгоде, и как бы велика ни была эта сумма, я готов был рискнуть ею ради возможности получить Бланш.
Кончилось тем, что, не дождавшись результатов оценки, я написал о своей готовности выдать золотом названную сумму, поскольку право поручителя на эти земли и имущество не вызывает сомнений.
Это мое письмо оказалось только началом долгого дела, подробности которого можно опустить. На следующий же день меня вызвали в дом сэра Роберта Эйлиса, расположенный в Вестминстере, недалеко от дворца и от Вестминстерского аббатства. Я нашел, что этот грубоватый старый рыцарь еще больше поседел и приобрел какой-то затравленный вид. Тут же находились лорд Делеруа и двое адвокатов, которые мне очень не нравились — в них проглядывало что-то хитрое, лисье. С первой же минуты я заподозрил, что меня обманывают, и если бы не Бланш, я бы тут же отказался от этого соглашения. Из-за нее я этого не сделал, но, вновь изложив свои условия и указав сумму и сроки выплаты процентов, долго сидел, стараясь говорить как можно меньше, и слушал, как адвокаты, разворачивая пергаментные свитки, говорили и говорили, не всегда согласуясь друг с другом, — пока, наконец, лорду Делеруа, которому было явно не по себе, все это не надоело, и он вышел из комнаты. Но в конце концов все, что можно было сделать на этом заседании, было сделано, и поскольку подошло время обеда, меня пригласили откушать с ними, и я остался в надежде увидеть Бланш.
Дворецкий, или особый слуга, провел меня в столовую, где было накрыто два стола: один на возвышении, или помосте, а другой — возле него, но внизу, и усадил меня вместе с адвокатами за нижний стол. Между тем на помосте появились сэр Роберт Эйлис, его дочь Бланш, лорд Делеруа и еще восемь-десять знатных особ, которых я никогда не видел. Осмотревшись, леди Бланш тотчас заметила, что я здесь и сижу внизу, и, обернувшись к отцу и Делеруа, видимо, стала их в чем-то убеждать, и особенно последнего. И действительно, в наступившем внезапно минутном молчании я уловил кое-что из ее слов. Она говорила: «Если вы не стыдитесь брать у него деньги, вы не должны стыдиться сидеть с ним за столом».
Делеруа топнул ногой, но кончилось тем, что меня пригласили к высокому столу; леди Бланш подвинулась и усадила меня рядом с собой, а Делеруа сел в конце стола между двумя роскошными дамами.
Так я и остался рядом с Бланш, которая, как я про себя отметил, приколола на платье рубиновую брошь — сердце, обвитое змейками. Собственно говоря, это было первое, с чем она обратилась ко мне, сказав:
— Хорошо выглядит на платье, не правда ли, и я очень благодарна вам за нее, мастер Хьюберт: я ведь знаю, что этот подарок — вовсе не от Делеруа, а от вас, потому что вы никогда не увидите тех денег, которых она стоит.
Вместо ответа я посмотрел на великолепные серебряные блюда и на пышное убранство стола, на обилие яств и число слуг. Читая мои мысли, она сказала:
— Да, но все заложено, решительно все. Знайте, мастер Хьюберт, что мы — голодные псы, хоть и живем на псарне с золотой решеткой. А теперь они собираются заложить вам и эту псарню.
Пока я обдумывал, что на это сказать, она заговорила о наших переживаниях минувших дней, вспоминая все случившееся до мельчайшей детали и каждое сказанное слово — кое-что из этого я уже успел забыть. Об одном только она не упомянула — о поцелуях, которыми мы обменялись на прощание. Когда среди прочего она говорила о том, как старинный меч прорубил доспехи французского рыцаря, я рассказал ей, что этот меч имеет имя — Взвейся-Пламя, что он перешел ко мне от моего предка, викинга Торгриммера, и о том, что написано на его лезвии, все это она с жадностью выслушала.
— И они еще смели думать, что вы недостойны сидеть за их столом, — вы, потомок такого древнего рода и такой замечательный воин, как вы доказали в тот день. И только вам я обязана жизнью и даже больше, чем жизнью, вам, а не им.
Говоря так, она бросила на меня взгляд, который пронзил меня насквозь, так же как мои стрелы пронзили французов; тем более что под скатертью ее тонкая рука на миг легла на мою руку.
После этого мы некоторое время молчали, лично я не мог произнести ни слова. Но потом наша беседа возобновилась, и нам никто не мешал: слева от меня никого не было, так как я сидел с краю, а соседом Бланш справа был толстый старый лорд, который был туг на ухо и интересовался напитками больше, чем ему было полезно. Я многое рассказал ей о себе, о том, что мне говорила мать в день пожара, и как она предсказывала, что я буду скитальцем; на это Бланш со вздохом ответила:
— И, однако, мастер Хьюберт, вы, кажется, плотно вросли в Лондон и в его плодородную почву.
— Да, конечно, госпожа. Но это не моя родная почва; и вообще мы идем туда, куда, ведет нас судьба.
— Судьба! О чем напоминает мне это слово? Ах, да: вашего мавра, который делает эти драгоценные вещицы. У него глаза, как глаза самой Судьбы; я боюсь его.
— Это странно, госпожа, а впрочем, не так уж и странно, ибо в этом человеке действительно есть что-то роковое. Он все время клянется, что я буду сопровождать его в какую-то таинственную страну, где он родился и был принцем.
Тут я рассказал ей историю Кари, которую она выслушала с широко раскрытыми от удивления глазами.
— Значит, вы спасли и этого бедного скитальца, — сказала она, когда я кончил. — Несомненно, он вас очень любит.
— Да, госпожа, может быть, даже слишком, если он ревнует меня, — хотя, видит Бог, я ничего для него не сделал, только вызволил его из беды на набережной.
— Да, я заметила, как он следил за вами тогда, в лавке. И все-таки это странно; я думала, что только женщины могут ревновать мужчин, и мужчины — женщин. Но тише! Кажется, над нами смеются из-за того, что мы так по-дружески беседуем.
Я посмотрел по направлению ее взгляда и увидел, что Делеруа и обе его дамы, уже приняв свою долю вина, указывают на нас. И в самом деле, в наступившем вдруг молчании, какое по временам случается на пирах, я услышал, как одна из них сказала:
— Смотрите, как бы ваша красивая белая голубка не выскользнула из ваших рук и не стала ворковать в чье-то чужое ухо, лорд Делеруа! — и как он ответил:
— О нет, я крепко ее держу! Да и кому нужна крылатая голубка, если ее перья украшают чью-то чужую шапку?
Пока я вдумывался в тайный смысл этих фраз, все встали из-за стола, и леди Бланш ускользнула в боковую дверь, а за ней, как я заметил, поспешил Делеруа, явно разгоряченный и разгневанный.
Много раз я посещал этот роскошный дом, казавшийся мне притоном для людей, которые, занимая даже самое высокое положение и пользуясь благосклонностью при дворе, проявляли ту же распущенность в жизни, какую позволяли себе в разговорах. Право же, я не святой, но мне они резко не нравились, особенно мужчины — с их надушенными волосами, задранными носками башмаков и яркими пестрыми нарядами. Не нравились они, кажется, и сэру Роберту Эйлису, который при всех своих недостатках был грубоватым рыцарем более старого толка и с честью сражался в войнах с Францией. И, однако, я замечал, что он беспомощен в их руках, вернее, в руках Делеруа, королевского фаворита и главы всей этой банды. Казалось, будто этот веселый молодой человек имеет какую-то власть над старым воином, да и над его дочерью тоже, хотя я не мог понять ни сущности, ни источника этой власти.
А теперь продолжу свой рассказ. В свое время документы были подписаны и вручены мне, и деньги было выплачены чистым золотом от моего имени, после чего пышная жизнь большого дома в Вестминстере стала еще роскошнее, но когда подошел срок уплаты процентов, я не получил ни гроша. Потом начались разговоры о том, чтобы я взамен этой суммы согласился принять некоторые из земельных участков. Предложил это сэр Роберт, и я согласился, потому что Бланш сказала мне, что это поможет ее отцу. И только когда этому делу дали ход, мои адвокаты обнаружили, что эти земли уже давно заложены, и их владелец не имеет права передавать их кому-либо другому.
Тогда между сэром Робертом и лордом Делеруа произошла яростная ссора, при которой я присутствовал. Осыпая своего кузена градом проклятий, сэр Роберт обвинил его в том, что во время его пребывания во Франции тот подделал его имя, на что Делеруа заявил, что он воспользовался именем сэра Роберта, имея на то законные полномочия. Они уже схватились было за мечи, но наконец Делеруа отвел Эйлиса в сторону и со свирепой усмешкой сказал ему что-то на ухо, отчего старый рыцарь почти упал в кресло и закричал:
— Уходите прочь, вы, лгун и мошенник! Прочь из этого дома! Да, да, и из Англии. Если я снова вас встречу, клянусь кровью Господа нашего, я зарежу вас, как борова!
На что Делеруа ответил с издевкой:
— Хорошо! Я уеду, мой милый кузен, тем более что по поручению короля у меня есть дела во Франции. Да, да, я уеду и предоставлю вам одному улаживать дела с этим достойным торговцем, который может считать, что вы оставили его в дураках. Делайте что хотите, кроме одного, но об этом вы знаете. А теперь одно слово моей кузине Бланш, одно слово — во дворце, и я уезжаю в Лувр. Прощайте, кузен Эйлис. Прощайте, почтенный купец, — ваши потери огорчили бы меня, если б я не знал, что вскоре вы возместите их из благородных карманов. И не хороните меня раньше времени, я весьма скоро вернусь, можете не сомневаться!
Тут кровь моя вскипела, и я ответил:
— Не спешите с возвращением, милорд, а то как бы не случилось, что я встречу вас со щитом и мечом в руках вместо пера и процентного купона!
Услышав мои слова, он воскликнул:
— Ей-богу, этот торговец возомнил себя рыцарем! И с издевательским смехом удалился.
ГЛАВА VI. ЖЕНИТЬБА, И ЧТО БЫЛО ПОТОМ
Сэр Роберт Эйлис и я молча смотрели друг на друга — ярость лишила нас дара речи. Наконец он сказал хриплым голосом:
— Извините, мистер Гастингс, за оскорбления, которые этот низкий лордишка нанес вам, честному человеку. Говорю вам, это распущенный и беспринципный подлец, — вы бы убедились в этом, если б знали всю его историю, — василиск, которого я, видно, за свои грехи взрастил на своей груди. Это он растратил все мое имущество; это он злоупотребил моим именем, так что в результате вас ввели в заблуждение. Он пользуется моим домом, как своим собственным, приводит сюда мерзких придворных женщин и мужчин — еще более мерзких, хоть они и носят высокие имена и пестрые одежды… — Тут ярость перехватила ему дыхание, и он умолк.
— Почему же вы все это терпите, сэр? — спросил я.
— Черт возьми, потому что я вынужден, — ответил он угрюмо. — Он держит меня и моих друзей в руках. Этот Делеруа имеет большую силу, мистер Гастингс. Стоит ему шепнуть королю одно слово — и я, или вы, или любой другой, — можем оказаться в Тауэре по обвинению в государственной измене, а оттуда уже не выходят.
Затем, словно желая уйти от разговора о власти над ним Делеруа, он продолжал:
— Боюсь, что ваши деньги или большая часть их в опасности, ибо обязательство Делеруа недействительно, а поскольку земля уже заложена без моего ведома, мне неоткуда взять золота. Поверьте, я честный человек, хотя и попал в дурную компанию, и эта подлость режет меня без ножа, ибо я просто не знаю, как вам заплатить.
Меня осенила одна мысль, и по своей привычке действовать немедленно в любом деле, я тут же ею воспользовался.
— Сэр Роберт Эйлис, — сказал я, — если бы вы и кто-то еще отнеслись к этому благосклонно, я вижу один способ погасить этот долг, не нанося вам бесчестья и все же с выгодой для меня.
— Так скажите же, ради Бога! Ибо я не вижу никакого выхода.
— Сэр, было время — там, в Гастингсе, — когда я смог оказать некоторую услугу вашей дочери, и в то время она покорила мое сердце.
Он вздрогнул, но сделал мне знак продолжать.
— Сэр, я преданно люблю ее и больше всего на свете хотел бы жениться на ней. Я знаю, она намного выше меня по положению, но хотя я и купец, я из хорошего рода и могу это доказать. Более того, я богат, а те деньги, которые я одолжил вам, или лорду Делеруа, или вам обоим, — лишь малая доля моего богатства, а оно растет день ото дня в честной торговле. Сэр, если бы мое предложение было принято, я был бы готов не только помогать вам и дальше на определенных условиях, но и завещать большую часть всего богатства леди Бланш и нашим детям. Сэр, что вы на это скажете?
Сэр Роберт теребил рыжую бородку и смотрел в пол. Потом он поднял голову, и я увидел его расстроенное лицо, лицо человека, который борется с собой или, как я подумал, со
своей гордостью,
— Честное предложение, честно изложенное, — сказал он, — но вопрос не в том, что скажу я, а в том, что скажет Бланш.
— Не знаю, сэр, я никогда ее не спрашивал. Однако по временам мне казалось, что она относится ко мне не без симпатии.
— Правда? Ну что ж, пожалуй, теперь, когда он… Впрочем, оставим это. Мастер Гастингс, я разрешаю вам попытать счастья и говорю вам прямо — я надеюсь, что все будет хорошо. С вашим богатством вы можете быстро улучшить свое положение, а человек вы честный; я был бы рад приветствовать вас как сына — мне осточертели эти придворные мошенники и накрашенные распутницы. Но если ваше отношение к Бланш действительно таково, как вы говорите, мой совет вам — не теряйте времени, действуйте сейчас же. Помяните мое слово, для такой лебедушки в грязной воде двора расставлена не одна сеть.
— Чем скорее, тем лучше, сэр.
— Отлично. Сейчас я вам ее пришлю. Еще одно слово — не робейте, не принимайте за ответ первое же «нет» или какие-нибудь там фантазии насчет прошлого, какие свойственны всем женщинам.
Внезапно он вышел из комнаты, оставив меня в недоумении: в его словах и в тоне, каким он произнес все это, было что-то непонятное. Одно я понял несомненно: сэр Роберт хочет, чтобы я женился на Бланш. Принимая во внимание все обстоятельства, мне это показалось странным, хотя я и был богат, а у нее ничего не было. Вероятно, подумал я, он согласился, потому что тайное злоупотребление его именем задело его самолюбие. Остановившись на этом, я стал думать о том, что я скажу Бланш.
Я ждал довольно долго, но она все не являлась, так что я наконец решил, что ее нет дома или что она отказалась меня видеть. Однако она все же пришла, но так тихо, что я, уставившись на видневшееся из окна аббатство, не слышал, как открылась и закрылась дверь. Должно быть, я почувствовал ее присутствие, потому что вдруг обернулся и увидел, что она стоит передо мной. Она была вся в белом, ее сияющие светлые волосы, увенчанные диадемой, были заплетены в косы. Короткая накидка, отделанная горностаем, была схвачена у шеи единственным украшением — рубином, обвитым змейками, который я ей подарил. В таком виде она выглядела особенно прелестной и нежной, и никогда я еще не любил ее с такой тоской и страстью.
— Отец сказал мне, что вы хотите поговорить со мной, и вот я пришла, — сказала она тихим и ясным голосом, с любопытством устремив на меня свои большие глаза.
Я наклонил голову и промолчал, не зная, как начать.
— Что я могу сделать для вас после того плохого, что с вами сделали? — продолжала она с легкой улыбкой, как будто ее забавляло мое смущение.
— Только одно, — воскликнул я, — выйти за меня замуж. Только этого я хочу, и не меньше.
Ее прекрасное лицо, до сих пор бледное, вспыхнуло румянцем, и она опустила глаза, словно пытаясь что-то рассмотреть среди устилающего пол тростника.
— Выслушайте меня, прежде чем ответить, — продолжал я. — Помните, в тот кровавый день в Гастингсе — вы были еще почти девочкой — я впервые заговорил с вами и полюбил вас, и поклялся тогда, что умру, но спасу вас. Я вас спас, и мы поцеловались, и нас разлучили. Потом я старался забыть вас, зная, что вы недосягаемы для такого, как я, хотя ради вас я не искал брака ни с какой другой женщиной. Эти годы прошли, и судьба опять свела нас, и что же? Прежняя любовь стала еще сильнее! Я знаю, я недостоин вас — вы такая недоступная, добрая, чистая. И все-таки… — и я запнулся, не находя слов.
Она сделала движение, как будто от внезапной боли, и краска отхлынула от ее лица.
— Подумайте, — произнесла она с какой-то жесткой ноткой в голосе. — Может ли женщина, которая живет такой жизнью, как моя, и водится с такой компанией, оставаться столь святой и незапятнанной, как вы вообразили? Та лилия, которую вы ищете, растет в деревенском саду, а не в духоте и копоти Лондона.
— Не знаю и знать не хочу, — отвечал я; казалось, вся кровь во мне пылала огнем. — Но одно я знаю: где бы вы ни росли, на какой почве, — вы тот цветок, который я бы сорвал.
— Все же подумайте хорошенько; что, если мою белизну запачкал уродливый слизняк?
— Тогда честный дождь и солнце вымоют и возродят ее, а я, как садовник, засыплю слизняка известью.
— Если этот довод вас не убедил, то выслушайте еще один. Может быть, я не люблю вас. Вы бы взяли в жены ту, которая не любит?
— Может быть, вы смогли бы полюбить, а если нет, то моей любви хватило бы на двоих.
— Поистине это было бы нетрудно с таким честным и удачливым человеком. И все же — еще одно возражение. Мой кузен Делеруа обманул вас. (Тут лицо ее помрачнело.) И я думаю, мой отец предлагает вам меня во спасение своей чести, точно так же, как люди, не имеющие золота, предлагают дом или лошадь, чтобы погасить свой долг.
— Это не так. Я просил вас в жены у вашего отца. А если я что-то потерял, то в торговле это бывает, я рискую чем-то каждый день. Однако, скажу вам прямо и откровенно, я шел на этот риск с открытыми глазами, не обольщаясь насчет результата, — только для того, чтобы приблизиться к вам.
Тут она села на стул, закрыв лицо руками, и я увидел, что ее тело содрогается от рыданий. Пока я думал, как мне поступить — ведь это зрелище потрясло меня, — она стала отнимать руки от лица; щеки ее блестели от слез.
— Рассказать вам всю мою историю, добрый вы, простодушный джентльмен?
— Нет. Только две вещи. Вы не замужем?
— Нет. Хотя, быть может, я была близка однажды к этому. Ваш второй вопрос?
— Возможно, вы любите другого, и ваше сердце говорит вам, что вы никогда бы не смогли полюбить меня?
— Нет, не люблю, — ответила она почти с ненавистью, — но клянусь распятием, одного я ненавижу!
— Что меня совершенно не касается, — сказал я, засмеявшись. — А прочее — Бог с ним. Мало кто выходит из битвы жизни без единого шрама, который не пришлось бы прятать, и я не из таких счастливчиков; хотя, если говорить по правде, самую глубокую рану нанесли мне ваши губы — там, в пещере у Гастингса.
Услышав это, она залилась краской и, забыв про свои слезы, искренне рассмеялась. А я продолжал:
— Поэтому забудем прошлое и, если вам угодно, обратим наши взоры в будущее. Только одно обещайте мне — что вы никогда больше не останетесь наедине с лордом Делеруа. Ведь тот, кто одним росчерком пера похитил имя, может украсть и что-нибудь другое.
— Клянусь душой! Меньше всего я желаю быть наедине с моим кузеном Делеруа.
Тут она поднялась со стула, и мы немного постояли, глядя в глаза друг другу. Потом с легким движением, словно желая обнять меня, она приблизила ко мне лицо.
Так Бланш Эйлис и я обручились, хотя позже, обдумывая это событие, я вспомнил, что она ни разу не сказала, что выйдет за меня замуж. Однако это меня мало тревожило, поскольку в таких случаях важно не то, что женщины говорят, а то, что они делают. Кроме того, я был безумно влюблен в нее, и мне казалось — и тогда, и в последующие дни — что она все увереннее идет по той же дороге любви. Если нет, то, право же, она хорошо играла свою роль.
Прошло не более месяца, и в один октябрьский день нас обвенчали в церкви Св. Маргариты, в Вестминстере. Как только согласие было достигнуто, все хотели, чтобы этот брак поскорее осуществился, и Бланш желала этого не меньше других. Сэр Роберт Эйлис стремился как можно скорее уехать из Лондона в свое поместье в Сассексе, говоря, что двор и его нравы ему надоели и что его горячее желание в том, чтобы спокойно прожить остаток дней; я, сгорая от любви к моей невесте, жаждал видеть ее рядом с собой, а сама Бланш клялась, что ей не терпится стать моей женой, утверждая, что период ухаживания, начавшийся еще в Гастингсе, был достаточно долгим. Кроме того, не было никаких причин для промедления. Я аннулировал долг сэра Роберта и, написав завещание в пользу его дочери и ее детей, вручил копию, его адвокату; и теперь мне оставалось только подготовить свое жилище к ее приему, тем более что я мог располагать большими денежными суммами.
Никто не делал события из этой женитьбы, так как ни родня сэра Роберта, ни он сам не желали предавать гласности тот факт, что его единственное дитя, последний отпрыск его рода, выходит замуж за купца, чтобы спасти своего родителя от краха. Да и я, этот купец, не хотел вызвать толки среди людей моего сословия, — уже и так было известно, что я предоставил заем этим знатным господам при дворе. Поэтому лишь немногие были приглашены на церемонию, назначенную на ранний час, и из приглашенных пришли не все из-за разразившейся в этот день страшной бури с дождем и ветром — такой бури в октябре я не помню ни до, ни после.
Вот и получилось, что мы венчались в почти пустой церкви, и неистовый ветер, от которого дрожали и звенели стекла, заглушал слабый голос старого священника так, что тот выглядел как актер, играющий в пантомиме. От густой пелены дождя тьма была такая, что я едва различал прелестное лицо моей невесты и с трудом надел кольцо ей на палец.
Наконец церемония завершилась, и мы направились к выходу, чтобы сесть на коней и отбыть в мой дом, где должно было состояться празднество для моих подчиненных и для тех из моих немногих друзей, которые хотели прийти — и среди которых не было ни одной важной особы из Вестминстера. Мы были почти у самых дверей, когда я заметил среди присутствующих тех двух разодетых дам, между которыми сидел Делеруа на обеде в день обсуждения контракта о займе, Более того, я услышал, как одна из них сказала:
— Что же будет делать Делеруа, когда вернется и обнаружит, что его любимая исчезла? — и как ответила вторая:
— Поищет другую, конечно, или займет у этого купца, еще денег и… — но тут открыли дверь, и конец ее фразы затерялся в шуме ворвавшегося ветра.
На паперти нас ждал старый сэр Роберт Эйлис.
— Матерь Божья! — закричал он. — Да будет ваша семейная жизнь спокойнее, чем ваша свадьба! А я — прямо домой, какой уж там Чипсайд в эту дьявольскую погоду. Прощай, сын Хьюберт, желаю тебе всяческого счастья. Прощай, Бланш. Учись быть послушной женой и не спускай с мужа глаз — таков тебе мой совет. До новой встречи на Рождестве в Сассексе — завтра же я туда выезжаю. А пока мое вам последнее прости.
И действительно, это было последнее прости, и ни один из нас никогда больше его не увидел.
Закутавшись в плащи, мы пробивались сквозь бурю и, наконец, почти задыхаясь, достигли моего дома на Чипсайде, где ветер сорвал и разбросал гирлянды осенних цветов и листьев, которыми я велел украсить двери. Здесь я приветствовал мою жену, как только мог, поцеловав ее, когда она переступила порог дома, и сказал ей нежные слова, которые заранее подготовил; она ответила мне улыбкой. Затем женщины увели ее в ее комнату, чтобы она отдохнула и переоделась; а потом началось пиршество, которое было подобающе пышным, несмотря на то, что непогода помешала некоторым гостям прибыть на него.
Едва все мы уселись за стол, как явился Кари, который последнее время выглядел печальным и задумчивым, и шепнул мне, что мой помощник приехал из гавани и хочет видеть меня по срочному делу. Извинившись перед Бланш и всей компанией, я вышел в лавку, где он меня ждал, и сразу увидел, что он сильно встревожен. Оказывается, одно из моих судов, переименованное мною в честь моей жены в «Бланш» и стоящее на реке в ожидании отплытия, находится в большой опасности: разыгравшийся в море шторм грозит сорвать корабль с якоря, и если не бросить еще пару якорей, есть опасность, что его отнесет к берегу и разобьет о причал. Причина, почему это не было сделано, заключалась в том, что на борту остались только капитан и один из матросов, все другие пировали на берегу, празднуя мою свадьбу, и отказались вернуться на корабль, утверждая, что ветер и волны опрокинут шлюпку, и она пойдет ко дну.
Между тем этот корабль, хотя и не очень большой, был самым лучшим и самым крепким из моих судов и почти новым; к тому же находившийся на борту груз предназначался для средиземноморских стран и обладал настолько высокой ценностью, что его потеря нанесла бы мне чувствительный ущерб. Я тотчас принял решение, поняв из сообщения своего слуги, что эти непокорные матросы послушаются только меня самого. Если я хочу спасти корабль и его груз, я должен немедленно ехать на пристань.
Вернувшись в столовую, я вкратце объяснил Бланш ситуацию и попросил самого старшего из гостей временно занять мое место рядом с моей молодой женой, что тот сделал весьма неохотно, проворчав что-то насчет несчастливого свадебного пира.
И тут Бланш поднялась и стала горячо и почти со слезами умолять меня взять ее с собой. Я посмеялся над ней, как и вся компания, но она просила меня об этом с такой настойчивостью, что мне показалось, будто она чего-то боится, хотя все другие наперебой уверяли меня, что это только любовь и страх за меня.
В конце концов я заставил ее выпить со мной кубок вина, но рука ее так дрожала, что она расплескала его, и густое красное вино пролилось ей на грудь, окрасив белое платье. Это вызвало ропот среди женщин, кто-то пробормотал, что это — дурное предзнаменование. Наконец, поцеловав ее, я вырвался из ее объятий, ибо медлить дольше было невозможно, и лошади стояли наготове у ворот. Через минуту я уже мчался во весь опор, борясь с ветром, который срывал с крыш черепицу и, обламывая ветки деревьев, расшвыривал их вокруг нас. Должен сказать, что Кари хотел сопровождать меня, но я велел ему остаться дома на случай, если понадобится его присутствие, и взял с собой одного из слуг.
Наконец мы благополучно прибыли на пристань, где все оказалось так, как описал мой помощник. Корабль «Бланш», стоявший посреди реки, был в большой опасности, каждую минуту грозя сорваться в направлении причала. Матросы все еще пировали в кабаке вместе со своими портовыми девицами, и многие были уже наполовину пьяны. Я обратился к ним, стараясь пристыдить их, и сказал, что если они снова откажутся, я и мой слуга отправимся на корабль одни — и это в день моей свадьбы! Тогда они понурились и пошли за нами.
С великим трудом и поминутно подвергаясь опасности, мы все же достигли корабля, где капитан был почти вне себя от страха и сомнений относительно исхода, а матрос лежал, раненный свалившимся на него ящиком. Бедный капитан судорожно вцепился в поручни, следя за тем, как натягивается и дрожит якорная цепь, и каждый миг ожидая, что она вот-вот сорвется.
Остальное можно рассказать в нескольких словах. Мы бросили еще два якоря и сделали все, что делают опытные моряки в подобных случаях. Убедившись, что теперь корабль вне опасности, я, мой слуга и четверо матросов сошли в лодку, после того как я обещал капитану вернуться на следующее утро. Ветер и волны подгоняли лодку, мы благополучно причалили и вышли на берег, и я тотчас же поехал домой.
Хотя я рассказал об этом кратко, все это, конечно, заняло много времени, да и обратный путь по городу в такую бурю был нелегким. Поэтому было уже около десяти, когда, возблагодарив Бога, я спешился у калитки и велел слуге отвести лошадей в конюшню. Не успел я дойти до двери, как она распахнулась, к моему удивлению, и в освещенном пространстве я увидел Кари. И что меня еще больше удивило, в руке он держал большой меч Взвейся-Пламя, правда, в ножнах, который обычно хранился вместе с доспехами французского рыцаря и щитом, украшенным эмблемой из трех стрел.
Приложив палец к губам, Кари бесшумно закрыл дверь и сказал, понизив голос:
— Мастер, у вашей жены — человек.
— Какой человек? — спросил я.
— Тот самый лорд, который однажды приходил с ней сюда покупать драгоценности и занимать деньги. К вечеру, когда все кончилось и гости ушли, госпожа — ваша жена — поднялась в комнату, которую вы называете солярий — солнечной комнатой — ту, что наверху и с видом на улицу. Примерно через час слышу — стучат в дверь. Я был настороже и сразу открыл дверь, думая, что это вы, а там стоит это лорд. Он обратился ко мне и говорит:
— Мавр, знаю, твоего хозяина нет дома, но его жена здесь. Я бы хотел с ней поговорить.
Ну, я, конечно, прогнал бы его, но в этот момент вниз сошла сама госпожа, — видимо, она ждала его, — очень бледная, и сказала: «Кари, впусти лорда в дом. Я должна поговорить с ним о некоторых вещах, касающихся интересов твоего хозяина». Поэтому, зная, что вы одолжили денег этому лорду, я повиновался, хотя мне все это и не понравилось. И на всякий случай я захватил меч и стал ждать.
Такова суть его рассказа, хотя говорил он гораздо сбивчивее, ибо до конца так и не овладел английским и часто вставлял слова своего языка, которому я, как уже было сказано, отчасти научился.
— Не понимаю, — воскликнул я, когда он кончил. — Несомненно, это какой-то пустяк. Впрочем, дай мне меч — ведь кто знает?.. И пойдем.
Кари повиновался; а я, поднимаясь по лестнице, пристегнул к поясу Взвейся-Пламя. Кари нес две зажженные свечи итальянского воска, вставленные в медные подсвечники. Подойдя к двери солярия, я хотел открыть ее, но она была на запоре.
— Воистину, — сказал я, — это странно! — И стал стучать в дверь кулаком.
Она открылась, но прежде чем войти, я заглянул в комнату, боясь какой-нибудь ловушки. Солярий освещался висячей лампой, и в очаге горел огонь, ибо ночь была холодная. В дубовом кресле у огня, устремив взор в пламя, сидела Бланш, неподвижная, как статуя. Оглянувшись, она увидела меня и вновь уставилась на огонь. На полпути между нею и дверью стоял Делеруа, как всегда изысканно одетый, хотя я заметил, что он без плаща, который был перекинут через спинку стула, как бы для просушки. Я заметил также, что он вооружен мечом и кинжалом. Я вошел в комнату, сопровождаемый Кари, закрыл за собой дверь и задвинул засов. После этого я спросил:
— Почему вы здесь с моей женой, лорд Делеруа?
— Как ни странно, господин купец, но я вам собирался задать этот же вопрос: почему моя жена в вашем доме?
От этих слов я содрогнулся, как от удара, а Бланш, не поворачивая головы, произнесла:
— Он лжет, Хьюберт. Я ему не жена.
— Почему вы здесь, лорд Делеруа? — повторил я.
— Ну, если хотите знать, господин купец, я принес вам один документ, вернее — копию его, так как сам он будет предъявлен вам завтра офицерами короля. По этому документу за королевской печатью вас отправят в Тауэр за торговлю с врагами короля, — за измену, которая, как вы знаете, — или скоро узнаете, — карается смертью.
И с этими словами он небрежно бросил на стол какой-то манускрипт.
— Узнаю интригу, — ответил я холодно. — Недостойный фаворит короля, вор и подделыватель подписей использует авторитет короля, чтобы по ложному обвинению схватить и осудить на смерть честного королевского подданного. Обычный трюк в наши дни. Но оставим это. В третий раз спрашиваю — почему вы здесь, с моей молодой женой, в этот поздний час?
— Столь учтивый вопрос требует учтивого ответа, господин купец, но для этого мне придется побеспокоить вас, рассказав одну историю.
— Тогда пусть она будет столь же краткой, как мое терпение, — сказал я.
— Непременно, — сказал он, издевательски поклонившись.
Затем, четко и спокойно, указывая даты и обстоятельства, он рассказал ужасную историю. Не стану ее излагать здесь. Суть ее заключалась в том, что он женился на Бланш, когда она достигла соответствующего возраста, и что она родила ему ребенка, который умер.
— Бланш, — сказал я, когда он кончил. — Вы слышали? Это правда?
— Многое из этого правда, — произнесла она странным холодным тоном, не отрывая глаз от огня. — Только брак был фальшивый, я была обманута. Тот, кто венчал нас, был друг лорда Делеруа, переодетый священником.
— Не будем пререкаться по этому поводу, — сказал Делеруа, надевая плащ, словно собираясь уйти. — Человек, который вращается в обществе, как вы, господин купец, конечно, знает, что женщины, если их к стенке припереть, всегда найдут какие-то отговорки. Допустим даже, что были нарушены некоторые формальности, — тем лучше для Бланш и для меня. Если она ваша законная жена, то по вашему завещанию она, как я узнал, получит все ваше богатство. Вряд ли вам удастся опротестовать этот пункт, а если и удастся, то мне обещано, что состояние некоего изменника перейдет ко мне — его разоблачителю. А вас, господин купец, в ваши последние минуты пусть утешит воспоминание, что леди, которую вы почтили своей привязанностью, будет проводить свои дни в богатстве и комфорте в компании с тем, кого она почтила своей любовью.
— Защищайтесь! — сказал я кратко, выхватывая из ножен меч.
— Мне — драться с каким-то низким ростовщиком и торговцем? — спросил он, все еще издеваясь надо мной, хотя мне показалось, что в тоне его прозвучало сомнение.
— Отвечай на свой вопрос сам, вор! Сражайтесь, если хотите, или умрете, не сражаясь. Ибо знайте, что пока я жив, вы из этой комнаты живым не выйдете!
— И пока я жив — тоже, мой лорд! — произнес Кари своим мягким голосом, поклонившись с отличавшей его особенной, не английской, учтивостью.
Внезапным и быстрым движением он сбросил плащ, и я впервые увидел, что он вооружен длинным и острым полумечом-полукинжалом с обнаженным стальным клинком.
— Ах, вот как! — сказал Делеруа, — меня заманили в ловушку? И вы, Бланш, лгали мне, сказав, что этот человек сегодня не вернется, и мы можем спокойно побыть вдвоем. Ну, погодите же, миледи Бланш, вы еще за это заплатите!
Говоря так — медленно, как бы стараясь выиграть время, — он оглядывался, и с последним словом, слетевшим с его губ, он бросился к окну, зная, что дверь закрыта, и надеясь, как я полагаю, выбраться на крышу или, если это невозможно, позвать на помощь. Но Кари, который поставил свечи на стол, где лежала брошенная Делеруа копия, Кари прочел его мысли. Стремительнее, чем мангуст, настигающий свою добычу, и чем я мог вообразить когда-либо, он очутился между ним и окном, так что Делеруа чуть не наскочил на острую сталь в вытянутой руке Кари. Возможно даже, что клинок оцарапал его, так как он с проклятием остановился и выхватил свой меч — обоюдоострое оружие с острым концом — такой же длинный, как мой, но не такой тяжелый.
— Видимо, придется мне прикончить вас обоих. Может быть, Бланш, вы прикроете меня с тыла, как полагается любящей жене, пока я не разделаюсь с этим подонком? — проговорил он с наглостью, не покинувшей его даже в эти последние минуты.
— Кари, — приказал я, — подержи свечи повыше, чтобы было светлее, и предоставь этого человека мне.
Кари поклонился и, взяв в каждую руку по свече, поднял их высоко над головой. Однако он не заткнул свой кинжал обратно за пояс, но зажал его между зубами, рукояткой к правому плечу. Только сейчас я со странным чувством отметил, как ужасен вид этого угрюмого, смуглого человека с горящими свечами в руках и клинком, зажатым между белыми зубами.
Делеруа и я стояли лицом к лицу в открытом пространстве между очагом и дверью. Бланш повернулась в кресле и следила за нами, не произнося ни звука. Но я громко рассмеялся, ибо уже наверняка знал, чем все это кончится. Будь передо мной десять Делеруа, я бы убил их всех. Однако тут же я сам убедился, что есть причина для сомнений, ибо когда я парировал его первый удар и атаковал его, собрав все силы, древний меч Взвейся-Пламя, вместо того чтобы пронзить его насквозь, согнулся у меня в руке, как натянутый лук, и я понял, что под шелковой одеждой у Делеруа кольчуга.
Тогда я крикнул: «А-хой!», как, вероятно, восклицал мой предок Торгриммер, сражаясь этим же мечом, и не успел еще Делеруа опомниться от моего удара, как я, схватив Взвейся-Пламя обеими руками, круговым взмахом нанес еще один удар. Он поднял левую руку, обернутую плащом, пытаясь защитить голову, но меч прошел сквозь плащ и запястье, так что кисть его руки, сверкая украшавшими ее кольцами, упала на пол.
И снова я обрушил на него свой меч, ибо мы оба знали, что эта схватка — не на жизнь, а на смерть, и Делеруа упал мертвым с рассеченной головой. Кари спокойно улыбнулся и, подняв плащ с пола, встряхнул его и набросил на то, что только что было лордом Делеруа. Потом он взял у меня меч и, в то время как я в бездействии следил за ним, обтер его устилавшим пол тростником.
Вдруг я услышал какой-то звук и, вспомнив о Бланш, повернулся, чтобы заговорить с ней, хотя, что именно я собирался сказать ей, знает теперь один Бог.
То, что я увидел, было ужасно и, словно выжженное огнем, навеки запечатлелось в моей душе. Бланш откинулась в кресле, так что ее длинные светлые локоны свесились через спинку, и на платье у нее, на груди, было красное пятно. Я вспомнил, как во время пиршества она пролила на платье вино, и на миг мне показалось, что это то самое пятно, как вдруг я заметил, что оно увеличивается, и понял, что это вино совсем другого рода — ее кровь. Я заметил также, что из середины этого пятна, как раз под рубиновым сердцем, обвитым змеями, поблескивала в свете лампы маленькая рукоятка кинжала.
Я бросился к ней, но она подняла руку и жестом остановила меня.
— Не касайся меня, — прошептала она, — я не выдержу, а рана смертельна. Если вынешь нож, я сразу умру, а я хочу тебе сказать… Хочу, чтобы… ты знал, что я люблю тебя и надеялась быть тебе хорошей женой. То, что я говорила, — правда. Этот человек обманул меня, — тогда я была почти девочкой; наш брак был фальшивым, и позже он не исправил этого честным союзом. Может быть, он уже был женат, или по другой причине, — не знаю. Мой отец о многом догадывался, но не обо всем. Я пыталась предупредить тебя, когда ты предложил мне свою любовь, но ты остался глух и слеп и не хотел ни видеть, ни слышать. И тогда я уступила, — ты мне нравился, и я подумала, что у тебя я найду покой, как оно и вышло; подумала также, что буду богата и смогу золотом купить молчание этого злодея. Я не знала, что он сюда явится, даже что он вернулся из Франции, но он появился неожиданно, узнав, что тебя нет дома, и собирался уйти, когда ты вернешься. Он приходил за деньгами, считая, что ради них я вышла замуж, и надеясь, что я вернусь к нему от человека, которого он обрек на смерть своей клеветой. Остальное ты знаешь, а мне оставалось только сделать последний шаг. Радуйся, что я больше не обременю тебя, и попытайся найти счастье в объятиях более удачливой или лучшей женщины, чем я. Беги, и не медли, ведь у Делеруа было много друзей, и сам король любил его, как брата. Беги, говорю тебе, и прости меня, прости! Хьюберт, прощай!
Так говорила она, все медленнее, все тише, и с последним словом жизнь отлетела из ее уст.
Так закончилась история моей женитьбы на Бланш Эйлис.
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА I. НОВЫЙ МИР
Теперь они оба навсегда умолкли, хотя всего одно мгновение тому назад в них была жизнь и волновались мирские страсти; Делеруа — мертв, на полу под плащом, Бланш — мертва в дубовом кресле. Мы, оставшиеся в живых, тоже молчали. Я взглянул на Кари; его лицо казалось лицом надгробной статуи, и только большие глаза светились, подмечая все до мелочи и — как представилось моей расстроенной фантазии — выражая торжество и пророческое предвидение. Отметив это с тем странным спокойствием, какое иногда нисходит в душу в момент великих и ужасных событий, вырывающих ее у смертной оболочки и позволяющих ей свободно удивляться ничтожности всего, что кажется нам необходимым и грандиозным, я подумал, какое же выражение может быть сейчас у меня самого.
Сейчас я, пережив в этот день столько эмоций, — чувства любовника, стремящегося к молодой жене, которую он наконец обрел, чтобы вновь потерять; ощущение неотложности необходимого и важного дела; издревле свойственную человеку радость битвы и отмщения, покаравшего порочного злодея; боль сознания жестокой правды, вспыхнувшей адским пламенем перед моими прозревшими глазами; потрясение при виде самоубийства и превращения в безжизненную плоть той, кого я надеялся заключить в объятия честной любви, — пережив все это, повторяю, я чувствовал в этот момент, будто я тоже умер. Действительно, все во мне было мертво, только оболочка-плоть продолжала жить, и в моем сердце, как эхо, звучали слова моего старого дяди и того, кто был мудрее, чем он, и жил до него: «Суета сует! Все на свете — суета!»
Кари первым прервал молчание — Кари, как всегда спокойный и сдержанный, — сказал на своем ломаном английском языке (передаю здесь только суть его речи):
— Случилось нечто, думаю, нечто хорошее, хотя вы, вероятно, думаете сейчас иначе. Однако в этой грубой стране дикарей и скудной справедливости эти события могут навлечь неприятности. Этот лорд принес предписание, — и он кивнул в сторону документа, лежавшего на столе, — и говорил о вашей, а не о своей смерти. И леди тоже, пока еще жила, говорила вам: «Бегите, бегите, или вы умрете!» И вот теперь? — И он бросил взгляд на мертвые тела.
Я смотрел на него отсутствующим взглядом; оцепенение, сковавшее мои чувства после первого шока, уже проходило, и жестокая агония утраты начала терзать своими клыками мое сердце.
— Куда мне бежать? — спросил я. — И зачем? Я ни в чем не виновен, а в остальном — чем скорее я умру, тем лучше.
— Мой господин должен бежать, — быстро заговорил Кари, — потому что он еще жив и свободен. И еще: горе позади, радость впереди. Кари, который ненавидит женщин и читает сердце; Кари, который испил такой же горькой воды в прошлом, угадал наступление этих событий и думал, думал… Незачем господину неприятности, Кари все устроит и говорит господину, что если он сделает так, как скажет Кари, все кончится хорошо.
— Что же я должен сделать? — спросил я со стоном.
— Вывести «Бланш» на большую воду, чтобы она была наготове. До рассвета господин и Кари выйдут в море. Все, что здесь, бросить. Много земли, много богатств — какое значение? Жизнь больше, чем эти вещи, которые можно добыть снова. Идемте. Нет, постойте — одну минуту.
Он подошел к трупу Делеруа и, с поразительной быстротой сняв с него кольчугу, которая была у того под одеждой, надел ее на себя. Он взял также его меч и пристегнул его к поясу, а пергамент с предписанием о моем аресте бросил в огонь. Потом он погасил висячую лампу и дал мне одну из свечей, взяв себе другую.
У двери я поднял свечу и при ее мерцающем свете в последний раз посмотрел на пепельно-бледное лицо Бланш, которое, как я знал, будет сопутствовать мне до последнего дня моей жизни.
Кари запер крепкую дубовую дверь солярия на ключ и повел меня в мою комнату, где хранились доспехи убитого мною французского рыцаря, которые я велел подогнать под свой рост и размер. Кари быстро надел их на меня, накинув сверху длинный темный плащ из тех, что обычно носят купцы. Из шкафа он достал также мой большой черный лук и колчан со стрелами, мешочек с золотыми монетами и тот кожаный мешок, который был при нем, когда я впервые увидел его на набережной.
Мы прошли в комнату, где происходило пиршество, и выпили немного вина, хотя о еде я не мог и подумать. Кубок, из которого я пил, оказался тем самым, из которого я выпил за здоровье Бланш на свадебном пиру. Теперь я выпил за упокой ее души, прося Бога о милосердии к ней.
Мы вышли из дому и, пройдя в конюшню, выбрали и оседлали двух самых сильных и спокойных лошадей. Потом через задний двор мы выехали в ночную тьму. Никто не видел нас, так как все уже давно спали, а непогода загнала под крышу и тех, кто иногда бродил по темным улицам, так что последние были пусты и безлюдны.
Не знаю, сколько времени прошло, пока мы достигли набережной; мысли, переполнявшие мой ум, вытеснили из него все остальные впечатления. Какой странной была моя жизнь, думал я. За несколько лет я достиг большого богатства и завоевал женщину, о которой мечтал. А нынче — где это богатство и эта женщина, и чем я стал? Беглецом, покидающим ночью свою родину, беглецом с руками, обагренными кровью королевского фаворита, который, останься он жив, послал бы меня на виселицу. Какой разительный контраст между утром и полночью этого пережитого мною дня! «Суета сует, Все на свете — суета!»
Думаю, что в какой-то момент мысли мои смешались, как в бреду, ибо, когда душа моя погрузилась в самые глубины ада, мне почудилось, что рядом с моим конем шагает тот, кому я поклонялся как своему небесному покровителю, — святой Хьюберт с сияющим ликом, и говорит мне:
— Мужайся, мой крестник, и вспомни слова твоей матери — скитальцем ты будешь, но где бы ты ни был, добрый твой лук и твой меч защитят тебя от опасностей, а я буду рядом с тобой в твоих странствованиях. И любовь тоже тебя не покинет, ибо любовь не умирает с кончиной одной женщины.
Это фантастическое видение как бы срезало острие моей боли, и на некоторое время мне стало легче, во мне родилась даже какая-то надежда, я перестал ждать смерти и хотел найти забвение скорее в жизни, чем в смерти.
Мы достигли набережной и поставили лошадей в сарай, служивший конюшней, расседлав и освободив их от сбруи, так, чтобы они могли спокойно есть заготовленное здесь сено. То, что подобная мысль пришла мне в голову, показывало, что мой мозг снова действует, если я могу думать о нуждах других существ. Потом мы пошли на пристань, где была пришвартована наша лодка, в которой я вернулся на берег не знаю сколько часов тому назад. Меж плывущих туч время от времени проглядывала луна, и в ее мягком сиянии я увидел, что «Бланш» мирно покачивается на своих якорях совсем недалеко от берега. С появлением луны ветер, как это часто бывает, стал намного слабее и тише, так что Кари и я благополучно добрались до корабля, хотя лодка и была слишком велика и тяжела для двух гребцов.
На борту мы сразу же увидели одного из матросов, он стоял на вахте и очень удивился нашему появлению. С его помощью мы подняли лодку и закрепили ее на корме буксирным тросом.
После этого я велел разбудить капитана и объяснил ему кратко, что, поскольку шторм утих и ветер благоприятствует отплытию, я хочу выйти в море, не откладывая. Он уставился на меня, думая, вероятно, что я сошел с ума, — он ведь знал, что я только накануне женился.
Конечно, сказал он, я дождусь рассвета, тем более что нужно собрать тех членов команды, которые еще остались на берегу. Я ответил, что не буду ждать ни минуты, а когда он спросил, почему, я, как будто по вдохновению, сказал, что еду по делу короля, имея приказ его величества доставить письмо его послам в южных странах, и что это дело не терпит отлагательства, ибо от него зависит, быть миру или войне.
— И горе вам, — сказал я ему, — если вы или кто-нибудь из вас осмелитесь не выполнить волю короля, вы знаете, что ждет непокорных: краткий приказ и длинная веревка.
Капитан испугался и, созвав матросов, уже успевших выспаться после вчерашних возлияний, сообщил им мой приказ. Они возроптали было, указывая на небо, но когда увидели меня, облаченного в рыцарские доспехи и с суровым видом держащего руку на рукоятке меча, и когда к тому же я передал им через Кари, что заплачу за этот переход вдвое против обычного, — они тоже испугались и, подняв паруса, снялись с якоря.
Таким образом, прошло немного более часа с тех пор, как мы взошли на борт, а корабль уже скользил — так быстро, как позволяли прилив и ветер — в направлении моря. И как раз вовремя, ибо едва пристань скрылась во мгле, как я увидел замелькавшие на набережной огоньки фонарей и подумал, что, вероятно, уже подняли тревогу, и эти люди явились следом за нами, чтобы меня схватить.
Капитан хорошо знал реку и с помощью одного из матросов благополучно вел корабль к устью. К рассвету мы миновали Тилбери, и когда рассвело, оставили позади Грейвзэнд и приближались уже к выходу в море. Тогда мы и заметили, что штормовой ветер, затихший было в течение ночи, поднялся снова и дует с еще большей силой в восточном направлении. Матросами вновь овладел страх, и они вместе с капитаном клялись и божились, что выходить в море в такую погоду просто безумие, и что мы должны бросить якорь или, если возможно, пристать к берегу,
Я отказался их слушать, и они как будто бы отступились.
В этот момент меня позвал Кари. Я подошел к нему, и он указал на берег, и я увидел группу всадников, которые двигались в том же направлении, что и мы, и махали платками, как бы призывая нас остановиться.
— Мне кажется, — сказал Кари, — что кто-то уже побывал в «солнечной комнате» у вас в доме.
Я кивнул, продолжая следить за скачущими и подающими нам сигналы всадниками. Прошло несколько минут, как вдруг я заметил, что корабль меняет курс, так что его нос обращается то в одну сторону, то в другую, как будто потеряв управление. Мы бросились узнать, в чем дело, и вот что выяснилось.
Наша трусливая команда, а с ней и капитан отвязали лодку, в которой мы с Кари прибыли на борт корабля и которую закрепили на корме, и спускали ее на воду, собираясь, пока не поздно, вернуться на берег. Кари улыбнулся, как будто совсем не удивившись, но я в приступе ярости стал кричать на них, называя их трусами и изменниками. Думаю, капитан услышал мои слова, потому что отвернулся и стал смотреть в другую сторону, как бы устыдившись, чего нельзя сказать об остальных. Они были заняты поисками весел, но так и не нашли их, — видимо, их смыло волной, или они просто упали за борт.
Тогда они попытались соорудить что-то вроде паруса, но в этот момент лодку отнесло в сторону; большие волны, которые ветер вздымал на середине реки, подхватили ее, и она перевернулась. Я видел, как несколько человек цеплялись за лодку, а двое или трое пытались взобраться на ее киль, но что случилось с ними и со всеми другими, я не знаю, так как бросился к рулевому управлению, чтобы вернуть корабль на курс, иначе его постигла бы та же участь, а мы бы утонули либо попали в руки преследователей. Так я больше никогда не увидел команду «Бланш».
Между тем корабль выровнялся и лег на курс, подгоняемый все более яростным ветром, унося на борту нас с Кари, — двух слабых, одиноких людей.
— Кари, — сказал я, — что нам делать? Попытаться высадиться на берег или плыть дальше?
Он немного подумал и затем ответил, указывая на всадников, казавшихся теперь крошечными фигурками на далеком берегу:
— Господин мой, там — смерть, верная смерть; а там, — он показал вперед, — смерть возможная. У вас есть Бог, и у меня, Кари, тоже есть Бог; может быть, и тот же самый, только под другим именем. Я скажу — доверимся нашим богам и продолжим путь, потому что боги лучше, чем люди. Может быть, мы умрем в воде, ну так что же? Вода мягче, чем веревка. Но думаю — не умрем.
Я кивнул: его рассуждения показались мне убедительными. Лучше утонуть, чем попасть в руки тех, на берегу; они поволокли бы меня обратно в Лондон. а там меня казнили бы, как преступника.
Поэтому я налег на румпель, чтобы вывести «Бланш» на стрежень, и направил ее нос в сторону моря. Все шире и шире становилась река, все дальше и дальше отступали берега по мере того, как «Бланш» под малыми парусами шла под ветром, воплотившим всю силу бури, и наконец перед нами открылось бескрайнее море.
В нескольких футах от румпеля находилась рубка, в которой матросы ели; она была построена из прочного дуба и скреплена железом. Здесь в изобилии хранилась пища, а также эль, и мы позавтракали. Кроме того, я передал Кари румпель и, сняв доспехи, переоделся в грубую матросскую одежду и высокие, смазанные жиром сапоги, а потом велел Кари сделать то же самое.
Вскоре земля исчезла из виду, и мы то вздымались, то опускались вместе с огромными волнами, чьи гребни бурлили и пенились на бесконечных просторах моря. Не в состоянии взять определенный курс, мы были вынуждены двигаться по воле ветра все дальше и дальше, сами не зная куда. Как я уже говорил, «Бланш» была новым и крепким судном, лучшим из всех судов, на каких мне доводилось выходить в бурное море. К тому же после того, как мы подняли якорь, матросы задраили все люки, так что теперь она держалась на воде как утка, не подвергаясь опасности повреждений. Какое счастье, что я с детства привык иметь дело с кораблями и выходить в море! Теперь я мог, убегая от каждой следующей волны, маневрировать и удерживать корму «Бланш» прямо под ветром, хотя он, казалось, дул то с одной, то с другой стороны.
Мои воспоминания о том, что было дальше, крайне сбивчивы и окрашены чувством изумления: какие-то фрагменты, разобщенные и отделяющиеся друг от друга как бы долгими промежутками времени — днями, а может быть, и неделями. Было ощущение бесконечных ревущих волн, гнавших корабль все дальше и дальше под непрерывным ветром, который, как я смутно помню, дул сначала с северо-запада, а потом упорно с востока.
Я вижу себя очень отчетливо в тот момент, когда я ремнями привязываю румпель к железным кольцам, ввинченным в палубу, и знаю, зачем я это сделал: я слишком ослабел и, уже не в силах удерживать румпель в руках, хотел закрепить его так, чтобы «Бланш» продолжала бежать прямо под ветром. Я вижу себя в рубке, о которой уже говорил: я лежу, а Кари кормит меня и дает мне воды, и время от времени всовывает мне в рот маленькие пилюльки, доставая их из кожаного мешка, который он всегда носил при себе. Я помнил этот мешок. Он был пристегнут к поясу Кари в тот момент, когда я спас его от толпы на набережной. Я увидел этот мешок, когда Кари впервые умывался у меня в комнате, и подивился тому, что может быть в этом мешке. Позже я вновь увидел его в руках Кари, когда мы покидали мой дом после смерти Бланш. Я замечал, что всякий раз, когда он заставлял меня проглотить такую пилюлю, я на время чувствовал прилив сил, а потом впадал в глубокий и продолжительный сон.
Прошло еще несколько дней — или недель, — и я стал видеть чудесные явления и слышать странные голоса.
Мне казалось, что я разговариваю с матерью и с моим покровителем, Св. Хьюбертом; что Бланш приходит ко мне и объясняет, как все было, показывая, сколь мало она повинна в том, что произошло со мной и с нею. Все это убедило меня, что я умер, и я радовался тому, что уже мертв, потому что знал, что теперь уже не будет ни мук, ни страданий; что все попытки и усилия, из которых ежечасно складывается жизнь, прекратились, и наконец достигнут покой, И тогда явился мой дядя, Джон Гриммер. Обратившись ко мне, он произнес свое любимое изречение: «Суета сует, все на свете — суета», — сказал он и добавил: «Ну, что я говорил тебе еще много лет назад? Теперь ты познал это на собственном опыте. Не думай только, племянник Хьюберт, что ты навсегда покончил с этой суетой, как я, ибо у тебя еще много всякого впереди».
Так, казалось мне, говорил он со мной, и не об этом только, но и о других вещах, например, о том, что станет с его богатством, и успеет ли больница, которой он когда-то собирался завещать свои земли, завладеть ими; пока наконец я не устал от его речей, и мне захотелось, чтобы он ушел.
Потом вдруг раздался какой-то треск и грохот, который сильно его встревожил, и он действительно ушел, сказав напоследок, что это
еще один пример «суеты сует», после чего я как будто заснул и проспал много долгих недель.
Меня разбудило ощущение тепла и света на лице, и я открыл глаза, Я поднял руку, чтобы защититься от этого яркого света, и с удивлением заметил, до чего же она худа — свет пронизывал ее, и сквозь кожу темнели кости. От слабости я опустил руку, и она коснулась волос, и я понял, что это борода, и весьма удивился, ибо имел обыкновение ходить с чисто выбритым лицом. Откуда же у меня борода? Я оглянулся и увидел, что лежу на палубе корабля, — ну да, это же «Бланш», я сразу узнал ее по очертаниям кормы и по определенным сучкам в боковой опоре рубки, отдаленно напоминавшим человеческое лицо. Однако от самой рубки не осталось ничего, кроме угловых столбиков, между которыми я сейчас лежал и к верхушкам которых был привязан за углы кусок брезента наподобие крыши, защищающей от солнца и непогоды.
С трудом я приподнял голову и огляделся. Фальшборт исчез, но кое-какие вертикальные опоры, к которым гвоздями прибивались доски, остались, и между ними я увидел высокоствольные деревья с пучками больших листьев на макушках — казалось, они росли совсем близко, в нескольких ярдах от меня. Вокруг них летали яркокрылые птицы, а в их кронах я увидел обезьян — таких, как те, что моряки, бывало, привозили из Барбарии
[224]. Похоже, что я у берега какой-то реки (в действительности это был небольшой заливчик, или бухточка, где по обоим берегам росли эти деревья).
Видя их и обвивавшие их ползучие растения с прекрасными цветами, каких я никогда в жизни не встречал, и ощущая свежий прозрачный воздух, насыщенный сладостным ароматом, я окончательно уверился, что умер и нахожусь в раю. Только почему тогда я все еще лежу на корабле? Ведь я никогда не слыхал, что такие предметы тоже попадают в рай. Нет, мне все это, наверно, снится; конечно, это только сон. Как жаль, что это неправда, особенно если вспомнить все ужасы бурного моря. Или же, если это не сон, значит, я попал в какой-то новый, неведомый мир.
Предаваясь таким размышлениям, я вдруг услышал тихие шаги, и надо мной склонилась чья-то фигура. Это был Кари — исхудавший, с запавшими глазами, очень похожий на то, каким я нашел его на лондонской пристани, но все же, несомненно, Кари. Он посмотрел на меня со свойственной ему серьезностью и мягко спросил:
— Господин проснулся?
— Да, Кари, — ответил я, — но скажи, где?
Не отвечая, он удалился, но тотчас вернулся с чашкой в руках, которую поднес к моим губам, веля мне пить. Я сделал несколько глотков, как мне показалось, бульона, только с каким-то очень странным привкусом, и почувствовал себя гораздо бодрее, ибо из чего бы ни был приготовлен этот бульон, он пробежал по моим жилам, как вино. Наконец Кари заговорил на своем причудливом английском языке.
— Господин мой, — сказал он, — когда мы еще были на Темзе, вы спрашивали меня, выйти ли нам на берег и в руки тех, кто за нами охотится, или плыть дальше. Я отвечаю: «У вас есть Бог и у меня есть Бог, и лучше попасть в руки богов, чем в руки людей». И мы плывем прямо в большую бурю. Долго мы плывем, и хотя однажды ветер меняется, мы всегда под ветром. Вы слабеете, и память вас покидает, но я поддерживаю в вас жизнь моим лекарством и много дней не сплю и веду корабль. Наконец память и меня покидает, и я больше ничего не знаю. Три дня назад я просыпаюсь и нахожу корабль здесь, в этом месте. Тогда я ем еще лекарства и чувствую силу, и получаю еду у людей, которые на берегу, и которые думают, что мы — боги. Вот и вся история, кроме того, что вы живы, а не умерли. Ваш Бог и мой Бог благополучно привели нас сюда.
— Да, Кари, но где мы?
— Господин, думаю — в той стране, откуда я прибыл; не в той земле, которая моя родина — до нее еще далеко, — но все-таки в той, где я был. Помните, — добавил он и глаза его вспыхнули, — я всегда говорил, что вы и я вместе отправимся когда-нибудь в эту страну.
— Но что это за страна, Кари?
— Господин, имени ее я не знаю. Она очень большая, и у нее много названий, но вы — первый белый, кто явился сюда, почему люди и думают, что вы — бог. А теперь спите; завтра поговорим.
Я закрыл глаза, чувствуя глубокую усталость, и, как я потом узнал, проспал часов двенадцать, если не больше, и проснулся лишь утром следующего дня, удивляясь приливу сил и даже пробуждению аппетита. Кари принес воды и вымыл меня, и я переоделся во все чистое, — оказалось, что Кари нашел на корабле запас белья и одежды.
Прошло довольно много времени, и день ото дня я чувствовал себя сильнее и крепче, пока наконец не достиг почти того состояния, в каком был, когда венчался с Бланш Эйлис в церкви Св. Маргариты в Вестминстере. Однако горе изменило меня не только внутренне, но и внешне; лицо мое стало серьезнее, и появилась короткая светлая бородка, которая, по-моему, мне шла (как я подумал, посмотрев на себя в зеркало). Эта бородка весьма меня озадачила, поскольку бороды не отрастают за один день, даже такие не очень длинные. Должно быть, прошли недели с тех пор, как ее ростки пробились у меня на подбородке, а так как до моего пробуждения мы пробыли в этой бухточке три дня, эти недели мы, несомненно, провели в море.
Куда же все-таки нас прибило? Если Кари не ошибся, то большую часть нашего бурного пути мы прошли под сильным ветром, дувшим с востока, и, значит, эта неведомая страна должна лежать очень далеко от Англии. Без сомнения, так оно и есть, ибо здесь все совсем не такое, как там. Например, поскольку я с детства выходил в море, я узнал — из того, чему меня учили и из собственных наблюдений — кое-что о звездах; и теперь я заметил, что созвездия переменили свое местоположение в небе, а также что некоторые из известных мне созвездий исчезли, но появились другие, которых я не знал. Далее — жара стояла сильная и ровная, и даже ночь была теплее, чем наш самый жаркий летний день, а воздух кишел тучами жалящих насекомых, которые сначала очень мне досаждали, хотя потом я к ним привык и закалился. Короче говоря, все здесь было другим, и я действительно находился в каком-то новом мире, о котором в Европе никогда не слыхали, но в каком? Что это за мир? По крайней мере, море соединяло его со старым, ибо у меня под ногами была та же палуба «Бланш», корабля, который строился, бревнышко за бревнышком, на моих глазах на берегу Темзы из дубов, срубленных в моих собственных лесах
Как только я достаточно окреп, я обошел весь корабль — точнее, то, что от него осталось. Просто чудо, что «Бланш» так долго продержалась на воде, потому что ее корпус был весь разбит. Я даже думаю, что она неизбежно пошла бы ко дну, если бы не тонкая шерсть, которой она была законопачена в нижней части: видимо, намокнув, эта шерсть набухла и не пропустила воду внутрь. Вообще же это была просто развалина, ибо обе ее мачты исчезли, а вместе с ними и большая часть палубы, довольно значительная. И все же она не затонула, а, дрейфуя, зашла в эту бухту и осела в прибрежный ил, как будто это была та гавань, которую она долго искала.
Как мы пережили такое путешествие? Ответ, видимо, в том, что когда мы настолько ослабли, что не могли уже ни доставать, ни принимать пищу, мы глотали пилюли, которые Кари бережно хранил в своем кожаном мешочке, и пили воду, наполнявшую бочки, поскольку «Бланш» предстояло путешествие в Италию и дальше. Во всяком случае, мы пережили долгие недели, ибо мы были молоды и сильны, и нам не пришлось страдать от холода, так как, несмотря на шторм, по прошествии первых нескольких дней нашего бегства наступила теплая погода.
Во время моего выздоровления Кари ежедневно сходил на берег, перекинув через ил мостки из досок, так как мы были в нескольких футах от берега бухты, в которую, журча, сбегал ручеек. Потом Кари возвращался, принося рыбу и дичь и зерна неизвестного мне растения: они были в двенадцать раз крупнее пшеницы, сплюснутые с боков и если спелые, то желтого цвета. Их Кари, по его словам, покупал у людей, которые жили на этой земле. Этой здоровой пищей я и питался, запивая ее элем и вином, запас которых мы нашли на корабле. Сказать по правде, я никогда так много не ел, даже когда был мальчишкой.
Наконец однажды утром Кари велел мне облачиться в доспехи (те самые, которые я снял с убитого мною французского рыцаря и в которых бежал из Лондона), начистив их до того, что они блестели, как серебряные, и сесть на стул на оставшейся части полуюта. Когда я спросил его, зачем, он ответил — для того, чтобы показать меня обитателям этой земли. На этом стуле он велел мне сидеть и ждать, держа щит, а в правой руке — обнаженный меч.
Так как я уже привык, что Кари ничего не делает без причины, и помня, что я в чужой стране, где без него я бы не выжил, я подчинился его причуде. Более того, я обещал, что без его указания я не стану ни говорить, ни улыбаться, ни вставать с места. И вот я сидел там, сверкая в жарких лучах солнца, которые, казалось, прожигали насквозь мои доспехи.
Кари сошел на берег и некоторое время отсутствовал. Наконец я услышал среди деревьев и кустов голоса людей, говорящих на незнакомом языке. И тут же они появились на берегу бухты — целая толпа; очень странные люди, темнокожие, с длинными прямыми черными волосами и большими глазами, но не слишком высокого роста; мужчины, женщины и дети — все вместе.
Некоторые были в длинных белых одеяниях, и я решил, что это представители их благородного сословия, но большинство носили только повязки или пояса. Всю эту толпу вел Кари, который, как только все они вышли из-за деревьев и кустарника, махнул рукой и указал на меня, сидящего на корабле в сияющих доспехах, с длинным мечом в руке. Они уставились на меня, потом с тихим, похожим на вздох, восклицанием все, как один, пали ниц и стали тереться лбами о землю.
В это время Кари обратился к ним, размахивая руками и время от времени указывая на меня. Как я узнал позже, он говорил им, что я — Бог; да простится его душе эта ложь.
Кончилось тем, что он велел им подняться и повел тех, что были в белых одеждах, на корабль. Здесь, в то время как они почтительно остановились, он направился ко мне, кланяясь и целуя воздух, и, приблизившись, опустился на колени и положил руки на мои, одетые в сталь, ступни. Но это еще не все: из-под плаща он вынул цветы и положил их мне на колени, как бы принося жертву.
— А теперь, — шепнул он, — встаньте и взмахните мечом, и крикните погромче, — показать, что вы живой, а не идол.
Я вскочил и, размахивая над головой мечом Взвейся-Пламя, заревел не хуже любого быка, ибо голос у меня был громкий и слышен на большом расстоянии. Когда они увидели сверкающий меч, рассекающий воздух, и услышали этот рев, бедняги обратились в бегство, издавая крики ужаса. Многие даже попадали с мостков в илистую грязь, и один из них увяз в ней и, вероятно, утонул бы, если бы Кари его не вытащил, так как его собратья слишком спешили удалиться и не пришли ему на помощь.
Когда они исчезли, Кари вернулся на корабль и сказал, что все идет отлично и что с этих пор я не человек, а Дух Моря, вышедший на землю, — дух, который не снился даже магам и чародеям.
Так я, Хьюберт из Гастингса, стал богом среди этих простодушных людей, которые никогда прежде даже не слышали о белом человеке и не видели ни доспехов, ни меча из стали.
ГЛАВА II. СКАЛИСТЫЙ ОСТРОВ
Я оставался на «Бланш» еще с неделю, ожидая, пока окончательно окрепну, а также по совету Кари. Когда я спросил у него, почему так нужно, он ответил, что он хочет, чтобы слух о моем появлении распространился по всей стране, от племени к племени, и что мне не придется долго ждать, ибо такой слух, как он выразился, полетит как птица. Пока же я каждый день выходил на ют и сидел там в доспехах около часа, а порой и дольше, а люди, которые уже меня видели, а также пришельцы из более отдаленных мест приходили посмотреть на меня, принося подарки в таком количестве, что мы уже не знали, что с ними делать. Они даже построили алтарь и приносили мне в жертву диких зверей и птиц, сжигая их на огне. Эти жертвоприношения совершали и те, кого я уже видел, и те, что приходили издалека.
Наконец однажды вечером, когда, поужинав, Кари и я сидели перед сном на палубе, залитой лунным светом, я неожиданно повернулся к нему, надеясь застичь его врасплох и таким образом извлечь из его скрытной души его тайные замыслы.
— Каков твой план, Кари? — спросил я. — Знаешь ли ты, что я устал от этой жизни?
— Я ждал этого вопроса, — ответил он с мягкой улыбкой. (Как и раньше, я привожу его ответ на плохом английском языке не слово в слово, а суть его.) — Так изволит господин выслушать? Как я уже говорил, я верю, что боги — ваш Бог и мой Бог — привели меня в ту часть света, не известную господину, где я родился. Я поверил в это с первого же часа, когда мои глаза открылись после нашего обморока; я сразу узнал и деревья, и цветы, и запах земли, и увидел, что звезды в небе — именно там, где я привык их видеть. Когда я сошел на берег и очутился среди туземцев, я обнаружил, что моя догадка верна, поскольку я понимал кое-что из того, что они говорили, а они понимали кое-что из того, что говорил я. Кроме того, среди них был один человек, который пришел издалека, и он сказал, что видел меня раньше — когда я был как безумный, — но только у того человека, сказал он, на шее висело изображение некоего бога, чье высокое имя он не смеет произнести. Тогда я расстегнул ворот и показал ему то изображение, которое ношу на шее, и он упал ниц, преклоняясь перед ним, и сказал, что я и есть тот человек.
— Если так, это чудесно и удивительно, — сказал я. — Но что нам теперь делать?
— Господин может сделать одно из двух. Он может остаться здесь, и эти простые люди сделают его своим царем и дадут ему жен и все, чего он ни пожелает; и так он проживет здесь всю свою жизнь, поскольку вернуться в ту страну, откуда он родом, нет никакой надежды.
— Даже если бы я мог, я бы не вернулся, — прервал я его.
— Или, — продолжал Кари, — можно отправиться в мою страну. Но это очень далеко. Я вспоминаю часть путешествия, которое я совершил во время своего безумия, и вижу, что это очень, очень далеко. Сначала нужно перейти вон те горы и дойти до другого моря — это не очень большое путешествие, хотя и трудное. Потом надо идти по берегу того моря на юг, не знаю, сколько времени, но думаю, что несколько месяцев или даже лет, пока не дойдешь до моей страны. К тому же это путешествие трудное и ужасное, потому что путь лежит через леса и пустыни, где живут дикие племена, и огромные змеи, и хищные звери, вроде того, что нарисован на флаге вашей страны, и где голод и болезни — обычное дело. Поэтому мой совет господину — остаться здесь и не пытаться это путешествие предпринять.
Немного подумав, я спросил, что он намерен делать, если я приму его совет. На что он ответил:
— Подожду здесь некоторое время, пока не увижу, что господин стал царем этих людей и что его власть прочно узаконена. А потом отправлюсь в путь один — надеюсь, что если я мог сделать это в состоянии безумия, я смогу сделать это и в здравом уме.
— Я думал об этом, — сказал я. — Но скажи, Кари, если бы мы двинулись в путь вместе и нам бы посчастливилось добраться туда живыми, как бы твой народ нас принял?
— Не знаю, господин мой; но думаю, что они, как и все другие в этой стране, признали бы господина богом. Возможно также, что они принесут этого бога в жертву, чтобы его сила и красота воплотились в них. Что касается меня, то некоторые попытаются меня убить, другие же примкнут ко мне. Кто победит — не знаю, да и не придаю этому большого значения. Я иду, чтобы взять свое и получить отмщение, и если, осуществляя акт возмездия, я умру, — ну что ж, я умру с честью.
— Понимаю, — сказал я. — А теперь, Кари, в путь, и как можно скорее, пока я не сошел с ума, как ты, когда ты покинул свою страну; не могу больше смотреть на эти деревья и цветы, и на этих большеглазых туземцев, которые, как ты говоришь, сделали бы меня своим царем. Не знаю, найдем ли мы твою страну. Но, по крайней мере, мы сделаем все, что в наших силах, а если погибнем, то, во всяком случае, действуя, как бывает со всеми смелыми людьми.
— Господин сказал свое слово, — произнес Кари даже спокойнее, чем обычно, но когда он говорил, я заметил, как вспыхнули его глаза, а по телу пробежала дрожь, словно от радости. — Зная все, он сделал свой выбор, и что бы ни случилось, он, будучи тем, что он есть, не станет винить меня в этом. Но именно потому, что господин принял такое решение, я скажу: если мы попадем в мою страну, и если случится так, что я стану там царем, я буду служить моему господину еще лучше прежнего.
— Сейчас это легко обещать, Кари, — сказал я, смеясь, — но мы успеем поговорить об этом, когда действительно придем в твою страну, — И я спросил его, когда мы отправимся в путь.
Он сказал, что немного погодя, так как он должен составить план путешествия, а пока посоветовал мне походить по берегу, чтобы вернуть ногам былую крепость и силу. Так я стал ежедневно сходить на берег в часы утренней и вечерней прохлады и ходить взад и вперед, не теряя из виду нашего корабля. При этом я надевал на себя доспехи и брал с собой лук и стрелы, но никого не встречал, так как туземцы были предупреждены, что я буду появляться на берегу и что в это время на меня нельзя смотреть. Поэтому, даже когда я проходил через одну из деревень мимо хижин, построенных из ила и грязи и крытых листьями, казалось, что все жители ее покинули.
Все же в конце концов лук мне пригодился. Однажды вечером, подходя к большому дереву, под которым я собирался пройти, я услышал негромкий звук, напоминавший мне мурлыканье кошки, и, подняв глаза, увидел большого зверя, явно сродни тигру, который лежал на ветке и следил за мной. Тогда я поднял лук и выстрелил, и пронзенный насквозь зверь упал, рыча и извиваясь и кусая стрелу, пока не испустил дух.
После этого я вернулся на корабль и рассказал Кари о случившемся. Он сказал, что мне посчастливилось, так как этот зверь — свирепый хищник, и если бы я не убил его, он бросился бы на меня, когда я проходил под деревом. Кари велел туземцам снять со зверя шкуру, и вот когда они увидели, что стрела пронзила его насквозь, они пришли в изумление и решили, что я еще более могущественный бог, чем они думали, ибо их собственные луки были слабым оружием, а стрелы имели наконечники из кости.
Через три дня после того, как я убил зверя, мы тронулись в путь, в неведомую страну. Задолго до этого мы с Кари собрали все ножи, какие нашли на корабле, а также стрелы, гвозди, топоры, плотницкие инструменты, одежду и Бог весть что еще и связали все это в пакеты, по тридцать-сорок фунтов весом, которые мы смастерили из парусов. Эти вещи предназначались для туземцев в качестве подарков или в обмен на то, что могло нам понадобиться в пути. Когда я спросил у Кари, кто все это понесет, он ответил, что очень скоро я сам увижу. Я увидел это на следующее же утро, когда на рассвете на берег явилось множество людей, чуть не целая сотня. Они принесли два паланкина, сооруженных из легкого дерева, коленчатого, как камыш, только гораздо крепче: эти носилки, сказал Кари, предназначены для нас. Затем он распределил между людьми наши пакеты, которые они ловко пристроили у себя на головах, и сказал, что пора трогаться в путь.
Однако прежде я спустился в каюту и, преклонив колени, поблагодарил Бога за то, что он до сих пор хранил меня во всех несчастьях, и попросил его и Св. Хьюберта и дальше не оставлять меня в моих скитаниях, а если я умру, принять мою душу. После этого я покинул корабль, и в то время как туземцы низко склонились передо мной, сел в свой паланкин, который оказался весьма удобным: в нем были циновки, на которых можно было улечься, и другие, которые можно было задернуть, как занавески; плотное и тонкое плетение делало их непроницаемыми даже для самого сильного дождя.
И вот мы тронулись в путь. Каждый паланкин был подвешен к длинному шесту, который несли на плечах восемь человек. Остальные шли, неся на головах пакеты. Дорога вела через лес в горы, и на вершине первого холма я вышел из паланкина и оглянулся.
Далеко внизу, в маленькой бухте, черным пятнышком выделялось на воде то, что было когда-то «Бланш», а дальше расстилалось огромное море, по которому мы плыли. Разбитый остов был последним звеном, которое связывало меня с моим далеким домом, оставшимся за тысячи миль отсюда, за океаном, — домом, которого, как говорило мне мое сердце, я никогда больше не увижу, ибо как же мог бы я вернуться из страны, на чью землю никогда не ступала нога белого человека?

На палубе того корабля однажды стояла сама Бланш, смеялась и разговаривала со мной — ибо как-то раз перед свадьбой мы были там вдвоем, и я помню, как поцеловал ее в каюте. Теперь Бланш нет; она умерла от собственной руки, а я, крупный лондонский купец, объявлен вне закона — беглец среди дикарей в чужой стране, даже название которой мне не известно. Мой корабль, столь мужественно пронесший нас сквозь штормовые недели, должен лежать там со всем своим ценным грузом, пока не сгниет под солнцем и дождем, и никогда больше мои глаза его не увидят. О, как сжалось мое сердце в эту минуту! Ни разу еще с тех пор, как я уехал, убив Делеруа мечом Взвейся-Пламя, не испытывал я такого острого и глубокого чувства отчаяния и одиночества. И зачем только я родился на свет? Лучше умереть, и чем скорее, тем лучше — может быть, там я пойму причину моего рождения.
И я снова забрался в паланкин и, спрятав лицо, заплакал как дитя. Поистине, я — процветающий купец города Лондона, который мог бы стать его мэром и магистром и завоевать дворянский титул, — стал теперь ничтожнейшим авантюристом, лишенным прав и поставленным вне закона. Ну что ж, видно, так судил Бог, и ничего с этим не поделаешь.
Первую ночь мы провели на вершине холма, над быстрой рекой, которая протекала внизу, в долине. Нас мучила жара, изводили насекомые, которые жужжали и жалили нас и к которым я еще не успел привыкнуть; и мы ели взятую в дорогу пищу — вяленое мясо и зерна.
На следующее утро, как только рассвело, мы снова двинулись в путь, поднимаясь в горы и спускаясь в долины, проходя через леса, следуя течению реки или изгибам озер. И так продолжалось до тех пор, пока на третьи сутки вечером с высокого плато мы вдруг не увидели внизу море — не то, от которого мы ушли, а совсем другое; видимо, мы пересекли перешеек, и притом не очень широкий, так что при умении и сноровке можно было бы прорыть канал и соединить эти два больших моря.
Именно отсюда и началось по-настоящему наше путешествие, именно здесь Кари свернул на юг. Перед этим он долго смотрел на звезды и размышлял, уединившись, Я не принимал в этом никакого участия, поскольку мне было все равно, куда он свернет. Да и сам он не разговаривал со мной на эту тему, ограничившись замечанием, что его Бог и те немногие воспоминания, которые сохранились у него от периода его безумия, говорят ему, что земля его народа лежит на юге, хотя и очень далеко отсюда.
Итак, мы отправились на юг, пробираясь лесными тропами и все время оставляя океан справа. В конце недели этого утомительного похода мы попали в места, где обитало другое племя, язык которого оказался настолько знаком сопровождавшим нас туземцам, что они смогли рассказать им нашу историю. Впрочем, до них уже дошел слух о появлении из моря белого бога, и они были подготовлены к тому, чтобы оказать мне соответствующие почести. Здесь наши спутники покинули нас, говоря, что они не смеют уходить так далеко от своей родины.
Сцена прощания была странной и необычной: каждый из них подходил ко мне, склонялся на колени и терся лбом о землю, а потом уходил, пятясь и кланяясь. Их уход, однако, мало что изменил в нашем положении. Новое племя почти не отличалось от них, разве что одежда их была, если возможно, еще более скудной, а люди еще грязнее. Они также безоговорочно приняли меня за бога и снабдили нас необходимой пищей, Более того, когда мы распрощались с ними, они предоставили нам людей, которые понесли нас и нашу поклажу.
И таким образом, переходя от племени к племени, мы продвигались на юг, все на юг, всегда обнаруживая, что нам предшествовал слух о появлении «Бога». И какими добрыми и мягкими были эти люди! Ни разу не встретили мы никого, кто бы попытался нанести нам вред или украсть что-нибудь из наших вещей, или, наконец, отказать нам в лучшем, что у них было, Правда, приключений у нас было достаточно. Так, дважды мы оказались среди племен, воевавших друг с другом, но при моем появлении они сложили оружие, по крайней мере, на время, и понесли нас дальше,
Иногда же мы встречали племена, которые были людоедами, и в таких случаях мы весьма страдали, от недостатка мяса, поскольку не решались дотрагиваться до их пищи за исключением растительной. В поселении одного из этих народов я, охваченный яростью, убил человека, собиравшегося умертвить девочку и съесть ее; я отрубил ему голову моим мечом. Я ожидал, что за этот поступок мы будем тут же убиты. Ничуть не бывало! Они лишь пожали плечами и, сказав, что Бог может поступать, как ему угодно, унесли убитого и съели его.
Иногда наш путь пролегал через ужасные леса, где большие деревья преграждали доступ дневному свету, а подлесок был так плотен и густ, что приходилось прокладывать дорогу топором. Нередко такой лес кишел тиграми или древесными львами, что вынуждало нас быть постоянно настороже, особенно ночью, когда нам приходилось зажигать костер, чтобы отпугивать хищников. Иногда мы должны были переходить вброд большие реки или, что еще хуже, перебираться через них по зыбким мостам из каната, сплетенного из тростников; от этих качающихся мостов, пока я не привык к ним, у меня кружилась голова, хотя я ни разу не позволил себе выказать перед туземцами одолевавший меня страх, А однажды мы пришли в болотистые земли, где водилось множество змей, что привело меня в ужас, особенно после того, как несколько ужаленных ими туземцев на моих глазах умерли несколько минут спустя после укуса.
Были и другие змеи, толстые, как тело человека, в четыре-пять шагов длиной, которые жили на деревьях и убивали свою добычу, обвиваясь вокруг нее и удавливая ее насмерть. Говорили, что эти змеи могут таким же образом погубить и человека, хотя я ни разу не видел такого случая. Как бы то ни было, вид их был ужасен и напоминал мне их предка, устами которого Сатана говорил с нашей праматерью Евой в садах Эдема и таким образом навлек на всех нас беды и страдания.
А в другой раз на берегу большой реки я увидел такую змею, что у меня затряслись поджилки. Клянусь Св. Хьюбертом, эта бестия была футов шестьдесят в длину, если не больше; голова ее была величиной с бочку, а кожа переливалась всеми цветами радуги. Более того, она как будто парализовала меня взглядом, потому что пока она не соскользнула в реку, я не мог пошевелить и пальцем.
Так мы шли месяц за месяцем, покрывая, пожалуй, миль пять в день, поскольку иногда мы выходили на открытую местность и могли двигаться быстрее. И как ни странно, несмотря на столь многие опасности, за все это время, даже в самую сильную жару, ни один из нас не заболел — думаю, благодаря той траве, которую Кари нес в своем мешке и которая, как я узнал, называлась кока; мы умножали ее запас, находя ее по пути, и время от времени поедали ее. В сущности, мы не страдали и от голода, поскольку при недостатке пищи мы ели ту же траву, и она поддерживала нас, пока мы не находили настоящую еду. Все эти благодеяния я приписываю добрым заботам Св. Хьюберта, который с небес следил за мной, своим бедным тезкой и крестником, хотя, пожалуй, известную роль играли также ловкость и мужество Кари, спасавшие нас во всех затруднениях и от всех опасностей.
Наконец на девятый месяц нашего путешествия (Кари вычислил это по количеству узлов, которые он завязывал на туземных нитках, ибо сам я давно потерял счет времени) мы подошли к краю большой пустыни, которая, по словам туземцев, простиралась на сто лье и больше в южном направлении и была совершенно безводной. Более того, к востоку от этой пустыни вздымалась цепь гор, окаймленных пропастями и ущельями, преодолеть которые не мог ни один человек. Похоже было, что наше путешествие здесь и закончится, ибо Кари не имел никакого представления о том, как он пересек или обошел эту пустыню во время своего безумия минувших лет — если он вообще шел по этой дороге, в чем я далеко не был уверен.
Неделю, а может быть и дольше, мы жили среди людей племени, заселявшего прекрасную, обильно орошаемую долину на границе этой пустыни, ломая голову над вопросом, что же нам делать. Лично я уже так устал от скитаний в бесконечных походах, что с радостью остался бы у этих добрых дружелюбных людей, веривших, как и все другие, что я Бог; здесь я нашел бы себе прибежище и прожил бы среди них до самой смерти. Но это совершенно не совпадало с намерениями Кари, все мысли которого яростно устремлялись к одной цели — вернуться на родину, которая, как он был уверен, лежит где-то на юге.
День за днем мы набирались сил, питаясь дарами этой долины и поочередно вглядываясь то в пустыню на юге, то в горные кряжи и ущелья слева от нас, то, наконец, в расстилавшийся справа океан. Следует сказать, кстати, что приютившее нас племя добывало свои богатства не только на суше, но и в море, поскольку эти люди были отличными рыбаками и выходили на лов в грубо сделанных лодках или, точнее, на плотах, состоявших из деревянной рамы, к которой накрепко привязывались надутые воздухом звериные шкуры и связки сухого тростника. На этих хрупких на вид суденышках, подобных тем, что в южных странах называются «бальза», они совершали весьма серьезные путешествия на отдаленные острова, где вылавливали огромное количество рыбы, частично используемой на удобрение их земель. Мало того, на этих плотах они устанавливали квадратный парус, сотканный из хлопка, так что при благоприятном ветре они могли сушить весла и управлять судном с кормы при помощи широкого весла или гребка.
Во время нашего пребывания там я заметил, что когда задул северный ветер, хотя и небольшой силы, все плоты причалили и были вытащены на берег достаточно далеко от линии прибоя. Когда я спросил через посредство Кари о причине этого, мне ответили, что сезон рыбной ловли закончен, поскольку этот северный ветер будет дуть, не меняя направления, очень долго, и может отнести тех, кто вышел бы в море, далеко на юг, откуда нет возврата. Мне рассказали даже о многих отважных смельчаках, которые бесследно исчезли именно таким образом.
— Вот способ попасть на юг, если ты хочешь, — сказал я Кари.
Он ничего не ответил, но на следующий день неожиданно спросил меня, готов ли я отважиться на такое путешествие.
— Почему бы и нет? — сказал я. — Умереть в море так же легко, как и на суше. Я устал скитаться по бесконечным лесам и болотам, переправляться через бурные реки и перелезать через горные хребты.
Кончилось тем, что в обмен на нож и несколько гвоздей Кари раздобыл самую большую «бальза», какая нашлась у этих людей, и нагрузил ее таким количеством сушеной рыбы, зерна и воды в глиняных кувшинах, какое только она могла выдержать, не считая нас двоих и тех из оставшихся у нас товаров, которые мы хотели взять с. собой. Потом он заявил, что я — Бог, вышедший из моря, желаю вернуться в море вместе с ним, моим слугой.
И вот в одно ясное утро, когда с севера дул ровный, но не очень сильный ветер, мы взошли на этот плот, в то время как простодушные дикари провожали нас почестями и удивленными взглядами, подняли квадратный парус и отправились в одно из самых, на мой взгляд, безумных плаваний, какие когда-либо совершал человек.
Хотя и неуклюжая, наша «бальза» шла, разрезая волны на хорошей скорости, делая, я бы сказал, два лье в час под свежим и устойчивым ветром. Вскоре деревня, которую мы покинули, исчезла из виду; потом вздымавшиеся за ней горы потеряли четкость очертаний, слились в одну линию и тоже исчезли, и не осталось ничего, кроме дикой пустыни слева и огромного моря вокруг нас. Направляя плот дальше от берега, чтобы не наскочить на подводные камни, мы плыли весь день и всю ночь, и когда снова рассвело, увидели, что мы идем вдоль побережья, обрамленного стеной высоких гор с кое-где покрытыми снегом вершинами. К концу второго дня эти горы выросли до огромных размеров, и среди них я увидел долины, по которым сбегали водные потоки.
Так мы шли три дня и три ночи. Ветер не изменил своего направления, «бальза» благополучно справлялась с волнами, и к концу этого срока я высчитал, что мы прошли вдоль побережья такое же расстояние, какое покрыли за шесть месяцев, двигаясь по суше. И я обрадовался. Кари тоже радовался, потому что, по его словам, очертания и высота гор, мимо которых мы плыли, напоминали ему горы его родины, и он считал, что мы уже приближаемся к цели.
На четвертое утро, однако, начались наши бедствия, так как дружественный нам северный ветер стал неуклонно крепчать и наконец перешел в шторм. Наш парус сорвало и унесло, как тряпицу, но, подгоняемые волнами, мы все же мчались вперед с большой скоростью.
Я подумал было повернуть к берегу, но обнаружил, что при помощи весел мы не в силах противодействовать течению, которое гнало наше неуклюжее суденышко в открытое море. Поэтому нам оставалось только одно — стараться удерживать плот на прямой линии, хотя даже это не всегда помогало, и, несмотря на все наши усилия, его часто кружило на месте.
Около двух часов пополудни небо затянуло тучами, и на нас обрушилась сильная гроза с потоками дождя, а ветер все крепчал и крепчал.
Теперь мы не могли больше ни править, ни грести, и нам оставалось только лежать ничком, крепко держась за скреплявшие плот канаты, иначе волны смыли бы нас в море своими пенистыми гребнями, которые то и дело перекатывались через нас. Просто чудо, что это хрупкое суденышко вообще не рассыпалось, но благодаря легкости тростников и надутых воздухом шкур оно держалось на воде и, кружась и вращаясь, неслось по своему курсу — на юг. Однако я знал, что это ненадолго, и, собрав последние силы, препоручил свою душу Богу, желая лишь одного — чтобы мои страдания кончились.
Спустилась тьма, но гром все еще гремел, и сверкала молния, и при ее вспышках я на мгновение увидел увенчанные снегом горы на далеком берегу, а рядом со мной Кари, который вцепился в тростники нашего бальзового плота и время от времени целовал золотое изображение Пачакамака, висевшее на шнурке у него на шее. Однажды он приблизил губы к моему уху и крикнул:
— Мужайтесь! Наши боги не оставляют нас и в бурю!
— Да, — ответил я, — и скоро мы будем с нашими богами — в тишине и покое.
После этого я его больше не слышал и, насколько мой ум еще был способен мыслить, стал думать о том, как много опасностей мы преодолели с тех пор, как покинули берега Темзы, и как печально, что все это было зря — уж лучше было бы погибнуть в самом начале, чем теперь, после стольких мучений. Потом блеск молнии высветил рукоятку меча Взвейся-Пламя, который все еще был на мне, и я вспомнил руну, прочитанную мне моей матушкой в день сражения с французами. Как это было там?
«Тот, кто взметнет высоко Взвейся-Пламя,
Прожив в любви, умрет на поле брани.
Носимый бурями, моря пересечет
И в чуждых странах свой приют найдет.
Став победителем, он будет побежден,
В дальнем краю уснет со мною он».
Все так и есть, хотя любви мне на долю выпало не очень-то много, да и та была глубоко несчастной, и битва, в которой я должен умереть, — это битва с морем, Да и победителем я не стал, а, наоборот, сам побежден судьбой. Словом, эти стихи можно понимать двояко, подобно всем пророчествам, и только одна строчка не вызывает сомнений — Взвейся-Пламя и я действительно уснем вместе.
Немного позже молния вдруг вспыхнула с ужасающей силой, как будто целая армия ангелов-разрушителей взмахнула мечами, — так что все небо запылало огнем. В ее свете я на мгновение увидел впереди огромные бурные валы, а за ними — темную массу, что-то вроде берега. И тут же эти алчные пенящиеся волны подхватили наш плот, подбросили его вверх с головокружительной силой и швырнули вниз, в глубокую водяную долину. За первым валом налетел второй, потом третий, и все мои чувства закачались, сбились и погасли. Я крикнул, призывая Св. Хьюберта, но он был сухопутным святым и не мог помочь мне; тогда я воззвал к другому, кто более велик, чем он.
Последнее, что я увидел, было — я сам, несущийся на гребне огромной волны, как на коне. Потом — страшный грохот и темнота.
Мне казалось, что кто-то зовет меня, возвращая из глубины сна. С трудом я открыл глаза, но тотчас зажмурился от ослепительного света. Через некоторое время я приподнялся и сел, чувствуя, что у меня все болит, как будто меня всего избили, и снова открыл глаза. Надо мной в глубокой синеве неба сияло солнце; передо мной расстилалось море, почти совсем спокойное, а вокруг были горы и песок, по которому ползали рептилии: я сразу узнал в них черепах, поскольку видел их во множестве во время наших странствий. Более того, рядом со мной, стоя на коленях и все еще опоясанный мечом, снятым с тела Делеруа, был Кари, запачканный кровью — видно, его где-то ранило — и почти белый от высохшей морской соли, но в остальном жив и невредим. Я уставился на него, не в силах произнести ни слова от изумления, так что он заговорил первым, с какой-то ноткой торжества в голосе:
— Разве я не говорил, что боги помогают нам? Где же твоя вера, о Белый Человек? Посмотри! Они привели меня обратно в страну, в которой я — Правитель!
При всей моей слабости что-то в тоне Кари рассердило меня. Почему он прошелся насчет моей веры? Почему назвал меня «Белым Человеком», а не господином? Может быть, потому, что он достиг страны, где он — важное лицо, а я — никто?
Я предположил последнее и ответил:
— А это — твои подданные, о благородный Кари? — и я указал на ползающих по песку черепах. — И это вот та богатая и чудесная страна, где золото и серебро все равно что грязь? — и я указал на голые скалы и песок на берегу.
Он улыбнулся моей шутке и ответил более смиренно:
— Нет, господин, моя земля — там.
Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел на расстоянии многих лье водного пространства два покрытых снегом пика, выступавших из неподвижной массы облаков.
— Я узнаю эти горы, — продолжал он, — несомненно, это — одни из тех, что образуют ворота в мою страну.
— Тогда у нас столько же надежды пройти через эти ворота, сколько вернуться в Лондон, Кари. Но скажи мне, что произошло?
— Думаю, вот что: очень высокая волна подхватила нас и выбросила прямо через эти камни на берег. Посмотрите, вон наша «бальза», — и он указал на груду изломанных камышей и порванных шкур.
С его помощью я поднялся и подошел к ней. Теперь никто бы не узнал в этой груде морское судно. И все же это была «бальза», и не что иное, и в этой запутанной массе обломков виднелись некоторые вещи, которые мы взяли с собой, — например, мой черный лук и мои доспехи; но все кувшины разбились вдребезги.
— Она хорошо послужила нам, но теперь ей конец, — сказал я.
— Верно, господин. Но если бы мы были у меня на родине, я бы сложил ее обломки в шкатулку из золота и поместил бы их в Храм Солнца как памятник.
Потом мы пошли к водоему, образовавшемуся во время дождей в углублении ближней скалы, и вдоволь напились, утолив мучившую нас жажду. Среди обломков «бальзы» мы нашли также остатки сушеной рыбы и, промыв ее, поели. После этого, хромая, мы кое-как взобрались на гребень скалы и увидели, что находимся на островке площадью что-то около двухсот английских акров, на котором не растет ничего, кроме дикой жесткой травы. Однако этот остров был прибежищем множества гнездившихся на нем морских птиц, а также упомянутых мной черепах и некоторых животных, похожих на тюленей и выдр.
— По крайней мере, мы не умрем с голоду, — заметил я, — хотя, если будет засуха, вполне можно умереть от жажды.
Четыре долгих месяца провели мы на этом острове.
Пищей нам служили черепахи, и мы готовили их на костре, который Кари развел хитроумным способом — вращая заостренную палочку, выточенную из выброшенного морем дерева, в ямке, выдолбленной в деревянном бруске и наполненной высушенной травой, растертой в порошок. Не знай он этого способа добывать огонь, мы бы голодали или ели сырое мясо. А так мы жили в изобилии, потому что, кроме черепашьего мяса, мы имели мясо птиц и их яйца, а также рыбу, которую вылавливали из луж, остающихся на берегу во время отлива. Из панцирей черепах мы при помощи камней соорудили нечто вроде хижины, чтобы прятаться от солнца и дождя; в этом теплом климате такая хижина служила достаточно надежным кровом. В такие же панцири, когда из них выветривался дурной запах, мы собирали дождевую воду, сохраняя ее, как могли, на случай засухи. Наконец из моего лука, сохранившегося вместе с доспехами, я застрелил несколько морских выдр, и из шкурок, натертых черепашьим жиром и обработанных до мягкости, мы смастерили себе одежду.
Так вот мы и жили, от полнолуния до полнолуния, в этом пустынном месте, пока я не почувствовал, что сойду с ума от одиночества и отчаяния, ибо ждать помощи было неоткуда. Далеко-далеко виднелись горы материка, но между ними и нами на много лье простиралось море, которое мы не могли переплыть, а построить лодку или плот было не из чего.
— Здесь мы и останемся до самой смерти! — вскричал я наконец в безнадежном состоянии.
— Нет, — ответил Кари, — наши боги по-прежнему с нами и спасут нас, когда придет срок.
И они действительно спасли нас — самым странным образом.
ГЛАВА III. ДОЧЬ ЛУНЫ
В четвертый раз с тех пор, как море выбросило нас на этот остров, в удивительной синеве неба сияла полная луна. Кари и я смотрели, как она поднимается между теми далекими, одетыми снегом вершинами гор, которые он называл воротами в его страну, — она была так близко и, однако, казалась более далекой, чем само Небо. Небо было доступно — мы могли надеяться достичь его на крыльях духа в наш смертный час; но что могло перенести нас в эту страну?
Мы следили, как эта большая полная луна взбирается все выше и выше по лестнице тонких прямых облачков, пока, устав, не перевели взгляд на сверкающую дорожку, которую ее свет прочертил на спокойной глади моря. Вдруг Кари вздрогнул и стал пристально всматриваться во мглу.
— Что там? — рассеянно спросил я.
— Мне показалось, я что-то увидел: там, далеко, где шаги Куиллы оставили свежие следы на воде, — сказал он на своем языке, на котором мы с ним теперь часто разговаривали.
— Шаги Куиллы! — воскликнул я. — Ах да, я забыл: ведь это — имя Луны на твоем языке, не так ли? Ну что ж, приди, Куилла, и я женюсь на тебе и буду
поклоняться тебе, как, говорят, поклонялись древние, и никогда не оглянусь на другую, будь то женщина или богиня, или и то, и другое вместе. Только приди и забери меня с этого проклятого острова, и в отплату я умру за тебя, если нужно, научив тебя любить, как никогда еще не любили ни звезда, ни женщина!
— Молчите! — сказал Кари серьезным тоном, услышав этот безумный призыв, прорвавшийся через уста души, смятенной мукой и отчаянием.
— Почему я должен молчать? — возразил я. — Разве не принято думать, что Луна принимает облик прелестной женщины и нисходит к одинокому смертному, даруя ему любовь и успокоение?
— Потому, господин, что для меня и моего народа Луна — это богиня, которая слышит мольбу и отвечает на нее. Предположим, что она услышала бы вас и пришла бы к вам, и потребовала от вас обещанной любви — что тогда?
— О, тогда, друг мой Кари, — продолжал я безумствовать, — тогда я бы ее принял — ведь любовь жаждет ответа, как спелый плод, если он достаточно красив, ждет, чтобы его сорвала первая же рука, и готов растаять от прикосновения первых же уст, если они достаточно горячи. Говорят, что любит мужчина, а женщина принимает его любовь. Но это неверно. Именно мужчина, Кари, ждет, пока его полюбят, а тогда и платит в ответ ровно столько, сколько ему дают, и не более того, как честный купец. Ибо если он полюбит первый, он страдает за это, как я узнал на собственном опыте. Так приди же, Куилла, и полюби, насколько может любить небесное существо, и я поклянусь, что пойду с тобой шаг за шагом, не отставая, твой душой и телом, на небо или в ад, ибо любовь — то, что мне нужно; или смерть.
— Прошу вас, не говорите так, — повторил Кари, и в его тоне слышался страх. — Ведь ваши слова идут от сердца и будут услышаны. Богиня ведь тоже — женщина, а какая женщина отвернется от такой приманки?
— Так пусть возьмет ее. Почему нет?
— Потому что, о друг, потому что Куилла обвенчана с Юти; Луна — жена Солнца, и если Солнце станет ревновать, что будет с мужчиной, который ограбил самого великого бога в мире?
— Не знаю, мне все равно. Если бы Луна-Куилла пришла и полюбила меня, я бы рискнул помериться с Юти — я бросаю ему вызов, как христианин.
При этом кощунстве Кари содрогнулся, потом снова устремил взгляд на лунную дорожку. Но чтобы он там прежде ни увидел — была ли то большая рыба или кусок дрейфующего дерева — ничто больше не появлялось, и тогда он помолился, как он всегда делал перед сном, Духу Вселенной, Пачакамаку, а может быть, Солнцу, его слуге, и, завернувшись в свой коврик из шкур, забрался в нашу хижинку и заснул.
А я не мог спать: наш разговор о любви и о женщинах, несмотря на ненависть Кари к обоим предметам, растревожил меня и мою кровь и не давал мне заснуть.
Взяв грубый гребень, который я вырезал из черепашьего панциря, я расчесал свою длинную бороду, которая, отрастая, доходила мне уже до груди, и вьющиеся светлые волосы, падавшие на плечи, ибо теперь я выглядел, как выглядят дикари; и, напевая про себя у маленького костерка, который мы поддерживали день и ночь, старался думать о минувших счастливых днях, которые мне никогда уже не суждено вновь пережить.
Наконец этот порыв прошел, и я почувствовал, что очень устал; я улегся возле костра, ибо ночь была ясной и теплой, и мне не хотелось идти в хижину, — и тут на меня сошел сон.
Во сне меня посетило видение. Мне приснилось, что надо мной, глядя на меня большими темными глазами, стоит прекрасная женщина с хрустальной эмблемой Луны на обнаженной груди. И, глядя на меня, она вздыхает. Трижды вздохнула она, каждый раз все тяжелее. Потом опустилась на колени — по крайней мере, так мне приснилось — и приложила прядь своих длинных темных волос к моим светлым кудрям, как будто желая сочетать их. Она сделала и больше — в моем сне — ибо, приподняв эту благоухающую прядь, она накрыла ею, словно мягким пушком чертополоха, мое лицо и рот и поцеловала эти волосы — я почувствовал, как ее дыхание, проникая сквозь них, касается моего лица.
И тут мой сон кончился, хотя я страстно хотел, чтобы он продолжался, — он как будто растаял, как бывает с такими видениями. Немного погодя, как мне кажется, я внезапно проснулся и открыл глаза. Передо мной, совсем близко, сияя в ярком свете полной Луны, стояла женщина моего сна, только сейчас ее обнаженная грудь была прикрыта великолепным плащом, расшитым серебром, а темные локоны прикрывал венец из перьев, украшенный спереди тоже серебряным полумесяцем. В руке она держала маленькое серебряное копье.
Я смотрел на нее, не в силах пошевелиться. Потом, вспомнив свой сумасшедший разговор с Кари, я произнес одно-единственное слово: К у и л л а.
Она наклонила голову и ответила голосом тихим, как шелест ветра в тростниках, на богатом языке куичуа, которому Кари научил меня. На этом языке, как я уже упоминал, мы часто говорили с ним ради практики и во время нашего путешествия, и на острове, так что теперь я хорошо его знал.
— Меня действительно так зовут в честь моей матери Луны, — сказала она. — Но как ты узнал об этом, о странник, чья кожа бела, как морская пена, а волосы такого же цвета, как чистое золото в храмах?
— Должно быть, ты сама сказала мне только что, когда склонилась надо мной, — ответил я.
Я видел, как краска залила ее лицо, но она только покачала головой и возразила:
— Нет, это, должно быть, моя мать-Луна тебе сказала; или, может быть, твоя душа узнала об этом. Но Куилла — действительно мое имя, и ты назвал меня правильно.
Я поднялся, не сводя с нее глаз, весь во власти этого странного явления, а она так же пристально смотрела на меня. Удивительно прекрасна была она в своей сверкающей одежде и головном уборе; ее кожа была гораздо светлее, чем у любого виденного мною туземца, — почти белая и только с очень легким медным оттенком, типичным для ее расы. Она была высокая, но не слишком, стройная и прямая, как стрела, но с высокой грудью и округлыми линиями, а ее движения отличались естественной грацией, как полет ястреба. Мне показалось также, что в ее лице было нечто большее, чем обычная красота молодости, нечто одухотворенное, что мы видим в лицах, изображаемых великими художниками.
Быть может, и в самом деле человеческая кровь в ней смешалась с кровью некой иной, чужой природы — ведь назвала же она себя дочерью Луны.
Невольно у меня вырвался вопрос:
— Скажи мне, о Куилла, ты жена или девственница?
— Дева я, — ответила она, — но обещана в жены. — И она вздохнула и продолжала, как будто не желая говорить на эту тему: — Но скажи мне и ты, о странник, кто ты — Бог или человек?
— Я — Сын Моря, так же как ты — Дочь Луны. Она оглянулась и посмотрела на солнце, как бы витавшее над морской гладью, и потом сказала тихо, будто про себя:
— Луна светит над морем, а море возвращает Луне ее отражение, и все же они далеки друг от друга и никогда не смогут сблизиться.
— О нет, Куилла. Из моря Луна встает и, пройдя свой путь, в белые объятья моря опускается, чтобы заснуть.
Снова краска залила ее лицо, и она опустила глаза — таких глаз я никогда еще не видел в своей жизни.
— Оказывается, в море говорят на нашем языке, и так красиво! — проговорила она и добавила: — Но разве не в небе поднимается Луна и не в небе же она опускается?
На этом, к моему сожалению, наша беседа прервалась, потому что из хижины появился Кари. Поднявшись на ноги, он остановился перед нами, как всегда спокойный и полный достоинства, взглянув сначала на Куиллу, а потом на меня.
— Ну, что я говорил, господин? — сказал он по-английски. — Не говорил ли я, что такие молитвы никогда не остаются без ответа? И вот — это Дитя Луны, которое вы призывали, является к вам во всей красе, неся свои дары любви и горя.
— Да, — воскликнул я, — и я рад ее приходу! Будь она моей, я за ценой не постоял бы.
Куилла смотрела на Кари, хмурясь из-за копья, которое она приподняла при его появлении, как будто собираясь защищаться, чего, однако, не сделала при моем пробуждении; видимо, не сочла это необходимым.
— Значит, море порождает и людей моей расы, — сказала она, обратившись к нему. — Скажи мне, о пришелец, как ты и этот белый Бог попали на этот остров?
— На бурных волнах океана, которые пронесли нас на тысячи лье, — ответил он. — А ты, о госпожа, как ты попала сюда?
— На лучах Луны, — сказала она, улыбнувшись. — Ведь я Дочь Луны, и имя мое — Луна, и я ношу на этой диадеме ее символ.
— Ну, что я вам говорил? — воскликнул Кари с мрачным видом.
Между тем Куилла продолжала:
— Пришельцы, я ловила рыбу с двумя моими служанками, и нас отнесло далеко в море. Как зашло солнце, мы заметили дым вашего костра, а нам говорили, что этот остров необитаем; поэтому мое сердце побудило меня узнать, кто разжег этот костер. И вот, хотя мои служанки боялись, я наставила парус и гребла — остальное вы знаете. Слушайте! Я открою вам, кто я. Я — единственная дочь Хуарача, царя народа Чанка, и его жены, царевны из рода Инка, которая теперь на небесах, у своего отца — Солнца. Я прибыла сюда с визитом к родственнику моей матери, Куисманку, вождю народа Побережья, к которому мой отец-царь отправил послов по не известному мне поводу. Вон за той скалой — наша «бальза», где остались обе мои служанки. Скажите, каково ваше желание: остаться здесь, на этом острове, или вернуться в море, или же сопровождать меня обратно в город Куисманку? Если последнее, то мы должны отплыть прежде, чем изменится погода, иначе мы можем утонуть.
— Конечно, наше желание — сопровождать тебя, госпожа, хотя бог моря и не может утонуть, — сказал я поспешно, прежде чем Кари успел открыть рот. Впрочем, он вообще ничего не сказал, только пожал плечами и вздохнул, как человек, который принимает ниспосланное судьбой зло, ибо оно неизбежно.
— Да будет так! — воскликнула Куилла. — Тогда я пойду и подготовлю нашу «бальзу», и предупрежу служанок, чтобы они не испугались. Когда вы соберетесь в путь, вы найдете нас за той скалой.
И с величественным поклоном она удалилась, ступая гордо и легко, как лань.
Из нашей хижины я извлек мои доспехи и с помощью Кари надел их, потому что он заявил, что так их легче нести, хотя, думаю, у него на этот счет были другие соображения.
— Возможно, — сказал я. — Но если судно перевернется, мне будет нелегко в них выплыть.
— Судно не перевернется, пока идет при свете Луны с таким кормчим, как Дочь Луны, — ответил он подчеркнуто. — При свете Солнца все было бы иначе. К тому же дорога в сети всегда широка и легка.
— В какие еще сети? — спросил я.
— Те, что сплетены из женских волос, я думаю. Такая сеть, если не ошибаюсь, уже накинута вам на шею, господин, и скоро там и останется. А теперь послушайте меня. По воле богов мы вмешались в серьезные дела. Инка, у вождя которых гостит эта леди, — великий народ. Мой народ победил их в войне, но они только и ждут удобного случая, чтобы восстать, если уже не восстали. Чанка, царь которых — ее отец, еще более великий народ, который уже многие годы грозит войной моему народу.
— Но что из этого следует, Кари? Эта леди не имеет к таким вопросам никакого отношения.
— А я думаю, что имеет, и весьма близкое. Я думаю, что она знает гораздо больше, чем кажется, и что она — посланница чанка к народу юнка. Интересно, кто ее жених? Несомненно, кто-нибудь великий. Ну, со временем мы это узнаем. А пока прошу вас не забывать, что, по ее словам, она уже обручена и что в этой стране мужчины очень ревнивы, даже если соперником окажется белый бог, появившийся из моря.
— Конечно, не забуду, — резко ответил я. — Не довольно ли с меня уже обрученных женщин?
— Судя по вашей молитве Луне сегодня ночью, на которую Луна так быстро и успешно ответила, можно было бы подумать, что не довольно. К тому же эта дочь ее красива, и может статься, что, отдав свою руку, она оставила при себе свое сердце. Послушайте, что я вам скажу. Обо мне и о том, кто я, не говорите ни слова; скажите только, что я был отшельником на этом острове и здесь вы и нашли меня, когда явились из моря. Что до моего имени, то меня зовут Запана. Помните, что если вы хоть когда-нибудь хоть намеком раскроете мой ранг и мою историю — чьи бы нежные уста ни пытались выведать их у вас — вы обречете меня на смерть. А я не хочу сейчас умереть, ибо меня зовет долг отмщения и трон, который я должен завоевать. Поэтому обращайтесь со мной, как с собакой, как с ничтожеством, и молчите даже во сне.
— Я буду помнить об этом, Кари.
— Этого недостаточно. Поклянитесь.
— Хорошо. Клянусь Луной.
— Нет, не Луной, ведь Луна — женщина, она изменчива. Клянитесь вот этим, — и из-под плаща он достал золотое изображение Пачакамака. — Клянитесь Духом Вселенной, для которого и Солнце, и Луна, и Звезды — лишь слуги, — Духом, кому в том или другом образе поклоняются все люди.
Чтобы доставить ему удовольствие, я положил руку на этот золотой символ и поклялся. Потом мы наскоро сочинили историю о том, как, облаченный в свои доспехи, я поднялся из морской пучины и нашел Кари на острове, и как он, узнав во мне белого бога, который однажды в минувшие века посетил эту землю и, как было предсказано, когда-нибудь явится вновь, начал поклоняться мне и стал моим рабом.
Договорившись об этом, мы направились к той скале; Кари шел позади, неся нашу скудную поклажу и меч Делеруа. Обойдя скалу, мы увидели вытащенный на песок бальзовый плот, а возле него леди Куиллу, которая сменила свое нарядное одеяние на простое платье рыбачки, как в моем сне, и двух ее служанок — высоких девушек в такой же скудной одежде. Когда они увидели меня в сверкающих доспехах, которые мы а долгие часы бездействия натерли так, что они сияли, как серебро, со щитом и в шлеме, и с большим мечом у пояса, и с черным луком в руке, — они закричали от страха и упали ничком, и даже Куилла отступила на шаг и взглянула в сторону лодки.
— Не бойтесь, — сказал я. — Боги добры к тем, кто им служит, хотя для тех, кто против них, они ужасны.
Кари, со своей стороны, подошел к ним и стал шептать им на ухо, не знаю, что. В конце концов они, дрожа, поднялись и, жестами пригласив меня взойти на плот (который, как я с радостью заметил, был большим и крепко сбитым), столкнули его с помощью Кари в воду. Потом друг за другом они тоже уселись, Куилла взялась за гребок, а Кари и обе девушки подняли парус и стали грести, пока мы не отошли от нашего острова и не попали в струю легкого ласкового ветра. Тогда девушки подняли весла, и «бальза», хотя и загруженная, спокойно устремилась к берегам большой земли.
Я сидел на носу судна, а Куилла на корме, и нас разделяли другие; поэтому за все время нашего ночного путешествия мы не сказали друг другу ни слова, и я поневоле удовольствовался тем, что, оглядываясь через плечо, созерцал ее красоту, хотя Кари и мешал мне, постоянно оказываясь на пути наших взглядов.
Так прошло несколько часов, и наконец мы приблизились к берегу. Луна зашла, и мы высадились в предрассветных сумерках. А потом рассвело, и перед нами открылась прелестная зеленая земля, покрытая пальмами и засеянными злаками полями, обильно орошаемая и как бы обрамленная кольцом гор с одетыми снегом вершинами, среди которых были и те два пика, которые мы видели с острова.
На берегу расположился город народа юнка — город из белых домов с плоскими крышами, а над ним, примерно в полумиле от моря, возвышался холм в четыреста или пятьсот футов высотой и с уступами или террасами. На вершине этого холма стояло грандиозное здание, выкрашенное в красный цвет, которое, судя по его виду, я принял за одну из церквей этого народа. В центре фасада, искрясь, сияли высокие двери; позже я узнал, что они покрыты пластинками из золота.
— Смотрите, это — храм Пачакамака, господин, — прошептал Кари, склоняя голову и целуя воздух в знак почтения.
Между тем люди, расставленные по берегу, чтобы обозревать море в поисках судна Куиллы, заметили наше приближение. Они закричали и стали указывать на меня, облаченного в доспехи, сверкавшие на солнце, а потом забегали взад и вперед, как будто в страхе или возбуждении, так что, когда мы достигли берега, собралась большая толпа. Куилла уже надела свой расшитый серебром плащ и диадему из перьев, увенчанную серпом луны. Когда плот коснулся суши, она прошла вперед и первый раз за эту ночь обратилась ко мне со словами:
— Оставайся в лодке, повелитель, пока я не поговорю с этими людьми, а когда позову — пожалуйста, выходи. Не бойся, никто не причинит тебе вреда.
Потом она соскочила с плота на берег. Служанки последовали за ней и вытащили его частично на песок. Она подошла к толпе и заговорила с несколькими людьми, одетыми в белое. Она говорила долго, время от времени оборачиваясь и показывая на меня. Наконец эти люди в сопровождении некоторых других побежали к берегу. В первый момент я подумал, что они затеяли недоброе, и схватился за меч, но, вспомнив, что сказала Куилла, остался сидеть молча и не двигаясь.
И действительно, для страха не было причины, ибо когда одетые в белое вожди, или жрецы, и их свита были уже совсем близко, они вдруг простерлись ниц и стали биться головами о землю, из чего я заключил, что они тоже поверили, что я. — Бог. Тогда я поклонился им и, вынув из ножен свой меч, — при виде которого они широко раскрыли глаза и задрожали, ибо сталь была этим людям неизвестна, — поднял его прямо перед собой в правой руке, держа в левой щит с эмблемой из трех стрел.
Теперь все поднялись на ноги, и некоторые, видимо, более скромные по положению, подобрались к плоту и вдруг подхватили его и подняли, подставив плечи, что было не очень трудно, так как «бальза» состоит из тростников и надутых воздухом шкур. Потом, следуя за вождями, они двинулись с берега к городу, в то время как я сидел на плоту вместе с Кари, который скорчился у меня за спиной. Все это было так странно, что я чуть не рассмеялся, представив себе, что бы подумали важные и степенные купцы Чипсайда, мои знакомые, если бы сейчас увидели меня в этом положении.
— Кари, — сказал я, не поворачивая головы, — что они собираются с нами сделать? Посадить в этот Храм, чтобы нам поклонялись, пока мы не умрем с голоду?
— Не думаю, господин, — ответил Кари, — ведь леди Куилла не могла бы приходить туда, чтобы говорить с вами, если бы ей этого захотелось. Думаю, они несут нас во дворец к царю этой страны, где она, по-моему, гостит.
Так и случилось, ибо нас пронесли по главной улице города, уже заполненной тысячами людей, из которых многие бросали цветы под ноги наших носильщиков, кланялись и пожирали меня глазами так упорно, что казалось, их глаза вот-вот выскочат из глазниц, и достигли большого дома под плоской крышей, обнесенного плотной стеной. Пройдя в ворота, носильщики опустили «бальза» наземь и отступили. Тогда открылась дверь, и из дома появилась Куилла в сопровождении высокого величественного человека в нарядном одеянии и женщины средних лет, тоже нарядно и пышно одетой.
— О повелитель, — произнесла, поклонившись, Куилла, — взгляни на моего родственника, курака (позже я узнал, что так называется царь менее значительного сорта) народа юнка; его имя Куисманку, а это его жена Майра.
— Привет тебе, Повелитель, поднявшийся из моря! — вскричал Куисманку. — Привет тебе, Белый Бог в серебряном одеянии! Привет тебе, К у р а ч и!
В то время я не понял, почему он назвал меня «курачи», но впоследствии узнал, что поводом послужили стрелы, изображенные на моем щите, ибо «курачи» значит у них «стрела». Во всяком случае, с этой минуты я стал известен в стране под именем Курачи, хотя, обращаясь ко мне, меня, называли «Повелитель-из-Моря» или «Бог Моря».
Потом Куилла и леди Майра приблизились и, подставив руки мне под локти, помогли мне сойти с «бальзы». Я думаю, это был самый необычный прием, какой когда-либо оказывали страннику, потерпевшему кораблекрушение.
Они привели меня в просторный покой с плоской крышей, который поспешно приготовили для меня, развесив по стенам красивые вышивки, и усадили на резной стул, и тотчас Куилла и другие женщины принесли еду и какой-то пьянящий напиток, который они называли чича, — он показался мне бодрящим и приятным на вкус после того, как несколько месяцев я пил только воду. Еда, как я заметил, подавалась на блюдах из золота и серебра, и кубки были тоже из золота и необычной формы, из чего я заключил, что попал в очень богатую страну. Однако позже я узнал, что в этой стране не знают, что такое деньги, и что добываемые здесь золото и серебро идут на изготовление драгоценностей и на украшение храмов и дворцов инка — так они называют своих царей и других важных лиц.
ГЛАВА IV. ПРОРОЧЕСТВО РИМАКА
В этом городе Куисманку я пробыл семь дней, почти не выходя из дворца, ибо стоило мне выйти за его пределы, как меня окружала толпа людей, глазевших на меня так, что я не знал, куда деться от смущения. Позади дворца был сад, обнесенный стеной из глиняного кирпича. Здесь я и проводил большую часть времени, и здесь меня посещали важные обитатели дворца, принося в жертву одежду, золотые сосуды и множество других самых разнообразных вещей. Всем я рассказывал одну и ту же историю — или, вернее, Кари рассказывал ее за меня — а именно, что я поднялся из моря и нашел его, отшельника по имени Запана, на пустынном острове. Но что самое интересное — они верили этому, да, пожалуй, так оно и было: разве я не поднялся из морских волн?
Время от времени ко мне в сад приходила Куилла, приносила цветы, и наедине с ней я разговаривал. Она сидела на низкой скамеечке, устремив на меня свои прекрасные глаза, как будто пытаясь проникнуть мне в душу. Однажды она сказала мне:
— Объясни, повелитель, ты бог или человек?
— Что такое бог? — спросил я.
— Бог — это тот, кого почитают и любят.
— А разве человека никогда не почитают и не любят, Куилла? Например, насколько я понимаю, тебе предстоит выйти замуж, и, несомненно, ты почитаешь и любишь того, кто будет твоим мужем.
Она чуть заметно содрогнулась и ответила:
— Это не так. Я его ненавижу.
— Почему же тогда ты собираешься выйти за него? Тебя заставляют насильно, Куилла?
— Нет, повелитель. Я выхожу за него ради моего народа. Он желает меня из-за моего наследства и моей красоты, и благодаря моей красоте я могу повести его по той дороге, по которой мой народ хочет, чтобы он шел.
— Старая история, Куилла, но будешь ли ты в таком браке счастлива?
— Нет, я буду очень несчастна. Но какое значение это имеет? Я только женщина, а у женщины одна участь.
— Женщин, как и богов, и мужчин, тоже иногда любят и почитают, Куилла.
При этих словах она вспыхнула и ответила:
— Ах, если бы так было, жизнь была бы другой. Но даже если бы так было, и я нашла бы мужчину, который бы мог любить и почитать меня хотя бы год, все равно для меня это уже поздно. Я связана клятвой, которую нельзя нарушить, ибо это привело бы мой народ к гибели.
— Кому ты дала эту клятву?
— Сыну Солнца, который тоже мужчина: богу, который будет инка всей этой земли.
— А как выглядит этот бог?
— Говорят, он огромный и смуглый, с большим ртом, и я знаю, что у него грубое и злое сердце. Он жестокий и коварный, и у него десятки жен. Однако его отец, нынешний инка, любит его больше, чем любого из своих детей, и недалек тот день, когда он станет после него царем.
— И ты согласилась бы — ты, такая прелестная и нежная, как Луна, чье имя ты носишь, — согласилась бы отдаться душой и телом такому, как он?
Снова она вспыхнула.
— Неужели мои собственные уши не обманывают меня, и Белый-Бог-из-Моря называет меня нежной и прекрасной, как Луна? Если так, то я благодарна и молю его вспомнить, что жертвами для богов всегда выбирают именно совершенных и прелестных.
— Но, Куилла, эта жертва может оказаться напрасной. Как долго ты сможешь удержать свою власть над этим распущенным принцем?
— Достаточно долго, чтобы достичь моей цели, повелитель; или, по крайней мере, — добавила она, и глаза ее вспыхнули, — достаточно долго, чтобы убить его, если он откажется идти по дороге, выгодной моей стране. О, не спрашивай меня больше ни о чем, ибо твои слова что-то пробуждают в моей груди, какой-то новый дух, о котором мне даже не снилось. Если бы я услышала их хотя бы три луны назад, все могло бы быть иначе. Почему ты не явился из моря раньше, мой господин Курачи, будь ты бог или человек?
И со стоном, похожим на рыдание, она поднялась, поклонилась и убежала прочь.
В тот же вечер, когда мы были одни в моей спальне, и никто не мог нас услышать, я сказал Кари, что Куилла обручена с принцем, который будет инка всей этой страны.
— Вот как? — сказал Кари. — Так знай же, господин, что этот принц — мой брат, тот, кого я ненавижу, тот, кто причинил мне страшное зло, украл мою жену и отравил меня. Его имя — Урко. И эта леди Куилла его любит?
— Не думаю. По-моему, она ненавидит его, как и ты, однако выйдет за него из политических соображений.
— Не сомневайтесь в том, что она его ненавидит, что бы она ни делала неделю тому назад, — сухо сказал Кари. — Но какой плод принесет это дерево? Господин мой, вы намерены пойти завтра со мной и посетить Храм Пачакамака, во внутреннем святилище которого сидит бог Римак, пророк и предсказатель?
— С какой целью, Кари? — мрачно ответил я.
— Чтобы услышать пророчества, господин. Если бы вы пошли, то леди Куилла, наверно, пошла бы с вами — думаю, она тоже хотела бы услышать пророка.
— Пойду, если это можно сделать тайно, скажем — ночью. Я устал от постоянных взглядов глазеющей толпы.
Я сказал так потому, что мне хотелось узнать что-нибудь о религии этого народа и увидеть что-нибудь новое.
— Может быть, это можно устроить, господин. Я порасспрошу.
Видимо, Кари действительно расспросил насчет этого дела, возможно даже — у верховного жреца Пачакамака, а между всеми, кто поклоняется этому богу, существовало некое братство; возможно, у правителя Куисманку или, может быть, у самой Куиллы, — не знаю. Во всяком случае, в тот же день Куисманку осведомился, не пожелал ли бы я посетить ночью храм, и таким образом дело было устроено.
Соответственно, как только стемнело, принесли два паланкина, в которых мы разместились: Куилла и ее служанка — в одном, а Кари и я — в другом; Куисманку и его жена к нам не присоединились, почему — не могу это сказать, не знаю. Потом впереди появился третий паланкин, в котором находился один из жрецов бога и который окружала стража из воинов. Так, несмотря на сильный дождь и грозу, нас понесли на вершину холма — идти было недалеко — в Храм.
Здесь, перед позолоченными дверьми, то и дело сверкавшими при вспышках молнии, мы вышли, и люди в белых одеждах и с фонарями в руках повели нас через разнообразные дворики во внутреннее святилище бога. На пороге я перекрестился, ибо мне не нравилась компания языческих идолов. Насколько я мог судить при свете фонарей, это было просторное и величественное помещение, и куда ни падал взгляд, всюду было золото — пластины золота на стенах, приношения из золота на полу, звезды из золота на сводах. Странная особенность этого святого места, однако, заключалась в том, что, кроме упомянутого золота, в нем больше ничего не было. Ни алтаря, ни изображения бога — ничего, кроме освященного пустого пространства.
Здесь все поверглись ниц — я один остался стоять — и молча помолились. Когда они поднялись на ноги, я шепотом спросил у Кари, где же бог. На что он ответил: «Нигде и однако всюду». Я подумал, что это очень верно; и в самом деле, так торжественно было все вокруг, что я почувствовал, будто меня окружает присутствие божества.
Через некоторое время жрецы в пышном богатом облачении провели нас через это святилище к двери, за которой скрывалось несколько ступеней. По этим ступеням мы сошли вниз и очутились в длинном коридоре, который, казалось, находился под землей, ибо воздух здесь был неподвижный и тяжелый. Пройдя по этому узкому коридору шагов сто или больше, мы оказались перед другой дверью, к которой вели еще несколько ступеней, и, открыв ее, вошли во второй Храм, поменьше, чем первый, но так же изобилующий золотом. В центре этого Храма я увидел изображение сидящего человека, грубо сделанное из золота.
— Вот он, Римак-Вещун, — прошептал Кари.
— Как может золото вещать? — спросил я. Кари не ответил.
Жрецы забормотали, произнося молитвы и заклинания, которые показались мне нечестивыми, после чего они принесли идолу жертву, которая выглядела как куски сырого мяса, вложенные в чаши из золота; эта церемония представилась мне еще более нечестивой. Наконец они отступили, спросив нас, что мы хотим узнать.
Я не ответил, ибо все это мне очень не нравилось. Кари тоже не произнес ни слова. Но Куилла смело подняла голос, сказав, что мы хотим узнать о будущем и о том, что с нами случится.
Наступило долгое молчание, и признаюсь, что мной овладел страх, будто воздух вокруг и царящая вокруг нас тьма вдруг наполнились духами — я даже будто услышал их шепот и шелест их крыльев. Внезапно в конце этой паузы золотое изображение перед нами засветилось, будто расплавленное, и вставленные изумруды-глаза засверкали ужасающим блеском. Это настолько испугало меня, что я бежал бы отсюда, если бы не чувство стыда, которое удержало меня на месте; и я стал молиться Св. Хьюберту, прося у него защиты для меня от дьявола и его козней. Еще мгновение, и я стал молиться еще горячее, потому что изображение вдруг заговорило, — да, да, страшным и отвратительным свистящим голосом, хотя близ него никого не было. Вот слова, которые оно произнесло:
— Кто это, облаченный в серебро, чья кожа бела, а волосы светлы? Такого я не видел за тысячу лет, но именно такие, как он, овладеют Землей Тавантинсуйу, похитят ее богатства, уничтожат ее народ и ниспровергнут ее богов. Но не теперь, не теперь! Поэтому вот вам приказ Пачакамака, изреченный голосом Римака-Вещуна: чтобы никто не причинял вреда и не препятствовал воле этого могущественного, морем рожденного повелителя, ибо он будет каменной стеной для многих, и его меч покраснеет от крови злых и порочных.
Свистящий голос умолк, а жрецы и все остальные уставились на меня, видимо, считая эти слова роковыми. Вдруг голос зазвучал снова:
— А тот, что явился вместе с этим Сияющим, после того, как странствия завели его дальше, чем любого его соотечественника и соплеменника? Я знаю. Знаю, но не смею сказать, ибо Дух Духов, образ которого он носит на сердце, велит мне молчать.
Дерзай же! Дерзай! Процветай и стань великим, Дитя Пачакамака, ибо твои скитания еще не кончились. Еще есть гора, которую должно преодолеть, а ее вершину окаймляет золото небес.
Голос опять умолк, и все взоры устремились теперь на Кари, который смиренно покачал головой, как будто озадаченный тем, чего не мог понять.
И снова изображение заговорило:
— Кто эта дочь Солнца, в жилах которой играет лунный свет, и кто прекраснее, чем вечерняя звезда? Та, я думаю, что будет желанна мужчинам и из-за которой прольется кровь великих. Та, чья мысль — быстрая, как молния, и гибкая, как змея; та, в ком страсть горит, как огонь в чреве горы, но в ком дух пляшет поверх огня и кто томится по вещам далеким и недосягаемым.
Дочь Солнца, в чьей крови пробегают лунные отблески, ты выскользнешь из ненавистных объятий, и Солнце будет тебе защитой, и наконец ты уснешь в объятиях любимого. Но все же беги как можно быстрее и дальше от мщения оскорбленного бога!
И вновь голос замолчал, и я подумал, что это уже конец. Однако я ошибся, ибо через несколько мгновений золотая фигура прорицателя засветилась сильнее прежнего, и изумрудные глаза засверкали еще более зловещим блеском, и почти на крике она произнесла:
— Снега Тавантинсуйу покраснеют от крови, и воды ее рек смешаются с кровью. Да, вы трое пойдете по крови, как вброд, и под кровавым дождем будете срывать плоды ваших желаний. Однако до поры до времени боги Тавантинсуйу будут терпеливы, и цари ее будут править, и ее дети будут свободны. Но в конце концов — смерть богам, и смерть царям, и смерть народу. Однако еще не теперь — еще не теперь! Этого не увидит никто из ныне живущих, ни их дети, ни дети их детей. Римак-голос сказал все; храните его слова в памяти, как сокровище, и толкуйте их как хотите.
Свистящий голос замер, подобно слабому крику ребенка, умирающего голодной смертью в пустыне, и воцарилось глубокое безмолвие. Потом в одно мгновение фигура из золота перестала светиться, и глаза-изумруды погасли, и перед нами остался лишь мертвый кусок металла. Жрецы распростерлись на полу, а потом, поднявшись, увели нас из Храма, не произнося ни слова, но при свете фонарей я увидел, что их лица выражали ужас — столь глубокий, что я усомнился в возможности притворства.
Мы вышли тем же путем, каким пришли, и наконец очутились за сверкающими дверьми Храма, где нас ждали паланкины.
— Что это означало? — шепнул я Куилле, которая шла рядом со мной.
— Для тебя и для другого — не знаю, — ответила она поспешно, — но для меня, думаю, это означает смерть. Однако не раньше, чем… не раньше, чем… — и она умолкла.
В этот миг из-за дождевых туч показалась луна и осветила ее поднятое к небу лицо, и ее глаза сияли торжеством.
Впоследствии я узнал, что эти слова самого прославленного оракула страны облетели ее от края и до края и вызвали большие толки и удивление, смешанное со страхом, ибо на памяти многих поколений не было пророчества, исполненного столь глубокого значения. Более того, оно определило мою собственную судьбу, ибо, как я после узнал, Куисманку и его народ вначале решили не отпускать меня от себя. Ведь не каждый день из моря является Белый Бог! И они хотели, чтобы, явившись к ним, у них бы он и остался — как их защитник и предмет их гордости, а с ним и тот отшельник по имени Запана, кому, по их убеждению, он явился на пустынном острове. Но после пророчества Римака все переменилось, и когда я выразил желание покинуть их и сопровождать Куиллу домой, к ее отцу Хуарача, царю народа чанка — который, кстати, успел послать мне через гонца приглашение — Куисманку ответил, что если я так хочу, мне должны повиноваться, как велел бог Римак; но вместе с тем он выразил уверенность в том, что мы непременно еще встретимся.
Обдумывая все эти события, я ломал голову над вопросом, исходило ли это пророчество от золотого Римака, или, быть может, из сердца Куиллы, или из сердца Кари, или от них обоих, желавших, чтобы я оставил юнка и отправился к чанка и еще дальше. Я не знал и не мог надеяться узнать, поскольку все, что касается их богов, эти люди держат в тайне и молчат, как могила. Я спросил у Кари, спросил у Куиллы, но оба посмотрели на меня невинными глазами и ответили — кто они такие, чтобы вдохновлять золотой язык Римака? Никогда не узнал я и того, был ли Римак-Прорицатель духом или просто куском металла, через который говорил какой-нибудь жрец. Я знаю лишь одно: из «конца в конец по всей стране Тавантинсуйу люди верили, что он — дух, который высказывает волю самого бога тем, кто может понять его слова, хотя я, как христианин, не давал этому веры.
И вот несколько дней спустя вместе с Куиллой, Кари и несколькими стариками, которые, как я понял, были жрецами или послами, или тем и другим, я отправился в наше путешествие, Нас несли в паланкинах под охраной примерно двухсот воинов, вооруженных топорами из меди и луками. На всем пути от дворца люди теснились вокруг моего паланкина и плакали от горя, реального или притворного, и бросали под ноги носильщиков цветы. Но я не плакал, ибо — хотя меня окружили самым радушным вниманием и даже поклонялись мне — я радовался тому, что больше не увижу этого города и его людей, от которых я порядком устал.
К тому же я чувствовал, что оказался в центре какого-то заговора, о котором, правда, ничего не знал, кроме того, что Куилла, эта прелестная и невинная на вид девушка, принимала в нем участие. В существовании заговора я не сомневался; и действительно, как я со временем понял, он заключался не больше не меньше как в подготовке большой войны, которую народы чанка и юнка собирались повести против их общего верховного правителя — Инка, царя могущественного народа куичуа, имевшего свою резиденцию в городе Куско, в глубине материка. Фактически этот союз был уже образован, и именно Куиллой — Куиллой, которая предложила принести себя в жертву и, отдавшись его наследнику, обмануть бдительность Инка, власть которого ее отец собирался захватить, а вместе с ней имперскую корону Тавантинсуйу.
Побережье осталось позади. Теперь нас несли через горные перевалы по удивительной дороге, проложенной с таким совершенством, какого я никогда не видел в Англии. По временам мы пересекали реки, но через них были перекинуты каменные мосты. Случалось, что мы оказывались среди болот, однако через них шла та же дорога, построенная на глубоком фундаменте, уложенном в вязкой и топкой почве. Ни разу она не свернула в сторону, а бежала все вперед и вперед, преодолевая все препятствия, ведь это была одна из дорог инка — царских дорог, пересекавших Тавантинсуйу из конца в конец. Мы проходили через многие города, ибо эта земля была плотно заселена, и почти каждую ночь останавливались в каком-нибудь из них. И всегда моя слава опережала меня, и курака, или правители городов, оказывали мне почести и приносили дары, как будто я и впрямь был божеством.
В первые пять дней этого путешествия я почти не видел Куиллу, но наконец однажды вечером нам пришлось остановиться в своего рода приюте на вершине высокого горного перевала, где было очень холодно, ибо всюду лежал глубокий снег. В этом месте, где не было никаких курака, столь досаждавших мне в городах, я вышел один, без Кари, и взобрался на пик поблизости от приюта, чтобы посмотреть на закат и подумать в тишине.
Великолепное зрелище открывалось с этой высокой точки. Со всех сторон поднимались холодные вершины одетых снегом гор, вздымавшихся в самое небо, в то время как между ними лежали глубокие долины, по которым, как серебряные нити, бежали реки. Столь огромен был этот пейзаж, что, казалось, нет ему границ, и столь величествен, что он подавлял дух; а вверху выгибался купол совершенного по красоте и величию неба, в котором густая синева уже начала расцвечиваться пылающими красками вечера, по мере того как огромное солнце опускалось за снежные вершины.
Далеко в небе парила на широких крыльях большая одинокая птица — горный орел, который крупнее всех известных мне птиц. Красные отблески заката превращали ее в живое пламя. Я следил за этой птицей, и мне хотелось, чтобы у меня тоже были крылья, которые унесли бы меня в море и дальше — за море.
И, однако, куда бы я улетел — я, у которого на всей земле не было ни дома, ни доброго сердца, которое бы с радостью меня приветствовало? Незадолго до этого я бы ответил: «куда угодно, лишь бы уйти от этого одиночества», но теперь я уже не был столь уверен. Здесь, по крайней мере, был Кари, мой друг, пусть даже ревнивый, хотя в последнее время, как я заметил, он думал не о дружбе, а о других вещах — темных интригах и честолюбивых планах, о которых он почти не говорил со мной.
И потом, здесь была эта странная и прекрасная женщина — Куилла, которая покорила мое сердце, и не только потому, что была прекрасна, и которая, как я думал, смотрела на меня благосклонно. Но даже если так, что мне до этого, если она обещана в жены какому-то высоко стоящему туземцу, который будет царем? Ведь я уже обжегся на женщинах, обещанных в жены другим мужчинам, так что лучше всего оставить ее в покое.
От этих мыслей мной овладело острое чувство одиночества, и я сел на камень и закрыл лицо руками, чтобы не видеть, как потекут слезы, которыми, я чувствовал, наполняются мои глаза. Да, здесь, среди этого ужасного одиночества, я, Хьюберт из Гастингса, душа которого переполнилась, подобно чаше, сел на камень, как заблудившееся дитя, и заплакал
;
Вскоре я почувствовал, что кто-то тронул меня за плечо; я опустил руки, думая, что это Кари нашел меня здесь. И в этот момент я услышал, как мягкий голос — голос Куиллы — произнес:
— Оказывается, боги тоже могут плакать. Почему же ты плачешь, о Бог Морских Волн, прозванный Курачи?
— Я плачу, — ответил я, — потому что я чужой в чужой стране; я плачу потому, что у меня нет крыльев, чтобы улететь, как та большая птица, что парит над нами.
Некоторое время она молча смотрела на меня и потом сказала с неизъяснимой мягкостью:
— И куда бы ты улетел, о Бог-из-Моря? Обратно в море?
— Перестань называть меня богом, — ответил я. — Ты хорошо знаешь, что я лишь человек, хотя и другой расы, чем твоя.
— Я думала об этом, но не знала точно. Но куда бы ты полетел, лорд Курачи?
— В страну, где я родился, леди Куилла; в страну, которую я никогда больше не увижу.
— Ах, несомненно, у тебя там жены и дети, по ком изголодалось твое сердце.
— Нет, у меня нет ни жены, ни детей.
— Значит, у тебя когда-то была жена. Расскажи мне о твоей жене. Она была красива?
— Зачем я стал бы рассказывать тебе печальную историю? Она умерла.
— Мертвую или живую, ты все еще любишь ее, а где любовь, там нет смерти.
— Нет, я люблю ее такой, какой ее считал.
— Значит, она была неискренна?
— Да, неискренна, и все же правдива. Так правдива, что умерла потому, что была неискренна.
— Как может женщина быть и неискренной, и правдивой?
— Женщины могут быть всякими в одно и то же время. Спроси об этом собственное сердце. А тебе не случается быть одновременно и неискренней, и правдивой?
Она немного подумала и, не отвечая на этот вопрос, сказала:
— Итак, однажды полюбив, ты не можешь полюбить снова.
— Почему же? Может быть, во мне слишком много любви. Но какой в этом толк? Больше любви — больше потерь и боли.
— Кого же ты мог бы полюбить, милорд Курачи, если женщины твоего народа так далеко отсюда?
— Я думаю, ту, что очень близко, если бы она могла отплатить любовью за любовь.
Куилла промолчала, и я подумал, что она рассердилась и сейчас уйдет. Но она не ушла; напротив, она села рядом со мной на камень, закрыла лицо руками, как недавно я, и заплакала, как я. Теперь настала моя очередь спросить:
— Почему ты плачешь?
— Потому что мне тоже суждено одиночество, а вместе с тем и стыд, лорд Курачи.
При этих словах сердце мое забилось, и во мне вспыхнула страсть. Протянув руку, я отвел ее руки от ее лица и при умиравшем свете дня всмотрелся в него. О, Боже! Его прелестные черты выражали то, в чем нельзя было ошибиться.
— Так ты тоже, значит, любишь? — прошептал я.
— Да — больше, чем когда-либо любила женщина. В тот момент, как я впервые увидела тебя, спящего в лучах Луны на пустынном острове, я поняла, что моя судьба нашла тебя и что я полюбила. Я боролась против этого, ведь я
должна, — но эта любовь все росла и росла, и теперь я вся — любовь, и, отдав все, мне уже нечего отдавать.
Когда я это услышал, я, не отвечая, страстно обнял и поцеловал ее, и она прижалась к моей груди и поцеловала меня в ответ.
— Отпусти меня и выслушай, — прошептала она. — Ведь ты сильный, а я слаба.
Я повиновался, и она снова опустилась на камень.
— Милорд, — сказала она, — наша участь очень печальна, или, по крайней мере, моя, ибо — хотя ты, как мужчина, и можешь любить часто, — я могу любить лишь однажды, а это, милорд, мне не дозволено.
— Почему? — спросил я хрипло. — Твой народ считает меня богом; разве не может бог взять в жены кого он хочет?
— Не может, если она дала клятву другому богу, тому, кто станет инка; не может, если от нее, может быть, зависит судьба народов.
— Куилла, мы могли бы бежать.
— Куда бы мог бежать Бог-из-Моря, и куда бы могла бежать Дочь Луны, поклявшись стать женой Сына Солнца? Только в могилу.
— Есть вещи, которые хуже смерти, Куилла.
— Да, но моя жизнь отдана в залог. Я должна жить, чтобы мой народ не погиб. Я сама предложила свою жизнь ради этого святого дела и теперь, принадлежа к царскому роду, не могу взять ее обратно ради собственного счастья. Лучше быть посрамленной поступком ради чести, чем быть любимой в плену стыда.
— Так что же теперь? — спросил я с чувством полной безнадежности.
— Только то, что над нами есть боги, и разве ты не слышал пророчества Римака о том, что я выскользну из ненавистных объятий, что Солнце будет мне защитой и что я наконец усну в объятиях любимого; но притом я должна бежать от мщения оскорбленного бога? Я думаю, это означает смерть, но также и жизнь в смерти, и — о, руки любимого, вы — еще обнимете меня! Не знаю, как это случится, но верю — вы еще обнимете меня! А пока не соблазняй меня сойти с дороги чести, ибо я знаю твердо — только она одна может привести меня к моему дому. Однако кто этот бог, которому грозит предательство и от которого я должна бежать? Кто он? Кто?..
Она умолкла. Я тоже молчал. И так сидели мы оба в темноте и молчали, устремляя взоры к небу в поисках путеводной звезды, пока я вдруг не услышал голос Кари:
— Это ты, господин мой, и ты, леди Куилла? Вернитесь, прошу вас, а то все вас ищут и совсем перепугались.
— В самом деле? — ответил я. — Леди Куилла и я — мы изучаем этот чудесный пейзаж.
— Конечно, господин, хотя люди не божественного происхождения едва ли увидели бы что-нибудь в такой темноте. А теперь позвольте, я покажу вам дорогу.
ГЛАВА V. КАРИ ИСЧЕЗАЕТ
Воставшиеся дни нашего путешествия не было случая, чтобы Куилла и я остались наедине друг с другом (то есть не считая одной встречи на несколько минут), ибо мы всегда были на виду у кого-нибудь из наших спутников. Кари, например, всюду следовал за мной, и когда я спросил у него — почему, он без обиняков ответил, что делает это ради моей безопасности. Чтобы бог оставался богом, сказал он, ему следует быть одному, жить в храме. Если он начинает общаться с детьми земли и делать то, что делают они, есть и пить, смеяться и хмуриться, скользить по грязи и спотыкаться о камни на обычной дороге, люди подумали бы, что между богом и человеком не такая уж большая разница. Это тем более пришло бы им в голову, если бы они заметили, что он любит общество женщин или тает под их нежным взглядом.
Эти язвительные стрелы, которые Кари все чаще пускал в последнее время в меня, стали раздражать меня, и я прямо сказал ему, не скрывая, что мне понятен смысл его слов:
— Истинная суть в том, Кари, что ты ревнуешь к леди Куилле, как раньше ревновал к другой женщине.
Он поразмыслил над этим со свойственной ему серьезностью и ответил:
— Да, господин, это правда, или доля правды. Вы спасли мне жизнь и приютили меня, когда я был один в чужой стране, и за это, и ради вас самого, я полюбил вас, а любовь — если то, что говорят о ней, верно, — всегда ревнива и всегда ненавидит соперника.
— Есть разные виды любви, — сказал я, — любовь мужчины и женщины это одно, а мужчины к мужчине — другое.
— Да, господин, а любовь женщины к мужчине — третье. Более того, у нее есть одна особенность — это кислота, которая разъедает все другие виды любви. Где друзья мужчины, когда женщина владеет его сердцем? Хотя, может статься, они любят его гораздо больше, чем может любая женщина, которая в душе сильнее всего любит самое себя. Однако ничего не поделаешь, ибо так велит природа, а кто может бороться с Природой? То, что берет Куилла, Кари теряет, и Кари должен смириться с потерей.
— Ты кончил? — спросил я гневно, устав от его проповедей.
— Нет, господин. Вопрос о ревности сам по себе и мелкий, и личный; вопрос: о любви — тоже. Но, господин мой, вы еще не сказали мне прямо, любите ли вы леди Куиллу, и, что гораздо важнее, любит ли она вас.
— Ну, так я скажу сейчас. Я люблю и она любит.
— Вы любите леди Куиллу, и она говорит, что любит вас, что может быть, а может и не быть правдой, или, если это правда сегодня, то завтра может стать ложью. Ради вас я надеюсь, что это неправда,
— Почему же? — спросил я в ярости.
— Потому, господин, что в этой стране разные яды, как я узнал на свою беду. А также есть ножи, хотя и не из стали, и много людей, которым, возможно, захотелось бы узнать, может ли бог, ухаживающий за женщинами, как мужчина, пострадать от яда или пасть, пронзенный ножом. О! — добавил он совсем другим тоном, отбросив свои горькие шутки. — Поверьте, что я хотел защитить вас, а не посмеяться над вами. Эта леди Куилла — королева в великой игре, вроде той игры в фигурки
[225], которой вы научили меня в Англии, и без нее эту игру не выиграть, — во всяком случае, так думают игроки. А вы хотите похитить эту королеву и тем самым вызвать, как они тоже думают, гибель и разрушение их страны. Это опасно, господин. В этой стране множество красивых женщин, выбирайте любую, но оставьте в покое королеву.
— Кари, — ответил я, — если такая игра действительно происходит, ты, случайно, не один из игроков на той или другой стороне?
— Может быть, и так, господин, и если вы еще не угадали, на какой, то, возможно, я когда-нибудь скажу вам, с кем я играю. Может быть, со своей стороны я был бы даже рад, если бы вы сняли эту королеву с доски, и то, что я вам говорю, я говорю из любви к вам, а не в своих интересах, а также из любви к леди Куилле, которая в случае вашего падения также падет вместе с вами во тьму черной ночи, в объятия своей матери-Луны. Но я сказал достаточно, да и глупо тратить время на подобные разговоры, поскольку Судьба распорядится нами обоими, а исход игры, в которой мы участвуем, уже записан для каждого из нас в книге Пачакамака. Разве Римак не сказал об этом в ту ночь? Так что продолжайте, продолжайте играть, и пусть свершится то, чему суждено быть. Если я и посмел давать советы, то лишь потому, что тот, кто наблюдает за битвой глазами полководца, видит больше, чем тот, кто в ней сражается.
Тут он поклонился, как обычно, с серьезным и полным достоинства видом и ушел, и долгое время после этого не заговаривал со мной ни о Куилле, ни о нашей любви друг к другу.
Как только он ушел, мой гнев против него сразу утих, ибо я понял, что он предостерегает меня против гораздо большего, чем то, о чем он осмелился сказать, и делает это не ради себя, а потому, что меня любит. Более того, мне стало страшно; я чувствовал, что попал в сеть какого-то серьезного заговора, мне не известного, невидимые нити которого сплетали и Куилла, и ее приближенные с холодными глазами, и вождь, чьим гостем я недавно был, и сам Кари. Когда-нибудь эти таинственные нити могут затянуться на моей шее. Впрочем, что из того?.. Я боялся только за Куиллу — очень боялся за Куиллу.
На следующий день после нашего разговора с Кари мы наконец достигли большого города чанка, который по имени этого парода тоже назывался Чанка — по крайней мере, я всегда знал его под этим названием. С самого рассвета мы проходили по цветущим долинам, где жили тысячи этих чанка, которые, как я понял, составляли могущественный народ и держались гордо и как воины. Они собирались во множестве по обе стороны дороги, в основном чтобы взглянуть на меня, белого бога, поднявшегося из океана, но также чтобы приветствовать свою принцессу, леди Куиллу.
Только теперь я действительно узнал, как высоко ее положение в стране, ибо всякий раз, едва завидев ее паланкин, люди падали ниц и целовали воздух и землю. Вместе с тем поведение самой Куиллы тоже изменилось: ее осанка стала высокомерной, а речь немногословной. Даже со мной она почти не разговаривала, хотя я заметил, что она как будто изучает меня глазами, когда думает, что я на нее не смотрю.
Во время дневной передышки я поднял глаза и увидел, что к нам приближается целая армия не менее чем в пять тысяч человек, если не больше, и спросил Кари, что это значит.
— Это, — ответил он, — часть войск Хуарача, царя народа чанка, которую он выслал вперед, чтобы приветствовать свою дочь и единственное дитя, а также своего гостя — Белого Бога.
— Часть войск? Значит, у него их еще больше?
— Да, господин, в десять раз больше, я думаю. Это очень многочисленный народ, почти такой же, как мой народ куичуа, что живет в Куско. Идите в палатку и наденьте доспехи, чтобы быть наготове, когда они подойдут.
Я последовал его совету и, вернувшись в сияющих доспехах, занял позицию на небольшой возвышенности, там, где указал мне Кари. Справа от меня и немного поодаль стояла Куилла, одетая еще великолепнее, чем я до сих пор видел, а позади нее — ее служанки и ее свита.
Армия приблизилась, полк за полком, и остановилась ярдах в двухстах от нас. Тотчас от нее отделились генералы и старики, облаченные в белое, которых я определил как жрецов и старейшин. Их было не меньше двадцати, и, подойдя, они низко поклонились, сначала Куилле, которая в ответ наклонила голову, потом мне. После этого они заговорили с Куиллой и ее окружением, но о чем именно, я не знаю. Но во все время этой беседы их глаза были прикованы ко мне. Потом Куилла подвела их ко мне, и один за другим они склонялись передо мной, говоря что-то на языке, которого я почти не понимал, так как он весьма отличался от языка, которому меня научил Кари.
Затем мы снова сели в паланкины и, сопровождаемые этой большой армией, двинулись дальше, по долинам и через горные перевалы, и почти к заходу солнца достигли обширной чашеобразной равнины, в центре которой лежал город Чанка. Когда мы вступили в город, уже спускалась тьма, и я успел только заметить, что он очень большой; а позже я не мог выйти, так как вокруг меня сразу собралась толпа людей. Меня пронесли по широкой улице к дому, окруженному большим садом, обнесенным стеной. Здесь, в этом прекрасном доме, был уже приготовлен ужин, причем и еда, и питье подавались в посуде из золота и серебра; мне прислуживали женщины, а также Кари, которого теперь называли Запана и считали моим рабом.
Когда я поел, я вышел в сад, ибо на этой равнине воздух был очень теплым и приятным. Это был прекрасный сад, и я бродил по его аллеям и среди цветущих кустов, радуясь одиночеству и возможности спокойно подумать. Кроме прочих вещей, меня занимал вопрос, где сейчас Куилла, которую я не видел с той минуты, как мы вошли в город. Мысль о разлуке с ней была мне ненавистна, потому что в этой огромной чужой стране, куда привели меня мои странствия, Куилла была единственной, кто меня привлекал, и я чувствовал, что без нее я просто умру от одиночества.
Правда, со мной был Кари, который любил меня на свой лад, но между ним и мной возникла глубокая пропасть не только из-за различия расы и веры, но и из-за чего-то нового, чего я не мог до конца понять. В Лондоне он был моим слугой, и его интересы и цели были моими интересами и целями; во время моих скитаний он был моим спутником, товарищем во всех приключениях и превратностях. Но теперь я знал, что им овладели иные интересы и желания, и что он идет по дороге, которая ведет к неведомой мне цели, и он уже не думает обо мне, за исключением тех случаев, когда мои действия и желания встали между ним и этой целью.
Поэтому у меня осталась только Куилла, да и ту собираются у меня отнять. О, как я устал от этой чужой земли с ее одетыми снегом горными вершинами и цветущими долинами, с ее ордами темнокожих людей с большими глазами, улыбающимися лицами и скрытными сердцами; с ее большими городами, храмами и дворцами, наполненными бесполезным золотом и серебром; с ее жарким солнцем и быстрыми реками; с ее богами, царями и политикой. Все это было мне совершенно чуждо, и если бы у меня отняли Куиллу и оставили в полном одиночестве, тогда — думал я — лучше мне просто умереть.
Вдруг за стволом одной из пальм в аллее, по которой я шел, что-то зашевелилось; и, не зная, зверь это или человек, я положил руку на рукоятку меча, который все еще был при мне, хотя я и снял доспехи. Однако в этот же миг кто-то схватил меня за запястье, и мягкий голос шепнул мне на ухо:
— Не бойся ничего, это я, Куилла.
Это была она, в широком и длинном плаще с капюшоном, какие носят крестьянки в холодных странах. Она откинула капюшон, и мерцающий свет звезд упал на ее лицо.
— Послушай! — сказала она. — Это опасно для нас обоих, но я пришла проститься.
— Проститься! Я знал, что так будет, но почему так скоро, Куилла?
— Вот по какой причине, любовь моя и повелитель.
Я видела своего отца и доложила ему о деле, по которому была послана к царю юнка. Он остался доволен, и, видя его милостивое расположение ко мне, я открыла ему свое сердце и призналась, что уже не хочу стать женой Урко, который скоро будет Инка, — ибо ты ведь знаешь, что именно ему я обещана в жены!
— И что он ответил, Куилла?
— Он ответил: «Это означает, дочь моя, что ты встретила какого-то другого, мужчину, за которого ты хочешь замуж. Не стану спрашивать его имя, ибо если бы я узнал, кто он, моим долгом было бы убить его, как бы высок и благороден он ни был».
— Значит, он догадался, Куилла?
— Я думаю, догадался; я думаю, что кто-то уже нашептал ему на ухо, но тот, кто хочет оставаться глух и слеп, не желает слушать.
— Он больше ничего не сказал, Куилла?
— Он сказал гораздо больше. Он сказал — сейчас я открою тебе то, что секретно, и вверяю тебе свою честь, но раз уж я тебе рассказала одно, почему бы не сказать и другое? — мой отец сказал: «Дочь, ты была моим послом, ты мое единственное дитя, и ты знаешь также, что готовится самая большая война, какую когда-либо знала страна Тавантинсуйу, война между двумя могущественными народами — куичуа из Куско, у которых старый Упанки царь и бог, и чанка, над которыми царь — я, а ты, если ты доживешь до того дня, будешь царицей. Эти два льва не могут больше жить в одном и том же лесу; один из них должен сожрать другого; кроме того, я не буду одинок в этой битве, поскольку на моей стороне все юнка побережья, которые, как ты тоже мне сообщила, созрели для восстания. Но — как видно из твоего доклада и из других сообщений — они еще не совсем готовы. Пройдет еще немало полнолуний, прежде чем их армии присоединятся к моим, и я сброшу маску. Разве не так?»
Я отвечала, что так, и отец продолжал:
«Тогда в течение всего этого времени нужно поднять облако пыли, которое бы скрыло блеск моих копий, и ты, дочь, будешь этим облаком. Завтра меня посетит старый инка Упанки с небольшой армией. Я читаю твои мысли: почему ты не убьешь его и его армию? Вот почему, дочь моя. Он очень стар и, одряхлев душой и телом, собирается сложить свою власть. Если бы я убил его, то что бы это мне дало, учитывая, что он оставит своего сына Урко своим наследником, и тот станет Инка и будет править в Куско, и с ним будет вся его армия? Кроме того, ведь Упанки — мой гость, а боги неблагосклонны к тем, кто убивает своих гостей, да и люди теряют к ним доверие».
Тогда я ответила: «Ты говорил обо мне как об облаке пыли, отец; но каким образом эта бедная пыль послужит твоим интересам и интересам народа чанка?»
«А вот каким, дочь, — ответил он. — С твоего же согласия ты обещана в жены Урко. До Упанки дошли слухи, что чанка готовятся к войне. Поэтому, отправляясь в свой последний объезд некоторых своих владений, он посетит меня, чтобы увезти тебя как невесту Урко, говоря себе: „Если эти слухи верны, царь Хуарача не отдаст нам свою единственную дочь и наследницу, ибо он никогда не пойдет войной на Куско, если она будет там царицей“. Если я откажусь отдать тебя в жены для его сына, он уедет и начнет войну, и его многочисленные полчища нагрянут на нас прежде, чем мы будем готовы к отпору, и принесут народу чанка гибель и рабство. Поэтому не только моя судьба в твоих руках, но и судьба всей твоей страны».
«Отец, — сказала я, — ты всегда любил меня, не имея сына; так скажи мне, неужели нет никакого выхода? Неужели должна я вкусить этого горького хлеба? Но, прежде чем ответить, узнай, что ты угадал, и что я, пообещав стать женой Урко, когда меня не привлекал ни один мужчина, чувствую теперь жаркий огонь любви».
Тогда он посмотрел на меня долгим взглядом и потом сказал: «Дитя Луны, есть только один выход, но его можно найти только на луне. Мертвых не выдают замуж. Если твое затруднение столь тяжко, то — хотя это меня поразит в самое сердце — лучше всего, может быть, тебе умереть и уйти туда, куда, несомненно, последует за тобой тот, кого ты любишь. А теперь иди и во сне спроси совета у неба. Завтра до появления Упанки мы поговорим еще раз».
И я стала на колени и поцеловала руку царя-отца моего, дивясь благородству того, кто мог указать такой путь своей единственной дочери, хотя для него это означало большое горе и, может быть, крах всех его надежд. И все же этой дорогой издавна идут многие женщины моего народа — так почему же я не могу поступить так, как до меня поступали тысячи женщин?
— Как ты попала сюда? — спросил я хрипло.
— Я догадалась, что ты будешь гулять в этом саду, ведь он примыкает к дворцу; поблизости никого не было, и дверь в стенке открыта. Мне даже показалось, что меня намеренно оставили одну. И так я вошла… и поискала тебя… и нашла, ибо я хочу задать тебе один вопрос.
— Какой вопрос, Куилла?
— Жить мне или умереть? Скажи слово, и я повинуюсь. Но прежде чем ты скажешь, вспомни, что если мне жить, то мы видимся в последний раз, так как очень скоро я уеду отсюда, чтобы стать женой Урко и сыграть уготованную мне роль.
Слыша эти слова, я, Хьюберт, чувствовал, как сердце мое разрывается, и не знал, что сказать. Чтобы выиграть время, я спросил ее:
— А чего ты хочешь — жить или умереть? Она, слегка усмехнувшись, ответила:
— Странный вопрос ты задал, Повелитель. Разве я не сказала тебе, что если я останусь жить, я оскверню себя, став одной из женщин Урко, а если умру, то умру чистой и унесу свою любовь туда, куда Урко прийти не может, но куда, может быть, в назначенный срок за мной последует другой.
— И этот срок придет очень скоро, Куилла, ибо, я думаю, тому, кто разрушит весь этот прелестный заговор, едва ли позволят долго оставаться на земле — даже если бы он этого хотел. И все же я скажу: не умирай — живи.
— Чтобы стать женщиной Урко! Странный совет из уст любимого, Повелитель. Такой совет едва ли дал бы кто-нибудь из наших знатных людей,
— Да, Куилла, и я даю его потому, что я не из ваших людей и думаю не так, как они, и отвергаю их обычаи. Ты еще не жена Урко и можешь избавиться от него другими путями, кроме смерти; а из могилы выхода нет.
— Но в могиле нет больше и страха, Повелитель. Туда не может прийти Урко; там нет ни войн, ни заговоров; там честь не призывает, и любовь возьмет свое. И я отвечаю на твой вопрос: я умру и покончу со всем, как по такой же причине делали многие, в ком течет та же кровь, что во мне, хотя это было в другом месте и в другое время. Когда меня доставят к Урко, я умру, и, может быть, не одна. Может случиться, что он составит мне компанию, — медленно добавила она.
— И если это случится, что мне делать?
— Живи, Повелитель, и найди другую среди женщин, которая будет любить тебя, как и подобает богу. В этой стране много женщин красивее и мудрее, чем я, и, кроме меня, ты можешь взять какую хочешь.
— Послушай, Куилла. Я расскажу тебе одну историю. И я вкратце рассказал ей о Бланш и о ее смерти. Она жадно ловила каждое мое слово.
— О, как мне жаль тебя, — сказала она, когда я кончил.
— Ты жалеешь меня и, однако, хочешь ради меня сделать то же, что сделала ради меня она. Так что в, каком-то смысле обе мои руки окрасятся кровью. Тот первый ужас я перенес, но если на меня обрушится другой, я знаю, что сойду с ума или так или иначе погибну, и ты, Куилла, будешь моим убийцей.
— Нет, нет, только не это! — пробормотала она.
— Тогда клянись мне твоим богом и твоим духом, что ты не причинишь себе никакого вреда, что бы ни случилось, и что, если тебе суждено умереть, ты умрешь вместе со мной.
— Твоя любовь так велика, что ты дерзнул бы так сделать ради меня, Повелитель?
— Так я думаю — но только в случае, если все другие средства окажутся бессильными. Я думаю, что, если бы тебя у меня отняли, Куилла, я не смог бы жить здесь в одиночестве и изгнании, как ни велик грех самоубийства. Но ты клянешься?
— Да, любовь моя и Повелитель, клянусь — ради тебя. Я добавлю еще: если бы нам удалось избегнуть этих опасностей и соединиться, я буду тебе такой женой, какой не имел ни один мужчина. Я окружу тебя любовью и возвышу до царского престола, чтобы ты жил в славе и величии и забыл твой дом за морем и все горести, которые там тебя постигли. У тебя будут дети, которых тебе не придется стыдиться, хотя в них и будет течь моя темная кровь; и послушные тебе армии; и дворцы, полные золота, и все царские радости. А если случится, что боги обратятся против нас, и мы покинем этот мир вдвоем, тогда, я думаю, — о! Тогда, я думаю, я принесу тебе дары еще прекраснее, чем эти, хотя еще не знаю, какими они будут. Но сила любви не знает границ — ни здесь, на земле, ни там, в небесах.
Я всматривался в ее лицо при мерцающем свете звезд и — о, как оно было прекрасно! Это не было лицо обычной женщины, ибо в нем, как свет сквозь жемчужину, сияла божественная душа. Рядом со мной могла стоять богиня, такой святой чистотой светились ее глаза, а в ее крепком объятии была не только страсть плоти.
— Мне пора, — шепнула она, — но теперь я ухожу, и нет во мне страха. Может, нам долго не удастся говорить друг с другом, но верь мне всегда. Играй свою роль, а я сыграю свою. Следуй за мной, куда бы меня ни увезли, и держись, если сможешь, поблизости, так же как мой дух будет всегда близ тебя. А тогда что может иметь значение, даже если нас убьют? Прощай же, любимый, поцелуй меня и прощай!
Еще миг, и она выскользнула из моих рук и потерялась среди теней.
Она ушла, а я стоял, потрясенный и полный изумления. О, какой любовью одарила меня эта женщина чуждого мне народа, и как мне стать достойным такой любви? Я забыл свои горести; я больше не оплакивал свое положение изгнанника, который никогда не вернется на родину и не увидит лица соплеменника. Нас окружали опасности, но я уже не боялся их, потому что знал, что ее побеждающая любовь растопчет их и благополучно приведет меня в сокровищницу радости и богатства духа и тела, где мы будем жить друг подле друга, торжествуя и не зная страха.
Так размышлял я, охваченный восторгом, какого не испытывал с тех пор, как Бланш поцеловала меня в губы у гастингской пещеры, после того как я убил трех французов тремя стрелами, спустив их с моего черного лука. Вдруг я услышал какой-то шорох и, подняв глаза, увидел, что передо мной стоит человек.
— Кто это? — спросил я, схватившись за меч, ибо тьма скрывала его лицо.
— Я, — ответил голос, в котором я узнал голос Кари.
— Но как ты попал сюда? Я не видел, чтобы кто-нибудь прошел по аллее.
— Господин, вы не единственный, кто любит гулять в садах в тишине ночи. Я был здесь раньше, чем вы, вон за тем деревом, — и он показал на пальму шагах в трех от меня, если не меньше.
— Тогда, Кари, ты, конечно, видел…
— Да, господин, видел и слышал — не все, потому что был момент, когда я закрыл глаза и заткнул уши, — но все же достаточно много.
— У меня сильное желание убить тебя, Кари, — сказал я сквозь зубы, — за то что ты за мной шпионил.
— Я догадался, что так будет, господин мой, — ответил он мягчайшим тоном, — и потому, как вы, может быть, заметили, держусь на достаточном расстоянии от вашего меча. Вас удивляет, почему я здесь? Скажу вам. Отнюдь не из желания наблюдать ваши любовные объяснения, от которых я устал, ибо видел такое раньше; но скорее для того, чтобы подобрать секреты, которые любовь всегда роняет по пути. И я действительно узнал эти секреты. Разве я мог бы узнать их иначе?
— Ты несомненно заслуживаешь смерти! — вскричал я в ярости.
— Не думаю, господин. Но выслушайте и судите сами. Я уже рассказал вам кое-что из моей истории, а теперь вы услышите кое-что еще, после чего мы поговорим о том, чего я заслуживаю, а чего — нет. Я — старший сын Инка Упанки, а Урко, о котором вы тут говорили, мой младший брат. Но наш отец, Упанки, любил мать Урко, а мою не любил, и поклялся той, когда она умирала, что ее сын Урко будет царствовать вместо него. Но так как это против закона и права, то он возненавидел меня за то, что я стою на пути Урко; поэтому столько бед и выпало мне на долю. Меня отдали в руки Урко, так что он отнял у меня жену и пытался отравить меня; остальное вам известно. И вот теперь мне нужно было узнать, как обстоят дела, поэтому я и подслушал разговор между вами и некой леди. Он открыл мне, что Упанки, мой отец, прибывает сюда завтра (о чем я, правда, уже знал), и многое другое, чего я до сих пор не слышал. Обстоятельства таковы, что я должен исчезнуть, — ведь Упанки или его советники, несомненно, узнают меня, а так как все они — друзья Урко, то вполне возможно, что мне пришлось бы отведать еще какого-нибудь, и притом более сильного, яда.
— Куда же ты исчезнешь, Кари?
— Не знаю, господин, а если и знаю, то не скажу: меня ведь только что научили, как секреты могут передаваться от уха к уху. Мне надо скрыться, и этого достаточно. Однако не думайте, что из-за этого я брошу вас. на произвол судьбы: нет, пока я жив, я буду охранять вас, чужого в моей стране, как вы охраняли меня, когда я был чужим у вас в Англии.
— Спасибо тебе, — ответил я, — что ты так хорошо следишь за мной, иногда даже слишком хорошо, как я обнаружил сегодня ночью.
— Вы думаете, мне приятно шпионить за вами и некой леди, — невозмутимо продолжал Кари, — но это не так. То, что я делаю, я делаю из серьезных соображений, в частности, чтобы защитить вас обоих и, если смогу, осуществить то, чего вы желаете. У этой леди, как я только что узнал, благородное сердце, и в конце концов хорошо, что вы полюбили ее, а она — вас. Поэтому, несмотря на все опасности, я помогу вам в вашей любви, если это в моих силах, и вас сведу вместе, да, и спасу ее от объятий Урко. Нет, не спрашивайте, как — я еще сам не знаю, а положение, по всей видимости, отчаянное.
— Но если тебя не будет, что я стану делать один? — с тревогой спросил я.
— Оставайтесь тут, я думаю, и скажите, что ваш слуга Запана покинул вас. Пожалуй, именно так и придется поступить, поскольку царь этой страны едва ли допустит, чтобы вы были спутником его дочери во время ее свадебного путешествия в Куско, даже если этого пожелает Упанки. Да это было бы и неумно, ибо, если бы он даже отпустил вас, несчастье могло бы постичь вас по дороге. Есть женщины, Повелитель, которые не могут погасить в глазах огонь любви, а отныне за этими глазами будет следить множество наблюдателей, и многие будут прислушиваться к самым тайным вздохам той, что выше их всех. А теперь прощайте — пока я не приду к вам снова или не пришлю других от моего имени. Доверьтесь мне, прошу вас, ибо если я и могу показаться кому-нибудь лживым, вам я всегда верен; да, вам и одной другой, потому что она стала частицей вас.
Прежде чем я мог ответить, Кари взял мою руку и прикоснулся к ней губами. Еще мгновение, и я потерял его из виду в темноте.
ГЛАВА VI. ВЫБОР
В ту ночь я почти не спал, потрясенный всем, что со мной случилось хорошего и плохого. Я обрел чудо-любовь, но та, что подарила мне ее, казалось, потеряна для меня и отдана другому — кого она ненавидит, — чтобы способствовать осуществлению темных политических планов большого и воинственного народа. Я говорил ей высокие слова надежды, но в душе мало надеялся на счастливый исход. Она выполнит до конца то, что считает своим долгом, а этим концом — если она выполнит свое обещание и не умрет, как она хотела, — будут объятия Урко. Я не видел для нее способа избежать их, и мысль об этом сводила меня с ума. А тут еще Кари исчез, оставив меня в полном одиночестве среди чуждых мне людей, и я не знал, вернется ли он когда-либо.
Наконец наступило утро, и я поднялся и послал за своим слугой Запана. Вместо него пришли другие и сказали, что мой слуга исчез, по поводу чего я изобразил удивление и гнев. Но эти другие усердно мне прислуживали, и я поднялся и позавтракал пышно и с помпой. Едва я поднялся, явились герольды и вызвали меня к царю Хуарача.
Я отправился туда в паланкине, хотя стрела из моего лука долетела бы туда от двери до двери. Перед порталом дворца, похожим на все другие, что я видел, только более декоративным, меня встретили воины и ярко одетые слуги, которые провели меня через внутренний дворик, приготовленный, как я заметил, для какой-то церемонии, в небольшой зал. Здесь, когда мои глаза привыкли к полутьме, я увидел человека лет шестидесяти и позади него — двух воинов. Я сразу заметил, что все, что окружало этого человека, отличалось скромностью и простотой: зал, в котором почти ничего не было, кроме четырех побеленных стен и каменного пола, стул, на котором он сидел, и даже его одеяние. Здесь не было ни золота, ни серебра, ни расшитых тканей, ни жемчужин или других богатых и драгоценных вещей, которые любят эти люди; и вся обстановка скорее напоминала ту, что приличествует воину. Воином он и был, во всяком случае на вид, — грубоватый и широкоплечий, со шрамом на простом лице, на котором светились глаза, приветливые и проницательные.
Когда я вошел, царь Хуарача (ибо это был он) поднялся сo стула и поклонился мне; я тоже поклонился в ответ. Потом он знаком велел одному из воинов подать мне другой стул, на который я и сел, и сильным низким голосом на языке, которому меня научил Кари, сказал, обращаясь ко мне:
— Привет тебе, Белый-Бог-из-Моря, или златобородый человек по имени лорд Курачи (не знаю, что из двух верно), о котором я много наслышан и которому рад в моем бедном городе. Скажи, понимаешь ли ты мою речь?
Так говоря, он испытующе смотрел на меня, хотя я заметил, что его глаза были скорее устремлены на мои доспехи и большой меч Взвейся-Пламя, нежели на мое лицо.
Я ответил на его приветствие и сказал, что понимаю язык, на котором он говорит, хотя и не очень хорошо, после чего он заговорил о доспехах и о мече, которые озадачили его, поскольку он никогда не видел стали.
— Сделай мне что-нибудь подобное, — сказал он, — и я дам тебе золота в десять раз больше весом, чем весят эти вещи. В конце концов, какая мне польза от золота, ведь им нельзя убивать врагов.
— В моей стране золотом можно развратить их, — ответил я, — или купить их дружбу.
— Так у тебя есть страна, — прервал он меня с хитрым видом. — Я думал, что боги не имеют стран.
— Даже боги где-нибудь живут, — возразил я.
Он засмеялся и, обернувшись к двум воинам, которые тоже не отрывали глаз от моих доспехов и меча, велел им выйти. Когда за ними захлопнулась тяжелая дверь, он сказал:
— Милорд Курачи, я слышал от моей дочери, как она нашла тебя в море, это целая история. Я также слышал или догадался — это не важно — что ее сердце к тебе потянулось: это совсем не странно, видя, что ты за человек (если, конечно, ты не более, чем человек), и зная, что женщины всегда склонны любить тех, кого они, по их мнению, спасли. Это верно, милорд Курачи?
— Спроси леди Куиллу, о царь.
— Может статься, я ее и спрашивал; по крайней мере, ты этого не отрицаешь. А теперь послушай, милорд Курачи. Ты мой почтенный гость и все, что я имею — кроме одного — твое, но ты больше не должен разговаривать с леди Куиллой один на один, ночью в саду.
Не пытаясь отрицать или объяснять то, что отрицать или объяснять было бесполезно, поскольку я видел, что он все знает, я смело спросил:
— Почему?
— Я думал, что, может быть, моя дочь сказала тебе, лорд Курачи, но раз ты желаешь слышать это также из моих уст, то вот почему. Леди Куилла обещана в жены, и пока она жива, это обещание должно быть выполнено, поскольку от этого зависит судьба народов, Поэтому, хотя мне и жаль разлучать такую пару, ты и она не должны встречаться в саду или в любом другом месте. Знай, что, если это случится, ты погубишь и ее, и себя — если боги могут умирать.
Я немного подумал и ответил:
— Это суровые и грозные слова, царь Хуарача, ибо не скрою от тебя, что люблю твою дочь, и что она любит меня и желает, чтобы я стал ее мужем.
— Знаю и глубоко сочувствую вам обоим, — сказал он учтиво.
— Царь Хуарача, — продолжал я, — я вижу, что ты воин и повелитель армий, и мне пришло в голову, что, возможно, ты мечтаешь о войне.
— Боги видят далеко, Белый Повелитель.
— Ну, бог или человек, но я тоже воин, царь, и я знаю искусство боя, которое, возможно, неведомо тебе и твоему народу; к тому же я неуязвим — магические доспехи, которые я ношу, защищают меня от любого оружия, и никто не может устоять передо мной в битве из-за моего магического меча, и я могу руководить боем, как военачальник, В большой войне, царь, я бы мог быть тебе полезен, если б я был мужем твоей дочери, а значит, и твоим сыном и другом, и своим искусством решил бы вопрос о победе или поражении в твою пользу и на благо твоего народа,
— Не сомневаюсь, что так, о Сын Моря.
—Таким же образом, царь, будь я на стороне врагов твоих, я мог бы принести им победу, а тебе нанести поражение. Кому ты хочешь, чтобы я служил — тебе или им?
— Я желаю, чтобы ты служил мне, — ответил он с живостью. — Служи мне, и все богатства этой земли будут твои, и руководство армией под моей властью. У тебя будут дворцы и поля, золото и серебро, и самые красивые женщины будут твоими женами, и тебе будут поклоняться как богу, а после моей смерти ты станешь царем не только моей страны, но — как знать? — может быть, и другой, гораздо большей.
— Хорошее предложение, царь, но этого недостаточно. Отдай мне твою дочь Куиллу и можешь оставить себе все остальное.
— Не могу, Белый Повелитель, ибо, сделав так, я бы нарушил свое слово.
— Тогда, царь, я не могу служить тебе и стану тебе не другом, а врагом, разве что ты раньше убьешь меня, если это в твоих силах.
— Разве можно убить бога, а если — да, то разве можно убить гостя? Повелитель, ты же знаешь, что нельзя. Однако гостем он может остаться. Ты явился в мою страну и в моей стране останешься, разве только у тебя есть крылья под твоей серебряной одеждой. Куилла уедет, но ты останешься здесь, милорд Курачи.
— Может быть, я и найду себе крылья, — ответил я.
— Да, Повелитель, ведь говорят, что мертвые улетают. Если я не могу тебя убить, то другие могут. Поэтому мой совет тебе: моя бедная страна — твоя, и не пытайся следовать за луной (он имел в виду Куиллу) в золотой город Куско, который отныне должен стать ее домом.
Сказать больше было нечего, поскольку между нами была как бы объявлена война, и я поднялся, чтобы проститься с этим царем, Он тоже поднялся, потом как будто его осенила неожиданная мысль, сказал, что желает говорить с моим слугой Запана, с которым леди Куилла нашла меня на острове. Я ответил, что это невозможно, так как Запана исчез, куда — я не знаю.
При этом известии он как будто встревожился и начал было расспрашивать меня о том, кем может быть этот Запана и каким образом он стал моим спутником, как вдруг дверь открылась и в комнату вошла Куилла, одетая даже еще великолепнее и более прелестная, чем я ее когда-либо видел. Она поклонилась сперва царю, потом мне, и сказала:
— Повелитель и отец мой, я пришла сказать, что Инка Упанки приближается сюда со своими вельможами и военачальниками.
— В самом деле, дочь? — ответил он. — Тогда простись сейчас, тут же, с этим Белым Сыном Моря, поскольку я желаю, чтобы ты отправилась с Упанки в Куско, Город Солнца, где ты станешь женой принца Урко, сына Солнца, который скоро сядет на трон Инка.
— Я прощаюсь с лордом Курачи, как ты велишь, — ответила она очень спокойно, — но знай, отец, что я люблю этого Белого Повелителя, так же как и он любит меня, и что поэтому, хотя меня и могут отдать принцу Урко, как отдают золотую чашу, никогда он не выпьет из этой чаши и никогда я не буду его женой.
— Ты смелая, дочь, а я люблю смелость, — сказал Хуарача. — В общем, если ты сможешь ускользнуть от этого змея Урко прежде, чем он тебя ужалит, беги, поскольку свой уговор я выполнил, и честь моя не пострадает. Но только ни ты не вернешься сюда к лорду Курачи, ни лорд Курачи не поедет к тебе в Куско.
— Это уж как велят боги, отец, а пока я сыграю свою роль так, как велишь ты. Лорд Курачи, прощай до поры, когда мы снова встретимся — в жизни или смерти.
Тут она поклонилась мне и ушла, а следом за ней, не говоря ни слова, вышли и мы.
Перед дворцом было широкое открытое пространство, окруженное домами со всех сторон, кроме восточной, и на этой площади выстроился отряд воинов в парадной одежде и вооруженных копьями с медными наконечниками. Перед ними была раскинута большая палатка из разноцветных тканей. В ней на высоком троне восседал царь Хуарача в простом белом одеянии, но увенчанный небольшой золотой короной, и с большим копьем в руке. Справа от него на более низком троне сидела Куилла, а слева возвышался еще один трон, инкрустированный золотом и пока никем не занятый. Между ним и троном Хуарача стоял украшенный серебром стул, предназначенный для меня и помещенный так, чтобы все могли меня видеть; а позади и вокруг расположились вельможи и военачальники;
Едва мы все заняли свои места, как в глубине площади из восточного выхода появились герольды, которые держали в руках копья и были фантастически одеты. Они провозгласили, что Инка Упанки, Дитя Солнца — бога, который правит миром, — уже близко.
— Пусть он прибудет! — кратко сказал Хуарача, и герольды удалились.
Немного погодя до нас донеслись звуки варварской музыки и протяжное пение, и на площади показался сверкающий паланкин, который несли на плечах богато разодетые люди — как мне сказали позже, все до единого царского рода, — и окружали красивые женщины с украшенными жемчугом опахалами в руках, и царские советники. Это был паланкин Инка Упанки, и за ним следовала охрана из отборных воинов, человек сто, не более.
Паланкин опустили перед троном, позолоченные занавеси раздвинулись, и из него вышел человек, от одежды которого слепило глаза. Казалось, она вся состояла из золота и драгоценных камней, нашитых на мантию из малиново-красной шерстяной ткани. Два пера, носить которые мог только он один, венчали его яркий головной убор, с которого на его лоб свисала бахрома, сделанная из переплетающихся кисточек из шерсти. Это была корона Инка, даже прикосновение к которой означало смерть и которая называлась Лауту. Инка был очень стар, его совершенно белые волосы и борода ниспадали на его пышную одежду, и он опирался на свой царский посох, увенчанный большим изумрудом. Его тонко очерченное лицо, хотя еще и сохранявшее царственное выражение, было отмечено печатью дряхлости, а глаза были мутны. При его появлении все встали, и Хуарача спустился по ступеням трона, произнеся громким голосом:
— Добро пожаловать в страну Чанка, о Упанки, Инка народа Куичуа.
С минуту старый монарх вглядывался в него и затем слабым голосом ответил:
— Привет Хуарача, Курака страны Чанка. Хуарача поклонился и сказал:
— Благодарю тебя, но здесь, среди моего народа, мой титул не курака, я царь, о Инка.
Упанки выпрямился во весь рост и возразил:
— По всей земле Тавантинсуйу Инка не знает других царей, кроме самого себя, о Хуарача.
— Будь так, о Инка; и все же чанка, народ, который непобедим, знает еще одного царя, и этот царь — я. Прошу тебя, садись, о Инка.
Какое-то мгновение Упанки продолжал стоять, не двигаясь и хмурясь, и мне казалось, собираясь ответить, как вдруг его взор упал на меня, и это изменило ход его мыслей.
— Не это ли Белый-Бог-из-Моря? — спросил он с почти детским любопытством. — Я слышал, что он здесь, и, сказать по правде, поэтому и прибыл сюда, чтобы взглянуть на него, а вовсе не затем, чтобы пререкаться с тобой, о Хуарача, с кем, говорят, можно разговаривать лишь острием копья. Какая рыжая у него борода, и как сияет его наряд! Пусть он подойдет и преклонится передо мной.
— Он подойдет, но не думаю, что он станет поклоняться тебе. Говорят, он сам — бог, о Инка.
— Вот как? Впрочем, я действительно припоминаю странное пророчество о белом боге, который должен подняться из моря, подобно прародителю Инка. Говорят также, что этот бог принесет много зла той стране, где он появится. Так что пусть он лучше не приближается ко мне — мне не нравится вид его большого меча. Клянусь Солнцем — моим отцом, он высокий, и огромный, и сильный (я встал со стула), а борода его, как огонь; она зажжет сердца всех женщин, хотя если он бог, то, может быть, его не интересуют женщины. Я должен посоветоваться со своими магами и с верховным жрецом Храма Солнца. Скажи Белому Богу, пусть он готовится вернуться со мной в Куско.
— Лорд Курачи — мой гость, о Инка, и у меня он и останется, — сказал Хуарача.
— Вздор, вздор! Когда Инка приглашает кого-то к своему двору, тот должен приехать. Но довольно об этом. Я приехал говорить о других делах. Что же это было? Дай мне сесть и подумать.
Тут же его провели к трону, на который он сел и попытался напрячь свою память, которая, как я видел, с возрастом весьма ослабла. Кончилось тем, что он призвал на помощь своего министра — человека средних лет с суровым лицом и уклончивым взглядом, который, как я позже узнал, был верховным жрецом по имени Ларико, личным советником царя и его сына Урко и одним из самых могущественных людей страны. Я заметил, что он принадлежит к рангу «ушников», ибо, подобно Кари, он носил в одном ухе золотой диск величиной с яблоко, на котором было изображено солнце.
По знаку и слову своего дряхлого хозяина этот Ларико стал говорить за него, как будто он сам Инка. Он сказал:
— Слушай, о Хуарача. Я предпринял это утомительное путешествие, последнее, пока я еще Инка, ибо да будет тебе известно, что я намерен передать царскую корону моему наследнику Урко,
рожденному мною телесно и Солнцем — духовно, и окончить свои дни в мире и покое в моем дворце Юкэй, терпеливо ожидая, когда моему отцу Солнцу будет угодно принять меня в свое лоно.
Здесь Ларико сделал паузу, дабы его слушатели могли осознать это великое известие, а я подумал, что если бы мне пришлось умирать, я бы предпочел любое другое лоно, но только не Солнце, которое вызывало в моем воображении картину ада. Затем Ларико заговорил снова:
— До меня — Инка — дошли слухи, что ты, Хуарача, вождь Чанка, готовишься к войне против моей империи. Чтобы проверить, так ли это, хотя я и не поверил этим слухам, я недавно направил тебе послов — просить твою единственную дочь, леди Куиллу, в жены моему сыну Урко, обещая, что, поскольку у него нет сестры, на которой он мог бы жениться, а с материнской стороны у твоей дочери течет в жилах священная кровь Инка, — она станет его Койя, или царицей, и матерью того, кто впоследствии унаследует трон.
— Твое посольство прибыло, о Инка, и получило мой ответ, — сказал Хуарача.
— Да, и ответом было то, что леди Куилла будет отдана в жены принцу Урко, но поскольку она отбыла с визитом, это случится после ее возвращения. Но с тех пор, о Хуарача, до меня опять дошли слухи, что ты все-таки готовишься к войне и ищешь союза среди моих подданных, склоняя их к восстанию против меня. Поэтому я здесь сам, и мое намерение — увезти леди Куиллу и передать ее принцу Урко.
— Почему же принц Урко не явился сюда лично, о Инка?
— Вот почему, Хуарача, — ибо я ничего не хочу от тебя скрыть. Если бы он прибыл сам, ты бы устроил ему ловушку и убил бы его — надежду Империи.
— Я бы мог сделать то же и с тобой, его отцом, о Инка.
— Да, знаю. Но какую пользу принесла бы тебе моя смерть, если Урко сидит в безопасности в Куско, готовый принять Корону? К тому же я стар и сделал свое дело, так что для меня не так уж важно, когда и как я умру. Более того, мало кто захочет гневить богов убийством старика-гостя, и поэтому я и прибыл к тебе, сидящему здесь среди своих полчищ, с одной лишь горсточкой спутников, доверяя твоей чести и полагаясь на моего отца, Солнце, которые будут мне защитой. Так ответь же мне теперь, отдаешь ли ты руку твоей дочери моему сыну или начнешь войну против моей империи на погибель себе и своему народу?
Здесь Упанки, который до сих пор молча внимал словам Ларико, которые тот произносил от его имени, вмешался, и сказал:
— Да, да, совершенно верно, только дай ему понять, что Инка будет над ним повелителем, поскольку Инка не может иметь соперников ни в одной стране,
— Вот мой ответ, — сказал Хуарача, — я отдам свою дочь в жены, как обещал, но чанка — свободный народ, и не примет никакого сверхповелителя.
— Глупости, глупости! — сказал Упанки. — С таким же успехом дерево могло бы сказать, что оно не хочет сгибаться под ветром. Однако ты можешь решить этот вопрос после, с Урко, и даже со своей дочерью, которая будет его женой и твоей наследницей, ибо, как я понимаю, у тебя нет других законных детей. К чему говорить о войне и других неприятностях, если твое царство и так перейдет к нам через этот брак? А теперь я хочу видеть эту леди Куиллу, которой суждено стать моей дочерью.
Хуарача, который выслушал весь этот лепет с каменным лицом, повернулся к дочери и подал ей знак. Она поднялась со своего места и, приблизившись, остановилась перед Инка, как воплощение величия и красоты, и поклонилась ему. Некоторое время он разглядывал ее, как и вся его компания, и потом сказал:

— Итак, ты — леди Куилла. Красивая женщина, очень красивая; такая, какая способна вести Урко по верной дороге — если кто-нибудь может. И имя хорошее — в честь луны, ибо в твоих глазах как будто сияет лунный свет, леди Куилла. Право же, право же, будь я лет на двадцать моложе, я бы велел Урко искать другую царицу, а тебя оставил бы себе.
Тут Куилла сказала, первый раз за все это время:
— Да будет твоя воля, о Инка. Я обещана в жены Сыну Солнца, а которому сыну — мне все равно.
— Хорошо сказано, леди Куилла, да и чему тут удивляться? Хотя я и старею, говорят, что я все еще красив, гораздо красивее Урко, если сказать правду, ибо он — человек грубый и более сурового типа. Спроси у моих жен, когда приедешь в Куско; на днях одна из них сказала, что во всем городе нет никого красивее, и заслужила прекрасный подарок за свою приятную речь. Что это ты сказал, Ларико? Почему ты вечно вмешиваешься в мои дела? Ну, впрочем, может быть, ты и прав. И, леди Куилла, если ты готова, пора и в путь. Нет, нет, спасибо, Курака, но я не останусь ни на какое пиршество. Я хочу добраться до своего лагеря еще засветло, ибо кто знает, что может случиться с человеком в темноте в чужой стране?
И тут наконец Хуарача не сдержал гнева.
— Будь по-твоему, о Инка, — сказал он, — но знай, что ты наносишь мне тройное оскорбление. Во-первых, ты отказываешься от пиршества, которое приготовлено было специально для тебя и на котором ты должен был встретиться со всеми знатными людьми моего царства. Во-вторых, ты именуешь меня, царя, титулом мелкого вождя, который признает над собой твою власть. В-третьих, ты ставишь под сомнение мою честь, намекая на то, что я замышляю убить тебя в темноте. У меня сильное желание сказать тебе: «Уходи из моей бедной страны, о Инка, цел и невредим, но оставь здесь мою дочь».
В этот миг я, Хьюберт, заметил, что при этих словах в больших глазах Куиллы вспыхнул огонь надежды, так же как и в моем сердце, ибо не означало ли это, что она в конечном итоге ускользнет от Урко? Но, увы, он погас, как гаснет горящий уголь, брошенный в воду.
— Ну, ну! — сказал старый идиот. — Уж больно ты горяч, друг Хуарача. Знай, что я никогда не хочу есть, кроме как поздно вечером; и что прохладный воздух после того, как уходит мой отец — Солнце, причиняет боль моим старым костям; а что до титула, то бери любой, за исключением одного — титула Инка.
— Может статься, что именно его я и приму в конце концов, — прервал его разъяренный Хуарача, которого не могли утихомирить его советники, шептавшие ему что-то в оба уха.
Именно в этот момент министр и верховный жрец Ларико, который следил за всем происходящим с бесстрастным лицом, холодно сказал:
— Не гневайся, о царь Хуарача, и не придавай столько значения случайным словам славного Инка, ибо временами даже боги дремлют под бременем лет и забот Империи. Никто не хотел тебя обидеть, а меньше всего Инка и любой из нас воображает, что ты запятнал бы свою честь, учинив насилие над своими гостями днем или ночью. Однако знай, что если после всех клятв и обещаний ты не отпустишь свою дочь, леди Куиллу, в дом Урко, который должен стать ей господином, это немедленно вызовет войну, поскольку, едва эта весть дойдет до Куско (а это будет не дольше, чем через двадцать часов, так как по всему пути расставлены вестники), великие армии Инка, стянутые туда, выступят в поход. Суди же сам, имеешь ли ты силы противостоять им, и выбирай, что лучше — жить в славе и почете или погибнуть самому и ввергнуть народ свой в рабство. Так вот, царь Хуарача, говоря от имени Урко, который через несколько полнолуний станет Инка, я спрашиваю тебя: отпустишь ли ты леди Куиллу с нами в Куско и тем провозгласишь мир между нашими народами или оставишь ее здесь, вопреки своим и ее клятвам, и тем самым объявишь войну?
Хуарача сидел молча, погруженный в мысли, и старый Инка Упанки снова залепетал:
— Очень хорошо сказано, я и сам бы не мог лучше; впрочем, именно я и сказал это, потому что этот самодовольный Ларико, который воображает себя таким умным только потому, что я сделал его верховным жрецом Солнца под моей властью, и что он — из моего рода, а на самом деле только язык у меня во рту. Ты ведь все-таки не хочешь умереть, Хуарача, не так ли, после того как увидишь гибель твоих людей и разорение твоей страны? Ты ведь знаешь, что именно так и будет. Если ты не пошлешь к нам свою дочь, как ты обещал, то через несколько часов сто тысяч людей двинутся на тебя, а за ними будут готовиться в поход еще сто тысяч. Во всяком случае, решай, пожалуйста, в ту или другую сторону, ибо я желаю покинуть это место.
Хуарача подумал еще немного. Потом он сошел с трона и поманил к себе Куиллу. Она подошла к нему, и он отвел ее в глубину палатки, позади и немного левее места, где я сидел, где никто не мог их услышать, кроме меня; но он не обращал на меня никакого внимания, либо вовсе забыл обо мне, либо желая, чтобы я знал все.
— Дочь, — сказал он, понизив голос, — что скажешь? Но прежде подумай о том, что если я откажусь послать тебя, я первый раз в жизни нарушу свою клятву.
— Таким клятвам я придаю мало значения, — ответила Куилла. — Но я придаю очень большое значение другому. Скажи, отец, если Инка объявит войну нам и нападет на нас, сможем ли мы противостоять его армиям?
— Нет, дочь, едва ли, пока к нам не присоединятся юнка. У нас ведь недостаточно людей. Более того, мы не готовы и не будем готовы еще два или три полнолуния.
— Тогда так, отец: если я не еду, начнется война, а если я поеду, то, видимо, она оттянется до тех пор, пока ты не будешь готов к отпору или, может быть, навсегда, потому что я буду залогом мира. И будет считаться, что я, твоя наследница, получу твое царство как свою долю в замужестве, и его присоединят к империи Инка после твоей смерти. Ведь так?
— Так, Куилла. Только тогда ты будешь действовать так, чтобы земля инка присоединилась к земле чанка, а не наоборот, так что настанет день, когда, став царицей чанка, ты будешь править обоими народами, а после тебя — твои дети.
Тут я, Хьюберт, следивший за Куиллой уголком глаза, увидел, что она побледнела и задрожала.
— Не говори мне о детях, — сказала она, — ибо я думаю, что никаких детей не будет; не говори о славе и богатстве, ибо мне до них нет дела. Я забочусь только о нашем народе. Ты можешь поклясться мне, что если я не поеду, твои армии будут разбиты, а те, кто спасется от копья, попадут в рабство?
— Клянусь твоей матерью Луной, а также в том, что я умру вместе с моими воинами.
— Однако если я еду, я покидаю здесь то, что люблю, — при этом она взглянула в мою сторону, — и предаю себя позору, что еще хуже смерти. Ты этого ли желаешь, отец?
— Я этого желаю. Вспомни, дочь, ты ведь тоже участвовала в этом плане, больше того — он возник именно в твоем далеко видящем уме. Все же теперь, когда твое сердце говорит тебе другое, я бы не хотел связывать тебя твоим обещанием — ведь больше всего на свете я желаю видеть тебя счастливой и рядом со мной. Поэтому выбирай — и я повинуюсь. На твою ответственность.
— Что я скажу, о Повелитель, спасенный мной из моря? — спросила Куилла пронзительным шепотом, но не поворачивая ко мне головы.
Страшная мука овладела мной, ибо я знал, что она сделает так, как я скажу, и что от моего ответа, быть может, зависит судьба всего этого большого народа чанка. Если она уедет, они будут спасены, если останется — она, возможно, станет моей женой, хотя бы ненадолго. Мне не было дела ни до чанка, ни до -куичуа, но Куилла была всем, что мне осталось в жизни, и если, бы она уехала, то к другому. Я хотел сказать ей, чтобы она осталась. И все же… все же… Если бы я был на ее месте и от моего слова зависела бы судьба Англии, что тогда?
— Скорее! — прошептала она снова.
Тогда я заговорил — или что-то заговорило через меня, и я сказал:
— Поступи так, как велит тебе честь, о дочь Луны, ибо что такое любовь без чести? Может быть, обе останутся с тобой в конце концов.
— Благодарю тебя, Повелитель, твое сердце говорит то же, что мое сердце, — прошептала она в третий раз; потом, подняв голову и глядя Хуарача в глаза, сказала:
— Отец, я еду, но выйду ли я за этого Урко, — не обещаю.
ГЛАВА VII. ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРИ
Итак, сидя в расшитом золотом паланкине и сопровождаемая служанками, как приличествовало ее рангу, Куилла отбыла в обществе Инка Упанки, оставив меня одиноким и безутешным. В последнюю минуту под предлогом необходимости проститься с Белым Богом, в чем ей не было отказано, ей удалось поговорить со мной наедине.
— Повелитель и любимый, — сказала она, — я иду навстречу не знаю какой судьбе, оставляя тебя на волю не знаю какой судьбы, и, как произнесли твои уста, правильно, что я ухожу. Хочу попросить тебя о чем-то: не следуй за мной, как хочет этого твое сердце. Только прошлой ночью я просила тебя идти за мной следом и, где бы я ни была, держаться поблизости — даже знать о твоем присутствии было бы для меня утешением. Но сейчас я передумала. Если я должна выйти за этого Урко, я не хотела бы, чтобы ты видел мой позор. А если мне удастся избежать замужества, ты не сможешь помочь мне, потому что я сделаю это либо ценой смерти, либо скрываясь в убежище, куда тебе не будет доступа. Есть еще одна причина.
— Какая причина? Куилла!
— Я прошу, чтобы ты остался с отцом и оказал ему помощь в войне, которая неизбежна. Я хочу видеть разгром Урко, но без твоей помощи, я уверена, народы чанка и юнка не смогут сломить могущество инка. Помни, что если я не стану женой Урко, ты можешь надеяться завоевать меня только так — разгромив и убив Урко. Так скажи, что ты останешься здесь и поможешь отцу повести армии чанка в бой, — и скажи это быстро, а то ведь этому слабоумному Упанки не терпится уехать отсюда. Слышишь? Его вестники зовут и ищут меня; мои женщины не могут дольше их удерживать.
— Я останусь, — сказал я хрипло,
— Благодарю тебя, и прощай, пока мы не встретимся снова, в жизни или в смерти. Еще в голову приходят мысли, но уже некогда их высказать.
— Мне тоже, Куилла, и вот одна из них. Помнишь человека, который был со мной на острове? Он больше, чем то, чем он кажется.
— Я догадывалась. Но где он теперь?
— Скрывается, Куилла. Если тебе случится встретиться с ним, то помни, что он враг Урко, и он не одинок, и что он любит меня по-своему. Верь ему, прошу тебя. Урко не единственный, в ком течет кровь инка, Куилла.
Она быстро взглянула на меня и кивнула. Потом, не говоря ни слова, ибо к нам уже приближались, она сняла с пальца кольцо — толстое, золотое старинное кольцо, на котором было вырезано изображение не то цветка, не то солнца, и подала его мне.
— Носи его ради меня. Оно очень древнее и связано с историей верной любви, но рассказать ее уже нет времени, — сказала она.
Я взял его и взамен дай ей то древнее кольцо, которое вручила мне мать, то кольцо, которое перешло к ней вместе с мечом Взвейся-Пламя.
— Оно тоже древнее и тоже имеет историю. Носи его в память обо мне.
На этом мы расстались, и она ушла.
Я стоял, провожая ее взглядом, пока паланкин не скрылся в вечерней дымке. Потом я повернулся, чтобы уйти, и оказался лицом к лицу с Хуарача.
— Повелитель-из-Моря, — сказал он, — сегодня ты поистине сыграл роль мужчины — или бога. Если бы ты велел моей дочери остаться, она бы осталась из любви к тебе, и народ чанка был бы уничтожен, ибо, как сказал нам Инка или его глашатай, нарушение моей клятвы было бы воспринято как объявление немедленной войны. А теперь у нас есть передышка, и в конце концов все может повернуться иначе.
— Да, — ответил я, — но что будет с Куиллой и что будет со мной?
— Я не знаю твоей веры и не знаю, что ты понимаешь под честью, Белый Повелитель, но у нас — хотя ты, может быть, и невысокого о нас мнения — считается, что бывают времена, когда мужчина или женщина, особенно если они занимают высокое положение, должны жертвовать собой ради блага тех многих людей, которые держатся за них, ища защиты и руководства. Так именно поступили ты и моя дочь, и поэтому я чту вас обоих.
— Но какая цель такой жертвы? — сказал я с горечью. — Чтобы один народ боролся за господство над другим народом, не более.
— Ошибаешься, Повелитель. Не для победы и не для умножения своих владений желаю я войны против инка, а потому, что если я не ударю, очень скоро ударят меня; тогда как этот брак может оттянуть удар. Один среди огромных территорий, над которыми царит инка, народ чанка сдерживает поток их завоеваний и остается свободным среди многих народов-рабов. Поэтому уже много веков назад эти инка, как и те, кто правил до них в Куско, поклялись уничтожить нас, а больше всего и всех этого хочет Урко.
— Урко может умереть или быть низложен, Хуарача.
— Ну так другой надел бы его корону, и с него взяли бы клятву держаться старой политики, которая не изменяется от поколения к поколению. Поэтому я должен бороться или погибнуть вместе с моим народом.
Послушай, Повелитель-из-Моря! Оставайся здесь со мной, как мой брат и начальник над моими армиями; ведь куда только они ни пойдут за тобой, считая тебя богом! А если мы победим, то в награду из брата ты станешь мне сыном, и клянусь — я оставлю тебе корону страны Чанка. Более того, если она будет спасена, я отдам тебе в жены ту, кого ты любишь. Подумай, прежде чем отказаться. Не знаю, откуда ты явился, но одно мне ясно — ты уже не можешь вернуться туда, если только ты действительно не дух. Здесь тебе суждено остаться до самой смерти. Так проживи же свою жизнь в блеске и величии. Конечно, ты мог бы перейти к Инка и стать там чудом и предметом поклонения, обладателем золота, дворцов и земель, но там бы ты все равно был слугой, а я предлагаю тебе корону и управление народом великим и свободным.
— Что мне корона! — отвечал я, вздыхая. — Но об этом просила меня Куилла, и, может быть, это ее последняя просьба. Поэтому я принимаю твое предложение и буду служить тебе и твоему делу, которое кажется мне благородным, преданно и до конца, о Хуарача.
Я протянул ему руку, и так мы скрепили наш союз.
На следующий же день я взялся за работу. Хуарача познакомил меня со своими военачальниками, веля им подчиняться мне во всех делах, на что они охотно согласились, веря, что во мне хотя бы наполовину присутствует божественное начало.
Воспитанный моряком, я мало знал о военном искусстве, однако, как я узнал на собственном опыте, англичанин всегда проложит дорогу к своей цели, в какой бы стране и обстановке он ни оказался.
К тому же в Лондоне я часто слышал разговоры об армиях и их организации и нередко наблюдал войска во время учений; я владел мечом и луком и привык руководить людьми. Собрав в уме все, что я знал и помнил, я взялся за выполнение поставленной самому себе задачи — превратить толпу полудиких вооруженных парней в дисциплинированное войско. Я образовал из них полки и поставил во главе лучших военачальников, каких мог найти, объединяя в каждом полку, по возможности, людей из определенного города или района. Эти подразделения я учил и тренировал, наставляя их в том, как наилучшим Способом использовать имеющееся у них оружие.
Я научил их также изготовлять более мощные луки по образцу моего собственного, с помощью которого я убил в далеком Гастингсе трех французов, — лука, бывшего когда-то, как говорили, боевым оружием моего предка, скандинава Торгриммера, наравне с его мечом Взвейся-Пламя, служившим ему в битвах. Когда люди чанка увидели, как далеко и метко я стреляю из своего лука, они день и ночь старались научиться стрелять с таким же искусством, как я, — хотя, сказать по правде, никто из них не мог сравниться со мной. Я также усовершенствовал их защитную одежду: поскольку в этой стране нет железа, я научил их вшивать между слоями хлопчатой ткани пласты кожи, выделанной из шкур диких животных и местных длинношерстных овец. Я делал еще многое другое, о чем слишком долго рассказывать,
В результате всех этих мер через три месяца Хуарача получил армию примерно в пятьсот тысяч человек, которые, если и не достигли совершенства тренировки, соблюдали дисциплину и действовали как организованные полки; умели стрелять из луков и максимально использовали свои копья с медными остриями и топоры из этого же металла или из твердого камня.
Наконец к нам присоединились и воины юнка, тридцать или сорок тысяч человек, дикие и достаточно храбрые, но совершенно не дисциплинированные. С ними я не успел много сделать из-за недостатка времени, но послал к ним некоторых обученных мной военачальников, чтобы они научили вождей и военачальников юнка тому, что усвоили сами.
Так я был занят от зари до заката, а часто и дольше, разговаривая с Хуарача и его полководцами или вычерчивая планы изобретенными мною чернилами на пергаменте из овечьей кожи, записывая цифры и другие вещи к удивлению этих людей, которые никогда не знали письменности. Велики были мои труды, но в них я находил больше радости, чем я знал с того рокового дня, когда я, богатый лондонский купец, Хьюберт из Гастингса, стоял рядом с Бланш Эйлис перед алтарем в церкви Св. Маргариты. Поскольку каждая частица моего времени и ума была заполнена тем, что я уже свершил или пытался свершить, я забыл даже о своем одиночестве в чужой для меня стране и стал снова тем, чем я был, когда вершил дела в Чипсайде.
Но как бы я ни трудился, я не мог забыть Куиллу. В течение дня я еще мог запрятать воспоминания о ней в текущих делах, но когда я ложился на ночь в постель, мне казалось, что она приходит ко мне, как могло бы прийти привидение, и стоит у моей постели, смотря на меня печальным и зовущим взглядом. Так реально ощущалось ее присутствие, что иногда я начинал верить, что, наверно, она умерла для мира и действительно стала призраком или же обрела способность посылать на дальние расстояния свою душу, как, говорят, могут делать некоторые индейцы. Во всяком случае, она была рядом, когда я бодрствовал, и потом, когда я спал, и не знаю, чего больше — радости или боли — доставляло мне ее странное присутствие. Ибо — увы! — она не могла заговорить со мной или поведать мне о своем положении; и, сказать по правде, теперь, когда она, возможно, стала женой другого, мне хотелось забыть ее, если бы я мог.
Ибо о Куилле до нас не доходило ни слова. Мы слышали, что она благополучно прибыла в Куско, — и это все, что мы знали. О браке ее с Урко не было никаких вестей. Она как будто и в самом деле исчезла. Однако определенные шпионы Хуарача донесли ему, что огромная армия, которую Урко собрал, готовясь к войне против него, была частично распущена; это, видимо, показывало, что Инка уже не собирается немедленно начать войну. Но тогда что же случилось с Куиллой, которая должна была стать залогом мира? Может быть, ее куда-нибудь упрятали на время приготовления к свадьбе? По крайней мере, я ничего другого не мог придумать — разве что она действительно покончила с собой или умерла естественной смертью.
Вскоре, однако, всякие известия вообще прекратились, так как Хуарача закрыл свои границы, надеясь, что таким образом Урко не узнает о его военных приготовлениях.
Наконец, когда наши силы были почти готовы к выступлению, явился Кари — Кари, который, как я думал, навсегда для меня потерян.
Однажды вечером, когда я сидел за работой при свете лампы, записывая что-то на пергаменте, на него вдруг упала тень, и, подняв глаза, я увидел, что передо мной стоит Кари, усталый и изможденный, но несомненно Кари — не во сне, а наяву.
— У тебя есть какая-нибудь еда, господин? — спросил он, в то время как я не сводил с него глаз. — Я ослабел и хотел бы поесть, прежде чем мы поговорим.
Я нашел мясо и местное пиво и принес ему, так как было уже поздно и мои слуги давно легли спать, и стал ждать, пока он подкрепится, ибо к этому времени я уже научился терпению этих людей. Наконец он заговорил.
— У Хуарача отличные часовые, и, чтобы обойти их, мне пришлось зайти далеко в горы и спать три ночи, не имея еды, среди их снежных вершин, — сказал он.
— Откуда ты? — спросил я.
— Из Куско, Повелитель.
— Что с леди Куиллой? Она жива? Вышла замуж за Урко?
— Жива, или была жива четырнадцать дней назад, и замуж не вышла. Но она там, куда не может ступить ни один мужчина.
— Почему, если она жива и не вышла замуж? — спросил я, задрожав.
— Потому что она причислена к Девам Солнца, нашего Отца, и поэтому ни один мужчина не может к ней прикоснуться. Будь я Инка, то, хотя я люблю тебя и знаю все, я бы убил тебя, — да, даже тебя, и притом моим собственным мечом, — если бы ты попытался ее увезти. В нашей стране, Повелитель, есть одно преступление, которое не знает пощады, — овладеть Девой Солнца. Мы верим в то, что, если это случится, страшные проклятья падут на нашу страну, а что касается человека, совершившего это преступление, то прежде чем его постигнет вечное мщение, он и его дом, и город, откуда он родом, должны быть уничтожены, а неверная девственница, которая предала нашего Отца-Солнце, должна умереть медленной смертью в огне.
— И это когда-нибудь случалось? — спросил я.
— История не говорит об этом, ибо никто еще не решался на такое злодеяние, но таков закон.
Я подумал про себя, что это очень жестокий и порочный закон, и что я нарушу его, если представится возможность, но ничего не ответил, зная, что иногда лучше промолчать и что легче сдвинуть гору с ее основания, чем открыть Кари глаза на его безрассудство, порожденное ложной верой. В конце концов, мог ли я порицать его, если мы тоже придерживались закона о священной неприкосновенности монахинь и, говорят, убивали их, если они нарушали свой обет?
— Что нового, Кари?
— Много, Повелитель. Вот послушай. Переодевшись крестьянином, пришедшим в эту страну выменивать шерсть, в деревне близ Куско я пристроился к процессии Инка Упанки, в свите которого встретил старого друга; этот друг любил меня в прежние времена и не выдал меня, так как еще мальчиками мы оба вступили в братство рыцарей. Благодаря ему я сменил заболевшего носильщика паланкина, в котором была леди Куилла, и таким образом все время был рядом с ней, и иногда мы тайно переговаривались, ибо она узнала меня, несмотря на мою маскировку. Я также прислуживал ей, когда она ела, и следил за всем, что происходило.
Со второго дня нашего путешествия Инка Упанки — мой отец, который в пользу Урко лишил меня законных прав наследника и полагает, что меня нет в живых, — стал принимать пищу в той же палатке, что и леди Куилла. Она же, будучи очень умной, решила очаровать его, так что очень скоро он уже души в ней не чаял, как часто бывает с дряхлеющими стариками по отношению к молодым и красивым женщинам. Она притворилась, что тоже полюбила его, и наконец недвусмысленно сказала ему, что жалеет, если ее мужем будет не он со своей мудростью, а принц, который, как она слышала, совсем не мудрый. Она сказала это, хорошо зная, что Инка никогда больше не женится и уже многие годы живет один. Все же очень польщенный, он высказал сожаление о том, что ее насильно выдадут замуж за человека, к которому она не чувствует никакой склонности, на что она стала умолять его, даже со слезами, спасти ее от такой участи. Наконец он поклялся, что сделает это, поместив ее с Девами Солнца, на которых не смеет взглянуть ни один мужчина. Она поблагодарила его и сказала, что подумает, поскольку, по известным тебе причинам, Повелитель, она вовсе не желает стать Девой Солнца и провести остаток дней в молитвах и за тканьем одежды для Инка. Так продолжалось до тех пор, пока за день до прибытия в Куско нас не встретил Урко, мой брат, выехавший вперед, чтобы приветствовать будущую жену. Между прочим, Урко — огромный и уродливый человек, в котором никто бы не заподозрил хоть каплю царственной крови. Грубый он и распущенный, к тому же любитель выпить, хотя и отличный воин, храбрый в бою, и смышленый, когда он трезв. Я. присутствовал при встрече и заметил, как леди Куилла при виде него вздрогнула и побледнела, а он пожирал ее красоту глазами. Они сказали друг другу лишь несколько слов, но он успел сообщить ей свою волю — чтобы церемония их брака состоялась на другой же день после прибытия в Куско; и не стал слушать Инка Упанки, который, желая хитростью выиграть время, пытался ему внушить, что такое важное дело требует особых приготовлений. Напротив, Урко только разозлился на отца, который и любит, и боится его, и отвечал, что, поскольку он уже почти Инка, он сам и займется своими делами. Он так рассвирепел, что Упанки испугался и ушел. Когда они остались одни, Урко попытался обнять Куиллу, но она убежала от него и скрылась вместе со своими служанками в одном укромном месте. После этого Урко, по своему обыкновению, выпил слишком много во время пиршества, и его увели и уложили спать. Потом Куилла увиделась с Инка и сказала ему:
— О Инка, я видела принца и прошу тебя выполнить свое обещание и спасти меня от него. О Инка, отбрось всякую мысль о замужестве, я стану невестой нашего Отца-Солнца.
Упанки, который был зол на Урко за то, что тот воспротивился его воле, поклялся самим Солнцем, что он не подведет ее, что бы ни случилось, ибо Урко должен знать, что он пока еще не Инка.
— Что было дальше? — спросил я, пристально смотря ему в глаза.
— После этого, Повелитель, когда мы сделали последнюю остановку перед торжественным въездом в Куско, леди Куилла улучила минуту, чтобы поговорить со мной наедине. И вот что она сказала:
— Передай моему отцу, царю Хуарача, что я исполнила его клятву, но что я не могу выйти за Урко. Поэтому я ищу убежища в объятиях Солнца, как мне и предсказал Римак, ибо я должна выбирать между этой участью и смертью. Расскажи Повелителю-из-Моря обо всем, что со мной случилось, и передай ему мой прощальный привет. Однако скажи ему, чтобы он не терял надежды и мужества, потому что я не верю, что для нас на этом все кончится.
После этого мы расстались, и я больше ее не видел.
— И ничего больше не слышал, Кари?
— Нет, Повелитель, слышал, и много. Слышал, что, когда Урко узнал, что леди Куилла скрылась от него в Доме Девственности, куда ему нет доступа, и что таким образом украли жену, которую он так давно желал, он просто обезумел от ярости. Это я даже отчасти сам видел. Два дня спустя я пришел вместе с тысячами других на большую площадь перед храмом Солнца, где народ собрался, чтобы вознести хвалу Богу по поводу благополучного возвращения Инка Упанки из далекого и трудного путешествия; говорили также, что он собирается сложить с себя власть Инка в пользу Урко, а заодно возвестить народу, что опасность войны с чанка миновала. Инка Упанки сидел на золотом троне во всем великолепии. Едва началась церемония, как явился Урко во главе группы вельмож и принцев царской крови, которые принадлежат к его клану, и я заметил, что он пьян и полон ярости. Он приблизился к подножью трона, почти не оказывая знаков должного почтения, и закричал:
— Где леди Куилла, дочь Хуарача, которая обещана в жены мне? Почему ты спрятал ее от меня, Инка?
— Потому что Солнце, наш Отец, потребовал ее как свою невесту и принял ее в свой священный дом, где ее не смеет коснуться ни один мужской взгляд! — ответил Упанки.
— Ты хочешь сказать, что, обокрав меня, ты приберег ее для себя, Инка! — опять закричал Урко.
Тогда Упанки встал и поклялся Солнцем, что это не так, и то, что он сделал, сделано по воле Бога и по просьбе леди Куиллы, которая, увидев Урко, заявила, что она либо станет невестой Бога, либо наложит на себя руки, и тогда месть Солнца падет на весь народ.
Тут Урко просто сошел с ума. Он стал изливать свою ярость против Инка, и в то время как все вокруг дрожали от страха, он проклинал Солнце, нашего отца — да, да; и даже когда в ясном небе появилось облако и закрыло лицо Бога, он, несмотря на это предзнаменование, продолжал проклинать и богохульствовать. Но и это не все: он заявил, что скоро сам будет Инка, и тогда вытащит на свет леди Куиллу и сделает ее своей женой, даже если для этого придется разнести Дом Девственности по камешкам.
При этих словах Упанки встал и разорвал на себе одежду.
— И мой слух должен терпеть эти богохульства? — вскричал он. — Так знай же, сын Урко, что сегодня я собирался снять Царский Венец и возложить его на твою голову, коронуя тебя Инка, в то время как я удалился бы в Юкэй, чтобы прожить остаток дней своих в мире и спокойствии. Но я передумал. Я не сделаю этого. Моя жизнь еще не кончена, и силы возвращаются в мое тело и в мою душу. Я остаюсь на троне Инка. Теперь я вижу, что наказан за свой грех.
— Какой еще грех? — крикнул Урко.
— Тот, что я предпочел тебя моему старшему законному сыну Кари, чью жену ты украл; Кари, которого, говорят, ты отравил — по крайней мере, он исчез и несомненно погиб.
Повелитель, когда я, Кари, услышал это, сердце во мне растаяло, и я хотел уже открыться моему отцу Упанки. Но пока я задержался на мгновение, чтобы все взвесить, зная, что если я. откроюсь, эти слова будут моими последними словами, ибо Урко был здесь вместе со своими приверженцами, которые, вероятно, туг же убьют меня, — мой отец Упанки внезапно покачнулся и упал без чувств. Его приближенные и лекари унесли его, Урко последовал за ними, и вскоре толпа разошлась. После нам сказали, что Инка пришел в себя, но что его нельзя беспокоить в течение многих дней.
— А Куилла? Про нее ты что-нибудь еще слышал, Кари?
— Да, Повелитель, — ответил он мрачно. — Стало известно, что через какую-то подкупленную им жрицу Урко отравил ее, сказав, что раз она выбрала своим мужем Солнце, к Солнцу пусть и отправляется.
— Отравил ее! — пробормотал я, чуть не упав наземь. — Отравил ее!
— Да, Повелитель, но успокойся, ибо к этому еще добавили, что жрица, давшая ей яд, была поймана с поличным той, что именуется Матерью Девственниц; ее тут же передали женщинам, которые бросили ее в логово змей, где она и погибла, вопя, что ее подбил на это Урко.
— Это меня не устраивает. Что с Куиллой? Она умерла?
— Говорят, что нет. Говорят, что Мать Девственниц вырвала чашу с ядом, когда Куилла поднесла ее к губам. Но говорят также, что часть яда выплеснулось и попала ей в глаза, и она ослепла.
Я застонал. Мысль об ослеплении Куиллы была ужасна.
— Успокойся и насчет этого, Повелитель, ибо она еще может оправиться. А еще мне сказали, что, хотя она ничего не видит, красота ее не пострадала, и что от яда ее глаза стали как будто еще больше и прелестнее, чем были.
Я не ответил — я боялся, что Кари меня обманывает или сам был обманут, и что Куиллы нет в живых.
Через минуту он снова заговорил спокойным ровным голосом:
— Потом я разыскал кое-каких друзей, которые в юности любили меня и мою мать, когда она была жива; я им открылся. Мы вместе наметили план, но прежде чем что-либо предпринять, я должен был увидеться с моим отцом Упанки. Пока я ждал, чтобы он оправился от постигшего его удара, какой-то шпион выдал меня Урко, который тут же начал розыски с целью убить меня и почти обнаружил меня. Кончилось тем, что мне пришлось бежать. Но перед этим многие поклялись мне в верности, желая избавиться от тирании Урко. Кроме того, было решено, что, если я вернусь, имея за собой военную силу, мои друзья и приверженцы выйдут мне навстречу и примкнут ко мне вместе с тысячной армией, и помогут мне восстановиться в моих правах, так что я могу стать Инка после моего отца — Упанки. Поэтому я и вернулся — поговорить с тобой и с Хуарача.
Вот и вся моя история.
ГЛАВА VIII. КРОВАВОЕ ПОЛЕ
Когда на следующее утро Хуарача, царь Чанка, услышал эту историю и узнал, что Урко дал яд его дочери Куилле, которая, если и жива, то, как говорят, ослепла, им овладело своего рода безумие.
— Война! Теперь только война! — вскричал он. — Я не успокоюсь, пока не увижу труп этого Урко и не повешу его шкуру, набитую соломой, как жертвоприношение его собственному богу — Солнцу!
— Однако ты сам, царь Хуарача, ради своих целей отправил леди Куиллу к этому Урко, — заметил Кари своим спокойным тоном.
— Кто ты такой, чтобы упрекать меня? — спросил Хуарача, повернувшись к нему. — Я знаю только, что ты слуга или раб Белого-Повелителя-из-Моря, хотя, правда, я кое-что слышал о тебе, — добавил он.
— Я — Кари, перворожденный законный сын Упанки и по праву наследник престола Инка, не менее того, Хуарача. Мой брать Урко похитил у меня жену, так же, как до этого по безрассудству моего отца, которого обработала мать Урко, он лишил меня наследства. Потом для большей уверенности он попытался отравить меня, как отравил твою дочь, подсунув мне яд, который лишил меня разума и способности управлять страной, но оставил мне жизнь, — потому что он боялся как бы на него не пало проклятие Солнца, если бы он убил меня. Я оправился от этого злого зелья и после долгих странствий попал в далекую страну. Теперь я вернулся, чтобы взять положенное мне по праву, если это в моих силах. Все, что я сказал, я могу доказать.
Хуарача уставился на него в изумлении и после некоторой паузы сказал:
— А если ты докажешь это, чего ты от меня хочешь, о Кари?
— Помощи твоих армий прошу, чтобы я мог свергнуть Урко, который очень силен, имея под своей командой все войска куичуа.
— А если твой рассказ — правда, и ты свергнешь Урко, — что ты обещаешь мне за это?
— Независимость народу чанка, который иначе вскоре будет уничтожен, и вдобавок некоторые территории, которые ты хотел бы иметь, — все это ты получишь, когда я стану Инка.
— И вместе со всем этим — мою дочь, если она еще жива? — спросил Хуарача, не сводя с него глаз.
— Нет, — твердо ответил Кари. — Насчет леди Куиллы я ничего не обещаю. Она дана по обету моему Отцу-Солнцу, и я скажу тебе то, что уже говорил лорду Курачи, который ее любит. Отныне ни один мужчина не смеет взглянуть на нее — Невесту Солнца, ибо если бы я это стерпел, на меня и на мой народ пало бы проклятье Солнца. Того, кто попробует прикоснуться к ней, я убью, — тут он многозначительно посмотрел на меня, — потому что я должен, иначе я буду проклят. Бери все, что хочешь, но оставь леди Куиллу в покое. То, что принадлежит Солнцу, у Солнца и останется.
— Может быть, ее мать Луна имела бы кое-что сказать по этому поводу, — угрюмо заметил Хуарача. — Однако оставим это пока.
Они стали обсуждать условия, на которых они могли бы скрепить свой союз, и, дойдя до вопроса о войне, — ту помощь, которую мог оказать Кари и его приверженцы в Куско.
После этого Хуарача увел меня в другую комнату, чтобы поговорить обо всех делах наедине.
— Этот Кари, — если он действительно Кари, — просто фанатик, — сказал Хуарача, — и если дать ему волю, ни ты, ни я никогда больше не увидим Куиллу, потому что в его глазах это было бы святотатством. Что ты скажешь?
Я ответил, что лучше всего было бы заключить с Кари союз. Я знаю, что он честный и не претендует на чужое, а без его помощи едва ли возможно нанести поражение армии Инка. В остальном будем полагаться на случай, ничего не обещая относительно Куиллы.
— Что толку было бы в наших обещаниях, — сказал Хуарача, — если она умерла, в чем я почти не сомневаюсь; и нам остается только отмщение. В Куско еще достаточно яда, Белый Повелитель.
Восемь дней спустя мы двинулись на Куско, — целая армия численностью по меньшей мере в сорок тысяч чанка и двадцать пять тысяч мятежных юнка, которые стали под наше знамя.
Мы шагали по большой дороге через горы и равнины, гоня бесчисленные стада местных овец, служивших нам пищей, но не встречая ни души, так как мы едва покинули территорию чанка, все жители разбегались при нашем появлении. Наконец, однажды вечером, разбив лагерь на горе, именуемой Карменка, мы увидели внизу на некотором расстоянии могущественный город Куско, расположенный в долине, в которой протекала река. Да, вот он, этот город, с его огромными крепостными укреплениями, построенными из больших каменных глыб, с его храмами, дворцами, широкими площадями и бесчисленными улицами, обстроенными низкими домами. Более того, позади и вокруг города мы увидели и другое — лагерь огромной армии, испещренный тысячами белых палаток.
— Урко готов принять нас, — угрюмо заметил Кари, указывая на эти палатки.
Мы стояли лагерем на горе Карменка, и в тот же вечер к нам явилось посольство, которое выступало от имени Упанки и Урко, как будто— они правили совместно. Это посольство, состоявшее из вельмож, из коих каждый носили в ухе золотой диск, осведомилось о причине нашего появления. Хуарача ответил: отомстить за убийство леди Куиллы, его дочери, которая, как он слышал, была отравлена по приказу Урко.
— Откуда вы знаете, что она умерла? — спросил предводитель посольства.
— Если она не умерла, покажите ее нам, — ответил Хуарача.
— Это невозможно, — возразил предводитель, — ибо если она жива, то находится в Доме Девственниц, Дев Солнца, куда никто не входит и откуда никто не выходит. Слушай, о Хуарача. Ступай обратно, откуда ты пришел, иначе бесчисленная армия Инка обрушится на тебя и всех твоих приспешников.
— Это мы еще увидим, — ответил Хуарача, и посольство удалилось без лишних слов.
В этот же вечер в наш лагерь тайно прокрались люди из партии Кари. О Куилле им ничего не было известно, ибо никто не говорил о тех, кто дал обет служения Солнцу. Они рассказали нам, однако, что старый Инка Упанки все еще в Куско и несколько оправился от своей болезни. Они сказали также, что вражда между ним и Урко приобрела ожесточенный характер, но что Урко держит верх и по-прежнему командует армиями. Эти армии, заявили они, огромны и утром выступят против нас, но определенные полки, что на стороне Кари, дезертируют и перейдут к нам во время боя. Наконец, они сказали, что Куско объят страхом, ибо никто не знает, чем кончится битва, которую все понимают как попытку завоевать господство над всей Тавантинсуйу.
Это и все, что они могли нам сообщить, добавив, что они молят Солнце послать нам удачу и успех, чтобы мы могли спасти их от тирании Урко. Оказалось, что Урко заподозрил существование заговора, ибо слух, что Кари жив, облетел всех, и, получив от своих шпионов имена некоторых его участников, он стал преследовать их, организуя убийства и случаи внезапной смерти. В их пищу подсыпали яд; им вонзали нож в спину, когда они проходили поздним вечером по улицам; их жены, особенно молодые и красивые, внезапно исчезали, похищенные, как они думали, теми, кому они имели несчастье понравиться; даже их детей похищали, несомненно, для того, чтобы использовать их в качестве слуг в неизвестных им домах. Они пожаловались на эти злодеяния старому Инка Упанки, но тот был бессилен, ибо Урко держал в руках всю армию. Поэтому они готовы были даже приветствовать победу Хуарача, которая означала бы, что Кари будет Инка, хотя бы и над меньшей территорией.
Прежде чем они ушли, чтобы вернуться в Куско и сыграть свою роль в завтрашней битве, Кари привел их ко мне, ибо в своем невежестве они поклонялись мне, считая меня богом. Он уговаривал их не бояться ничего, поскольку я сам буду командовать армиями Хуарача во время битвы.
Осмотрев местность, пока еще было светло, я вместе с Хуарача и Кари трудился всю ночь, разрабатывая планы грядущей великой битвы. Когда все было готово, я прилег
отдохнуть, думая, что, может быть, это мой последний отдых на земле, и, сказать по правде, не очень об этом жалея. Теперь я почти не сомневался в том, что Куилла умерла, и если б не грехи мои, которые тяготели надо мной и в которых мне некому было исповедаться, я был бы даже рад покинуть этот мир с его бедами и страданиями, что бы ни ожидало меня за его пределами, даже если бы смерть означала лишь сон.
В жизни почти каждого человека наступает время, когда больше всего на свете он жаждет покоя, и теперь этот час пришел для меня, одинокого изгнанника. Здесь, в этой чужой стране, среди этих чуждых мне людей я нашел одну родственную душу — душу прекрасной женщины, которая полюбила меня и которую я любил и желал. Но чем это кончилось? Из-за политической необходимости и ее собственного благородства ее разлучили со мной и упрятали в храм — место варварского идолопоклонства, где почти наверное ее настигла смерть.
В лучшем случае ее лишили зрения, и из-за суеверий этих людей ни один человек не смеет проникнуть туда, где она лежит, окруженная вечной тьмой. Даже если Кари станет Инка, он не поможет ни мне, ни ей (если она еще жива), ибо он самый свирепый фанатик на свете из всех, и поклялся, что скорее убьет меня, своего друга, чем позволит мне прикоснуться к ней, давшей обет служения его ложным богам.
Или, быть может, чтобы избавить себя от такого горя, он при помощи жрецов убьет не меня, а ее. Во всяком случае, жива они или умерла, — для меня она потеряна, а я — совершенно один — должен сражаться за дело, имеющее для меня лишь один интерес, — уничтожить одного дикаря-принца за его преступление против Куиллы. Но если все закончится благополучно и это случится, что ждет меня в будущем? К чему мне награды, к которым я не стремился, и поклонение невежественной толпы, которое мне ненавистно? Я скорее хотел бы прожить жизнь скромным рыбаком на берегу Гастингса, чем стать царем над этими блестящими варварами со всем их золотом и жемчужинами, которые не купят ничего того, что мне нужно, — даже Часослова, чтобы дать пищу моей душе, или звука английской речи, чтобы утешить мое опустошенное сердце.
Наконец я заснул, и, казалось, прошло всего несколько минут, — хотя на самом деле шесть часов, — как меня разбудил Кари. Он сказал, что скоро рассвет, и что он пришел, чтобы помочь мне облачиться в доспехи. Потом я вышел, и вместе с Хуарача мы выстроили нашу армию в боевом порядке. Наш план состоял в том, чтобы начать наступление с возвышенности, где мы стояли, через расстилавшуюся внизу равнину, которая называлась Закуй, но позже стала известна под именем Якуар-пампа, или Кровавое поле.
Эта равнина лежала между нами и Куско, и моя идея заключалась в том, что мы пройдем — или продолжим себе путь, сражаясь, — через это пространство и ворвемся в город (который не имел крепостных, стен), и там среди его улиц и домов встретим атаку войск Инка, расположившихся у его дальней границы; таким образом, под защитой стен мы надеялись успешней сбалансировать наши силы. Однако все оказалось не так, как мы предполагали. С первыми же проблесками рассвета, которого мы ждали, не решаясь в темноте двинуться по незнакомой местности, мы увидели, что армии Инка под покровом ночи прошли через город и вокруг него и сосредоточились плотно сомкнутыми батальонами общей численностью тысяч десять человек на противоположном краю равнины.
Мы посовещались и решили не атаковать их, как предполагалось вначале, а подождать их нападения на скалистый гребень, который им придется брать приступом. Поэтому мы отдали приказ, чтобы наша армия, организованная из трех частей — одной части лобовой и двух других боковых крыльев — и поддерживаемая с тыла армией юнка, подкрепилась пищей и была наготове. В центре расположения нашей главной части, которая насчитывала примерно пятнадцать тысяч воинов чанка, и немного впереди нее возвышался небольшой и длинный холм; в его самой высокой точке, на скале, я установил свой наблюдательный и командный пункт; за моей спиной стояли группой военачальники и вестники, а на склонах и вокруг этого холма расположился отряд примерно из тысячи отборных воинов. С этой возвышенности мне было видно все, так же как и я в своих блестящих доспехах был виден всем, и друзьям и врагам в равной мере.
После паузы, во время которой жрецы чанка и юнка принесли овец в жертву Луне и другим многочисленным богам, которым они поклонялись, а жрецы куичуа, как я видел со своей скалы, совершили то же в честь восходящего Солнца, — войска Инка, издавая воинственные крики, двинулись по равнине в нашу сторону. Прикинув на глаз, я заключил, что они превосходят нас числом в отношении два или три к одному. В самом деле, их ордам, казалось, нет конца, и все новые и новые отряды появляются из сумеречных городских проемов. Разбившись на три больших армии, они как будто ползли по равнине — дикое и грандиозное зрелище, озаренное солнцем, которое сверкало и сияло на лесе их копий и на их ярких варварских мундирах.
Пройдя некоторое расстояние, они остановились и стали совещаться, указывая на меня копьями, как будто в страхе передо мной. Мы стояли не двигаясь, хотя кое-кто из наших командиров настаивали на атаке; но я советовал Хуарача пока воздержаться от атаки, если он хочет, чтобы силы куичуа разбились о наши ряды. Наконец, они решились; в воздухе взвилось великолепное «радужное знамя» Инка, и, сохраняя деление на три армии, отделенные друг от друга широким пространством, они пошли в наступление, вопя и завывая, как все дьяволы ада.
И вот они достигли нас, и завязалась самая ужасная битва в истории этой страны. Волна за волной накатывались на нас, но наши батальоны (я не зря обучал их) стояли, как скалы, и убивали, убивали, убивали, пока число убитых достигло нескольких тысяч. Вновь и вновь атакующие устремлялись на холм, где я стоял, надеясь убить меня, и каждый раз мы отбивали их атаки. Выискивая в гуще людей их военачальников, я спускал стрелу за стрелой с тетивы моего большого лука, и почти всегда попадал в цель, а их подбитая хлопком одежда не могла защитить их от этих жестоких стрел.
— Стрелы бога! Стрелы бога! — кричали они, отступая.
Внезапно среди них появился человек с узкой желтой повязкой на голове и в плаще, усеянном драгоценными камнями; человек огромного роста, с большими руками и ногами, с пылающим взглядом; большеротый уродливый человек, вооруженный медным топором и луком более длинным, чем те, что я до сих пор видел в этой стране. Заткнув топор за пояс, он нацелился в меня из лука и выстрелил. Стрела ударилась мне в грудь и сломалась, ибо добрая французская кольчуга была неуязвима для медных стрел.
Он выстрелил снова, и на этот раз стрела отскочила от моего шлема. Тогда я прицелился, в свою очередь, и моя стрела, направленная ему в голову, сорвала бахрому с его повязки. При виде этого его соратники испустили тяжкий стон, и один из них воскликнул:
— Плохое предзнаменование, о Урко, плохое предзнаменование!
— Еще бы! — закричал он. — Для Целого Колдуна, который пустил эту стрелу!
Отбросив лук, он ринулся вверх по склону с поднятым топором и в сопровождении своих приверженцев. Он размахнулся, и я, поймав удар на щит свой, ответил взмахом Взвейся-Пламя; мой меч разрезал рукоятку его топора, который он поднял, чтобы защитить голову, как будто это была тростинка, и поразил Урко в плечо до самой кости.
В этот момент из-за моей спины выскользнул человек. Это был Кари, атакующий Урко мечом Делеруа. Они схватились врукопашную и покатились вниз по склону, слившись воедино в объятиях друг друга. Не знаю, что было потом, ибо другие бросились между нами и все перепуталось и смешалось; но вскоре Кари вернулся, хромая, несколько потрясенный и покрытый кровью, а у подножья холма я на миг заметил Урко, почти не пострадавшего, как мне показалось, и окруженного своими вельможами.
В это мгновение я услышал многоголосый крик и, оглянувшись, увидел, что куичуа прорвали наш левый фланг и убивают наших направо и налево, в то время как многие бегут; в то же время правый фланг тоже заколебался. Я послал вестников к Хуарача с приказом — подтянуть резерв юнка. Они долго не возвращались, и я уже стал бояться, что все потеряно, ибо орды из Куско начали мало-помалу окружать нас.
И тут Кари, или кто-то, кто с ним был рядом, развернул знамя, которое до этого было обернуто вокруг шеста — голубое знамя, на котором было вышито золотое солнце. Его вид вызвал смятение в рядах Инка, в то же время большой отряд людей, пять или шесть тысяч, видимо, бывших в резерве, вырвался вперед, крича: «Кари! Кари!» и напал на тех, кто преследовал наш дрогнувший левый фланг. Наконец, появились и юнка и отбросили полки, теснившие нас справа, а из рядов армии Урко раздался крик: «Измена!»
Затрубили трубы, и армия Инка, сплотившись и оставив на поле боя своих убитых и раненых, отступила на равнину и там перестроилась на три части, как вначале, только в сильно уменьшенном виде.
Появился Хуарача, говоря:
— Вперед, Белый-Повелитель! Час настал! Их дух сломлен.
Прозвучал сигнал, и тотчас, подобно ревущему урагану, чанка бросились в атаку. Вниз, вниз, по склону, я — впереди, рядом со мной Хуарача, а с другой стороны — Кари. Быстроногие чанка перегнали меня, отягченного доспехами. Мы атаковали тремя группами в соответствии с нашим расположением на горном хребте, следуя по тем линиям, которые разделяли в пространстве наступавшие на нас три армии, и на которых, отступая, они, естественно, оставили меньше убитых и раненых. И вдруг я увидел, почему наши враги из Куско оставили свободными эти проходы, ибо те воины, которые обогнали меня, внезапно исчезли. Они провалились в яму, замаскированную насыпанной на жерди землей, в дно этой ямы были врыты острые колья. Другие, что бежали по таким же линиям справа и слева, попали в такие же ямы. Это были ловушки, числом около двадцати, тщательно подготовленные на случай войны. С трудом чанка остановились, но не прежде, чем мы потеряли таким образом несколько сот человек. Затем мы опять пошли в наступление, на этот раз по территории, по которой отступала армия Инка.
Наконец мы достигли их передовой линии, прорвавшись сквозь град стрел, и завязался бой, о каком я никогда не слышал и какой мне даже не снился. Вооруженные топорами, дубинками и копьями, обе армии сражались с неослабевающей яростью, и хотя противник все еще превосходил нас как два к одному, наши, обученные мной, полки все больше оттесняли их назад. Воин за воином бросались на меня, злобно сверкая глазами, но их медные копья и кремневые ножи отскакивали от моей кольчуги. Взвейся-Пламя упился сполна в этот день, и если бы мой предок Торгриммер мог видеть нас из Валгаллы, он несомненно мог бы поклясться Одином, что никогда не устраивал для своего меча такого пира.
Воины Инка, охваченные страхом, отступили.
— Этот Рыжебородый из моря — действительно бог! Его невозможно убить! — донеслись до меня их крики.
Тогда появился Урко, окровавленный и свирепый.
— Трусы! — кричал он. — Я покажу вам, как его нельзя убить!
Он бросился вперед и очутился не передо мной, а перед Хуарача, который, видя, что я устал, заслонил меня. Они схватились, и Хуарача упал и кто-то из его слуг подхватил и унес его.
Теперь Урко и я оказались лицом к лицу. Он замахнулся огромной дубиной с медной головкой, которой он надеялся выбить из меня жизнь, поскольку стрелы меня не брали. Я принял удар на щит, но сила удара была столь велика, что я упал на колени. В следующую секунду я вскочил и бросился на него. Крича, я схватил меч обеими руками, так как мой щит остался на земле, и обрушил его на голову Урко. Толстый тюрбан его был рассечен пополам, как перед этим топор Урко, и Взвейся-Пламя глубоко вонзился ему в череп.
Урко упал, как оглушенный бык, и я уже собирался его прикончить, как вдруг на мои плечи упала петля, веревочная петля, которая тут же затянулась. Напрасно я боролся, стараясь освободиться. Меня сбили с ног; десятка два рук схватили меня и утащили в глубь армии Урко.
Ожидая, пока принесут паланкин, они подняли меня на ноги, оставив мои руки затянутыми в петлю, которую эти индейцы называют «лассо» и набрасывают с большой ловкостью; окровавленный меч Взвейся-Пламя был при мне, прижатый этой же веревкой к моей правой руке. В то время как я стоял так, наподобие быка в сети, вокруг собрались воины, взирая на меня, как мне показалось, не с ненавистью, а со страхом и даже с почтением. Когда паланкин, наконец, прибыл, они заботливо помогли мне забраться в него.
Садясь в паланкин, я оглянулся. Битва еще продолжалась, но менее яростно, чем прежде. Казалось, обе стороны устали от этого кровопролития, тем более что их вожди пали. Паланкин подняли и понесли, и крики и шум сражения понемногу стали глуше и почти затихли. Кое-как извернувшись, я посмотрел назад сквозь щелочку в занавесях и увидел, что армия Инка и армия чанка угрюмо расходятся, унося своих раненых. Было ясно, что битва кончилась вничью, поскольку не было ни разгрома, ни триумфа.
Я увидел также, что вступаю в великий город Куско. В дверях домов стояли женщины и дети, глазея на процессию; некоторые плакали и ломали руки.
Миновав несколько длинных улиц и перейдя через мост, меня доставили на широкую площадь, окруженную внушительными зданиями, низкими, массивными, построенными из огромных камней, У входа в одно из них мы остановились, и мне помогли выйти. Одетые в красивые расшитые одежды люди меня провели через ворота и через сад, где я заметил нечто совершенно удивительное: все растения были из чистого золота с серебряными листьями или из серебра с золотыми листьями. На некоторых деревьях сидели птицы, также сделанные из золота и серебра. Увидев это, я подумал, что схожу с ума, но это было не так: просто, не имея другого применения для драгоценных металлов, которые Инка имели в изобилии, они стали украшать ими свои дворцы.
Пройдя через золотой сад, я достиг закрытого дворика, окруженного помещениями, в одно из которых меня провели. Войдя, я очутился в великолепном покое, увешанном фантастически вышитыми тканями и обставленном мягкими сиденьями и столами из редкого дерева с инкрустацией из драгоценных камней. Слуги, или рабы явились вместе с камергером, который низко поклонился и приветствовал меня от имени Инка.
Затем мягко и осторожно, как будто я был чем-то вроде божественного существа, они вынули из-подверевки прижатый к моему запястью меч, сняли с меня мой длинный лук с несколькими оставшимися стрелами, взяли также мой кинжал и все это куда-то унесли. Меня освободили от лассо, от моих доспехов (я объяснил им, как это сделать) и от одежды, обмыли теплой, ароматичной водой, растерли покрытые синяками и кровоподтеками руки и ноги и облачили меня в удивительно мягкую одежду, тоже надушенную и перехваченную золотым поясом. После этого принесли в золотых сосудах еду и пряное туземное вино. Я поел и выпил вина и, чувствуя глубокую усталость, прилег на мягкое ложе, надеясь заснуть. Ибо теперь мне было все равно, что со мной будет, и я все принимал как оно было, и хорошее, и дурное, предоставив свои тело и душу попечению Бога и Св. Хьюберта. В самом деле, что мне оставалось делать после того, как меня взяли в плен и обезоружили?
Когда я проснулся, чувствуя боль и скованность во всем теле, но все же отдохнувший, была уже ночь, ибо в комнате были зажжены все светильники. Перед моим ложем стоял камергер, о котором я уже говорил. Я его спросил о цели его появления. Многократно кланяясь, он сказал, что если я отдохнул, Инка Упанки желает меня видеть и говорить со мной.
Я велел отвести меня к Инка, и вместе с другими, ожидавшими нас за дверьми, он провел меня через лабиринт коридоров в роскошный зал, где все, казалось, было золотым, ибо даже стены были покрыты этим металлом. Я так устал от этого блеска, что, кажется, обрадовался бы, будь они из простого дерева или кирпича. В конце зала, также освещенного висячими лампами, были занавеси. Две красивые женщины в обшитых драгоценностями юбках и головных уборах раздвинули эти занавеси, и за ними на возвышении я увидел ложе, а на нем старого Инка Упанки, который выглядел намного слабее, чем во время нашей первой встречи, и был одет очень просто, в белую тунику. Только голову его украшал венец с красной бахромой, с которым, как я полагаю, он не расставался ни днем, ни ночью. Он поднял глаза и сказал:
— Приветствую тебя, Белый-Повелитель-из-Моря. Итак, ты все-таки посетил меня в конечном итоге, хотя и сказал, что этого не будет.
— Меня привели к тебе, Инка, — ответил я.
— Да, да, мне сказали, что тебя захватили во время битвы, хотя, я думаю, это случилось по твоей доброй воле, так как ты устал от этих чанка. Ибо какое же лассо может задержать бога?
— Никакое, — смело ответил я.
— Конечно. А то, что ты какой-то бог, я не сомневаюсь, судя по тому, что ты совершал во время битвы. Говорят, что стрелы и копья таяли от одного прикосновения к тебе, и что ты поражал людей из лука и мечом сразу целыми десятками. Опять же, когда Урко пытался убить тебя, то, хотя он самый сильный из людей моего царства, — ты сбил его с ног, как ребенка, и так раскроил ему голову, что теперь неизвестно, останется он жив или умрет. Я почти надеюсь, что он умрет, потому что, знаешь ли, я с ним рассорился.
Я подумал про себя то же самое, но вслух спросил:
— Как кончился бой, Инка?
— Так же, как начался, лорд Курачи. Масса людей с обеих сторон — убита, тысячи и тысячи, и ни одна из армий не победила. Обе отступили и сидят, рыча друг на друга, как два озлобленных льва, боящихся новой схватки. В действительности я не хочу, чтобы они сражались, и теперь, когда Урко не может помешать мне, я положу конец этому кровопролитию, если буду в силах. Скажи, — ведь ты был с ним, — почему этот Хуарача, который, я слышал, тоже ранен, хочет со мной воевать, он и его беспокойные чанка?
— Потому что твой сын, принц Урко, отравил — или пытался отравить — его единственную дочь Куиллу.
— Да, да, я знаю, и это было очень нехорошо с его стороны. Видишь ли, вот как это было. Эта прелестная Куилла, которая даже красивее, чем ее мать Луна, должна была выйти замуж за Урко. Но — как случилось во время нашего совместного путешествия — она влюбилась в меня, хоть я и стар, и умоляла защитить ее от Урко. С женщинами это бывает. Если они видят нечто божественное, их сердца отвращаются от вульгарного, — и он глупо засмеялся, как тщеславный старый дурак, каким он и был на самом деле.
— Естественно. Она ничего не могла поделать. Кто же, увидев тебя, мог бы захотеть жить с Урко?
— Никто, тем более что Урко грубый и жестокий малый. Так что мне оставалось делать? Я не собираюсь жениться в моем возрасте, — на это есть причины. Я устаю даже от вида женщин, — мне нужно время, чтобы молиться и думать о святых вещах; к тому же если бы я уступил ее желанию, кто-нибудь мог бы подумать, что я плохо обошелся с Урко. Но в то же время сердце женщины священно, и я не мог применить насилие к сердцу такой нежной, понимающей и прелестной женщины. Я поэтому поместил ее вместе с Девами Солнца, — там она будет в полной безопасности.
— Но она оказалась в опасности, Инка.
— Да, потому что этот насильник Урко, обманутый в своих надеждах и к тому же очень ревнивый, попытался через одну из низких тварей, которая прислуживала Девам, отравить ее. От этого яда она бы вся распухла и стала бы безобразной, лицо ее покрылось бы язвами, и, может быть, она бы даже впала в безумие. К счастью, одна из матрон, которых мы называем мам а к о н а с, выбила чашку у нее из рук прежде, чем она успела из нее отпить, но какая-то доля этого мерзкого яда попала ей в глаза, и она ослепла.
— Значит, она жива, Инка?
— Конечно, жива. Я проверил это сам — в этой стране неразумно верить тому, что тебе говорят. Видишь ли, как Инка, я имею привилегии, и хотя не вступаю в разговор с Девами Солнца, я велел провести их всех передо мной, на что, строго говоря, даже не имею права. Это было жуткое дело, лорд Курачи, ибо, хотя эти Девы такие святые, многие из них очень безобразны и стары, а Куилла, как вновь посвященная, шла, конечно, позади всей шеренги — ее вели две матроны, мои родственницы. Как ни странно, но этот яд сделал ее еще прекраснее, чем раньше; ее глаза стали еще больше и сияют, как звезды в морозную ночь. Так что она там, и ни один мужчина, даже самый хитрый и нечестивый, не имеет к ней доступа. Чего же еще хочет этот Хуарача?
— Вернуть домой свою слепую дочь, Инка.
— Невозможно, невозможно! Кто когда-нибудь слышал о таких вещах! Да что ты! Небо и Земля столкнулись бы друг с другом, и мой отец, а ее муж — Солнце — сжег бы нас всех до единого. Может быть, мы все-таки пришли бы к соглашению? Ведь Хуарача, наверно, сыт войной по горло и, вполне возможно, умрет. Ну, ладно, я уже устал говорить о леди Куилле. Я хочу кое-что спросить у тебя.
— Спрашивай, Инка.
Внезапно вся манера этого старого идиота резко изменилась: он стал быстрым и проницательным, каким был, несомненно, в дни своего расцвета, ибо этот Упанки был великим царем. Еще в начале нашего разговора обе женщины, о которых я упоминал, и камергер удалились в противоположный конец зала, где и оставались в ожидании, сложив руки, словно молящиеся люди перед алтарем. Все же Инка огляделся, как бы желая удостовериться, что его никто не услышит, и в конце концов знаком пригласил меня подняться на возвышение и сесть рядом с ним на его ложе.
— Видишь ли, — сказал он, — я доверяю тебе, хотя ты и бог из моря и сражался против меня. Так слушай же. С тобой был слуга, очень странный человек, который, говорят, тоже вышел из моря, хотя я этому не верю, потому что он очень похож на наших принцев. Где сейчас этот человек?
— Вместе с воинами Хуарача, Инка.
— Так я слышал. А еще я слышал, что во время сражения он поднял знамя с вышитым на нем солнцем, что после этого некоторые из моих полков дезертировали и перешли к Хуарача. Как ты думаешь, почему они сделали это?
— Как я понимаю, Инка, цари этой земли имеют много сыновей. Может быть, это был один из них.
— Ага! Ты умен, как и следует быть богу. Ну, я же ведь тоже бог, и мне в голову пришла та же мысль. Хотя фактически у меня только два законных сына, остальные не имеют значения. Старший из этих двух был способный и красивый; его звали Кари. Но мы поссорились, и, сказать по правде, тут была замешана женщина, вернее, две женщины, потому что мать Кари боролась против матери Урко, которую я любил: она никогда не бранила меня, а та — постоянно. Поэтому Урко и был объявлен моим наследником, а в будущем — Инка. Но ему этого было мало; он ревновал к своему брату Кари, который превосходил его во всем, кроме физической силы. Они полюбили одну и ту же женщину, и Кари завоевал ее расположение; но потом Урко соблазнил ее и похитил, после чего он же, или кто-то другой, ее убил. По крайней мере, она умерла, не помню как. Постепенно знатные люди, в которых течет кровь Инка, стали склоняться на сторону Кари, потому что он был царской крови и мудрый, но это означало бы гражданскую войну после того, как я отправился бы к Солнцу. Поэтому Урко отравил его, — во всяком случае, так утверждала молва. Как бы то ни было, он исчез, и с тех пор я не раз оплакивал его.
— Мертвые иногда оживают, Инка.
— Да, да. Повелитель-из-Моря, это случается; боги, которые взяли их от нас, приводят их обратно; и этот твой слуга, — говорят, он так похож на Кари, будто он и есть тот человек, только ставший немного старше. И почему те полки, во главе которых стояли люди, любившие Кари, — почему они сегодня перешли на сторону Хуарача, и почему по всей стране летят слухи, возникшие вдруг, словно ветер среди ясной погоды? Расскажи мне о твоем слуге, как ты нашел его в море.
— Зачем бы я стал тебе рассказывать, Инка? Может быть, ты хочешь его убить, раз он так похож на твоего пропавшего Кари?
— Нет, нет, просто боги могут советоваться друг с другом, разве не так? Я бы отдал — о, половину своей божественности, лишь бы знать, что он жив! Послушай, я устал от Урко, так устал, что иногда даже удивляюсь, действительно ли он мой сын. Кто знает? Был один вельможа из страны на побережье — волосатый гигант, который, говорят, за один присест мог съесть полбарана и которому ничего не стоило там, у себя, переломить человеку хребет; так мать Урко очень его ценила. Но — кто знает? Никто, кроме отца моего Солнца, но он хранит свои тайны пока что. А Урко — он меня утомил своими грубыми преступлениями и пьянством, хотя армия его любит, потому что он мясник, и к тому же и щедрый. На днях мы поссорились по одному мелкому поводу, связанному с леди Куиллой, и он стал угрожать мне, пока я совсем не рассердился и не сказал, что не передам ему корону, как хотел раньше. Да, я очень разгневался и возненавидел его, — а ведь это ради него я согрешил, потому что его мать околдовала меня. Повелитель-из-Моря, — тут его голос упал до шепота, — я боюсь Урко. Даже такого бога, как я, можно убить, Повелитель-из-Моря. Вот почему я не хочу ехать в Юкэй. Там я мог бы умереть, и никто не узнал бы, а здесь я все еще Инка и бог, коснуться которого — святотатство.
— Понимаю. Но как я могу помочь тебе, Инка? Я ведь только пленник у тебя во дворце.
— Нет, нет, ты пленник только на словах. Урко в самом худшем случае будет долго болеть, так как лекари говорят, что твой меч врезался в него слишком глубоко. А в это время вся власть будет в моих руках. В твоем распоряжении вестники; ты волен уходить и приходить, когда захочешь. Приведи ко мне твоего слугу, ведь он тебе, конечно, доверяет. Я бы хотел поговорить с ним, о Повелитель-из-Моря!
— Если я это сделаю, Инка, ты вернешь леди Куиллу ее отцу?
— Нет, это было бы святотатством. Проси все, что хочешь, — землю, власть, дворцы, жен, — но только не э т о. Даже я сам не осмелился бы тронуть пальцем ту, что покоится в объятиях Солнца. Что такого в этой Куилле? В конце концов, она всего лишь красивая женщина, одна из тысячи.
Немного подумав, я ответил:
— Я думаю очень много, Инка. Все же, чтобы пресечь кровопролитие, я постараюсь сделать все возможное и привести к тебе того, кто был моим слугой, если ты дашь мне возможность встретиться с ним; а потом мы, еще раз поговорим.
— Да, а то я уже устал. Потом мы поговорим еще раз. До свидания, Повелитель-из-Моря.
ГЛАВА IX. КАРИ ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО
Проснувшись на следующее утро в той же великолепной комнате, о которой я уже говорил, я обнаружил, что мне возвращены мои доспехи и оружие, и очень обрадовался вновь увидеть Взвейся-Пламя. После того как я поел и, сопровождаемый слугами, ибо меня не оставляли одного, прошелся по саду, дивясь чудесным золотым фруктам и цветам, ко мне явился вестник и сказал, что со мной хочет говорить Виллаорна. Я подивился про себя, кто такой этот Виллаорна, но когда тот появился, я тотчас узнал Ларико, того самого вельможу с суровым лицом и хитрыми глазами, который говорил от имени Инка во время его визита в город Чанка. Я узнал также, что «Виллаорна» — его титул, означающий «Главный жрец».
Мы поклонились друг другу и, отослав всех прочь, остались одни.
— Повелитель-из-Моря, — начал он, — Инка послал меня, своего советника и кровного родственника, главного жреца Солнца, передать тебе его желание, чтобы ты от его имени отправился с миссией в лагерь чанка. Однако сперва ты должен поклясться Солнцем, что вернешься оттуда в Куско. Согласен ли ты на это?
Так как я больше всего на свете желал вернуться в Куско, где находилась Куилла, я ответил, что поклянусь своим собственным богом, Солнцем и своим мечом, — разве что чанка задержат меня силой. Затем я попросил его изложить суть дела.
Он повиновался.
— Повелитель, — сказал он, — мы узнали, неважно каким образом, что человек, явившийся вместе с тобой в эту страну, не кто иной, как старший сын Инка, Кари, которого мы считали умершим. Сейчас Инка намерен, — как и мы, его советники, намерены — провозгласить Кари наследником престола, который, может быть, его навсегда призовут занять. Но это чревато большими опасностями, так как Урко все еще командует армией, и многие знатные люди из рода его матери идут за ним, надеясь на продвижение, когда он станет Инка.
— Но, жрец Ларико, говорят, что Урко при смерти, а если так, эти опасности растают, как облако.
— Твой меч проник глубоко, но я знаю от его врачей, что мозг не затронут, так что Урко не умрет, хотя и будет долго болеть. Мы должны действовать, пока он болен, ибо покончить с ним, даже если б удалось проникнуть к нему, было бы незаконно. Время не ждет, Повелитель, ты сам видел, что Инка стар и слаб, и разум его сдает. По временам он совсем ничего не помнит, хотя в другое время силы к нему возвращаются.
— А это значит, что я имею дело с тобой, Главным жрецом, и с теми, кто стоит за тобой, — сказал я, смотря ему в глаза.
— Именно так, Повелитель. Выслушай меня, я скажу тебе всю правду. После Инка я самый могущественный человек в Тавантинсуйу; фактически Инка большей частью говорит с моего голоса, хотя кажется, что я говорю с его голоса. Однако я в западне. До сих пор я поддерживал Урко, потому что кроме него не было другого, кто мог бы стать Инка, хотя он и жестокий, злой человек. Но недавно, вскоре после нашего возвращения из города Чанка, я поссорился с Урко, — он потерял эту колдунью леди Куиллу, от которой он без ума, и решил, что я этому способствовал; и мне стало известно, что когда он сядет на трон, он намерен убить меня, и он это, конечно, сделает, если сможет, или, по крайней мере, лишит меня моей должности и власти, что не лучше, чем смерть. Я поэтому желаю заключить мир с Кари, если он поклянется оставить меня на моем месте; а это я могу сделать только через тебя. Устрой этот союз, Повелитель, и я тебе обещаю все, чего захочешь, — даже трон Инка, если с Кари что-нибудь случится или если Кари откажется от моего предложения. Я думаю, куичуа приветствовали бы Белого Бога-из-Моря, который показал себя таким великим полководцем и таким храбрым в сражении, и превосходит их знаниями и мудростью настолько, чтобы править ими, — добавил он, подумав. — Только в таком случае пришлось бы избавиться от Кари, а не только от Урко.
— На что я никогда бы не согласился, — возразил я, — ибо он мой друг, с кем я делил многие опасности. Более того, я вовсе не хочу быть Инка.
— Может быть, есть что-нибудь другое, чего ты очень хочешь, Повелитель? Там, в городе Чанка, мне в голову пришла одна мысль. Кстати, какая красавица эта леди Куилла, и какая царственная женщина! Крайне странно, что она могла подумать о таком старике, как Упанки.
Мы посмотрели друг на друга.
— Очень странно, — сказал я. — И очень печально, что эта прекрасная Куилла заточена на всю жизнь в монастыре. Сказать по правде, Верховный жрец, чем такое могло произойти, я бы лучше женился на ней сам, на что она, может быть, и согласилась бы.
Мы опять посмотрели друг на друга, и я продолжал:
— Я даже намекнул об этом Кари, когда мы узнали, что она причислена к Девственницам, и спросил его, возьмет ли он ее оттуда и отдаст ли мне, если он станет Инка.
— И что он ответил?
— Он сказал, что, хотя любит меня, как брата, он скорее убьет меня своей собственной рукой, ибо такой поступок был бы святотатством по отношению к Солнцу. Вчера вечером Инка ответил мне примерно в том же духе.
— Вот как, Повелитель? Впрочем, это мы, жрецы, воспитываем в наших Инка подобный образ мыслей. Ибо если бы мы этого не делали, где была бы наша власть, — ведь мы Голос Солнца на земле и передаем его веления.
— Но сами-то вы, вы всегда ли так думаете, о Верховный жрец?
— Не совсем всегда. В каждом законе, установлен ли он богами или людьми, есть лазейки. Например, мне кажется, я вижу одну такую в случае с леди Куиллой. Но прежде чем тратить время на разговоры, скажи мне, Белый Повелитель, ты действительно хочешь ее, и если да, то готов ли заплатить мне соответственно? Моя цена — обещание Кари, если он станет Инка, обеспечить мне его дружбу и сохранение моей власти и положения.
— Отвечу: да, я действительно хочу, чтобы эта леди стала моей, о Верховный жрец, и если я смогу, я добьюсь от Кари обещания выполнить то, чего ты просишь. А теперь скажи, что это за лазейка?
— Мне помнится, Повелитель, что есть один древний закон, по которому ни одна женщина, получившая какое-либо увечье, не может стать женой Солнца. Правда, этот закон применяется к ним до того, как они вступают в священный брак. Все же, если бы этот вопрос был поставлен передо мной как Верховным жрецом, то, возможно, я смог бы обосновать его применение и п о с л е заключения брака. Случай, конечно, редкий, и если как следует поискать, то беспрецедентный. Так вот: по злой воле Урко эту леди Куиллу ослепили и, следовательно, она уже не совершенна телесно. Понимаешь?
— Абсолютно. Но что сказал бы Упанки или Кари? Ваши Инка всегда фанатики, и могли бы истолковать этот закон по-другому.
— Трудно сказать, Повелитель, но давай говорить прямо: я помогу тебе, если смогу, если ты поможешь мне, — если ты сможешь; хотя смею сказать, в конце концов, ты, поскольку ты не фанатик, должен будешь взять власть закона в свои руки, как, вероятно, сделает и леди Куилла, благо она поклоняется Луне.
Кончилось тем, что я и этот хитрый жрец и политик заключили сделку. Если мне удастся склонить Кари в его пользу, тогда, как он поклялся Солнцем, он устроит мне доступ к леди Куилле и поможет нам бежать, если мы оба захотим. Я же со своей стороны поклялся за него ходатайствовать перед Кари. Больше того, он подчеркнул, что ни один из нас не нарушит своей клятвы, так как с этой минуты мы сообщники, и судьба одного зависит от воли другого.
После этого мы перешли к общественным делам: мне поручено предложить Хуарача и чанка почетное перемирие с разрешением разбить лагеря в определенных долинах близ Куско и получать продовольствие, пока не будет заключен мир, по которому они получат желаемое — свободу и гарантию от нападений. Кроме того, я должен привести Кари и тех, кто накануне перешел на его сторону, в Куско, где им гарантирована полная безопасность.
Потом Ларико ушел, оставив меня в более счастливом настроении, чем я был с тех пор, как простился с Куиллой. Ибо теперь передо мной забрезжил рассвет — правда, слабый и неверный, с трудом — если вообще достижимый, но все-таки свет. Наконец-то я нашел в этой стране темных суеверий хоть одного человека, который не был фанатиком и, будучи Верховным жрецом Солнца, о своем боге знал слишком много, чтобы бояться его или верить в то, что он сойдет на землю и сожжет ее, если одной из сотен его невест вздумается выбрать себе другого мужа. Конечно, этот Ларико мог предать меня и Куиллу, но я не думал, что он пойдет на это, поскольку он ничего бы этим не выиграл, а потерять мог бы многое, ибо я был в силах (по крайней мере, он думал, что я в силах) настроить Кари против него. Во всяком случае, мне оставалось идти вперед и уповать на судьбу, хотя она никогда не была ко мне милостива там, где дело касалось женщин.
Немного позже меня доставили в собственном паланкине Инка в лагерь чанка в сопровождении посольства из знатных вельмож.
Мы пересекли ужасную, залитую кровью равнину, где под флагом перемирия каждая из сторон занималась погребением тысяч своих убитых, и приблизились к той гряде холмов, откуда мы накануне утром начали свою атаку. Здесь нас остановили часовые, и я вышел из паланкина. Когда чанка увидели, что я возвращаюсь к ним живой и в своих доспехах, они разразились ликующими криками, и тотчас меня и моих спутников провели в палатку Хуарача.
Мы застали его на ложе, ибо хотя он не получил открытой раны, он сильно пострадал от дубинки Урко, удар которой, как я боялся, повредил ему внутренности. Он приветствовал меня с восторгом, так как думал, что, захватив меня в плен, меня могли убить, и спросил, каким образом я попал в его лагерь в сопровождении наших врагов. Я сразу рассказал ему обо всем, что произошло, и о том, что с меня взяли клятву — вернуться в Куско после завершения моей миссии. Затем послы Инка изложили свои предложения по поводу перемирия и удалились, чтобы Хуарача мог обсудить их со своими военачальниками и с Кари, который тоже очень обрадовался, увидев меня целым и невредимым.
В конце концов эти предложения были приняты на выдвинутых условиях, а именно, что Хуарача и его армия располагаются в указанных мной долинах и получают все необходимое продовольствие до тех пор, пока не будет предложен приемлемый для него мир. Чанка были даже рады согласиться на этот план, ибо их потери оказались очень велики, и они не были в состоянии возобновить наступление на Куско, который защищали все еще могущественные массы воинов, сражавшихся за свои дома, семьи и свободу.
Таким образом, согласие было достигнуто при условии, что мир будет заключен не позже, чем через тринадцать дней, а если возможно, то и раньше, а если нет, то возобновится война.
Потом в частной беседе я рассказал Хуарача все, что узнал о Куилле, добавив, что я все еще надеюсь ее спасти, но умолчал о том, на что я возлагаю свои надежды. После некоторого раздумья он сказал, что теперь судьба Куиллы — в руках богов и в моих руках, ибо даже ради нее он не должен пренебрегать возможностью почетного мира, поскольку еще одна битва может кончиться полным разгромом. Он подчеркнул также, что сам он ранен, а я — пленник, и должен в силу своей клятвы вернуться в плен, так что чанка потеряли своих предводителей.
После этого мы расстались; я обещал стоять за него и его дело и снова увидеться с ним по мере возможности.
Покончив с этими делами, я уединился с Кари там, где нас никто не мог слышать, и выложил ему предложения Верховного жреца Ларико, объяснив все обстоятельства. Однако я ни слова не сказал о Куилле, хотя мне было тяжело скрыть от Кари даже часть правды. Но что я мог поделать, зная, что если я расскажу ему все, как есть, и он станет Инка или признанным наследником престола, он будет действовать против меня, побуждаемый суеверным безумием и, может быть, велит жрецам убить Куиллу, вступившую, по его мнению, на путь святотатства. Поэтому я умолчал об этой стороне дела, тем более что он и не спрашивал меня о Куилле, не желая, видимо, ничего знать ни о ней, ни о ее судьбе.
Выслушав меня, он сказал:
— Это может оказаться ловушкой. Не верю я этому Ларико, он всегда был моим врагом и другом Урко.
— Я думаю, он прежде всего друг себе самому, — ответил я, — и знает, что если Урко поправится, то убьет его за то, что он стал на сторону твоего отца Упанки, когда они поссорились: Урко будет подозревать его.
— Не уверен, — возразил Кари. — И все же чем-то надо рисковать. Не говорил ли я тебе, когда мы плыли к морю по той английской реке, что мы должны уповать на наших богов; и потом тоже, и не однажды? И разве боги не спасли нас? Ну, так теперь я снова доверюсь моему богу, — и, достав изображение Пачакамака, которое он по-прежнему носил на шее, он поцеловал его и, отвернувшись, поклонился и вознес молитву Солнцу.
— Я пойду с тобой, — сказал он, совершив свой обряд, — жить и стать Инка или умереть: на все воля Солнца.
Итак, он отправился со мной, и вместе с ним несколько его друзей, командовавших полками, которые к нему примкнули во время битвы. Но пять тысяч воинов или те из них, что остались в живых, пока не последовали за нами, боясь, что они будут окружены и перебиты полками Урко.
В этот же вечер, когда мы благополучно прибыли в Куско, Кари и Верховный жрец Ларико имели секретную беседу. Из всего, что было между ними, Кари сообщил мне лишь одно: что они пришли к соглашению, удовлетворяющему обе стороны. То же самое сказал мне Ларико, когда я увидел его после этого разговора, добавив:
— Ты сдержал свое слово, Повелитель-из-Моря, и оказал мне услугу; поэтому я сдержу свое и отвечу тем же тебе, когда придет срок. Однако предупреждаю тебя — не говори Кари ни слова о некой леди, ибо когда я намекнул ему, что возвращение этой леди к ее отцу Хуарача способствовало бы скорейшему и более прочному миру, он ответил, что скорее будет сражаться с Хуарача и с юнка тоже, вплоть до последнего воина в Куско.
— К Солнцу она ушла, — сказал он, — и у Солнца должна оставаться, иначе проклятие Солнца и самого Пачакамака-Духа, что выше Солнца, падет и на меня, и всех нас.
Ларико сказал мне также, что знатные сторонники Урко, опасаясь чего-то, унесли его в паланкине в укрепленный город, расположенный в горах примерно в пяти лье от Куско, и что их сопровождали тысячи отборных людей, которые останутся в городе и на подступах к нему.
На следующее утро я был вызван к Инка Упанки и явился к нему в моих доспехах. Я нашел его в том же великолепном зале, что и раньше, только на этот раз он был одет по-царски, и при нем присутствовали некоторые из высоких особ царской крови, а также кое-кто из жрецов, среди них и Виллаорна Ларико.
Старый царь, который в этот день был в ясном уме и хорошо выглядел, приветствовал меня очень любезно и велел мне доложить обо всем, что было между мной и Хуарача в лагере чанка. Я повиновался, умолчав лишь о том, сколь велики были потери чанка, и как они обрадовались перемирию и возможности отдыха.
Упанки сказал, что эти сведения будут внимательно изучены; при этом он говорил с высоты своего царского величия таким тоном, будто этот вопрос не имел большого значения; это должно было показать мне, какой он великий император. Он и был велик — в том смысле, что такая обширная страна, как Англия, составила бы лишь одну провинцию в его огромных владениях, каждый уголок которых был заселен людьми, жившими, за исключением мятежных юнка, лишь затем, чтобы выполнять его волю.
После доклада, когда я уже подумал, что аудиенция окончена, к подножью трона приблизился один из камергеров и, преклонив колени, объявил, что некий проситель желал бы поговорить с Инка. Упанки махнул своим жезлом в знак того, что он согласен его выслушать. И тотчас в зал вошел Кари, одетый в тунику и плащ принцев Инка, с золотым диском, изображавшим солнце, в ухе и цепью из изумрудов и золота на шее. Он пришел не один: его сопровождала блестящая группа тех вельмож и военачальников, которые перешли на его сторону в день великой битвы. Он приблизился и стал перед троном на колени.
— Кто это, что носит эмблемы Священной Крови и облачен как Принц Солнца? — спросил Упанки, разыгрывая неведение и полную невозмутимость, хотя я видел, что его бледные щеки покраснели и скипетр задрожал у него в руке.
— Тот, в ком поистине течет Священная Кровь Инка; тот, кто является чистейшим отпрыском Солнца, — отвечал царственный Кари присущим ему спокойным тоном.
— Как же его имя? — снова спросил Инка.
— Его имя Кари, перворожденный сын Упанки, о Инка.
— У меня был такой сын когда-то, но он давно
умер, — по крайней мере, так мне сказали, — произнес Упанки дрожащим голосом.
— Он не умер, о Инка. Он жив и преклоняет перед тобой колени. Урко отравил его, но его отец Солнце спас ему жизнь, а Дух, что царит над всеми богами, поддержал его. Море унесло его в далекую страну, где он нашел Белого Бога, который сделал его своим другом и заботился о нем, — при этих словах он повернул ко мне голову. — Вместе с этим богом он вернулся на свою родину, и здесь он преклоняет колени перед тобой, о Инка.
— Не может быть, — сказал Инка. — Какой знак ты носишь на себе, ты, называющий себя Кари? Покажи мне образ Духа над всеми богами, который издревле вешали с детства на шею старшего сына Инка, рожденного от Царицы.
Кари вынул из-под плаща золотое изображение Пачакамака, которое он постоянно носил, не снимая.
Упанки стал рассматривать его, приблизив этот символ к слезящимся глазам.
— Кажется, это он, — сказал он, — я не мог его не узнать, ведь он лежал у меня на груди, пока не родился мой первенец. И все же кто может знать наверное? Такие вещи можно скопировать!
Он вернул Кари изображение и после некоторого раздумья приказал:
— Приведите сюда Мать Царских Нянь.
Очевидно, эта леди была наготове, ибо через минуту она стояла перед троном, старая увядшая женщина с похожими на бусинки глазами.
— Мать, — сказал Инка, — ты была с Койя (то есть с царицей), которую призвало к себе Солнце, когда родился ее сын, и нянчила его в последующие годы. Если бы ты увидела его тело теперь, когда бы он достиг зрелости, узнала бы ты его?
— Да, о Инка.
— Как, Мать?
— По трем родинкам, о Инка, которые мы, женщины, называли Юти, Куилла и Часка (то есть Солнце, Луна и Венера) и которые были знаками удачи, отпечатанными богами на спине Принца, между лопатками, одна над другой.
— Человек, называющий себя Кари, согласен ли ты обнажить перед этой женщиной свою плоть?
Вместо ответа Кари, слегка улыбнувшись, скинул с себя тунику и другую одежду и предстал перед нами обнаженный до пояса. Потом он повернулся к женщине спиной. Ковыляя, она подошла к нему и устремила на его спину блестящие глаза.
— Много шрамов, — забормотала она, — шрамы сзади и спереди. Этот воин знал битвы и удары. А что у нас здесь? Взгляни, о Инка, — Юти, Куилла и Часка — вот они, одна над другой, хотя Часка почти не видна под следами старой раны. О мой питомец, о мой Принц, кого я вскормила этой увядшей грудью, неужели ты явился из мертвых, чтобы занять свое место? О Кари, дитя Священной Крови; Кари, пропавший, ныне Кари обретенный вновь!
Рыдая и бормоча, она обвила его руками и поцеловала его. Он тоже не постеснялся и ответил поцелуем, — здесь, перед всеми, кто был в зале,
— Оденьте принца, — сказал Упанки, — и принесите венец, который носит наследник Инка.
Тотчас появился венец — нечто вроде ленты с бахромой, — предъявленный Верховным жрецом Ларико, из чего я сразу понял, что вся эта сцена была заранее подготовлена. Упанки взял его у Ларико и, поманив Кари, обвязал этот венец с помощью Ларико вокруг его головы, тем самым признав своего сына и восстановив его в правах наследника Империи. Потом он поцеловал его в лоб, а Кари опустился на колени, отдавая ему дань уважения и благодарности.

После этого они оба удалились, сопровождаемые только Ларико и двумя-тремя советниками из рода Инка. Позже я узнал, что они рассказывали друг другу о том, что с ними было, и строили планы, как бы обойти, а в случае необходимости — уничтожить Урко и его фракцию.
На следующий день Кари водворился в дом, который отныне стал его резиденцией. Этот дом был похож скорее на крепость, чем на дворец, — построенный из крупного камня, с узкими воротами, он стоял на открытом месте, где расположилась лагерем стража. Состояла она из всех, кто дезертировал на сторону Кари в битве на Кровавом поле и вернулся в Куско, когда Кари был признан наследником Инка. Поблизости были расквартированы также другие войска, которые сохраняли верность Инка, тогда как приверженцы Урко тайно отбыли в тот город, где он лежал больной. Кроме того, было официально объявлено, что в день, когда народится новая луна — этот день маги считали особенно благоприятным, — Кари будет публично представлен народу в Храме Солнца как законный наследник престола вместо Урко, лишенного наследства из-за преступлений, которые он совершил против Солнца, Империи и своего отца Инка.
— Брат, — сказал мне Кари, когда я пришел поздравить его с высоким положением, ибо так он теперь называл меня, став законным принцем, — брат, не говорил ли я тебе, что мы должны верить своим богам? Как видишь, я верил не напрасно, хотя, правда, впереди еще много опасностей, и, возможно, гражданская война.
— Да, — ответил я, — твои боги явно собираются дать тебе все, что ты хочешь, но со мной и с моими богами дело обстоит не так.
— Чего же ты желаешь, брат, если ты можешь владеть даже половиной царства?
— Кари, — сказал, — мне нужна не Земля, а Луна. Он понял, и лицо его посуровело.
— Брат, Луна — единственное исключение, ибо она живет на небе, тогда как ты пока еще на земле, — ответил он, нахмурившись и переводя разговор на заключение мира с Хуарача.
ГЛАВА X. ВЕЛИКИЙ УЖАС
Наступил день обновления Луны, а в этот же день произошло ужасное и трагическое событие, которое заставило всю Империю Тавантинсуйу дрожать от страха перед Небесным возмездием.
С тех пор как Упанки вновь обрел своего старшего сына, он в нем просто души не чаял, как нередко бывает со старыми слабоумными людьми, и часто, обняв его за шею, бродил с ним по садам и дворцам, болтая о том, что в данный момент больше всего занимало его ум. Вдобавок ко всему его душу угнетала мысль, что в прошлом он был несправедлив к Кари и предпочел ему Урко, действуя под влиянием его матери.
Я сам слышал один из их разговоров.
— Истина в том, сын, — говорил он Кари, — что мы, мужчины, правящие миром, вовсе им не правим, потому что нами всегда управляют женщины. И делают они это через наши страсти, которыми боги наделили нас для своих собственных целей, а также благодаря тому, что у женщин ум направлен в одну сторону. Мужчина думает о многих вещах, женщина же только о том, чего она желает. Поэтому мужчина, одурманенный Природой в своей страсти, может выставить лишь одну частицу своего ума против целого ума женщины и, конечно, терпит поражение, ибо он создан лишь для одной цели — быть парой женщине, чтобы она могла рожать больше мужчин, которые будут выполнять желания женщин, хотя последние с виду и кажутся рабынями этих мужчин.
— Я испытал это сам, отец, — ответил серьезный Кари, — и по этой причине твердо решил не иметь дела с женщинами, насколько это возможно в моем положении. Во время моих странствий в других землях, так же как и в этой стране, я не раз видел, как любовь к женщине разоряла и превращала в ничто великих и благородных мужчин, толкая их в грязь, в то время как они держали в своих руках богатства и славу мира. Больше того, — я заметил, что они редко становятся мудрее, и то, от чего они страдали раньше, они готовы повторить вновь, веря всем клятвам, слетающим с нежных уст. Да, даже тому, что их любят ради них самих, на свое горе я сам поверил. Урко не смог бы отнять у меня мою красавицу-жену, если бы она не захотела уйти к нему, видя, что я лишился твоей милости, а с нею и надежды на Алую Бахрому.
При этих словах Кари взглянул на меня, о ком, я уверен, он все время думал, и видя, что я могу услышать его речи, заговорил о чем-то другом.
В назначенный день великое множество знатных людей страны, особенно тех, в ком текла кровь Инка, и все «ушники» — то есть тот класс людей, что соответствовал нашим пэрам Англии, — собралось, чтобы услышать провозглашение Кари наследником Инка. Церемония происходила перед всем этим пышным обществом в Великом Храме Солнца, который я теперь впервые увидел.
Это было огромное и в высшей степени удивительное здание, очень метко названное «Золотым Домом», ибо все здесь было из золота. На западной стене висело изображение солнца футов в двадцать или более в поперечнике — огромная гравированная круглая пластина золота, усеянная жемчугом, с глазами и зубами из крупных изумрудов. Крыша и стены храма также были выложены золотом, и даже карнизы и капители колонн были отлиты из чистого золота.
Из этого храма открывались выходы в другие храмы, посвященные луне и звездам; край луны был выложен серебром, и ее серебряный лик сиял на западной стене. Аналогичным образом были оформлены и остальные храмы — Звезд, Молнии и Радуги; последний был, пожалуй, самый ослепительный из всех благодаря богатству красок и цветовых оттенков, создаваемых игрой алмазов и бриллиантов.
Вид всего этого блеска и великолепия поразил меня, и мне пришло в голову, что стань это известно в Европе, люди умирали бы десятками тысяч, лишь бы завоевать эту страну и завладеть ее богатствами.
Однако здесь, кроме как с целью украшения и жертвоприношения богам, ему не придавали никакого значения.
Но в этом Храме Солнца я увидел нечто, поразившее меня гораздо больше, чем золото. По обе стороны от изображения солнца на золотых стульях сидели умершие Инка и их жены. Да, да, облаченные в свои царские одежды и эмблемы, в венцах с бахромой, ниспадающей на чело, они сидели, склонив головы, мужчины и женщины, с таким искусством сохраненные для потомков, что если бы не печать смерти на их лицах, их можно было бы принять за спящих. Так, в мертвом лице матери Кари я увидел сходство между нею и сыном. Их было много, этих усопших царей и цариц, поскольку, начиная от первого Инка, известного в истории, они все были собраны здесь, в священном Доме и под эгидой их бога — Солнца, от которого, как они верили, они вели свою родословную. Это зрелище было столь мрачно и торжественно, что меня охватил благоговейный страх. Видимо, такое же чувство владело и остальными, ибо здесь мужчины скинули с ног сандалии, и все говорили тихо, не повышая голоса.
Старый Инка Упанки явился пышно одетый и в сопровождении вельмож и жрецов, а за ними следовал Кари со своей свитой. Инка поклонился собранию, и в ответ все, кто был в Храме, — кроме меня одного, ибо моя британская гордость удержала меня на ногах, и я стоял, как единственно уцелевший среди множества убитых, — все простерлись перед его божественным величеством. По знаку они поднялись, и Инка сел на украшенный жемчугом золотой трон под изображением солнца, в то время как Кари занял место на более низком троне, по правую руку от Инка.
Глядя на него во всем его великолепии, в день, когда он снова занял подобающее ему место, я невольно вспомнил несчастного изможденного индейца со следами ударов и пятнами грязи на лице и на теле, которого я спас от жестокой толпы на набережной Темзы, и подивился этой необычайной перемене в его судьбе и удивительной цепи событий, приведших к этой перемене.
Моя судьба тоже изменилась, ибо из человека по-своему великого, каким я был тогда, я превратился всего лишь в скитальца, — правда, почитаемого в этом сверкающем новом мире, о котором там мы ничего не знали, почитаемого за то, что я казался странным и на них не похожим, и за неведомую для них ученость и военное искусство, — но все же лишь бездомным скитальцем, каким мне суждено теперь жить и умереть. И то, что я думал, думал и Кари, ибо наши взгляды встретились, и в его глазах я прочел эти же мысли.
Передо мной сидел мой слуга, который стал моим повелителем, и хотя он все еще был моим другом, я чувствовал, что вскоре его поглотят государственные дела и интересы этой обширной Империи, и я останусь еще более одиноким, чем теперь. К тому же его образ мысли не был моим образом мысли, так же как его кровь не была моей кровью, и он рабски следовал вере, которую я считал отвратительным суеверием, без сомнения внушенным самим Дьяволом; только в этой стране его имя было Купей, и одни ему поклонялись, а другие считали его Богом умерших.
О, если бы я мог бежать вместе с Куиллой и рядом с ней прожить остаток жизни, ибо из всех этих масс людей она одна понимала меня и имела родственную душу со мной: священный огонь любви сжег все различия между нами и открыл ей глаза. Но закон их проклятой веры отнял у меня Куиллу, и что бы ни отдал мне Кари, никогда он не отдал бы это дитя Луны, поскольку для него, как сказал он сам, это было бы святотатством.
Началась церемония. Прежде всего Ларико, Верховный жрец Солнца, в белом облачении совершил обряд жертвоприношения на маленьком алтаре, который стоял перед троном Инка.
Это была очень скромная жертва, состоявшая из фруктов, злаков и цветов, с очень странными по форме предметами, видимо, отлитыми из золота. Во всяком случае, я не заметил ничего другого: ничто живое не было возложено на этот алтарь в отличие от кровавых жертвоприношений евреев, а также некоторых других племен этой большой страны.
Без молитв зато не обошлось — очень красивых и чистых молитв, насколько я мог понять, ибо их язык был более древним и несколько иным по сравнению с языком обычной повседневной речи. При этом жрецы выполняли определенные движения, кланяясь и опускаясь на колени почти так же, как наши священники во время мессы, но я не уверен, было ли это в честь богов или в честь Инка.
Когда обряд жертвоприношения закончился и небольшой огонь, который горел на алтаре, несколько погас, хотя мне сказали, что полностью его не гасили уже сотни лет, Инка вдруг заговорил. Приводя подробности, многие из которых я услышал впервые, он рассказал историю Кари и их взаимного отчуждения из-за интриг матери Урко, которой, как и матери Кари, уже не было в живых. Эта женщина, как следовало из его рассказа, убедила его, Инка, что Кари организовал против него заговор, и поэтому Урко было приказано арестовать его, но Урко явился только с женой Кари, сказав, что Кари покончил с собой.
Здесь Упанки дал волю чувствам, как нередко свойственно старикам, бил себя в грудь и даже прослезился, потому что допустил такую несправедливость и позволил злым и порочным восторжествовать над добродетельными и великодушными. Он чувствует, сказал он, что за этот грех его отец-Солнце пошлет ему какое-либо наказание (как и случилось на самом деле, и скорее, чем он думал). Потом он продолжил свой рассказ, описав все прегрешения Урко, его нечестивые выпады против богов, убийство людей, знатных и простых, и похищение их жен и дочерей. Наконец, он рассказал о возвращении Кари, которого считали погибшим, и обо всем, что изложил ему я.
Закончив свою повесть, он с большими и торжественными формальностями отверг Урко как наследника Империи и вернул этот титул Кари, которому он и принадлежал по праву рождения; он призвал своих предков, одного за другим, в свидетели этого акта и снова увенчал Кари Бахромой Наследника. При этом он произнес следующие слова:
— Скоро, о принц Кари, ты должен будешь сменить этот желтый венец на тот, что ношу я, и вместе с ним возложить на себя все бремя Империи, ибо знай, что я намерен, как только смогу, удалиться в свой дворец в Юкэй и примириться с богом, прежде чем буду призван отсюда в вечные покои Солнца.
Когда он кончил, Кари отдал отцу дань уважения и благодарности и своим спокойным ровным голосом поведал о тех несправедливостях, которые причинил ему его брат Урко, и о том, как он, живой, но потерявший рассудок, спасся от его ненависти. Он рассказал также о своих морских странствиях (не упомянув, однако, об Англии), и о том, как я, очень большой человек в моей собственной стране, спас его от страданий и смерти. Все же, поскольку я сам стал жертвой несправедливости у себя на родине, так же, как он, Кари, у себя, — он убедил меня сопровождать его в его страну, чтобы моя мудрость воссияла над ее тьмой, и благодаря моему божественному дару и магическим способностям мы благополучно прибыли сюда. В заключение он задал собравшимся жрецам и знатным людям вопрос — согласны ли они принять его как будущего Инка, и будут ли они поддерживать его в любой войне, какую Урко может развязать против него.
На это они ответили, что согласны, и будут его поддерживать.
Затем последовало много других обрядов — например, сообщение мертвым Инка, одному за другим, об этой торжественной деклараций устами Верховного жреца, и вознесение многочисленных молитв как им, так и их отцу-Солнцу, Эти молитвы были столь длинными, перемежаясь с пением хора, скрытого в боковых приделах Храма, что когда все это закончилось, день склонился к вечеру.
Уже сгущались сумерки, когда Инка, а за ним следом и Кари, я, жрецы и все собравшиеся вышли из Храма, чтобы представить Кари — наследника престола — огромной толпе, которая ожидала на широкой площади перед Храмом Солнца.
Здесь церемония была продолжена. Инка и большинство из нас — ибо для всех не было места, несмотря на то, что мы сгрудились, как гастингские селедки в корзинке, — стояли на высокой площадке, обнесенной удивительной цепью со звеньями из чистого золота, так что поднять ее, как мне сказали, могли не меньше чем пятьдесят человек. Упанки, к которому, казалось, вернулись силы, то ли потому, что он принял какое-то укрепляющее средство, то ли под влиянием этого великого события, выступил вперед к самому краю низкой площадки и обратился к толпе с красноречивым рассказом о том, о чем уже говорил в Храме. Он закончил свою речь формальным вопросом:
— Дети Солнца, принимаете ли вы принца Кари, моего первенца, как наследника престола и будущего Инка?
Раздался рокот согласия, и когда он утих, Упанки обернулся, чтобы подозвать Кари, которого он собирался представить народу.
В то же самое мгновение в сгустившихся сумерках я увидел, как большой человек со свирепым лицом и забинтованной головой, в котором я тотчас узнал Урко, — перепрыгнул через золотую цепь. Он вскочил на площадку и с криком: «Но я не принимаю его, и вот моя плата за предательство» — всадил блеснувший медный нож, или кинжал, в грудь Инка.
Прежде чем кто-либо в нашей тесной толпе успел пошевелиться, он соскочил с края площадки, перепрыгнул через золотую цепь и исчез в гуще стоявших внизу, среди которых, несомненно, были сопровождавшие его люди, переодетые городскими жителями или крестьянами.
Все, кто видел эту сцену, как будто оцепенели от ужаса. Один великий вздох прокатился по толпе и наступила тишина, ибо ни одно подобное деяние не было известно в анналах этой Империи. С минуту старый Упанки стоял, не двигаясь, в то время как кровь заливала его белую бороду и украшенную драгоценностями одежду. Потом он слегка повернулся и произнес ясным и мягким голосом:
— Кари, ты станешь Инка раньше, чем я думал. Прими меня, о Бог мой Отец, и прости этого убийцу, — я думаю, он на самом деле не мой сын.
Он упал лицом вниз, и когда мы его подняли, он был мертв.
Вокруг по-прежнему царило безмолвие; казалось, все языки поразила немота. Наконец, Кари выступил вперед и воскликнул:
— Инка мертв, но я, Инка, жив и отомщу за него. Я объявляю войну Урко-убийце и всем, кто с ним заодно!
Этот крик как будто разорвал державшее толпу оцепенение, и вопль ненависти против Урко-мясника и отцеубийцы взмыл над смутно темнеющей массой людей; многие бросились искать его в разных направлениях. Тщетно! Ибо он уже скрылся в темноте.
На следующий день с некоторыми церемониями, хотя часть их была опущена из-за предчувствия надвигающихся бедствий, Кари был коронован, сменив желтую бахрому на алую и приняв тронное имя Упанки в честь и в память своего отца. В Куско не нашлось ни одного человека, кто бы высказался против него, ибо весь город был охвачен ужасом перед свершившимся святотатством. Кроме того, сторонники Урко бежали с ним в город, называвшийся Хуарина, на берегах большого озера Титикака, где на острове стояли удивительные храмы, полные золота. Этот город лежал на некотором удалении от Куско.
А потом началась гражданская война и свирепствовала целых три месяца, но обо всем, что происходило в это тяжелое время, я не стану говорить подробно, чтобы не задерживать течения моего рассказа,
В этой войне я сыграл большую роль. Кари опасался, как бы чанка, видя, что царство инка раскололось надвое, не начали нового наступления на Куско. Предотвратить это стало моим делом. В качестве посла Кари я посетил лагерь Хуарача, предложив условия мира, которые давали ему больше, чем он надеялся получить силой оружия. Я нашел, что этот царь-воин все еще не оправился от удара урковой дубинки и выглядел исхудавшим и больным, хотя уже мог ходить, опираясь на костыли. Выслушав меня, он сказал, что не имеет никакого желания воевать с Кари, предложившим ему столь почетные условия, тем более что Кари сражается против Урко, которого он, Хуарача, ненавидит за то, что тот пытался отравить его дочь и нанес ему удар, который, как он уверен, приведет его к смерти. Поэтому он готов заключить с новым Инка прочный мир, если в дополнение к тому, что тот предлагает, он вернет ему Куиллу, которая является его наследницей и должна быть царицей народа чанка после его смерти.
С этим я вернулся к Кари и нашел его твердым, как горная скала, в отношении последнего вопроса. Тщетно старался я уговорить его, и напрасно Верховный жрец Ларико пытался при помощи тонких намеков и доводов смягчить его душу.
— Брат мой, — сказал Кари, терпеливо выслушав меня до конца, — прости меня за то, что я скажу, но в твоем ходатайстве ты говоришь одно слово в пользу Хуарача и два слова — в свою, ибо, к несчастью околдованный этой Девой Солнца леди Куиллой, желаешь ее получить в жены. Брат, возьми все, что я могу тебе дать, но оставь в покое эту женщину. Если бы я передал ее Хуарача или тебе, я бы, как уже говорил тебе, навлек на себя и на мой народ проклятие моего Отца-Солнца и Пачакамака — Духа, который выше Солнца. Ведь именно потому, что мой отец по плоти, Упанки, осмелился, как я потом узнал, взглянуть на нее, когда она уже вступила в Дом Солнца, его постигла жестокая смерть; об этом говорит пророчество, как уверили меня маги и мудрецы. Поэтому я не могу пойти на это преступление преступлений, и скорее предпочел бы, чтобы Хуарача возобновил наступление и чтобы ты стал на его сторону или даже на сторону Урко, и сбросил бы меня с трона, ибо тогда, будь я даже убит, я бы умер с честью.
— Я никогда бы этого не сделал, — ответил я печально.
— Знаю, мой брат Хьюберт (теперь он часто называл меня моим английским именем), — конечно, не сделал бы — не такой ты человек. Значит, ты должен, как и все мы, нести свое бремя. Может быть, когда-нибудь каким-то образом, которого я не могу предвидеть, моим богам или твоим богам в конце концов будет угодно отдать тебе эту женщину, к которой ты стремишься. Но я по своей воле никогда ее тебе не отдам. Представь себе, что в твоей стране Англии король приказал бы вырвать из рук ваших жрецов освященный хлеб и чашу с вином и выбросить их собакам или отдать на потеху неверным, или же похитить монахинь из монастыря и сделать их наложницами. Что бы ты подумал о таком короле в твоей стране? И что, — добавил он многозначительно, — ты бы подумал обо мне, если бы я выкрал там одну из монахинь, потому что она красивая и я хотел бы сделать ее своей женой?
Хотя слова Кари уязвили меня, ибо в них была известная доля правды, я ответил, что в моих глазах история с Куиллой выглядит иначе. К тому же Куилла стала Девой Солнца не по своей доброй воле, а потому, что это было единственным спасением от посягательств Урко.
— Да, брат мой, — сказал Кари, — ты говоришь так потому, что ты считаешь мою религию идолопоклонством и не понимаешь, что для меня Солнце — это символ и одеяние Бога, и что когда мы, из рода Инка, называем его своим отцом, мы имеем в виду, что мы — дети Бога в отличие от обычных, простых людей. Что же до этой леди, то она дала обет по своей собственной воле, а об ее тайных соображениях я знаю не больше, чем о том, почему она обещала стать женой Урко, до того как нашла тебя на острове. Тебе же я глубоко сочувствую, да и ей тоже, однако хочу тебе напомнить, что, как учат твои собственные жрецы, во всякой жизни, если это не жизнь животного, должны быть утраты, горе и самопожертвование, ибо только по этим ступеням может человек подняться до вещей духовных. Так срывай же любые цветы в саду Фортуны, но только оставь этот один белый цветок в покое.
Так проповедовал он передо мной, пока наконец я не выдержал и сказал ему резко:
— По-моему, о Инка, это большое зло — разлучать тех, кто любит друг друга, и это не может понравиться Небу. Поэтому, как ты ни велик, и какой ты мне ни друг — скажу тебе прямо в лицо: если я смогу вызволить леди Куиллу из этой золотой могилы, я это сделаю.
— Знаю, брат мой, — ответил он, — и поэтому будь я как некоторые другие Инка до меня, я бы отправил эту святую жену на небеса раньше, чем это сделала бы Природа. Но я так не поступлю, ибо знаю, что надо всем царит рок, и что он определит, то и случится и без помощи человека. Все же скажу, что воспрепятствую тебе, если смогу, а если ты достигнешь цели, я убью тебя, если это будет в моих силах, и ее тоже, потому что вы совершите святотатство. А если царь Хуарача попытается забрать ее силой, я пойду на него войной и буду воевать до тех пор, пока не уничтожу его и его народ или пока он не уничтожит меня и мой народ. А теперь не будем больше об этом. Поговорим лучше о наших планах в борьбе против Урко — по крайней мере в этом деле, где не замешана женщина, ты будешь мне верен, а я очень нуждаюсь в твоей помощи.
С тяжелым сердцем я вернулся в лагерь Хуарача и передал ему слова Кари; выслушав меня, он страшно разгневался. Его боги были не те, что боги Инка, и он не признавал никакого значения святости Дев Солнца. Он хотел снова начать войну, однако ничего из этого не вышло. Главной причиной было то, что его состояние с каждым днем ухудшалось. К тому же я объяснил ему, что как бы я ни желал вернуть Куиллу, я не смогу сражаться на его стороне, потому что дал Кари клятву помогать ему в борьбе против Урко и не могу нарушить своего слова. Наконец, нашим союзникам — юнка — надоело так долго быть вдали от дома, и удовлетворившись милостивым прощением и облегчением их тягот, которые обещал им новый Инка, они покинули Хуарача, отбыв своим путем на побережье. Да и многие воины чанка потихоньку уходили обратно в свою собственную сторону. Так час Хуарача миновал.
Поэтому мы в конце концов согласились на том, что неразумно атаковать Куско, чтобы попытаться спасти Куиллу, поскольку даже если бы Хуарача удалось сломить отчаянное сопротивление его защитников, он не мог быть уверен, что его дочь оставят в живых или не упрячут в какой-нибудь неизвестный, далекий монастырь. Оставалось лишь положиться на судьбу и ждать, пока она сама приведет к нам Куиллу. Мы согласились и в том, что после заключения почетного мира и удовлетворения всех его требований для Хуарача лучше всего вернуться в свои земли, оставив со мной пять тысяч отборных воинов, готовых служить под моим командованием: они помогли бы мне в войне против Урко и охраняли бы меня и Куиллу, если бы мне удалось вызволить ее из Дома Солнца.
Как только стало известно о моей просьбе, пять тысяч лучших и храбрейших чанка, молодых воинов, которых я обучал военному искусству и которых влекли приключения и битвы, вызвались сопровождать меня и дали клятву служить мне. С ними, простившись с Хуарача, я вернулся в Куско, предварительно послав туда вестников, предупредивших о нашем прибытии. Кари радушно их приветствовал и отвел им территорию вблизи и вокруг предназначенного мне дворца.
Несколько дней спустя Кари и я во главе нашего большого войска начали наступление на город Хуарина, где вступили в бой с еще более многочисленными войсками Урко. Эта битва длилась весь день и всю ночь, и, однако, подобно битве на Кровавом поле, не закончилась ни победой, ни поражением. Когда тысячи убитых были погребены, а раненые отправлены обратно в Куско, мы снова атаковали Хуарина. Я и мои чанка шли в первых рядах. Мы взяли город штурмом, оттеснив Урко и его силы на противоположную окраину.
Они отступили в горы, и началась долгая и утомительная война без крупных сражений. Наконец, несмотря на то, что армия Инка понесла большие потери, мы вынудили Урко отойти к берегам озера Титикака, где большинство его воинов словно растаяли, рассеявшись среди болот и глубоких лесистых долин. Однако сам Урко и группа его приверженцев переправились в лодках на священный остров посреди озера.
Мы соорудили бальзовый плот, используя связки камышей и надутые воздухом мешки из овечьих шкур, и последовали за ними. Высадившись на острове, мы ворвались в город Храмов, которые были здесь еще удивительнее, чем в Куско, и еще богаче золотым убранством и драгоценностями. Люди Урко оказали отчаянное сопротивление, но, выбивая их из улицы в улицу, мы, наконец, заперли их в одном из самых больших храмов. По какой-то несчастной случайности камышовая крыша храма загорелась, начался пожар, и все, кто находился внутри, погибли мучительной смертью. Это было ужасное зрелище — я надеюсь, что никогда больше такого не увижу. Все же Урко и нескольким его военачальникам под конец удалось вырваться из горящего храма, и они бежали, скрываясь в клубах дыма, и покинули остров, переправившись через озеро в лодках или, как утверждают многие, даже вплавь. По крайней мере, они исчезли и, несмотря на тщательные поиски, мы нигде не смогли их обнаружить.
Итак, все было кончено, если не считать бегства Урко. Мы вернулись в Куско. Кари вступил в город с триумфом, который разделил с ним и я, шагая рядом с ним, — бесконечно усталый от войны и кровопролития.
ГЛАВА XI. ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ
Во время описанной мною долгой войны против Урко был момент, когда победа ему улыбнулась, хотя вскоре стрелка весов вновь повернулась против него. Кари потерпел поражение в одной из острых схваток, а я, командуя другой армией, был почти окружен в долине. Когда все, казалось бы, было потеряно, я вышел из окружения, уведя моих воинов на противоположный склон горы, и внезапно атаковал Урко, зайдя ему в тыл. Поскольку для нас все кончилось хорошо, я не стану останавливаться на этом эпизоде.
В самый черный для нас день ко мне привели одного из военачальников, задержанного во время попытки дезертировать или, по крайней мере, перейти через линию наших передовых постов. Оказалось, что я знаю его в лицо. Накануне я видел, как он серьезно разговаривал с Верховным жрецом Ларико, который в числе других жрецов сопровождал мою армию: возможно, для того, чтобы следить за мной. Я отвел этого военачальника в сторону и допросил его без свидетелей, пригрозив ему, что он умрет мучительной смертью, если не расскажет о причине своего поступка.
В конце концов, перепугавшись насмерть, он заговорил. От него я узнал, что он должен был передать Урко устное послание от Ларико. Полагая, что наш крах неминуем, Ларико решил помириться с Урко и обещал ему выдать все планы Кари и мои собственные и объяснить, как он может легче всего уничтожить нас. Он велел также сказать Урко, что он, Ларико, примкнул к партии Упанки, а после его смерти — к партии Кари, лишь под угрозой смерти, и что он всегда в глубине сердца был верен Урко, которого он признает своим Повелителем и законным Инка и которому будет помогать вступить на престол, используя всю власть Верховного жреца Солнца. Кроме того, он велел этому шпиону передать Урко секретное послание в форме хитроумно перевязанных узелками нитей: завязанные на них узелки служили этим людям как письменные знаки, и они могла читать их так же свободно, как мы читаем книгу.
Всегда жадный до знаний, я как-то раз попросил обучить меня этому узлописанию, и теперь достаточно прилично разбирался в нем. Поэтому я смог это послание расшифровать. В нем говорилось коротко и ясно, что, зная неизменность желаний Урко, он, Ларико, будучи Верховным жрецом, передаст Урко леди Куиллу, дочь царя чанка, которую незаконно скрыли среди Девственниц Солнца, а также предаст меня, Белого-Бога-из-Моря, стремящегося ее похитить, в руки Урко, чтобы он убил меня, если это в его силах.
Когда я все это понял, меня охватила ярость, и я хотел тотчас отдать приказ, чтобы Ларико схватили и предали участи всех изменников. Вскоре, однако, я передумал и, желая полностью изолировать шпиона, установил за Ларико слежку, не сказав ни ему, ни Кари ни слова о том, что я узнал.
Спустя несколько дней наше положение изменилось, и разгромленный Урко бежал к берегам Титикака. После этого мне стало ясно, что нам нечего бояться этого Верховного жреца с сердцем лисицы, потому что он прежде всего желает быть на стороне побеждающей партии и сохранить свой пост и свою власть. Поэтому зная, что но у меня в руках, я решил повременить, ибо через него только я мог надеяться проникнуть к Куилле. Мой час настал, когда война была окончена и мы с триумфом вернулись в Куско. Как только отпраздновали победу и Кари надежно утвердился на троне, я послал за Ларико, на что я, как самый великий человек в государстве после Инка, имел бесспорное право.
Он явился на мой зов, и мы обменялись поклонами, после чего он начал восхвалять меня за мое полководческое искусство, говоря, что если бы не я, Урко выиграл бы войну, и что Инка поступил очень правильно, назвав меня перед всем народом своим братом и признав, что обязан мне своей властью.
— Да, все это верно, — ответил я. — А теперь, поскольку через меня ты стал третьим великим человеком в государстве и остаешься Верховным жрецом Солнца и доверенным лицом Инка, я хотел бы, Ларико, напомнить тебе о некой сделке, которую мы с тобой заключили, когда я обещал тебе все эти блага.
— О какой сделке, Повелитель-из-Моря?
— О том, что ты сведешь меня и Деву Солнца, которая, живя на земле, звалась Куиллой, Ларико, и устроишь так, что из объятий Солнца она вернется в мои объятия.
Тут на лице его выразилось огорчение, и он ответил:
— Повелитель, я много об этом думал, желая больше всего на свете сдержать свое слово, и я с искренней скорбью должен сказать тебе, что это невозможно.
— Почему, Ларико?
— Потому что я понял, что законы моей веры не позволяют этого, Повелитель.
— Это все, Ларико? — спросил я с улыбкой.
— Нет, Повелитель. Потому что я понял, что Инка не потерпел бы этого, и клянется убить всех, кто попытается дотронуться до леди Куиллы.
— Это все, Ларико?
— Нет, Повелитель. Потому что я понял, что женщина, обрученная с тем, в ком течет царственная кровь, не может перейти к другому мужчине.
— Пожалуй, это ближе к делу, Ларико. Ты хочешь сказать, что если это случится, а Урко в конце концов все-таки сядет на трон, — например, если бы его брат Кари умер, — он призовет тебя к ответу.
— Да, Повелитель, ведь Урко еще жив, и, как я слышал, собирает в горах новые армии; и, конечно, он призвал бы меня к ответу, — об этом я тоже слышал. Его Отец-Солнце тоже призвал бы меня к ответу, как сделал бы Инка — его наместник на земле.
Я спросил его, почему он не подумал обо всем этом раньше, когда он еще добивался желанных благ, а не теперь, когда он уже получил их от меня, и он ответил: — Потому, что тогда ему это еще не было достаточно ясно. Я сделал вид, что рассердился, и воскликнул:
— Ты плут, Ларико! Ты обещаешь и берешь плату, но не выполняешь обещания. Отныне я тебе враг, и притом такой, к словам которого прислушивается Инка.
— Еще больше он прислушивается к своему богу Солнцу и ко мне — голосу Неба, Белый человек, — ответил он и добавил наглым тоном: — Ты опоздал. Твоя власть надо мной и моей судьбой кончилась, Белый человек.
— Боюсь, что так, — сказал я, притворяясь испуганным, — так что не будем больше говорить об этом. В конце концов в Куско есть и другие женщины, кроме этой прекрасной невесты Солнца. А теперь, прежде чем ты уйдешь, Верховный жрец, просвети меня, ведь ты такой ученый. Я тут пытался освоить ваш метод передачи мыслей при помощи узлов. Вот здесь у меня клубок нитей с узелками, смысл которых я не совсем понимаю. Будь любезен, растолкуй мне, что они означают, о святейший и честнейший Верховный жрец!
При этом я достал из-под плаща те нити с узелками, которые я отобрал у его посланца, и приблизил их к его глазам.
Он уставился на них и побледнел. Его рука стала нащупывать кинжал, как вдруг он заметил, что моя рука покоится на рукоятке Взвейся-Пламя, и он сразу отказался от своего намерения. Затем у него возникла мысль, что я и в самом деле не умею читать эти знаки, и он принялся было расшифровывать их в ложном смысле.
— Прекрати, изменник! — засмеялся я. — Ведь я все понимаю. Значит, Урко может женится на Куилле, а я — нет? И не беспокойся больше о своем посланце, которого ты всюду разыскиваешь, ибо он под моей надежной охраной. Завтра я прикажу ему передать твое послание, но не Урко, а Кари, — и что тогда, предатель?
Тут Ларико, который, несмотря на суровое лицо и гордую осанку, был в душе трусом, дрожа, упал передо мной на колени и стал умолять меня о пощаде, ибо жизнь его — в моих руках. Он прекрасно знал, что, дойди это до ушей Кари, даже Верховный жрец не мог надеяться избежать кары за подобную измену.
— А что ты дашь мне, если я тебя прощу? — спросил я,
— Единственное, что ты согласишься взять, Повелитель, — леди Куиллу. Послушай, о Повелитель. За пределами города находится дворец Упанки, которого убил Урко. Там, в большом зале, сидит набальзамированный Инка, и никто не смеет войти туда, кроме Дев Солнца, задача которых в том, чтобы прислуживать великим умершим. Завтра за час до рассвета, когда все воины и слуги будут еще спать, я тебя проведу в этот зал, — только ты оденешься в платье жреца Солнца, чтобы тебя не узнали. Там ты найдешь лишь одну Деву Солнца — ту, которую ты ищешь. Возьми ее и уходи. Остальное зависит от тебя.
— А как я узнаю, что ты не устроишь мне ловушку, Ларико?
— Из того, что я буду там с тобой и таким образом разделю с тобой грех святотатства. Кроме того, моя жизнь будет в твоих руках.
— Да, Ларико, — ответил я сурово, — и помни, что если что-нибудь со мной случится, то вот это, — и я потряс перед ним нитями с узелками, — найдет дорогу к Кари, так же как и человек, которого ты собирался сделать своим послом.
Он кивнул и ответил:
— Будь уверен, что у меня лишь одно желание — это знать, что ты, Повелитель, и эта женщина, к которой ты, обезумевший, столь безумно рвешься, находитесь далеко от Куско, и я никогда больше не увижу вас.
Потом мы наметили время и место встречи и обсудили другие подробности, после чего он удалился, многократно кланяясь и улыбаясь.
Я подумал, что только что от меня вышел величайший мошенник, какого я когда-либо встречал — в Лондоне или в других местах — и подивился, какую западню он мне готовит, ибо в том, что он собирается поймать меня в западню, я был совершенно уверен. Почему же тогда я готов ринуться к ней? — спросил я себя. И ответил: по двум причинам. Во-первых: несмотря на то, что я всем сердцем жаждал увидеть Куиллу, прошли месяцы, а я все еще был так же далек от нее, как в день после разлуки в городе Чанка, — и преодолеть эту даль разлуки я мог только с помощью Ларико. Во-вторых, какой-то внутренний голос побуждал меня идти на все, на любой риск, иначе мы никогда больше не встретимся в этом мире. Да, так говорил мне внутренний голос, предупреждая меня, что если я не спасу ее сейчас, я не найду ее среди живых. Как говорил Хуарача, в Куско еще достаточно яда, и убийцу искать недалеко. Или сделает свое дело отчаяние. Или она покончит с собой, как это обещала вначале. Итак, я пойду на все, даже если мой путь приведет меня к роковому концу.
В этот день я переделал множество дел. Поскольку люди, среди которых я жил, считали меня великим полководцем и человеком — или богом, — меня окружали многие, кто поклялся мне служить и кому я доверял. Я послал за одним из них, принцем царской крови из рода матери Кари, и вручил ему нити с узелками, которые доказывали измену Ларико, велев ему, если со мной что-либо .случится или если меня не смогут найти нигде, передать их Инка от моего имени, а с ними и задержанного посла Ларико, который находился под его охраной, — но до этого не говорить ни слова ни об этих нитях с узелками, ни об арестованном. Он поклонился и поклялся Солнцем, что выполнит мое поручение, думая, вероятно, что, свершив свое дело в этой стране, я собираюсь вернуться в море, из глубин которого я поднялся, — ведь именно так поступают часто боги.
Затем созвал военачальников чанка, которые сражались под моим командованием во время гражданской войны, и из которых осталась лишь половина, и велел им собрать своих людей на той гряде холмов, где я стоял перед началом битвы на Кровавом Поле, и ждать там моего прихода. Если, однако, случится так, что я не появлюсь в течение шести дней, я приказал им вернуться в их страну и доложить Хуарача, что я «вернулся в море» по причинам, о которых он может догадаться. Я приказал также, чтобы восемь прославленных воинов, которых я перечислил по именам, — людей из личной» охраны, которые сражались плечо к плечу со мной во всех наших битвах и пошли бы за мной сквозь огонь и воду и даже в самый ад, — явились после наступления темноты во внутренний двор моего дворца и принесли бы с собой паланкин, переодевшись его носильщиками, но спрятав под плащами оружие.
Устроив это и другие дела, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустить меня в путь. Я ему сказал, что устал от столь многих сражений и желал бы отдохнуть среди моих друзей — чанка.
Некоторое время он пристально смотрел на меня, потом, наклонив в мою сторону скипетр в знак того, что моя просьба удовлетворена, сказал печально:
— Итак, ты хочешь покинуть меня, брат мой, потому что я не могу дать тебе того, что ты желаешь. Подумай хорошенько. В стране чанка ты не будешь ближе к Луне (он имел в виду Куиллу), чем здесь, в Куско; и здесь после Инка ты самый великий человек в Империи, известный под узаконенным титулом брата Инка и главнокомандующего его армией.
В ответ, хотя все во мне протестовало против лжи, я солгал ему, говоря:
— Моя Луна закатилась, так пусть пребудет в покое та, кого я больше никогда не увижу. А в остальном — узнай же, о Кари, что Хуарача назвал меня не братом своим, а сыном, и сейчас он болен, и, говорят, смертельно.
— Ты хочешь сказать, что скорее предпочел бы стать царем народа чанка, чем стоять у трона среди куичуа? — спросил он, всматриваясь в меня острым взглядом.
— Да, Кари, — ответил я, продолжая лгать. — Поскольку мне суждено жить в этой чужой стране, я бы предпочел быть в положении царя, не ниже.
— И ты имеешь на это право, брат, ты намного выше нас всех. Но что ты намерен делать, когда станешь царем? Будешь
ли ты стремиться победить меня и править всей Тавантинсуйу — что, возможно, в твоих силах?
— Нет, я никогда не стану воевать против тебя, Кари, разве что ты сам нарушишь свой договор с чанка и попытаешься покорить их.
— Чего я лично никогда не сделаю, брат.
Он помолчал с минуту и потом заговорил с большей страстью, чем я когда-либо в нем замечал:
— О, если б эта женщина, которая встала между нами, умерла! Если бы она никогда не появилась на свет! Поистине, я готов молить моего отца — Солнце, чтобы он взял ее к себе — может быть, тогда мы бы снова были вместе, как в старые времена там, в твоей Англии, и потом, когда мы бок о бок боролись с опасностями в море и в лесах. Будь проклята женщина-разлучница, и да падут проклятия всех богов на эту женщину, которую я не могу тебе отдать. Если бы она принадлежала к моему дому, я бы велел тебе увести ее — да будь она даже моей женой, но она — жена бога, и поэтому я не смею — увы! Я не смею, — и он закрыл лицо плащом и застонал. Услышав эти слова, я испугался: я слишком хорошо знал, что если Инка просит Солнце, чтобы женщина умерла, эта женщина умирает, и притом быстро.
— Не умножай несправедливости против этой женщины, лишая ее жизни, как лишили ее зрения и свободы, о Кари, — сказал я.
— Не бойся, брат, — ответил он, — я не причиню ей вреда. Ни одно слово не сорвется с моих уст, хотя я всем сердцем хотел бы, чтобы она умерла. Иди своим путем, брат и друг; и когда ты устанешь царствовать (если это тебе суждено), как, сказать по правде, уже устал я, возвращайся ко мне. Быть может, забыв, что мы когда-то были царями, мы отправились бы отсюда вдвоем на край света.
Потом он встал с трона и поклонился мне, целуя воздух, как перед богом, и, сняв с шеи царскую цепь, какую носит каждый Инка, надел ее на меня. Сделав это, он отвернулся, не сказав больше ни слова.
С тяжелым сердцем вернулся я к себе во дворец. На закате я поел, по своему обыкновению, и отослал слуг на их половину. Их было только двое, ибо моя частная жизнь была проста. Потом я лег и спал до полуночи.
Поднявшись, я вышел во внутренний двор, где нашел своих восьмерых военачальников-чанка, переодетых носильщиками и ждавших меня возле принесенного ими паланкина. Я отвел их в пустое помещение для стражников и велел им сидеть там, не разговаривая. После этого я вернулся к себе и стал ждать.
Часа за два до рассвета явился Ларико, постучавшись в боковую дверь, как мы договорились. Я открыл ему, и он вошел, одетый в плащ из овечьей шерсти с капюшоном, скрывавший его всегдашнюю одежду и лицо: такие плащи носят обычные жрецы в холодную погоду. Он принес мне одеяние жреца Солнца. Я надел его, хотя из-за его фасона мне пришлось, чтобы не выдать себя, обойтись без моих доспехов. Ларико настаивал на том, чтобы я снял с себя также меч Взвейся-Пламя, но, не доверяя ему, я этого не сделал, а незаметно спрятал и меч, и кинжал под жреческим плащом. Доспехи я завернул в ткань и тоже взял с собой.
Мы вышли, обменявшись скупыми словами, ибо время разговоров прошло, и опасность, а возможно, и страх перед тем, что может случиться, связали нам языки. В караульной будке ждали мои чанка, на которых Ларико взглянул с любопытством, но ничего не сказал. Им я отдал свои доспехи, чтобы они спрятали их в паланкине, а с ними и мой большой лук; предварительно я приподнял капюшон, показав им свое лицо. Затем я приказал им следовать за мной.
Ларико и я шли впереди, а за нами следом — восемь моих воинов: четверо несли паланкин, а другие четверо замыкали шествие. Это был остроумный план, поскольку если бы нас увидели, или если бы мы встретили стражников (так и случилось раз или два), нас приняли бы за жрецов, несущих больного или умершего к месту оказания помощи или погребения. Правда, однажды нас чуть не остановили, но Ларико произнес какое-то слово, и мы беспрепятственно пошли дальше.
Наконец в предрассветной мгле мы подошли к собственному дворцу покойного Упанки. У входа в сад Ларико попытался оставить здесь паланкин и восемь воинов чанка, переодетых носильщиками. Я отказался, говоря, что они должны быть у дверей дворца, и когда он стал упорствовать, я дотронулся до моего меча, свирепым шепотом предупредив его, чтобы он опасался, как бы ему самому не остаться у ворот. Тогда он уступил, и мы все прошли через сад к дверям дворца. Ларико открыл двери ключом, и мы вошли, он и я, ибо здесь я велел чанка ждать моего возвращения.
Мы пошли, крадучись, по короткому коридору, конец которого был задрапирован занавесями. Раздвинув их, я оказался в пиршественном зале Упанки. Единственная золотая лампа, свисающая с потолка, бросала вокруг тусклый свет. И я увидел нечто более удивительное и в своем роде более ужасное, чем все, что мне довелось видеть в этой необычной стране.
На возвышении в кресле из золота сидел мертвый Упанки во всем своем царском облачении и столь поразительно сохранившийся, что его можно было бы с первого взгляда принять за спящего; сбоку лежал его скипетр. Скрестив руки, он сидел, глядя в зал неподвижным и пустым взглядом, страшное воплощение жизни и смерти. Возле него и вокруг возвышения стояли и лежали все его богатства — вазы и мебель из золота, груды драгоценностей, которым предстояло оставаться здесь до той поры, когда крыша дворца обрушилась бы и погребла их под обломками, ибо даже храбрейший из людей не дерзнул бы наложить руку на эти освященные сокровища. В центре зала стоял стол, накрытый как бы для пирующих, ибо среди сияющих бриллиантами кубков и блюд были расставлены кушанья и вина, которые изо дня в день приносили сюда свежими Девы Солнца. Несомненно, это были не единственные чудеса, но других я не разглядел, возможно, потому, что до них не доходил свет лампы, так же, как до дверей, ведущих из зала в другие помещения. Но, главное, меня привлекло нечто другое, на что упал мой взгляд.
У подножья возвышения скорчилась фигура, которую я в первый момент принял за еще одного умершего, и тоже набальзамированного, — может быть, жену или дочь покойного Инка, которую поместили сюда, рядом с ним. Пока я смотрел на нее, фигура вдруг зашевелилась, возможно, услышав наши шаги, поднялась и повернулась так, что свет упал прямо на нее. Это была Куилла, вся в белом и пурпурном, с золотым изображением Солнца на груди!
Так прекрасна она была, всматриваясь в темноту большими невидящими глазами, в то время как ее пышные волосы струились из-под усеянной бриллиантами диадемы с золотыми лучами солнца, что у меня перехватило дыхание, и сердце мое остановилось.
— Вон та, кого ты ищешь, — пробормотал Ларико насмешливым шепотом, ибо здесь даже он, казалось, Не смел повысить голос. — Иди же и бери ее, ты, кого люди называют богом, а я называю пьяным глупцом, готовым рисковать всем ради женских губок. Иди, бери ее и
л испроси благословения твоим поцелуям у этого мертвого царя, чей священный покой ты нарушил.
— Замолчи, — прошептал я и, обойдя край стола, очутился лицом к лицу с Куиллой. И тогда странная немота овладела мной, подобно чарам или проклятью мертвого Упанки, и я не мог произнести ни Слова.
Я стоял, всматриваясь в прекрасные слепые глаза, и эти слепые глаза отвечали мне невидящим взглядом. Но вот проблеск понимания отразился на ее лице, и Куилла заговорила или, скорее, произнесла вполголоса, как будто про себя:
— Странно — но я готова поклясться! Странно, но мне показалось!.. О! Я уснула возле этого мертвого старика, который в жизни был таким глупым, а в смерти стал таким мудрым, и мне приснилось — мне приснилось, что я слышу шаги, которых уже никогда не услышу. Мне приснилось, что рядом со мной тот, кого никогда не коснется моя рука. Я хочу опять заснуть — что мне осталось в моей тьме? Сон или смерть?
Тут наконец я обрел дар речи и сказал хрипло:
— Осталась любовь, Куилла, и жизнь.
Она услышала и выпрямилась. Все ее тело, казалось, напряглось как будто в агонии радости. Слепые глаза вспыхнули, губы задрожали. Она протянула руку, нащупывая в темноте. Ее пальцы коснулись моего лба и быстро пробежали по моему лицу.
— Это…, мертвый или живой… это… — и она протянула ко мне руки.
О, что могло быть прекраснее на земле, чем вид слепой Куиллы, открывающей мне свои объятия — здесь, в этой обители смерти?
Мы обнялись и поцеловались. Оторвавшись от нее, я сказал:
— Скорее прочь из этого зловещего дома. Все готово. Чанка ждут.
Она сунула руку в мою, и я повернулся, чтобы ее увести.
В этот момент я услышал тихий издевательский смех, мне показалось — смех Ларико; услышал подбирающиеся ко мне крадущиеся шаги. Я всмотрелся. Из темноты, скрывавшей дверь помещения справа, возникла гигантская фигура, в которой я сразу узнал Урко, а за нею несколько других. Я взглянул налево — и там тоже были люди, а по другую сторону пиршественного стола стоял, издевательски смеясь, предатель Ларико.
— Ты сорвал ранние плоды, но похоже, что весь урожай соберет другой, Повелитель-из-Моря, — насмешливо сказал он.
— Держите ее, — закричал Урко гортанным голосом, указывая на Куиллу своим жезлом. — И размозжите голову этому белому вору.
Я выхватил Взвейся-Пламя и устремился к нему, но с обеих сторон на меня бросились люди. Одного я успел сразить, но другие схватили Куиллу и понесли ее прочь из зала. Меня окружили тесной толпой, так что я не мог орудовать мечом, и над моей головой уже сверкнул кинжал. Меня вдруг осенила мысль: за дверьми — мои чанка. Я должен пробиться к ним, тогда Куиллу еще можно спасти. Передо мной был стол, накрытый для пиршества смерти. Одним прыжком я вскочил на него, громко крича и разбрасывая утварь. Я увидел Ларико, устроившего мне ловушку, — бросился к нему и, подняв Взвейся-Пламя обеими руками, изо всех сил нанес ему удар. Он упал — мне показалось, рассеченный сверху до пояса. В этот момент чье-то копье, запущенное в меня, попало в лампу.
Она разлетелась вдребезги и погасла.
ГЛАВА XII. НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ
В зале началось смятение: крики, стоны того, кого я сразил первым, звон падающих ваз и сосудов, и над всем этим крики женщины, отдававшиеся эхом от стен и крыши, так что я не мог понять, с какой стороны они доносятся.
В темноте я пробрался к закрывающим вход занавесям — по крайней мере, я надеялся, что ориентируюсь правильно. В этот момент они распахнулись, и при свете занимавшейся зари я увидел моих восьмерых чанка, устремившихся мне на помощь.
— За мной! — крикнул я и, сопровождаемый ими, ощупью вернулся в зал, ища Куиллу.
Я споткнулся о труп Ларико и нащупал край стола. Вдруг за возвышением, где еще совсем недавно сидел мертвый Упанки, распахнулась дверь, и я увидел спины покидающих зал похитителей Куиллы. Мы перебрались через возвышение, где лежал опрокинутый золотой стул, а рядом с ним в неподвижной, неудобной позе лицом вверх — набальзамированный Упанки, уставившись на меня бриллиантовыми глазами.
Мы достигли двери, которую, к счастью, никто не подумал запереть, и очутились в саду, или в парке. Шагах в ста впереди при свете разгорающейся зари я увидел мелькающий среди деревьев паланкин, окруженный вооруженными людьми, и понял, что в нем уносят Куиллу, которую ждет рабство и позор.
Мы бросились вслед за ними. Они прошли в ворота и вышли за пределы парка, но когда мы добежали до этих ворот, они оказались заперты на засов, и мы потеряли какое-то время, прежде чем нам удалось при помощи срубленного дерева, лежавшего поблизости, сломать их. Когда мы оказались снаружи, на востоке появился краешек солнца, и сквозь утренний туман, цеплявшийся за»окрестные холмы, мы увидели паланкин уже в полумиле от нас. Мы двигались вверх по склону, сокращая разделявшее нас расстояние, — ведь нас не обременяла никакая ноша, кроме моих доспехов, которые нес один из чанка вместе с моим длинным луком и стрелами.
В одном месте между этим холмом и соседним было ущелье из тех, что часто встречаются в этой стране, — ущелье столь глубокое и узкое, что местами дневной свет едва попадает на тропу, бегущую внизу. В это ущелье и свернули несущие паланкин и тотчас исчезли из виду. Приблизившись, мы обнаружили, что вход в ущелье преграждают вооруженные люди Урко, человек шесть или более. Взяв у моего воина лук, я быстро спустил стрелу. Тот, в кого я целился, упал. Я снова выстрелил, и еще один упал наземь, а остальные поспешно укрылись за глыбами камней.
Отдав чанка лук и стрелы, ибо теперь они были бесполезны, я повел своих людей в атаку. Схватка скоро кончилась, ибо все, кого Урко оставил защищать вход в ущелье, были убиты, кроме одного, который, будучи отрезан от ушедшего вперед отряда, повернулся и бросился бежать вниз по склону в направлении города, несомненно, чтобы сообщить о том, что произошло во дворце мертвого Инка Упанки.
Мы вступили во мрак ущелья. К счастью, оно было обращено к востоку, так что солнце, которое уже взошло, но было еще низко, освещало наш путь — еще бы немного, и оно, поднявшись, уже сюда бы не проникло.
Я всегда был хорошим бегуном, а сейчас от ярости и страха за Куиллу у меня словно выросли крылья, и я опередил своих товарищей. Стремительно обогнув лежавшего на пути каменную глыбу, я увидел впереди паланкин — до него оставалось не более ста ярдов. Он приостановился, потому что, как мне показалось, один или несколько носильщиков споткнулись о камни и упали. Я ринулся на них с громким криком. Возможно, было бы разумнее подождать своих спутников, но я словно обезумел и ничего не боялся. Они увидели меня и подняли крик:
— Белый бог! Грозный Белый бог!
Охваченные страхом, они обратились в бегство, оставив паланкин на земле. Да, все они бежали — кроме одного: самого Урко.
Он стоял, вращая глазами и скрежеща зубами, огромный и страшный в полумраке ущелья, как будто сам дьявол вышел из ада. Вдруг какая-то мысль пришла ему в голову, и, подскочив к паланкину, он отдернул занавеси и рывком вытащил оттуда Куиллу, которая, не удержавшись, упала навзничь.
— Если не мне, то и не тебе, белый вор! Гляди — я возвращаю Солнцу его невесту! — закричал он и поднял над ней свой медный нож, готовясь пронзить ее насквозь.
Я был еще в десяти шагах от нее и видел, что, прежде чем я добегу до него, его клинок будет у нее в сердце. Что же делать? О, Святой Хьюберт, — должно быть, это он помог мне, ибо я понял, что мне делать в эту минуту. Взвейся-Пламя был у меня в руке, и, собрав все силы, я швырнул его в голову Урко.
Грозный клинок со свистом прорезал воздух. Я видел, как на нем вспыхнул луч солнца. Урко хотел отскочить в сторону, но слишком поздно: мой меч ударил его по руке, которую он поднял, защищая голову, и срезал два пальца, так что он выронил свой меч. В следующий миг, все еще крича, — как, несомненно, кричал мой предок Торгриммер, сражаясь не на жизнь, а на смерть (ибо нет ничего сильнее родственной крови), — я бросился на великана Урко. Теперь и он, и я были безоружны. Мы схватились врукопашную. Он был могучим борцом, но в эту минуту мои силы удесятерились. Я бросил его наземь, использовав известный мне сассекский прием, и мы покатились друг через друга. В какой-то момент он оказался наверху и, думаю, задушил бы меня, если бы не потеря двух пальцев.
Мощным усилием я сбросил его, и теперь мы лежали рядом. Он ощупью искал нож — я не видел, но знал это. У его головы на тропе возвышался острый камень высотой примерно с кисть человеческой руки, Я заметил это и решил, что я сделаю, если хватит сил. Я приподнялся, и когда он наконец нащупал свой нож и попытался меня атаковать, оцарапав мне лицо, мне удалось так его оттолкнуть, что его бычья шея оказалась на этом камне. Я высвободил руку и схватил его за волосы. Я прижал его большую голову, давя на нее изо всех сил, и что-то хрустнуло под моей рукой.
Это был перелом шеи. Урко содрогнулся — и умер!
Я лежал рядом с ним и тяжело дышал. До меня донесся голос оттуда, где, сжавшись в белый комок, лежала на земле та, рядом с которой и ради которой происходил этот страшный поединок, — голос Куиллы:
— Один из двух умер, но кто жив?
Я не мог отвечать — не хватало дыхания. Силы меня оставили. Все же я кое-как приподнялся и сел, опираясь на руку и надеясь, что они вернутся. Куилла повернулась ко мне лицом, — вернее, не ко мне, а в ту сторону, откуда ей послышался шорох моего движения, и я с болью подумал, как печально, что она слепа. Но вот она снова заговорила, и теперь ее голос дрогнул:
— Я вижу, кто остался в живых, — сказала она, — Что-то случилось с моими глазами, и, Повелитель и любовь моя, я вижу — это ты, ты жив! И — о, ты весь в крови!
В этот момент появились чанка и нашли нас.
Они посмотрели на мертвого великана и поняли, что он убит не мечом, а физической силой; и, глядя на него, они опустились передо мной на колени и стали восхвалять меня, говоря, что я действительно бог, ибо ни один человек не мог бы совершить этого подвига — убить огромного Урко голыми руками. Потом они усадили Куиллу в паланкин, и шесть человек подняли его и понесли по этому мрачному ущелью. Двое оставшихся поддерживали меня, пока ко мне не вернулись силы. Дойдя до выхода из ущелья, мы стали совещаться, как быть дальше.
Вернуться в Куско после того, что я совершил, значило бы идти навстречу смерти. Поэтому мы взяли вправо и, сделав круг, пришли, не встретив на дороге никаких препятствий, к той гряде холмов, откуда мы начали битву на Кровавом Поле. Там, разбив лагерь, меня ждали по моему приказу около трех тысяч чанка. Когда они увидели, что я жив и почти невредим, они закричали от радости, а узнав, кто в паланкине, просто обезумели от восторга.
Потом восемь воинов, бывших со мной, рассказали им все, как было, — как я спас Куиллу и убил Урко-гиганта голыми руками; и тогда ко мне сбежались военачальники и, целуя мои ноги, говорили, что воистину я бог, хотя до этого некоторые считали меня только человеком.
— Бог или человек, — сказал я, — но я жажду отдыха. Велите женщинам позаботиться о леди Куилле и принесите мне еду и питье, а потом я должен выспаться. На закате тронемся в обратный путь, к вашему и моему царю Хуарача, и вернем ему дочь. До вечера нам нечего бояться: у Кари под рукой нет войска, чтобы атаковать нас. Но на всякий случай все-таки выставите часовых.
Вскоре я уже ел и пил, — боюсь, что больше второе, чем первое, а потом лег спать и заснул, как убитый, ибо последние события меня совершенно измотали.
За час до захода солнца меня разбудили военачальники и доложили, что за линией лагеря идет посольство из Куско, всего десять человек, которые просят разрешения говорить со мной. Я встал, и после того как обмыли и перевязали мои раны, мне принесли воды, облили мое тело и натерли маслом; и тогда, одетый как знатный чанка и без доспехов, я вышел с девятью военачальниками, чтобы принять посольство на равнине у подножия холма, на том самом месте, где я впервые схватился с Урко.
При нашем приближении из группы послов выступил вперед один человек. Я взглянул на него и увидел, что это Кари; да, это был сам Инка.
Я пошел ему навстречу, и мы поговорили, оставаясь вне пределов слышимости для сопровождавших нас лиц.
— Брат мой, — сказал Кари, — я узнал обо всем, что произошло, и я воздаю тебе хвалу, самому смелому из людей и первому среди воинов; тебе, уничтожившему Урко голыми руками.
— И таким образом обеспечившему тебе трон, Кари,
— И таким образом обеспечившему мне трон. Так же за то, что ты убил Ларико в смертном доме моего отца Упанки…
— И тем самым избавил тебя от предателя, Кари.
— И тем самым избавил меня от предателя, как я узнал тоже благодаря тебе, ибо твой человек вручил мне нити с узелками, а задержанный тобой шпион рассказал все подробно. Повторяю — ты самый смелый среди людей и первый среди воинов. Почти бог, как называет тебя мой народ.
Я поклонился, и после небольшой паузы он продолжал:
— Если бы это было все, о чем я должен сказать тебе! Но увы! Это не все. Ты совершил великое святотатство против моего отца — Солнца, несмотря на все мои предупреждения, — ты похитил у него его невесту, — и ты, мой брат, солгал мне, сказав только вчера, что ты выбросил из головы все мысли о ней.
— Для меня это не было святотатством, Кари, скорее праведным делом — освобождением женщины от оков веры, которую не принимаем ни она, ни я, и возвращением ее из живой могилы к жизни и любви.
— А ложь тоже была праведным делом, брат?
— Да, — ответил я смело, — если ложь вообще может быть праведной. Подумай. Ты молился о том, чтобы эта леди умерла, ибо она встала между тобой и мной; а те, о чьей смерти молятся цари, действительно умирают, даже если не по их прямому приказу. Вот я и сказал, что выбросил ее из головы — чтобы она осталась жить.
— Чтобы ласкать тебя в своих объятьях, брат. А теперь слушай. Мы с тобой были больше чем друзья, но из-за твоего поступка стали больше чем враги. Ты объявил войну моему богу и мне, поэтому я объявляю войну тебе. Нет, слушай дальше. Я не желаю, чтобы из-за нашей ссоры погибли тысячи людей. Поэтому предлагаю тебе следующее: чтобы тут же, не сходя с места, ты сразился со мной один на один, и пусть Солнце или Пачакамак решат исход этого боя.
— Сражаться с тобой! Сражаться с тобой, Кари, — о, Инка!
— Да, сражаться не на жизнь, а на смерть, ибо между нами все кончено раз и навсегда. В Англии ты заботился обо мне. Здесь, в стране Тавантинсуйу, которой я сегодня правлю, я заботился о тебе, и в моей тени ты достиг величия, хотя — если говорить правду — не будь ты во главе армии, не было бы уже ни меня, ни моей тени. Поэтому будем думать только о том, что встало между нами, и, забыв все, что соединяло нас в прошлом, станем лицом к лицу, как враги. Может быть, ты победишь меня, ведь ты такой великолепный воин. Может быть, если это случится, мой народ, который считает тебя полубогом, возведет тебя на трон Инка, если таково будет твое желание.
— Никогда! — прервал я его.
— Верю тебе, — ответил он, наклонив голову, — но не пожелает ли этого та прекрасноликая распутница, которая предала нашего бога — Солнце?
При этих словах я вздрогнул и закусил губы.
— Ага, тебя это уязвило, — продолжал он, — правда ведь кусается, и это хорошо. Пойми, Белый Повелитель, бывший некогда мне братом, что либо ты сразишься со мной не на жизнь, а на смерть, либо я объявлю тебе войну, тебе и народу чанка, и буду воевать месяц за месяцем, год за годом, пока вы все не будете уничтожены, в этом можешь не сомневаться. Но если мы сразимся в поединке, и Солнце пошлет мне победу, — тогда справедливость восторжествует, и я сдержу клятву о мире, которую я дал народу чанка. Далее, если победишь ты, то клянусь именем моего народа, между ним и чанка будет мир, поскольку я смою грех твоего святотатства своей кровью. А теперь позови своих приближенных, а я позову своих, и сообщим наше решение.
Я повернулся и знаком подозвал своих вождей, а Кари позвал своих. В присутствии всех очень спокойно и четко, как ему было свойственно, он повторил слово в слово то, что сказал мне, добавив еще несколько слов в том же духе. Пока он говорил, я не очень вслушивался в его речь. Я думал.
Весь этот план был мне ненавистен, но я оказался в западне: по законам всех этих народов, я не мог не ответить на такой вызов, не покрыв себя позором. Более того, народу чанка, да и народу куичуа тоже, было выгодно, чтобы я его принял, ибо независимо от того, кто бы победил в этом поединке, мир между обоими народами не был бы нарушен, в то время как мой отказ от поединка ввергнул бы их в кровопролитную и разрушительную войну. Я вспомнил, как некогда Куилла пожертвовала собой, чтобы предотвратить подобную войну (хотя потом война все же вспыхнула); разве я не должен теперь сделать то, что сделала тогда Куилла? Несмотря на сильную усталость, я не боялся Кари, каким бы смелым и стремительным он ни был. Я даже подумал, что мог бы убить его и занять его трон, поскольку куичуа, чьи армии я не раз приводил к победе, преклонялись передо мной почти так же, как и чанка. Но не мог я убить Кари. Это было бы равносильно убийству единоутробного брата. Так неужели нет никакого выхода?
Мысль подсказала ответ. Выход есть. Я могу дать Кари убить себя. Но если я это сделаю, что будет с Куиллой? После всего, что произошло, должен ли я так жестоко потерять Куиллу, а Куилла — меня? Конечно, это разбило бы ей сердце, и она умерла бы. Мое положение было отчаянным. Я не знал, что делать. И пока я колебался, мне вдруг почудилось, будто какой-то голос шепчет мне на ухо — я подумал, что это, должно быть, голос Св. Хьюберта. И как будто он говорит мне: «Кари доверился своему богу, почему же ты, Хьюберт из Гастингса, христианин, не можешь довериться своему? Иди вперед и доверься своему богу, Хьюберт из Гастингса».
Мягкий голос Кари умолк: он закончил свою— речь, и все взгляды обратились ко мне.
— Ваше решение? — спросил я кратко у своих воинов.
— Только одно, Повелитель, — отвечал их предводитель. — Сразиться ты должен, это несомненно, но мы будем драться с тобой вместе — десять чанка против десяти куичуа.
— Вот это правильно, — ответил первый из свиты Кари. — Это дело слишком важное, чтобы поставить его в зависимость от ловкости и силы одного человека.
— Отставить! — сказал я. — Этот спор между Инка и мной, — и Кари кивнул и повторил за мной:
— Отставить!
Тогда я послал одного из военачальников в лагерь за моим мечом, а Кари приказал своему военачальнику принести, ему меч, ибо, по обычаю этих людей, послы обеих сторон во время переговоров не имеют при себе оружия. Вскоре мой воин вернулся, неся мой меч, а несколько слуг принесли мои доспехи. Весть о предстоящем поединке уже разнеслась, как пламя по ветру, по всей армии чанка, и они все сбежались и выстроились на гряде холмов, чтобы наблюдать за происходящим. Я заметил, что воин, принесший Взвейся-Пламя, наточил его особым камнем, который использовался для точки оружия.
Он принес этот древний меч и, преклонив колено, вручил его мне. Воин Инка тоже принес его меч и подал его ему, по обычаю, поклонившись до земли. Я хорошо знал этот меч, ибо однажды он уже угрожал мне в моей отчаянной битве за жизнь. Это был тот самый меч с рукояткой из слоновой кости, который Кари взял из мертвой руки лорда Делеруа, после того как я убил его в моем доме на Чипсайд, в Лондоне. Слуга поднес мне и доспехи, но я отослал их и его прочь, говоря, что поскольку у Инка нет доспехов, мне они тоже не нужны. Это вызвало ропот моей свиты.
Кари видел и слышал.
— Благороден, как всегда, — сказал он громко. — О, сколь прискорбно, что такое чистое, яркое чувство чести помутнело от дыхания женщины!
Наши военачальники обсудили условия поединка, но я не очень вникал в то, что они говорили.
Наконец все было готово, и мы заняли свои места друг против друга, ожидая слова команды. На нас была почти одинаковая одежда. Я сбросил плащ с капюшоном и остался с непокрытой головой, в куртке из мягкой оленьей кожи. Кари тоже скинул свое богатое верхнее одеяние и остался в тунике из овечьей кожи. Чтобы быть уж совсем на равных, он снял также похожий на тюрбан головной убор и даже царскую Бахрому, отчего его воины обменялись тревожными взглядами, сочтя это дурным предзнаменованием.
Именно в это мгновение я услышал позади какие-то звуки и, оглянувшись, увидел Куиллу; спотыкаясь, она бежала вниз по склону каменистого холма, спеша к нам, насколько позволяли ей ее полуслепые глаза, и восклицала:
— О, мой Повелитель, остановись! О, Инка, я вернусь в Дом Солнца!
— Замолчи, проклятая женщина! — нахмурившись, сказал Кари. — Разве Солнце принимает обратно таких, как ты? Молчи, пока не закончится вызванное тобой злополучное дело, а потом вопи сколько хочешь.
Она вся сжалась от этих жестоких, несправедливых слов и с помощью женщин, которые прибежали следом за ней, опустилась на камень, где и осталась сидеть, неподвижная как статуя или как мертвый Упанки в своем зале.
Затем были провозглашены условия поединка и обещания, данные Кари. Он выслушал их и добавил:
— Да будет известно также, что мы будем биться да тех пор, пока один из нас не умрет, ибо если мы останемся живы, я возьму свои клятвы обратно, и я сожгу эту ведьму как жертву Солнцу, которому она изменила, и уничтожу ее народ и ее страну, следуя древнему закону отмщения дому тех, кто обманул Солнце.
Я слышал его, но ничего не ответил. Я не желал тратить слова, пререкаясь с великим человеком, ум которого извратили фанатизм и женоненавистничество.
Спустя мгновение подали сигнал, и схватка началась. Кари прыгнул на меня, как лев из его родных лесов, но я уклонился и парировал удар. Трижды он бросался на меня, и трижды я повторил этот же прием; да, даже тогда, когда он промахнулся, и я мог бы сразить его одним ударом, Я уже поднял меч — и не смог. Чанка следили за мной, удивляясь, что за игру я затеял, — они никогда не видели, чтобы я сражался столь странным образом; я же сам все еще не знал, как мне поступить. Что-то я должен предпринять, иначе я очень скоро буду убит, ибо моя бдительность ослабевает, и меч Делеруа наконец попадет в цель.
Я думаю, Кари был озадачен тем, что я с таким терпением защищаюсь и ни разу не нанес ответного удара. По крайней мере, он на миг остановился, но затем ринулся на меня, подняв меч высоко над головой и намереваясь сразить меня, застав врасплох, — так, во всяком случае, мне показалось. И тогда я вдруг понял, что надо делать. Схватив Взвейся-Пламя обеими руками, я размахнулся изо всех сил и ударил им — не Кари, а по рукоятке его меча. Острая и древняя сталь, которую, вполне возможно, некогда ковали легендарные гномы Скандинавии, обрушилась на рукоятку из слоновой кости и, как я и надеялся, перерезала ее надвое, так что клинок меча Кари упал на землю, а самую рукоятку выбило у него из руки.
Его воины, увидев это, громко застонали, а чанка разразились радостными криками, ибо теперь Кари лишился оружия, и эта битва не на жизнь, а на смерть закончилась — если что и оставалось, то лишь сама смерть.
Кари скрестил на груди руки и склонил голову.
— Такова воля моего бога, — сказал он, — и я поступил глупо, доверившись мечу злодея, которого ты убил. Рази, победитель, и кончим это.
Я оперся на меч Взвейся-Пламя и спросил:
— Если я отступлюсь, о Инка, ты возьмешь свои слова обратно и сохранишь мир между твоим народом и чанка?
— Нет, — ответил он. — Что сказано, то сказано. Если эта лживая женщина будет предана участи тех, кто изменил Солнцу, наши народы станут жить в мире, но не иначе, — ибо пока я жив, я буду воевать с ней и с тобой, и с народом чанка, который защищает вас обоих.
Тут меня охватила ярость — я представил себе, что пока жив этот женоненавистник, кровь будет литься ручьями, но если он умрет, наступит мир, и Куилла будет спасена. Я приподнял свой меч, но в этот момент Куилла, привстав с камня, воскликнула:
— О, Повелитель, не проливай кровь из-за меня, священную кровь Инка! Откажись от меня! Откажись от меня!
И тогда меня словно осенил какой-то дух, и я сказал:
— Леди, половину твоей просьбы я исполню, но вторую половину отвергаю. Я не пролью крови Инка, как не пролил бы твоей крови. Но тебя я не выдам — ты ни в чем не виновата: ведь это я тебя похитил, сделав то, что хотел сделать Урко. Кари, слушай меня; ты не раз говорил мне, когда мы были в опасности, что мы должны полагаться на богов, которым поклоняемся. Теперь опять я следую твоему совету и полагаюсь на Бога, в которого я верю. Ты грозишь собрать все силы своей могучей Империи и из-за своих убеждений, которые я считаю суевериями, уничтожить народ чанка до последнего младенца и сравнять их город с землей до последнего камня. Я не верю, что Бог, которому я поклоняюсь, допустит это, хотя и не знаю, каким образом он отведет от нас твою месть. Кари, великий Инка Тавантинсуйу, Повелитель всего этого странного нового мира! Я, Белый Странник из моря, дарю тебе жизнь и спасаю тебя, как когда-то спас тебя в далекой стране, и вместе с жизнью даю тебе мое благословение во всех делах, кроме этого одного. Кари, брат мой, посмотри на меня в последний раз и ступай с миром.
— Благороднейший из людей, — сказал он, поднявшись. — Я преклоняюсь перед тобой. Я бы хотел взять обратно свою клятву, но не могу, потому что мой бог ожесточил мое сердце и послал бы гибель моему народу. Может быть, Тот, кому служишь ты, направит ход вещей так, как ты предсказываешь, — так же, как Он, видимо, повелел, чтобы я повергся в прах перед тобой. Я надеюсь, что так и будет; я не люблю вида крови, но должен следовать своим путем, как спущенная с тетивы стрела, гонимая силой, давшей ей движение. Брат мой, чтимый и любимый, прощай! Будь счастлив в жизни и смерти, и, может быть, в смерти мы снова встретимся и опять станем братьями — там, где нас уже не разлучат никакие женщины.
Потом Кари повернулся и пошел, поникнув головой, сопровождаемый своими приближенными, которые последовали за ним печально, словно воины, провожающие мертвое тело, — но не раньше, чем они отдали мне честь, которую отдают только Инка в зените его величия и славы.
ГЛАВА ХIII. ПОЦЕЛУЙ КУИЛЛЫ
Женщины унесли потерявшую сознание Куиллу прочь с этого рокового поля, и всю дорогу до города Чанка ее не покидали слабость и печаль. Однако зрение ее все время улучшалось, так что к концу нашего путешествия она уже видела столь же хорошо, как и прежде, за что я горячо возблагодарил Небо.
Я послал вперед вестников, так что, когда мы приблизились, весь народ чанка вышел нам навстречу — великое множество людей, которые разбрасывали перед нами цветы и пели песни радости. В тот же вечер меня вызвал Хуарача. Я понял, что передо мной умирающий. У его ложа в присутствии его главных военачальников Куилла и я рассказали ему обо всем, что с нами было. Он слушал, не проронив ни слова. Когда мы кончили, он сказал:
— Благодарю тебя, Повелитель-из-Моря, за то, что ты, несмотря на все препятствия, спас мою дочь и привел ее обратно столь же чистой, как прежде, чтобы она могла со мной проститься. Теперь я понимаю, как порочна была политика, заставившая меня обещать ее в жены принцу Урко. Благодаря твоей доблести дело кончилось ничем, и я рад. Но впереди тебя и мой народ ждут большие опасности. Встреть их по-своему и как сможешь: ведь отныне, Повелитель-из-Моря, это твой народ, твой и моей дочери, ибо мои желания и воля в том, чтобы вы поженились, как только меня положат рядом с моими предками. Возможно, было бы лучше, если б ты убил Инка, когда он был в твоих руках, но человек идет тем путем, каким ведет его дух. Да будет на вас и на ваших детях мое благословение и благословение моих богов. Ступайте же! Я больше не в силах говорить.
В ту же ночь царь Хуарача умер.
Спустя три дня его похоронили под плитами пола в Храме Луны. Его не бальзамировали и не оставили на поверхности в отличие от традиций Инка.
В последний день траура был созван совет всех знатных людей страны числом в несколько сот; пригласили и меня. Это было сделано от имени Куиллы, которая теперь носила титул, означавший «Высокая госпожа», или «Царица». Я шел туда, сгорая от нетерпения, так как не видел ее с той ночи, когда умер ее отец: по обычаю ее народа, она провела весь период траура наедине со своими женщинами.
К моему удивлению, меня провели не в большой зал, где, как я знал, уже собиралась знать, а в то самое небольшое помещение, где я впервые говорил с Хуарача, отцом Куиллы. Здесь меня оставили одного. Пока я гадал, что бы это значило, я вдруг услышал шорох и, подняв глаза, увидел Куиллу: она стояла на пороге, раздвинув портьеры, словно портрет в раме. Она была в царском облачении, с эмблемой луны на лбу и на груди, так что казалось, будто она вся светится и сверкает в полумраке комнаты, но ничто на ней не сияло так, как сияли ее большие, прекрасные, как у лани, глаза.
— Привет тебе, мой Повелитель, — сказала она мягким голосом, приседая в знак почтения. — Хочет ли мой Повелитель сказать мне что-нибудь? Если да, то поспеши, так как Большой Совет ждет.
Я вдруг словно поглупел, и у меня отнялся язык, но наконец, заикаясь, я произнес:
— Ничего, кроме того, что уже говорил, — я тебя люблю.
Она слегка улыбнулась, потом спросила:
— Ничего не добавишь?
— Что можно добавить к любви, Куилла?
— Не знаю, — ответила она, продолжая улыбаться. — Все же чем кончается любовь мужчины и женщины?
Я покачал головой и сказал:
— Многими вещами, и все разными. Иногда адом, реже — раем.
— А на земле между тем и другим, если любящим удалось избежать смерти и разлуки?
— Ну, на земле — браком.
Она снова взглянула на меня, и на этот раз в ее глазах засиял какой-то новый свет, в значении которого я не мог ошибиться.
— Ты хочешь сказать, что выйдешь за меня, Куилла? — пробормотал я.
— Таково было желание моего отца, но чего желаешь ты? О, довольно! — продолжала она изменившимся голосом. — Ради чего мы терпели все эти злоключения и прошли через долгую разлуку и такие ужасные опасности? Разве не для того, чтобы, если Судьба пощадит нас, наконец соединиться? И разве не пощадила нас Судьба на какое-то время? Какое пророчество было мне в Храме Римака? Разве не то, что Солнце будет мне защитой, и — забыла остальное…
— Зато я помню, — сказал я. — Что наконец уснешь ты в объятиях любимого.
— Да, — продолжала она, и краска прилила к ее щекам, — что наконец я усну в объятиях любимого. Итак, первая часть пророчества сбылась.
— Так же сбудется и вторая, — подхватил я, будто проснувшись, и, обняв, прижал ее к груди.
— Ты уверен, — прошептала она, — что любишь меня — женщину, которую считаешь дикаркой, — настолько, чтобы жениться на мне?
— Даже больше, чем уверен, — ответил я.
— Послушай, Повелитель. Я всегда это знала, но, как женщина, хотела услышать это из твоих уст. Будь уверен, что хоть я всего лишь своевольная, неученая девушка, ни один мужчина никогда не будет иметь более верной и любящей жены. Я надеюсь даже, что моя любовь будет такой, что ты наконец забудешь — хотя бы на час — ту, другую женщину, которая когда-то была твоей.
Я содрогнулся, словно от укола клинка, ибо что бы ни говорили о первой любви, она — как Куилла догадалась или научилась у самой Природы — нелегко забывается, и даже если она умерла, ее дух является и преследует нас.
— А я надеюсь, что ты будешь моей, и не на час, а на всю жизнь, — ответил я.
— Да, — сказала она со вздохом, — но кто знает, сколько еще продлится наша жизнь? Будем же срывать цветы, пока они не увяли, Слышишь, сюда идут? Это за нами. Пожалуйста, войди в зал Совета рядом со мной и держи меня за руку. Я хочу сказать кое-что этим людям. Тень Инка Кари, которого ты пощадил, все еще лежит на нас и на них, окружая нас холодом.
Прежде чем я успел спросить, что она имеет в виду, вошли трое вельмож и, взглянув на нас с любопытством, сообщили, что все уже собрались. Потом они повернулись и пошли впереди нас в большой зал, где уже все сидели на своих местах. Рука об руку мы поднялись на возвышение, и при нашем появлении весь зал поднялся и приветствовал нас радостными криками.
Куилла села на трон и знаком пригласила меня сесть на второй трон, рядом с ней, который, как я заметил, был несколько выше: позже я узнал, что это не было случайностью. Так было задумано специально, чтобы показать народу чанка, что отныне я — их царь, а она — лишь моя жена.
Когда приветственные крики стихли, Куилла встала и начала говорить. Как многие представители высшего класса, она была весьма красноречива.
— Господа и воины народа Чанка, — сказала она, — поскольку мой покойный отец, царь Хуарача, не оставил после себя законного сына, я унаследовала его титул и полномочия и созвала вас сюда, чтобы посоветоваться с вами.
— Прежде всего узнайте, что я, ваша царица и госпожа, избрана в жены тем, кто сидит рядом со мной.
Тут все собрание снова разразилось криками, показывая таким образом, что это известие пришлось им по душе. Ибо несмотря на то, что теперь лишь простой народ верил в то, что я бог, поднявшийся из моря, все считали меня великим полководцем и великим человеком, который знал много такого, чего они не знали, и умел руководить и сражаться лучше, чем лучшие из них. В самом деле, с тех пор как я своими руками убил Урко и одолел Кари, который, как Инка, был, по общему мнению, наделен мощью Солнца и потому непобедим, считалось, что равного мне нет во всей Тавантинсуйу. К тому же армия, которая сражалась под моим командованием, любила меня так, будто я был их отцом, а не только полководцем.
Поэтому все встретили сообщение Куиллы с одобрением, хотя и не удивились, зная, что этот брак был желанием их покойного царя, и что я прошел через многое, чтобы завоевать его дочь.
В ответ на их приветственные крики я тоже поднялся с места и, вынув из ножен меч Взвейся-Пламя, которым был опоясан поверх моих доспехов, носивших отпечатки недавних битв, отдал им честь сначала Куилле, а затем собравшимся в зале.
— Знатные люди Чанка, — сказал я, — когда на морском берегу на острове мой взгляд упал на эту леди, которая сегодня стала вашей царицей, я полюбил ее и поклялся, что женюсь па ней, если это возможно. Между тем днем и сегодняшним произошло много событий. Ее от нас увезли, чтобы отдать в жены Урко, наследнику престола, которого она ненавидела, и чтобы избежать этого брака, она укрылась в доме бога Инка. Тогда, люди чанка, вспыхнула большая война, в которой мы с вами сражались плечо к плечу, и в конце концов я спас ее из плена и убил Урко в тот момент, когда он пытался ее похитить. После этого я победил Инка Кари, который был моим названным братом, но из-за того, что я спас вашу госпожу от его бога — Солнца, стал моим врагом; и вдвоем мы — она и я — вернулись сюда, в ее страну. Теперь ее желание — выйти за меня замуж, так же как мое желание — жениться на ней. И здесь, в присутствии всех вас я беру ее в жены, так же, как она берет меня в мужья. Надеюсь, что нам дано многие годы править вами, а после нас — нашим детям. Однако должен предупредить вас: хотя в минувшей великой войне, несмотря на большие потери, мы выстояли против всех полчищ Куско и завоевали почетный мир, этот мир будет нарушен из-за нашего брака, лишившего бога Инка одной из его тысячи невест. Поэтому в будущем, как и в прошлом, между народами куичуа и чанка будет война.
— Знаем! — вскричали собравшиеся. — Если суждено быть войне, пусть будет война!
— Что, по-вашему, я должен, был сделать? — продолжал я, — Оставить вашу госпожу томиться в Доме Солнца, обвенчанной с пустотой, или допустить, чтобы ее похитили оттуда и превратили в одну из женщин Урко, или, наконец, вернуть ее Кари, чтобы он убил ее как жертву богу, которого вы не принимаете?
— Нет! — закричали они. — Мы хотим, чтобы она обвенчалась с тобой,
Белый-Повелитель-из-Моря, и стала матерью царей.
— Так я и думал, Чанка. Однако предупреждаю вас, что беда не за горами. Собирается буря, и недалек день, когда она грянет, ибо Кари не из тех, кто нарушает свои клятвы.
— Почему ты не убил его, когда он был у тебя в руках, и не занял его трон? — спросил один из присутствующих.
— Потому что не мог. Потому что Небу не было угодно, чтобы я убил человека, который многие годы был мне вместо брата. Потому что это убийство обратилось бы против меня, против леди Куиллы и против вас тоже, о народ Чанка! Потому что…
В этот момент в конце зала поднялся шум, и герольд возвестил:
— Посольство! Посольство от Инка Кари!
— Впустите их, — сказала Куилла.
Через минуту по генеральному проходу торжественно прошествовали послы, все до одного — знатные вельможи и «ушники», и отвесили нам поклон.
— Ваше слово? — спокойно спросила Куилла.
— Дело в следующем, Госпожа, — ответил предводитель посольства. — В последний раз Инка требует, чтобы ты сдалась и была принесена в жертву за измену Солнцу. Он обращается к тебе, потому что, как он узнал, отца твоего Хуарача больше нет в живых.
— А если я откажусь сдаться, что тогда, о посол?
— Тогда от имени Империи и от своего собственного имени Инка объявляет тебе войну, войну до конца, пока под солнцем не останется ни одного человека, в ком течет кровь чанка, и ни одного камня в том месте, где стоял ваш город. Может быть, пройдет какое-то время, прежде чем меч этой войны упадет на ваши головы, поскольку Инка должен собрать свои армии и дать передышку своим народам после того, что было. Но если не в этом году, то в будущем, а не в будущем — то в следующем этот меч упадет.
Куилла слушала его, побледнев — скорее, думаю, от гнева, чем от страха. Потом она сказала:
— Вы слышали все, Чанка, и знаете, как обстоит дело. Если я сдамся и позволю принести себя в жертву, милосердный Инка пощадит вас; если я не сдамся, рано или поздно он уничтожит вас — если сможет. Так скажите, я должна сдаться?
Все до одного, кто был в этом большом зале, вскочили с Мест, и из всех уст вырвался один дружный крик:
— Ни за что!
Когда он замер, один престарелый вождь и советник — дядя покойного царя Хуарача — вышел вперед и всмотрелся в послов подслеповатыми глазами,
— Ступайте обратно, — сказал он, — и передайте вашему Инка, что угроза словом — одно, а содеянное рукой — совсем другое. В последней войне он узнал кое-что о том, на что мы способны — и как друзья, и как враги, и может статься, это еще далеко не все. Вот перед вами тот, — и он указал на меня, — кто станет нашим царем и мужем нашей царицы. С его помощью и с помощью некоторых из нас Инка отвоевал свой трон. Благодаря его же милосердию совсем недавно Инка выиграл свою жизнь. Так пусть он поостережется, иначе через могущество того, за кем стоит каждый чанка, Инка Кари может потерять и трон, и жизнь, а с ними и древнюю империю Солнца. Это говорим мы все.
— Это говорим мы все! — Грянуло со всех сторон, и от мощного звука сотряслись стены.
В наступившем молчании Куилла спросила:
— Имеете ли вы что-нибудь добавить, о послы?
— Только одно, — сказал первый из них. — Древо народа чанка будет срублено под корень, но Инка все же предлагает убежище Льву, который скрывается в его ветвях, ибо он с давних пор полюбил этого Льва. Отпусти Белого-Повелителя-из-Моря, которого ты опутала сетью своих колдовских чар, обратно в Куско вместе с нами, и он будет спасен и получит место и власть, и братскую любовь вдобавок.
Куилла посмотрела на меня, и я поднялся, чтобы ответить, но не мог, ибо моим ответом был только смех. Наконец я сказал:
— Совсем недавно, когда я даровал ему жизнь, Инка назвал меня благородным. Что же он подумал бы обо мне, если бы я принял его предложение? Назвал ли бы он меня по-прежнему благородным и Львом, что живет на дереве Чанка? Или, невзирая на то, что произносят его уста, в самом сердце своем он считал бы меня самым низким из рабов, и не львом в ветвях дерева, а скорее змеей, что ползает вокруг его корней? Ступайте же, милорды, и скажите, что я остаюсь здесь и счастлив рядом с той, кого я завоевал; что древний меч Взвейся-Пламя, на который Кари совсем недавно смотрел, все еще остер, а держащая его рука все еще сильна, и что лучше всего ему, Кари, после того как этот меч отслужил в его пользу, никогда больше не видеть его клинка, — и я опять выхватил его из ножен, и он сверкнул перед их глазами в сумеречном освещении зала.
Тогда они учтиво поклонились, ибо каждый из них хорошо знал, а кое-кто и любил меня, повернулись и ушли. Это был последний раз, что я, Хьюберт из Гастингса, видел знатных людей из рода Инка, хотя, быть может, недалек тот день, когда я снова встречусь с ними на поле брани.
— Позаботьтесь, чтобы они благополучно вышли из города, — приказала Куилла, и воины отправились выполнить приказ.
Когда они ушли, Куилла приказала также запереть дверь и поставить у входов в зал часовых, чтобы никто не мог незаметно подойти к нему. Затем после паузы она поднялась и дала понять, что хочет говорить.
— Мой Повелитель, — сказала она, — и вскоре, как я верю, мой муж и царь, и вы, избранные представители моего народа, выслушайте меня, ибо я должна поставить перед вами важный вопрос. Вы слышали послание Инка и знаете, что он не бросает слов на ветер. Великий во многих отношениях, в одном он — мелкий и ограниченный. Он ставит своего бога выше своей чести, и чтобы удовлетворить своего бога, которого, по его мнению, я оскорбила, он готов пожертвовать своей честью и даже убить того, кому он всем обязан, — и она дотронулась до меня рукой. — Больше того, все, чем он грозит, он может выполнить — не сейчас, но со временем, потому что против одного нашего человека он может выставить десять своих. Так что наше положение таково: разрушение и смерть смотрят нам в лицо.
Она умолкла, и в наступившей тишине тот же старый вождь, о котором я уже говорил, спросил ее — думается, что по заранее намеченному плану:
— Ты дала нам вкусить от горькой кожуры истины, но разве внутри нет сладкого плода? Разве ты не можешь указать нам путь к спасению, о Куилла, дочь Луны, чья мудрость питает твое сердце?
— Я думаю, что могу указать вам такой путь, — ответила она. — Ты знаешь предания нашего народа — о том, что в старые времена, тысячу лет назад мы пришли из лесов в эти края.
Ты знаешь также, что по преданию когда-то за лесом, далеко отсюда, была могучая империя, царь которой сидел в Золотом Городе, прятавшемся в кольце гор. У этого царя, говорят, было два сына, и когда он умер, они вступили в борьбу друг с другом, и один из них, мой предок, потерпел поражение и был изгнан в леса вместе со всеми, кто шел за ним. В лодках он спустился вниз по реке, которая течет через лес, и наконец он и те, кто следовал за ним, прибыли в эту страну, и здесь он снова стал царем. Не так ли?
— Так, — ответил старый вождь. — Это предание дошло до меня через десять поколений, и вместе с ним пророчество — что когда-нибудь чанка вернутся в тот Золотой Город, откуда они пришли, и встретят радушный прием у его народа.
— Я слыхала об этом пророчестве, — сказала Куилла. — Я даже могу кое-что рассказать в связи с ним. Когда я сидела, несчастная и слепая, в Доме Солнца в Куско, оно пришло мне на память, и я много думала о нем, — я всегда была уверена, что война между чанка и армиями Инка только начинается. Во тьме и отчаянии я молилась моей матери Луне, прося совета и помощи. Долго и часто я молилась, и наконец пришел ответ. Однажды ночью моей душе явился Дух Луны в виде прекрасной и сияющей богини, которая заговорила со мной.
— Мужайся, дочь, — сказала она, — ибо все, что кажется потерянным навсегда, вернется вновь, и свет некоего сверкающего меча пронзит тьму и вернет зрение твоим глазам. — Так и случилось на самом деле, потому что именно в тот момент, когда мой Повелитель спас меня от гибели, грозившей мне от руки Урко, в моих затуманенных глазах забрезжил первый луч света.
— И не бойся за детей Чанка, которые почитают меня, — продолжал сияющий Дух Луны, — ибо в час опасности я покажу им дорогу на запад, в мою обитель. Да, я уведу их далеко от войн и тирании обратно в тот древний Город, из которого они вышли. И там они пребудут в мире и покое, пока не завершится все, чему суждено свершиться. Более того, ты будешь ими править все дни отведенной тебе жизни, ты и вместе с тобой тот, кого я привела к тебе из глубин моря и показала тебе, когда он спал, залитый светом моих лучей.
— Так говорил мне, советники, Дух Луны, хотя в то время я не знала, не является ли это видение просто счастливым сном. Но теперь-то я точно знаю, что то был не сон, а правда. Ведь разве не начало возвращаться ко мне зрение с того момента, когда сверкнул меч, имя которому Взвейся-Пламя? А если это было правдой, то почему и остальному не быть правдой? Люди Чанка, сегодня я ваша Царица, и мой совет такой: мы должны бежать из этой страны прежде, чем Инка затянет вокруг нас свою сеть и его копья пронзят наши сердца. Мы должны найти нашу древнюю родину в глубине далеких западных лесов, куда, мне кажется, не смогут добраться его армии. Хочешь ли ты этого, мой, народ? Если да, то устами твоих вождей и воинов заяви об этом тут же, пока еще не поздно.
И тут же грянул ответ:
— Мы хотим этого, о Дочь Луны!
Когда замерли его отзвуки, Куилла повернулась ко мне, прекрасная, как вечерняя звезда, и с сияющими, как звезды глазами, спросила:
— Ты тоже хочешь этого, Повелитель-из-Моря?
— Твое желание — мое желание, Куилла, — ответил я, — и твое сердце — мой дом. Веди же, я пойду за тобой, куда бы ты ни шла, хоть на край света или даже за его пределы.
— Да будет так! — торжественно воскликнула она. — Теперь мы покончили с прошлым злом, с его страхами и битвами, и вступаем в освещенную лунными лучами, сияющую дорогу Будущего, ведущую нас в таинственное неизвестное, где начинаются и теряются все дороги. Теперь также наши разлуки кончаются полным слиянием, единством, которое мы, быть может, знали раньше и узнаем снова в эпохи, еще не родившиеся, и в странах, куда еще не ступала ничья нога. И теперь, Повелитель-из-Моря, пробудивший мое спавшее сердце к любви, избавивший меня от позора и гибели и вернувший меня к жизни и свету, — здесь, в присутствии этого собрания нашего народа, я
, Дочь Луны, бросая вызов Солнцу, которое держало меня в плену, всем его слугам, беру тебя в мужья и скрепляю наш брак этим поцелуем, — и, наклонившись, Куилла поцеловала меня в губы.
Остальные пергаментные листы древней рукописи испорчены сыростью в гробнице, где она пролежала в течение столетий, и разобрать написанное оказалось совершенно невозможным. — Издатель.
Генри Райдер Хаггард
ДОЧЬ МОНТЕСУМЫ


Глава I
ПОЧЕМУ ТОМАС ВИНГФИЛД РАССКАЗЫВАЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ
Хвала богу, даровавшему нам победу! Сила Испании сломлена, корабли ее потонули или бежали, морская пучина поглотила сотни и тысячи ее моряков и солдат, и теперь моя Англия может вздохнуть спокойно.
[226] Они шли, чтобы покорить нас, чтобы пытать нас и сжигать живьем на кострах, они шли, чтобы сделать с нами, вольными англичанами, то же самое, что Кортес сделал с индейцами Анауака.
[227] У наших сыновей они хотели отнять свободу, а у наших дочерей — честь; наши души они хотели отдать попам, а наши тела и все наше достояние — папе римскому и своему императору! Но бог ответил им бурей, а Дрейк ответил им пулями.
[228] Они исчезли, и вместе с ними исчезла слава Испании.
Я, Томас Вингфилд, услышал об этом сегодня, в четверг, на бангийской базарной площади, куда приехал, чтобы потолковать с людьми и продать яблоки — те, что уцелели в моем саду после страшных штормовых ветров, оголивших в нынешнем году почти все деревья.
Всякие слухи доходили до меня и раньше, но сегодня в Банги я встретил человека по имени Юнг, из рода ярмутских Юнгов, который сам сражался на ярмутском корабле в битве при Гравелине,
[229] а потом преследовал испанцев дальше на север, до тех пор, пока они не погибли в Шотландском море.
Говорят, что малое порождает великое, но здесь случилось наоборот: великое породило малое. Эти славные события побудили меня, Томаса Вингфилда из Лоджа, прихожанина дитчингемского прихода графства Норфолк, взяться на склоне лет за перо и бумагу, несмотря на глубокую старость и на то, что жить мне осталось совсем немного.
Десять лет назад, в 1578 году, когда наша милостивая королева Елизавета была проездом в здешних краях, ее величество пожелала увидеть меня в Норидже. В тот день она сказала, что слухи обо мне дошли до нее, и повелела рассказать ей что-нибудь интересное из моей жизни, вернее — из тех двадцати с лишним лет, которые провел среди индейцев в то время, когда Кортес покорял их страну Анауак, известную ныне под именем Мексики. Но едва я успел приступить к рассказу, как ее величеству уже пришлось отправляться в Коссэй на оленью охоту. Уезжая, королева пожелала, чтобы я изложил свою историю на бумаге, дабы она могла ее прочесть, и сказала, что если эта история окажется хотя бы наполовину столь занимательной, какой обещает быть, она пожалует мне титул баронета и я окончу свои дни сэром Томасом Вингфилдом. На это я ответил, что никогда не умел обращаться с такими вещами, как перо и бумага, однако повеление ее величества постараюсь исполнить. Затем я осмелился преподнести ей большой изумруд, один из тех, что некогда украшали шею дочери Монтесумы, а до нее — многих других принцесс. При виде этого изумруда глаза ее величества засверкали так же ярко, как сам драгоценный камень, ибо наша королева любит подобные безделушки. Наверное, если бы я захотел, я мог бы заключить с нею сделку и тут же получить свой титул в обмен на изумруд, но я много лет был вождем могущественного племени и теперь не желал становиться чьим бы то ни было слугой. Поэтому я просто поцеловал королевскую руку, которая так крепко сжала драгоценный камень, что все косточки ее побелели, простился и в тот же день вернулся к себе домой в долину Уэйвни.
Я не забыл, однако, пожелания королевы и давно уже собирался изложить на бумаге историю своей жизни, пока моя жизнь и моя история не оборвались одновременно. Для меня, человека в подобных делах неискушенного, задача эта поистине нелегка. Но мне ли страшиться трудностей, когда уже близок час вечного отдохновения? Я повидал такое, чего не видел ни один англичанин и о чем стоит порассказать.
Жизнь моя была необычайна. Много раз, когда я думал, что уже погиб и спасения нет, провидение спасало меня, может быть только для того, чтобы люди узнали мою историю и извлекли из нее урок, ибо все, что я пережил и перевидал, свидетельствует об одной непреложной истине: зло никогда не приносит добра, зло порождает только зло и в конце концов обрушивается на голову того, кто его творит, будь то один человек или целый народ.
Вспомните хотя бы судьбу Кортеса, этого великого завоевателя! Я его знавал в те дни, когда он обладал почти божественной властью, а лет сорок назад, как мне говорили, прославленный Кортес умер в Испании в немилости и нищете.
[230] Так-то! И еще я слыхал, что сын Кортеса дон Мартин был подвергнут пыткам в том самом городе, который его отец с такой неслыханной жестокостью завоевывал для испанцев. Все это в порыве отчаяния предсказала Кортесу первая и любимейшая из его подруг Малиналь — испанцы ее называли Мариной, — когда Кортес бросил ее и отдал в жены дону Хуану Харамильо, позабыв обо всем, что их связывало, и о том, что она не раз спасала от верной смерти его самого и его солдат.
А вспомните судьбу самой Марины! Она любила своего мужа Кортеса, или Малинцина, как его начали из-за нее называть индейцы, и ради него предала свою родину. Если бы не Марина, испанцы никогда бы не овладели Теночтитланом, или, как теперь говорят, Мехико. Ради своей любви она пожертвовала честью, но что она получила взамен? Что хорошего принесло ей содеянное зло? В награду за все, когда красота Марины поблекла, ее отдали в жены другому, менее знатному человеку, точно так же, как отслужившую свое скотину продают более бедному хозяину.
Вспомните также судьбу столь могущественного народа, как народ Анауака. Он творил зло во имя добра; в жертву своим ложным богам он приносил тысячи человеческих жизней, надеясь, что боги пошлют ему мир, благоденствие и богатство на многие поколения. Но как ответил им истинный бог? Вместо богатства он ниспослал разорение, вместо мира — испанский меч, а вместо благоденствия — горе, пытки и рабство. И все это потому, что они приносили своих детей на алтари Уицилопочтли и Тескатлипоки.
Или возьмите самих испанцев. Во имя милосердия они творили такие жестокости, какие и не снились язычникам-ацтекам; во имя Христа они каждодневно нарушали все его заповеди. Неужто они будут торжествовать, неужто эти злодеяния принесут им счастье? Я слишком стар и не доживу до того, чтобы увидеть собственными глазами ответ на мой вопрос. Но уже теперь ответ этот ясен. Я знаю, что все злодеяния испанцев падут на их собственные головы, и уже теперь вижу этот самый гордый на свете народ обесславленным, обесчещенным и разоренным, несчастным заморышем, у которого нет ничего, кроме великого прошлого. То, что Дрейк начал недавно под Гравелином, бог в иное время завершит повсеместно. От могущества Испании не останется и следа, империя испанцев исчезнет, как исчезла империя Монтесумы.
Так вершатся события великие, о которых известно всем, я точно так же было в жизни столь безвестного человека, как я, Томас Вингфилд. Воистину небеса были милостивы ко мне: они дали мне время раскаяться в грехах, которые обратились против меня самого, ибо я присвоил себе право всемогущего и возомнил себя орудием мести в его деснице. То была справедливая кара! Зная это, я и решился написать историю своей жизни, дабы она послужила другим в назидание.
Как я уже говорил, мысль эта зрела во мне долгие годы, хотя, по совести сказать, впервые заронила ее королева. Но лишь теперь, когда я достоверно узнал о судьбе «Непобедимой армады», эта мысль дала, наконец, росток. А принесет ли она плод — бог весть. Ибо события последних дней странным образом взволновали меня и перенесли во времена моей юности, наполненной страстями, битвами я невероятными приключениями, когда я сражался против тех же самых испанцев за себя, за Куаутемока и за народ отоми. Давно я не вспоминал об этом, и сейчас те годы вновь оживают передо мной. У меня такое чувство, словно то, что я пережил в далеком прошлом, и было моей настоящей жизнью, а все остальное — лишь сновидением. Со стариками такое случается.
Из окна комнаты, где я пишу, видна мирная долина Уэйвни. За рекой простираются обширные земли, поросшие золотистым дроком, дальше виднеются развалины замка и красные крыши Банги, сгрудившиеся вокруг колокольни церкви Святой Марии, а еще дальше раскинулись королевские леса Стоува и поля фликстонского аббатства. На правом крутом берегу реки зеленеют дубравы Иршема, по лугам низменного левого берега, словно пестрые пятна, чуть приметно движутся стада Беклса и Лоустофта, а позади по травянистому склону холма, который в старину называли Графским Виноградником, поднимается террасами мой парк и фруктовый сад. Все тут, но сейчас у меня такое чувство, словно ничего этого не существует. Вместо долины Уэйвни я вижу долину Теночтитлана, вместо косогоров Стоува — снежные склоны вулканов Истаксиуатля и Попокатепетля, вместо шпиля Иршема и колоколен Банги, Дитчингема и Беклса передо мной вздымаются жертвенные пирамиды, озаренные священным пламенем, а там, где на мирных лугах пасутся стада, я вижу всадников Кортеса, рвущихся в бой. Все вернулось ко мне. Все, что было жизнью, остальное — сон.
Я снова чувствую себя молодым, и теперь, если судьба даст мне время, я постараюсь рассказать историю своей жизни, прежде чем отойду в мир вечных сновидений и навсегда упокоюсь на деревенском кладбище.
Я давно уже начал свой труд, но, пока была жива моя дорогая жена, покинувшая меня совсем недавно, в прошлое рождество, завершить его я все равно бы не смог. По совести говоря, моя жена любила меня так, как, я думаю, мало кого любили. Мне посчастливилось. Но в моем прошлом было много такого, что омрачало ее любовь и вызывало в ней ревность. Впрочем, это чувство смягчалось в ее благородной душе самым искренним и полным прощением. Сердце моей жены терзало иное тайное горе, и я это знал, хотя сама она никогда ничего не говорила.
У нас родился лишь один ребенок, да и тот умер в младенчестве. Сколько жена ни молила бога послать ей другого, все мольбы ее оставались тщетными, и я, вспоминая слова Отоми, думал, что вряд ли эти мольбы помогут. Но жена моя знала, что прежде за океаном у меня были дети от другой женщины, которых я любил и которых буду всегда любить, хотя все они умерли много лет назад, и это терзало ей душу. Она могла простить, что я был женат на другой, но то что эта женщина родила мне детей, которые были все еще дороги моему сердцу, — этого она, даже все простив, забыть не могла, ибо сама была бездетна.
Я мужчина и не могу объяснить причину ее тоски. Кто поймет любящее женское сердце? Но было именно так. Однажды мы даже поссорились из-за этого, поссорились в первый и последний раз.
Случилось это на второй год после нашей свадьбы, через несколько дней после того, как мы похоронили на дитчингемском кладбище наше дитя. Однажды ночью, когда я спал рядом с моей женой, мне приснился удивительно яркий сон. Мне снилось, что вокруг меня собрались все мои сыновья, все четверо, и самый большой держал на руках моего первенца, младенца, умершего во время великой осады. Они пришли ко мне, как частенько приходили в те времена, когда я правил народом отоми в Городе Сосен, они говорили со мной, одаривали меня цветами и целовали мне руки. Я любовался их силой и красотой, и гордость переполняла мое сердце. Во сне мне казалось, словно я избавился от большого горя, словно я, наконец, опять встретил моих дорогих детей, которых некогда потерял. Увы! Что может быть страшнее подобных снов? Сновидения, как бы насмехаясь над нами, воскрешают мертвых, возвращают нам тех, кто дорог, а потом рассеиваются и оставляют нас в еще большей и горшей скорби.
Так вот, мне явилось подобное сновидение, и во сне я разговаривал со своими детьми, называя их самыми ласковыми именами, пока, наконец, не проснулся. И тогда, ощутив всю боль утраты, я разрыдался в голос.
Было уже раннее утро. Лучи августовского солнца проникали в окно, но я все еще продолжал лежать и плакать. Окруженный видениями сна, я повторял сквозь слезы имена тех, кого уже никогда не увижу. Я надеялся, что жена моя спит, но случилось так, что она проснулась и слышала, как я разговаривал с мертвыми и во сне и потом. И хотя я произносил некоторые слова на языке отоми, все остальное было на английском, а потому, зная имена моих детей, жена все поняла. Внезапно она соскочила с постели и встала передо мной. В глазах ее сверкал такой гнев, какого я в них не видал никогда — ни до, ни после. Но и в этот раз он почти тотчас сменился слезами.
— Что с тобой, жена моя? — спросил я с удивлением.
— Ты думаешь, мне легко слышать такие слова из твоих уст — сказала она в ответ. — Разве мало того, что я пожертвовала ради тебя своей молодостью и была верна тебе даже тогда, когда все до последнего считали тебя погибшим? О том, как ты сам хранил мне верность, тебе лучше знать. Но разве я хоть когда-нибудь упрекала тебя, хотя ты позабыл меня и женился на дикарке?
— Никогда, моя милая. Но ведь и я никогда тебя не забывал, — ты это прекрасно знаешь. Меня только удивляет, что ты ревнуешь к той, которой давно уже нет!
— Разве к мертвой ревнуют? Можно спорить с живыми, но как бороться с любовью, которую смерть отметила печатью совершенства и сделала бессмертной? Однако это я тебе прощаю, потому что могу потягаться с той женщиной. Ведь ты был моим до нее и остался моим после. Но дети, дети — это другое дело! Дети были только ее и твоими. Моего в них нет ни кровиночки, ни частицы. И я знаю, что ты любил их живых, любишь их мертвых и будешь любить их вечно, даже за гробом, если только встретишься с ними на том свете. А я уже стара. Я постарела за те двадцать с лишним лет, пока ждала тебя, и теперь я уже не рожу тебе других детей. Я принесла тебе одного, но бог прибрал его, чтобы я не была слишком счастлива. Ты даже имени его не произнес среди тех других странных имен! Мой несчастный крошка был для тебя слишком маленьким!
Здесь она запнулась и залилась слезами, а я счел за лучшее промолчать, ибо действительно между теми детьми и этим ребенком была большая разница: все мои сыновья, за исключением первенца, умерли почти юношами, в то время как ее младенец не прожил и двух месяцев.
Так вот, когда королева впервые подсказала мне мысль написать историю моей жизни, я сразу вспомнил об этой размолвке со своей любимой женой. Я не мог написать правду, потому что мне пришлось бы умолчать о той, которая также была моей женой, об Отоми, дочери Монтесумы, принцессе народа отоми, и о детях, которых она мне родила. И вот я решил тогда вовсе не браться за перо потому, что, хотя мы почти не говорили об этом за все прожитые вместе годы, я знал, что моя Лили ничего не забыла, и ревность ее, будучи особого, более тонкого свойства, не только не угасала со временем, а, наоборот, возрастала. Написать же обо всем так, чтобы жена моя ничего не знала, я не мог, ибо до последних дней она следила за каждым моим шагом и, кажется, даже читала мои мысли.
Так мы и старели бок о бок, и годы текли безмятежно. Мы редко вспоминали о том большом промежутке, когда были потеряны друг для друга, и о том, что тогда произошло. Но всему приходит конец. Моя жена внезапно умерла во сне на восемьдесят седьмом году жизни. Я похоронил ее, глубоко скорбя, однако скорбь моя не была безутешной, ибо я знал, что скоро встречусь и с ней, и со всеми другими, кого любил.
Там, в небесах, ждут меня моя мать, и сестра, и мои сыновья; там ожидает меня мой друг Куаутемок, последний император ацтеков, и многие другие, опередившие меня соратники по оружию; и там же, хотя она в этом сомневалась, встретит меня моя прекрасная, гордая Отоми. На небесах, которых я надеюсь достичь, все грехи моей юности и ошибки зрелого возраста будут преданы забвению. Говорят, что там нет ни замужних, ни женатых, и это очень хорошо, потому что иначе я просто не знаю, как ужились бы между собой обе мои жены, гордая дочь Монтесумы и нежная дочь английского сквайра.
[231]
А теперь приступим к рассказу.
Глава II
СЕМЬЯ ТОМАСА ВИНГФИЛДА
Я, Томас Вингфилд, родился здесь, в Днтчингеме, в той самой комнате, где сейчас пишу. Мой отчий дом был выстроен или основательно переделан во времена царствования Генриха VII, но уже задолго до этого на том же месте стояло какое-то строение, известное под названием Сторожки Садовника. Здесь некогда жил сторож виноградника. В древности склоны холма, на котором стоит наш дом, омывали волны залива, а может быть, и открытого моря. Во времена эрла
[232] Бигода весь холм был покрыт виноградниками: должно быть, климат был раньше мягче или земледельцы прежних веков искуснее. С тех пор прошло много лет, виноградные гроздья давно уже перестали здесь вызревать, однако имя «Графский Виноградник» так и осталось за всей этой местностью, расположенной между нашим домом и целебным источником, который бьет из-под земли в полумиле отсюда; чтобы искупаться в его водах, люди приезжают даже из Нориджа и Лоустофта. Но и по сей день здешние сады, защищенные от восточных ветров, зацветают на две недели раньше, чем во всей округе, и даже в майские холода здесь можно ходить без плаща, в то время как на вершине холма, на какие-нибудь двести шагов повыше, дрожь пробирает даже под курткой из меха выдры.
«Сторожка» — так попросту называли стоявшее здесь строение — была вначале обыкновенным крестьянским домом. Обращенный окнами на юго-запад, он расположен так близко от берега, что кажется дамбой, которую вот-вот захлестнут волны Уэйвни, текущей совсем рядом среди низин и лугов. Но это впечатление обманчиво. Хотя осенью в сумерках его и окутывает мгла — так у нас в Норфолке называют стелющийся по земле туман, — хотя во время половодий река иной раз заливает на заднем дворе конюшни, наш дом, выстроенный на фундаменте из песка и гравия, считается самым здоровым жилищем во всем приходе. Он сложен из красного кирпича и кажется одновременно причудливым и очень милым со своими многочисленными выступами и башенками на крыше, утопающими летом среди вьющихся роз и других ползучих растений. Из окон открывается вид на луга и выгоны, краски которых беспрестанно меняются в зависимости от времени года и часа дня, на красные крыши Банги и на лесистый вал, окружающий иршемские земли. Есть, конечно, в наших местах дома побольше и побогаче, но этот старый дом мне всего милее, ибо здесь я родился, здесь жил и здесь надеюсь умереть.
Я уделил этому описанию, пожалуй, слишком много времени, как, наверное, сделал бы каждый из нас, если бы речь шла о месте, которое стало нам дорого в силу многолетней привычки. А теперь я расскажу о своей семье.
Прежде всего я хотел бы сказать — и не без гордости, ибо кто из нас не гордится старинным именем, которое нам дарит случайность рождения? — что я принадлежу к роду Вингфилдов, из Вингфилдского замка в Суффолке, расположенного отсюда в каких-нибудь двух часах езды верхом. Когда-то в старину наследница Вингфилдов вышла замуж за некоего де ля Поля, семья которого весьма известна в нашей истории: последний из де ля Полей, Эдмунд, граф Суффолкский, в дни моей юности был обезглавлен за измену. Так вот, замок Вингфилд вместе с наследницей перешел к де ля Полю. Однако в окрестностях осталось несколько семейств из боковых ветвей древнего рода Вингфилдов. Кажется, они имели герб с полосой на левой стороне щита, но герб меня никогда не интересовал, да и не интересует. Важно только то, что мои предки и я происходим именно ив этого рода.
Мой дед, человек неглупый, по складу своему был скорее йоменом, нежели сквайром, хотя и происходил из дворянского рода. Он-то и купил этот дом с прилегающими к нему землями и сколотил кое-какое состояние, главным образом благодаря разумному образу жизни и удачным женитьбам — имея лишь одного сына, он был женат дважды, — а также благодаря торговле скотом.
При всем этом дед мой был набожен почти до ханжества и, как ни странно, во что бы то ни стало хотел сделать своего единственного сына священником. Однако мой отец не имел ни малейшего призвания ни к карьере священнослужителя, ни к монастырской жизни. Напрасно дед денно и нощно наставлял его на путь истинный — то уговорами и примерами из Писания, то увесистой дубинкой из остролиста, которая до сих пор висит у меня над камином в малой гостиной. Кончилось все это тем, что отца послали в наш бангийский монастырь, где он повел себя так, что не прошло и года, как настоятель монастыря потребовал, чтобы родители забрали его обратно и сами нашли ему какое-нибудь дело в светской жизни. Настоятель сказал, что мой отец не только давал повод для всяких кривотолков в приходе, удирая по ночам из монастыри в питейные дома и прочие злачные места, но дошел до такой наглости, что осмелился подвергать сомнению и насмешкам самое учение святой церкви. Так, например, он говорил, будто в статуе Девы Марии, что стоит в часовне, нет ничего божественного, и во время молитвы, когда священник славил Святого Духа, бесстыдно подмигивал деве в присутствии всей монастырской братии.
— Посему, — сказал в заключение настоятель, — я прошу вас забрать своего сына, дабы он попал на костер каким-либо иным путем, а не прямехонько из ворот бангийского монастыря!
От всего этого дед мой пришел в такую ярость, что его едва не хватил удар. Затем, немного успокоившись, он взялся за свою дубинку из остролиста и хотел было пустить ее в ход. Но тут мой отец, который в свои девятнадцать лет был парнем статным и очень сильным, вырвал дубинку из его рук и забросил ее самое малое ярдов на пятьдесят. При этом он сказал, что отныне ни один человек не посмеет до него и пальцем дотронуться, будь он хоть сто раз его отцом, а затем вышел, оставив моего деда и настоятеля таращить друг на друга глаза.
Чтобы долго не тянуть, расскажу, чем все кончилось. Мой дед и настоятель дружно решили, что истинная причина непокорности моего отца заключается в страсти, которую ему внушила одна девица низкого происхождения, смазливая дочка мельника с вайнфордских мельниц. Может быть, они были правы, а может быть, и нет. Никакого значения это не имеет, поскольку девица вскоре вышла замуж за мясника из Беклса и умерла много лет спустя в нежном возрасте девяноста пяти лет от роду. Но как бы ни была ошибочна такая догадка, мой дед в нее поверил и, хорошо зная, что разлука является самым надежным средством от любви, поговорил с настоятелем и задумал отослать моего отца в Испанию, в один из монастырей Севильи, в котором брат настоятеля был аббатом, дабы юноша позабыл там о дочери мельника и обо всех прочих светских соблазнах.
Узнав о таком решении, мой отец согласился с ним довольно охотно: несмотря на свою молодость, он был достаточно умен и очень хотел повидать мир, хотя бы из окошка монастыря. В конечном счете его препоручили заботам испанских монахов, прибывших в Норфолк для поклонения нашей Божьей Матери Уолсингемской, и он вместе с ними отбыл в заморские края.
Говорят, мой дед на прощание заплакал, словно предчувствуя, что больше уже не увидится со своим сыном. Однако его вера или, точнее, его суеверие было настолько сильно, что он без колебаний отослал своего сына на чужбину, хотя и не имел к тому ни малейшего повода. Он пожертвовал своей любовью и своей плотью точно так же, как Авраам пожертвовал сыном своим Исааком.
[233]
Мой отец сделал вид, что согласен стать жертвой вроде Исаака, однако в глубине души он меньше всего был готов взойти на алтарь для заклания. В действительности, как он сам потом говорил, у него были совсем иные намерения.
Полтора года спустя после того, как отец отплыл из Ярмута, от аббата севильского монастыря пришло письмо для его брата, настоятеля монастыря Святой Марин Бангийской. В нем аббат сообщал, что мой отец сбежал из монастыря, не оставив никаких следов. Эти известия сильно огорчили деда, однако он ничего не сказал.
Прошло еще два года, и до моего деда дошли новые слухи. Ему сказали, что его сын пойман, передан в руки Святого Судилища, как в те времена называли инквизицию, и замучен во время пыток в Севилье. Услышав об этом, мой дед разрыдался и проклял себя за безумную мысль обратить к церковной карьере того, кто не имел к ней ни малейшего призвания, что привело к постыдной смерти его единственного сына. После этого он разругался с настоятелем Святой Марии Бангийской и перестал жертвовать на монастырь. Но все же он так и не поверил, что мой отец действительно умер, ибо два года спустя перед смертью он говорил о нем так, словно он был жив, и оставил ему подробные распоряжения относительно земли, которая отныне переходила к нему.
В конечном счете оказалось, что дед верил не напрасно. Однажды, года через три после его смерти, в ярмутском порту высадился не кто иной, как мой отец, который отсутствовал почти восемь лет. Он прибыл не один: вмести с ним с корабля сошла его жена, очаровательная молодая дама, которая впоследствии стала моей матерью. Она была испанкой из благородной семьи, уроженкой Севельи, и ее девичье имя было донья Луиса де Гарсиа.
Я толком не знаю, что пережил мой отец за восемь лет отсутствия. Сам он почти ничего об этом не говорил. Однако о некоторых его приключениях мне придется рассказывать.
Я знаю, что он действительно побывал в руках Святого Судилища, потому что однажды, когда мы купались в затоне Уэйвни, расположенном ярдов на тридцать ниже нашего дома, я заметил, что его грудь и руки исполосованы длинными белыми шрамами. До сих пор помню, как я спросил отца, что это за шрамы. Его доброе лицо почернело от ненависти; отвечая скорее самому себе, чем мне, он сказал:
— Это сделали дьяволы. Это сделали дьяволы по приказу сатаны, который бродит по земле и будет царем в аду. Слушай, сын мой Томас! Есть такая страна, которая зовется Испанией. Там родилась твоя мать, и там дьяволы предают пыткам мужчин и женщин. Там от сжигают людей живьем во имя Христа! Меня предал тот, кого я называю сатаной, хотя он моложе меня на три года, и я попался в лапы дьяволов. Эти шрамы оставили на моем теле их клещи и раскаленное железо. Они бы сожгли меня живьем, если бы твоя мать не помогла мне бежать! Но такие вещи — не для ушей ребенка. Не проговорись, Томас! У Святого Судилища руки длинные! Ты наполовину испанец — об этом говорят твои глаза и цвет кожи. Но чтобы не говорили твои глаза и кожа, пусть сердце твое говорит другое. Пусть сердце твое останется сердцем англичанина, недоступным никакому чужеземному искушению! Ненавидь всех испанцев, Томас, кроме твоей матери, и смотри, чтобы кровь ее не взяла вверх над моей кровью!
Я был в то время еще совсем ребенком и почти не понял ни его слов, ни того, что они означают. Зато позднее я понял их слишком хорошо. Что же касается отцовского совета укротить в себе испанскую кровь, то я всегда старался ему следовать, ибо знал, что именно эта кровь толкала меня на многие дурные поступки. Она была причиной моего необычайного упорства, или, вернее, упрямства, и только она возбуждала во мне неподобающую христианскую ненависть к тем, кто однажды причинил мне зло. Я делал все возможное, чтобы избавиться от этих и других пороков, однако, как шило в мешке не таи, острие все равно вылезает наружу, и в этом я убеждался неоднократно.
В нашей семье было трое детей: мой старший брат Джеффри, я и моя сестренка Мэри, которая была на год моложе меня. Более очаровательного и нежного создания я не встречал никогда.
Мы были счастливыми детьми. Отец и мать гордились нашей красотой, вызывавшей зависть других родителей. Я был темнее всех, смуглый почти до черноты, а у Мэри испанская кровь сказывалась лишь в ее великолепных бархатных глазах, да в цвете щек, румяных, как спелые яблочки. Из-за черных волос и смуглоты мать частенько называла меня своим маленьким испанцем. Но это она делала только тогда, когда отца не было поблизости, потому что такие слова приводили его в ярость. Она так и не выучила как следует английский, однако отец не позволял ей говорить при нем на другом языке, Зато когда его не было, мать говорила по-испански, но из всех детей по-настоящему знал испанский язык только я, да и то скорее всего потому, что у матери было несколько томиков старинных испанских романов. С раннего детства я обожал подобные истории, и мать убедила меня выучить испанский язык главным образом тем, что обещала мне дать их почитать.
Сердце моей матери все еще тосковало по ее солнечной родине, о которой она часто рассказывала нам, детям, особенно зимой. Зиму она ненавидела так же, как и я. Однажды я спросил, хочется ли ей вернуться в Испанию. Вздрогнув, она ответила, что нет, потому что там живет один человек, ее враг, который ее убьет, и потому, что она привязана всем сердцем к нам и к нашему отцу. Я подумал, что этот человек, который хочет убить мою мать, наверное, и есть тот самый «сатана», как его называл отец, но вслух сказал только, что вряд ли найдется злодей, который осмелится убить такую добрую и красивую женщину.
— Ах, сынок! — возразила мать. — Он как раз потому и ненавидит меня, что я такая красивая, или, вернее, была красивой. Если бы не твой славный отец, Томас, мне, может быть, пришлось бы выйти замуж за другого.
И при этих словах лицо матери побледнело от страха.
Как-то вечером — мне тогда было уже восемнадцать с половиной лет — к нам в «сторожку» завернул, возвращаясь из Ярмута, друг моего отца, сквайр Бозард, чье поместье находилось в нашем же приходе. В разговоре он обронил, что в порту бросил якорь испанский корабль с товарами, Мой отец сразу же насторожился и спросил, кто капитан этого корабля. Сквайр Бозард ответил, что не знает его имени, однако видел капитана на базарной площади; это высокий, статный мужчина, богато разодетый, с красивым лицом и со шрамом на виске.
Услышав его слова, моя мать побелела, несмотря на свою смуглую кожу, и пробормотала по-испански:
— Святая Мадонна! Только бы это был не он!
Отец тоже встревожился и начал подробно расспрашивать сквайра, как выглядит тот человек, но ничего толкового больше не узнал. Тогда он наспех попрощался с гостем, вскочил на коня и поскакал в Ярмут.
В ту ночь моя мать не сомкнула глаз. До утра просидела она в своем глубоком кресле, о чем-то раздумывая. Я простился с ней и пошел спать, а когда поутру спустится вниз, она сидела все в той же позе. До сих пор помню, как я приоткрыл дверь и увидел ее: мать была неподвижна, ее лицо казалось совсем белым в предрассветном сумраке майского дня, а глаза были устремлены на решетку входной двери. Я сказал:
— Вы сегодня рано поднялись, мама.
— Я совсем не ложилась, Томас, — ответила она.
— Но почему? Чего вы боитесь?
— Я боюсь прошлого и боюсь будущего, сынок. Только бы твой отец вернулся!
Часов в десять утра, когда я уже совсем было собрался в Банги к моему лекарю, который учил меня искусству врачевания, отец прискакал домой. Мать, ожидавшая его у порога, бросилась к нему навстречу. Соскочив с коня, отец обнял ее и сказал:
— Не беспокойся, родная! Это, наверное, не он, у него другое имя.
— Но ты его видел? — спросила мать.
— Нет, он провел ночь на своем корабле, а я торопился к тебе, потому что знал, как ты беспокоишься.
— Я была бы спокойнее, если бы ты его увидел своими глазами, дорогой. Ведь ему ничего не стоит изменить имя!
— Об этом я не подумал, — проговорил отец. — Но ты не бойся! Если даже это и он, если даже он осмелится появиться в дитчингемском приходе, здесь найдутся люди, которые знают, как с ним поступить. Однако я уверен, что это не он.
— И слава богу! — ответила мать.
После этого они заговорили, понизив голос, и я понял, что мне не следует им мешать. Захватив свою тяжелую дубинку, я вышел на тропинку, ведущую к пешеходному мостику, но тут мать неожиданно окликнула меня. Я вернулся.
— Поцелуй меня перед уходом, Томас! — сказала
она. — Ты, наверное, удивляешься и спрашиваешь себя, что все это означает? Когда-нибудь отец тебе все объяснит. А я скажу только одно: долгие годы мою жизнь омрачала страшная тень, но теперь я верю, что она рассеялась навсегда.
— Если эту тень отбрасывает человек, то ему лучше держаться подальше вот от этой штучки! — сказал я, со смехом подбрасывая свою тяжелую дубинку.
— Это человек, — ответила мать. — Однако если тебе когда-нибудь и доведется его встретить, разговаривать с ним надо не палочными ударами.
— Не спорю, мама, но в конечном счете это, может быть, самый убедительный довод, с которым согласится любой упрямец, спасая свою шкуру.
— Ты слишком торопишься показать свою силу, Томас, — с улыбкой сказала мать и поцеловала меня. — Не забывай старой испанской пословицы: «Кто бьет последним, тот бьет сильнее!»
— Но ведь есть и другая пословица, мама: «Бей, пока тебя не ударили!»
И на этом я с ней простился.
Когда я отошел, уже шагов на десять, что-то словно толкнуло меня, и я обернулся, сам не зная отчего. Моя мать стояла на пороге перед открытой дверью. Ее стройная фигура была как бы заключена в раму из белых цветов, вьющихся по стенам старого Тома, На голове у нее, как обычно, была белая кружевная мантилья, завязанная под подбородком. Неизвестно почему эта мантилья на какое-то мгновенье показалась мне издали погребальным саваном. Я вздрогнул от такой мысли и взглянул в лицо матери. Она смотрела на меня печально и нежно, словно прощаясь навсегда.
Это был последний раз, когда я ее видел живой.
Глава III
ПОЯВЛЕНИЕ ИСПАНЦА
А теперь я должен вернуться назад и кое-что рассказать о своих собственных делах. Как я уже говорил, мой отец пожелал, чтобы я стал врачом. Поэтому, закончив в Норидже школу и вернувшись домой, — в то время мне шел уже шестнадцатый год, — я принялся изучать медицину под руководством одного лекаря, который пользовал жителей в окрестностях Банги. Звали его Гримстон, и был он человеком весьма знающим, а главное — честным, и поскольку учение мне пришлось по душе, я с его помощью делал большие успехи. Я усвоил почти все, что он мог мне передать, и отец уже поговаривал о том, что, когда мне исполнится девятнадцать лет, он пошлет меня в Лондон для завершения учения. Такие разговоры шли месяцев за пять до появления испанца. Но судьбе не было угодно, чтобы я попал в Лондон.
Не следует, однако, думать, что я в те дни занимался лишь изучением медицины. У сквайра Бозарда из Дитчингема, того самого, что рассказал моему отцу о прибытии испанского корабля, было двое детей: сын и дочка; все его другие дети — а жена ему их родила немало — умирали в младенчестве. Так вот, дочку звали Лили, и она была моей сверстницей, родившейся в том же году, всего на каких-нибудь три недели позже меня. Теперь Бозардов здесь уже нет, ибо моя внучатая племянница, единственная внучка сына Бозарда и его наследница, вышла замуж и носит другое имя. Но это уже между прочим.
С самого раннего возраста все мы — дети Бозарда и дети Винфилда — жили словно родные братья и сестры. Изо дня в день мы встречались и вместе играли, будь то на снегу или среди цветов. Трудно сказать, когда я впервые почувствовал любовь к Лили и когда она полюбила меня; знаю только, что, когда я отправился в школу в Норидж, с ней мне было тяжелее расставаться, чем с матерью и всей нашей семьей. Во всех наших играх она была вместе со мной. Для нее я готов был целыми днями рыскать по всей округе, лишь бы отыскать те цветы, которые ей нравились. И когда я вернулся из школы, ничто не изменилось. Только Лили стала застенчивее, да и сам я сначала как-то оробел, когда заметил, что она из девочки вдруг превратилась в девушку. Но все равно мы встречались часто, и наши встречи были нам дороги, хотя никто из нас не говорил об этом ни слова.
Так продолжалось вплоть до дня смерти моей матери. Но прежде чем рассказывать дальше, я должен заметить, что сквайр Бозард весьма неодобрительно смотрел на дружбу своей дочери со мной. Происходило это вовсе не потому, что я ему не нравился, а потому, что он хотел выдать Лили за моего старшего брата Джеффри, который был наследником всего отцовского состояния. Мне же он не давал ни малейшей поблажки, так что в конце концов мы с Лили стали встречаться лишь как бы случайно. Зато мой брат всегда был в сквайрском доме желанным гостем. Из-за этого между ним и мной появилась неприязнь: так всегда бывает, если между друзьями, даже самыми близкими, становится женщина. Надо сказать, что мой брат тоже влюбился в Лили, как это случилось бы на его месте со всяким, и у него на нее было, пожалуй, больше прав, чем у меня: ведь он был на три года старше и его ожидало наследство!
Может показаться, что мое чувство было слишком скороспелым, ибо в то время я еще не достиг даже совершеннолетия. Но молодая кровь горяча, а во мне к тому же была половина испанской крови, которая сделала меня мужчиной в том возрасте, когда большинство чистокровных англичан еще остаются мальчиками. Ведь в таких вещах кровь и согревающее ее солнце значат немало. Я сам в этом убеждался не раз, глядя на индейцев Анауака, которые в пятнадцать лет брали себе в жены двенадцатилетних девушек. А я в восемнадцать лет был во всяком случае достаточно взрослым, чтобы полюбить по-настоящему, один раз на всю жизнь, и я это говорю с уверенностью, хотя кое-кому может показаться, будто дальнейшая моя история опровергает эти слова. Однако впечатление это ложно, ибо не следует забывать, что мужчина может любить многих женщин и все же оставаться верным единственной, самой лучшей ив всех; он может нарушать букву закона любви и при этом свято блюсти его дух и суть.
Итак, когда мне пошел девятнадцатый год, я был уже вполне сложившимся мужчиной, причем мужчиной весьма привлекательным, — теперь, на старости лет, я могу говорить об этом, отбросив ложную скромность. Не слишком высокий, всего пяти футов девяти с половиной дюймов ростом, я был зато крепок, широк в плечах и отличался редкой пропорциональностью сложения. Даже сейчас, несмотря на седину, я все еще сохранил необычайно смуглый цвет кожи и большие темные глаза, а мои слегка волнистые волосы были в те времена черны как смоль. Обычно я вел себя сдержанно и серьезно, так что даже казался мрачноватым, говорил медленно и обдуманно и гораздо лучше умел слушать, чем рассказывать. Прежде чем что-либо решить, я все тщательно взвешивал и обдумывал, но если уже приходил к какому-нибудь решению, изменить его, будь оно плохим или хорошим, разумным или глупым, уже не могло ничто, разве что сама смерть! Кроме того, я в те дни мало верил в бога, частью из-за тайных бесед с отцом, а частью потому, что мои собственные размышления заставили меня усомниться в учении церкви, как нам его излагали. Юности свойственны поспешные обобщения, и она зачастую приходит к выводу, что все на свете лживо лишь потому, что какие-то отдельные вещи оказались действительно ложными. Так и я в те дни думал, что бога нет, потому что священник нас уверял, будто образ Девы Марии Бангийской проливает слезы и творит прочие чудеса, а в действительности все это было ложью. Теперь-то я хорошо знаю, что есть высшая справедливость, ибо в этом убеждает меня вся история моей жизни.
Вернемся, однако, к тому печальному дню, о котором шла речь. Я знал, что в тот день моя любимая Лили выйдет одна на прогулку под большие остриженные дубы своего парка. Это место называется Грабсвелл. Здесь росли, да и теперь еще растут кусты боярышника, зацветающие раньше всех в округе.
Увидев меня в воскресенье у входа в церковь, Лили сказала, что в среду боярышник, наверное, уже расцветет и она придет сюда под вечер за его душистыми ветками. Вполне возможно, что она сказала это с определенным умыслом, ибо любовь пробуждает хитрость даже в душе самой невинной и правдивой девушки. К тому же я заметил, что хотя рядом стояли ее отец и вся наша семья, Лили постаралась, чтобы мой брат Джеффри ничего не услышал, потому что с ним ей встречаться вовсе не хотелось, а мне она бросила быстрый взгляд своих серых глав. Я тотчас дал себе клятву, что в среду вечером приду рвать цветы боярышника на то самое место, даже если мне придется ради этого сбежать от моего учителя и бросить всех бангийских больных на произвол судьбы. Тогда же я твердо решил, что если мне удастся застать Лили одну, я больше не стану тянуть и выскажу ей все, что у меня на сердце. Впрочем, это не составляло такой уж великой тайны, ибо каждый из нас читал сокровенные мысли другого, хотя мы и не обменялись ни единым словом любви. Я не рассчитывал при этом, что девушка сразу сделается моей невестой — ведь мне еще нужно было завоевать себе место в жизни. Я только боялся, что если буду медлить и не выясню всех ее чувств, мой старший брат обратится раньше меня к отцу Лили и той придется принять его предложение, которое бы она отвергла, будь мы тайно помолвлены.
Случилось так, что именно в этот день мне было особенно трудно вырваться. Мой наставник-лекарь занемог, и мне пришлось вместо него навестить всех его больных и раздать им лекарства. Лишь в пятом часу вечера я, наконец, попросту сбежал, ни с кем не простившись.
Милю с лишним я бежал по нориджской дороге, пока не добрался до замка и поворота к церкви, откуда было уже недалеко до дитчингемского парка. Здесь я пошел шагом, ибо вовсе не хотел появляться на глаза Лили запыхавшимся и разгоряченным. Как раз сегодня мне хотелось выглядеть как можно лучше, и я нарочно надел свое воскресное платье.
Спустившись с невысокого холма на дорогу, за которой начинался парк, я вдруг увидел всадника: он остановился на перекрестке и нерешительно поглядывал то на тропу, уходившую вправо, то назад, на путь через общинные земли к Графскому Винограднику и реке Уэйвни, то вперед на большую дорогу. По-видимому, он не знал, куда ему ехать. Я все это тотчас заметил, хотя и соображал в тот миг не очень-то быстро, потому что голова моя была занята предстоящим разговором с Лили. И еще я заметил, что этот человек был не из наших краев.
Незнакомец — я дал бы ему на вид лет сорок — казался очень высоким, имел благородную осанку и был облачен в богатый бархатный наряд, украшенный золотой цепью, свисавшей у него с шеи. Однако внимание мое целиком захватило лицо незнакомца, в котором в тот миг проглянуло что-то страшное. Длинное, тонкое, изборожденное глубокими морщинами, оно было освещено огромными глазами, горевшими словно золото на солнце; маленький, красиво очерченный рот его кривила жестокая, дьявольская усмешка: едва заметный рубец выступал на высоком лбу, изобличавшем недюжинный ум. В остальном незнакомец имел облик южанина: он был смугл, его черные волосы слегка вились, так же как у меня он носил остроконечную темно-рыжую бородку.

К тому времени, когда я все это разглядел, я почтя поравнялся со всадником, и тут он, наконец, меня заметил. Мгновенно лицо его переменилось: злобная усмешка исчезла, и теперь оно казалось приятным и добродушным, Весьма вежливо приподняв шляпу, незнакомец что-то забормотал на таком ломаном английским жаргоне, что я разобрал только одно слово — Ярмут. Затем, сообразив, что я его не понимаю, он разразился громкой бранью на чистейшем кастильском наречии, проклиная английский язык и всех, кто на нем говорит.
Тогда я тоже перешел на его язык и сказал:
— Если сеньор соблаговолит высказать по-испански, что ему угодно, я, может быть, сумею ему помочь.
— Что такое? Вы говорите по-испански, благородный юноша! — воскликнул он с удивлением. — Но ведь вы не испанец, хотя могли бы им быть с вашей внешностью! Странно, — пробормотал он затем, разглядывая меня. — Черт побери, весьма странно…
— Может быть, это и странно, сэр, — ответил я, — но я тороплюсь. Поэтому скажите, что вам угодно и не задерживайте меня.
— А я, кажется, знаю, почему вы так спешите! Вот там, чуть подальше за ручейком, я заметил белое платьице, — проговорил испанец, указывая рукой в сторону парка. — Послушайтесь совета старшего я будьте осторожны, благородный юноша! Делайте с женщиной что хотите, но ни в чем ей не верьте, а главное — не женитесь, иначе вы доживете до такого часа, когда вам захочется ее убить!
Я сделал движение, чтобы пройти мимо, но испанец заговорил снова:
— Простите меня за эти слова: в них нет ничего худого. Со временем вы, может быть, поймете, что я говорил правду, но сейчас я не стану вас удерживать. Скажите только, по какой дороге я смогу добраться до Ярмута? Я приехал другим путем и теперь совсем запутался в вашей английской стране, где полно деревьев и даже на милю вперед ничего не видно!
Я прошел несколько шагов по тропинке, которая в этом месте сливалась с дорогой, и указал, как ему проехать к Ярмуту мимо дитчингемской церкви. При этом я заметил, что незнакомец все пристальнее всматривается в меня с затаенным страхом. Он словно силился его побороть и не мог. Когда я замолчал, всадник еще раз приподнял свою шляпу, поблагодарил меня и сказал:
— Не скажете ли вы, как вас зовут, благородный юноша?
— Что вам за дело до моего имени? — ответил я резко, потому что этот человек мне не нравился. — Вы ведь мне не сказали, как зовут вас!
— Да, в самом деле. Но я путешествую инкогнито. Может быть, у меня тоже было свидание с одной дамой здесь поблизости!
При этих словах незнакомец странно улыбнулся и продолжал:
— Я только хотел узнать имя того, кто любезно оказал мне услугу, но оказался на деле совсем не так любезен, как я думал.
И он тронул повод своего коня.
— Я своего имени не стыжусь! — ответил я. — До сих пор оно было незапятнанным, и если вы желаете его знать, то я вам скажу: меня зовут Томас Вингфилд!
— Я так и думал! — воскликнул незнакомец и лицо его исказилось от ненависти. Затем, прежде чем я успел хотя бы удивиться такой перемене, он соскочил с седла и очутился от меня в трех шагах.
— Счастливый день! Посмотрим теперь, сколько правды в предсказаниях, — пробормотал он, выхватывая из ножен отделанную серебром шпагу. — Имя за имя! Хуан де Гарсиа приветствует тебя, Томас Вингфилд!
Это может показаться странным, но только в тот момент я вспомнил все, что мне довелось услышать о каком-то испанце, появление которого в Ярмуте так взволновало отца и мать. В любое другое время мысль об этом возникла бы у меня тотчас же, но в тот день я думал только о моей встрече с Лили и о том, что я должен ей сказать, а потому ни для чего другого в моей голове просто не оставалось места.
«Наверное, это и есть тот самый человек», — сказал я себе. Больше я ни о чем не успел подумать, потому что испанец устремился на меня со шпагой в руке. Я увидел прямо перед собой тонкое острие и метнулся в сторону. Я хотел бежать, так как был совсем безоружен, если не считать дубинки, и в таком бегстве не было бы ничего постыдного. Однако при всей моей ловкости я прыгнул слишком поздно. Клинок, нацеленный прямо в сердце, прошел сквозь мой левый рукав и сквозь мякоть предплечья. Больше ничто не было задето и тем не менее боль от полученной раны сразу заставила меня позабыть о бегстве. Мной вдруг овладели холодная ярость и сильнейшее желание убить этого человека, который без всякого повода набросился на безоружного. В руках у меня был мой верный дубовый посох, который я вырезал у подножия Двойного Холма. Мне оставалось только воспользоваться этой дубинкой наилучшим образом.
Дубинка кажется жалким оружием по сравнению с толедским клинком в руках искусного бойца. Но у нее есть одно достоинство. Когда дубинка взлетает над вами, вы сразу забываете о том, что у вас в руках смертоносная сталь, и вместо того, чтобы пронзить ею врага, стараетесь прежде всего защитить свою голову.
Именно это и произошло в данном случае, хотя я и не могу рассказать, как в точности было дело. Испанец оказался умелым фехтовальщиком. Если бы я был вооружен так же, как он, ему, несомненно, удалось бы со мной быстро справиться. В те годы я не имел ни малейшего опыта в этом искусстве, которое в Англии было почти совершенно неизвестно. Но когда он увидел здоровенную палку, опускавшуюся на его голову, он забыл о своем преимуществе и выставил руку, чтобы смягчить удар. Дубинка обрушилась на тыльную часть его кисти. От удара шпага вылетела и упала в траву. Однако я уже не мог уняться, потому что вся кровь во мне кипела. Следующий удар пришелся испанцу по губам: он выбил ему зуб и свалил его на землю. Затем я схватил его за ногу и принялся беспощадно молотить куда попало, стараясь только не попасть по голове, ибо теперь, когда я одержал верх, мне уже не хотелось убивать негодяя.
Так я колотил его до тех пор, пока у меня не устали руки. После этого я принялся пинать его ногами, а он все время корчился, как змея с перебитым хребтом, и изрыгал сквозь зубы ужасные проклятия. Однако он ни разу не вскрикнул и не попросил пощады. Наконец я утихомирился и стал разглядывать своего противника. Воистину он был хорош — весь в ссадинах, синяках и дорожной пыли. Сейчас вряд ли кто-нибудь узнал бы в нем изящного кавалера, которого я встретил менее пяти минут назад. Теперь он лежал передо мной на спине поперек тропинки и смотрел на меня злобными главами, взгляд которых был отвратительнее всех его кровоподтеков.
— Ну как, мой испанский сеньор, получил по заслугам? — спросил я. — Не знаю, что меня удерживает, а следовало бы разделаться с тобой точно так же, как ты хотел поступить со мной, хотя я тебя и не трогал!
С этими словами я поднял его шпагу и приставил острие к его горлу.
— Коли, проклятый выродок! — прохрипел испанец. — Лучше умереть, чем жить после такого позора!
— О нет! — ответил я. — Я не какой-нибудь чужеземный убийца. Безоружных я не убиваю. Тебе придется ответить за все перед судом. Для таких, как ты, у наших палачей всегда есть в запасе веревка.
— В таком случае тебе придется тащить меня в суд на себе, — прохрипел он и закрыл глаза, словно потеряв сознание. По-видимому, с ним действительно случился обморок.
В тот момент, когда я стоял и раздумывал, что мне дальше делать с этим мерзавцем, взгляд мой случайно упал на просвет в живой изгороди, и там, среди рабсвеллских дубов, в каких-нибудь трехстах ярдах от меня вдруг мелькнуло знакомое белое платьице. Мне показалось, что его обладательница удаляется в сторону мостика вблизи водопоя, словно наскучив ждать того, кто слишком запоздал. Тогда я подумал, что если потащу этого человека в деревенскую каталажку или в какое-нибудь другое надежное место, мне уже не удастся сегодня встретиться с моей любимой, а когда еще выпадет такой случай — бог весть! Нет, я вовсе не собирался терять час беседы с Лили ради сведения счетов со всеми не в меру воинственными чужеземцами. К тому же этот и без того получил уже хороший урок за свою наглость. Я подумал, что он и так никуда не денется, пока я улажу мои любовные дела, а если он сам не захочет меня подождать, то я найду способ его к этому принудить.
Конь испанца пощипывал траву шагах в двадцати от меня. Я подошел к нему, отцепил поводья и как можно крепче привязал чужеземца к стоявшему поодаль от дороги дереву.
— Подожди меня здесь, пока я не освобожусь, — проговорил я. — Потом я с тобой разделаюсь.
Но когда я повернулся и начал удаляться, в душу мою закралось сомнение. Я снова вспомнил страх матери и поспешный отъезд отца в Ярмут из-за какого-то испанца. А сегодня испанец появляется в Дитчингеме и, едва узнав мое имя, набрасывается на меня как бешеный, пытаясь убить. Может быть, это и есть тот самый человек, которого так боялась моя мать? Правильно ли я сделал, оставив его без присмотра только ради того, чтобы встретиться со своей милой? В глубине души я чувствовал, что совершаю ошибку, однако страсть моя была так глубока, а сердце влекло меня с такой неудержимой силой к девушке в белом платьице, мелькавшем среди деревьев парка, что я позабыл все свои опасения.
Если бы я вернулся, насколько бы это было лучше и для меня я для тех, кого в то время еще не было на свете! Тогда они не познали бы ужаса смерти, а я не вкусил бы тоску изгнания, горечь рабства и муки отчаяния на жертвенном алтаре.
Глава IV
ТОМАС ПРИЗНАЕТСЯ В ЛЮБВИ
Итак, я привязал испанца как можно надежнее спиной к дереву, стянув ему руки позади ствола, взял его шпагу и бросился со всех ног вслед за Лили. Подоспел я вовремя, потому что еще минута — и она бы уже свернула на дорогу, которая ведет мимо водопоя к мостику и дальше через парк на холме выходит прямо к дому сквайра.
Заслышав мои шаги, Лили обернулась, чтобы поздороваться со мной, или, вернее, чтобы посмотреть, кто это за нею бежит. Озаренная вечерним светом, она стояла с охапкой цветущих ветвей боярышника в руках, и при виде ее сердце мое забилось с бешеной силой. Никогда еще она не казалась мне более прекрасной, чем в тот миг, когда остановилась вот так, в белом платье, с полупритворным удивлением на лице и в глубине серых глаз, с бликами солнца из прядях каштановых волос, выбившихся из-под маленького чепчика.
Лили не походила на круглощеких деревенских девчонок, вся краса которых заключается в их молодости и здоровье. Она была высокой, стройной юной леди, уже тогда достигшей полного расцвета грации и красоты. Поэтому, несмотря на то, что мы были почти ровесниками, рядом с ней я себя чувствовал младшим, и это чувство придавало моей любви к Лили особый оттенок почтительности.
— Ох, это ты, Томас! — проговорила Лили, розовая от смущения. — А я уже думала, ты не придешь. То есть, я хотела сказать, что собралась домой, потому что уже поздно. Но что с тобой, Томас? Откуда ты так мчишься? Ой, у тебя вся рука в крови! А эта шпага — где ты ее взял?
— Погоди, дай отдышаться, — ответил я. — Давай пройдем обратно к боярышнику, там я тебе все расскажу.
— Но ведь мне пора домой! Я гуляю в парке уже больше часа. Да и цветов на боярышнике почти нет.
— Лили, я не мог прийти раньше! Меня задержали, да еще так необычно! А цветы есть, я видел, когда бежал…
— А я и не знала, что ты придешь, Томас, — проговорила Лили, потупив взор. — Ведь у тебя столько дел! Разве я думала, что ты прибежишь сюда собирать боярышник, словно девочка? Но расскажи мне, что случилось, только не очень длинно. Я немного пройдусь с тобой.
Мы повернулись и пошли рядышком обратно к подстриженным дубам парка. По дороге я рассказал Лили про испанца, о том, как он пытался меня убить и как я его отделал своей дубинкой, Лили слушала с жадным вниманием и, узнав, что я был на волосок от смерти, даже застонала от страха.
— Значит, ты ранен, Томас? — прервала она меня. — Смотри, как сильно бежит кровь из руки. Рана глубокая?
— Не знаю, я еще не видел… так спешил!..
— Томас, снимай куртку! Я тебя перевяжу. Нет, нет, не спорь! Так надо.
Не без труда я стянул куртку и закатал рукав рубашки выше того места, где в предплечье была сквозная колотая рана. Лили промыла ее водой из ручья и, не переставая шептать жалостливые слова, перевязала своим платком. По совести говоря, я охотно претерпел бы еще большие страдания, лишь бы она за мной так ухаживала. Ее нежные заботы избавили меня от последних сомнений и придали мне мужество, которое могло бы меня покинуть в ее присутствии. Правда, сначала я не мог найти слов, но, улучив момент, когда Лили перевязывала мою рану, я нагнулся и поцеловал ее милосердную руку.
Лили покраснела до корней волос; лицо ее пылало, словно закатное небо; но еще ярче алела ее рука, которую я поцеловал.
— Зачем это, Томас? — прошептала она.
И тогда я ответил:
— Затем, что я люблю тебя, Лили, и не знаю, как мне рассказать о своей любви. Я люблю тебя, дорогая, я всегда любил и буду любить тебя вечно!
— Ты уверен в себе, Томас? — снова прошептала она.
— Я верю в свою любовь больше всего на свете, Лили! Но я хочу быть уверен, что ты тоже любишь меня так же сильно, как я.
Несколько мгновений Лили стояла молча, опустив на грудь голову. Затем она вскинула ее, и я увидел такие сияющие глаза, каких до этого не видел ни разу.
— Неужели ты сомневаешься, Томас? — проговорила Лили. Тогда я обнял ее и поцеловал прямо в губы.
Воспоминания об этом поцелуе я хранил потом всю мою долгую жизнь и помню его до сих пор, хотя я уже стар и сед и стою на краю могилы. Поцелуй этот был для меня величайшим счастьем, какое мне довелось испытать. Увы, он был слишком короток, этот первый чистый поцелуй юношеской любви!
— Значит, — заговорил я снова, еще не придя как следует в себя, — значит, ты любишь меня так же крепко, как я тебя?
— Если ты сомневался раньше, то неужели ты еще сомневаешься теперь? — едва слышно ответила Лили. — Однако послушай, Томас, — продолжала она. — Любить друг друга — прекрасно! Мы рождены друг для друга и даже если бы захотели разлюбить, это было бы не в нашей власти. Но как ни сладка и ни свята любовь, нельзя забывать о долге. Что скажет мой отец, Томас?
— Не знаю, любимая, хотя догадаться нетрудно. Я уверен, что он хочет избавиться от меня и выдать тебя за моего брата Джеффри.
— Может быть, но я этого не хочу, Томас. Как бы ни было сильно чувство долга, оно не сможет принудить женщину к замужеству с тем, кто ей не мил. Однако чувство это может помешать ей выйти замуж за любимого, и, повинуясь долгу, я, наверное, не должна была говорить о своей любви.
— О нет, Лили! Любовь — это самое главное, пусть даже она не приносит сразу плодов. Все равно мы будем вместе отныне и навсегда!
— Ах, Томас, ты еще слишком молод, чтобы так говорить. Я тоже молода, однако мы, женщины, быстрее становимся взрослыми. А у тебя… что, если у тебя это только юношеское увлечение, что, если оно пройдет вместе с юностью?
— Оно не пройдет никогда, Лили. Не зря ведь говорят, что первая любовь — самая верная, и что посеянное в юности расцветет в зрелые годы. Слушай, Лили, мне придется завоевывать себе место в жизни, а для этого, наверное, потребуется время. Я прошу тебя лишь об одном, хотя и знаю, что просьба моя эгоистична: обещай, что будешь мне верна и ни за что не станешь женою другого, пока я жив!
— Это не просто, Томас, потому что со временем многое изменяется. Однако в себе я уверена, и я обещаю, — нет, я даю тебе в этом клятву! В тебе я не так уверена, но что делать? Женщинам приходится рисковать всем. Если я проиграю, — прощай, мое счастье!
Не знаю, о чем мы еще говорили, но эти слова врезались мне в память, — и я их запомнил: они были слишком значительны сами по себе, и я слишком часто их вспоминал в последующие годы.
Наконец, я почувствовал, что мне пора уходить, хотя расставаться нам очень не хотелось. На прощание я еще раз обнял Лили и поцеловал, прижав ее к себе так крепко, что несколько капель крови из моей раны упало на ее белое платье. Случайно я поднял в этот миг глаза и замер от страха. Не далее как в пяти шагах стоял отец Лили, сквайр Бозард, и смотрел на нас далеко не ласковым взглядом.
Как потом оказалось, сквайр Бовард ехал по тропинке к водопою я, заметив под дубами какую-то парочку, слез с коня, чтобы прогнать ее из своего парка. Только подойдя совсем близко, он узнал, кого он собирался прогнать, и теперь стоял перед нами, остолбенев от изумления.
Лили и я медленно отодвинулись друг от друга, глядя на сквайра Бозарда. Это был низенький толстый человечек с красным лицом и строгими серыми глазами; сейчас они от ярости едва не выскакивали из орбит. На какое-то мгновение сквайр утратил дар речи, но когда он обрел его вновь, слова полились из его уст сплошным потоком. Я уже не помню всего, что он кричал, но общий смысл сводимся к тому, что сквайр хотел бы знать, что тут происходит между его дочерью и мной. Я подождал, пока он замолчит, чтобы перевести дух, и, воспользовавшись паузой, ответил ему, что мы с Лили любим друг друга и сейчас обручились.
— Это правда, дочь моя? — спросил сквайр.
— Да, правда, — смело ответила Лили.
Тогда он разразился бранью.
— Вертихвостка! — кричал сквайр. — Тебя следует выпороть и запереть, чтобы ты посидела на хлебе да на воде! А ты, мой петушок, испанский ублюдок, запомни раз и навсегда: эта девушка не про тебя! Для нее найдется кто-нибудь получше! Ах ты, пустая коробка из-под пилюль! Да как же ты осмелился волочиться за моей дочерью, когда у тебя в кармане не звенит и двух серебряных пенни? Сначала добудь себе имя и деньги, а потом уже заглядывайся на таких, как она!
— Я так я хочу сделать, и я это сделаю, сэр, — перебил я его.
— Ты сделаешь? Ты, аптекарский мальчишка на побегушках, хочешь добиться имени и положения? Что ж, попробуй! Только пока ты будешь стараться, моя дочь не станет ждать и благополучно выйдет замуж за того, кто всем этим уже обладает — ты знаешь, о ком идет речь. Дочь моя, сейчас же скажи ему, что между вами все кончено!
— Я не могу так сказать, отец, — ответила Лили, поправляя оборки на своем платье. — Если вы не желаете, чтобы я стала женой Томаса, я исполню свой долг и не выйду за него замуж. Но у меня тоже есть сердце, и ничто меня не заставит стать женой того, кого я не люблю. Я поклялась, что пока Томас жив, я буду принадлежать только ему, и никому другому.
— Я вижу, ты смелая девчонка, и то хорошо! — проговорил сквайр. — Но теперь послушай, что я тебе скажу: либо ты выйдешь замуж за того, кого я тебе выбрал, и тогда, когда я прикажу, либо я тебя выгоню — и живи, как хочешь. Неблагодарная, ты забыла, кто тебя вырастил? А что же до тебя, клистирная трубка, то я тебя отучу целоваться в кустах с дочками честных людей.
И с этими словами он поднял палку и бросился на меня.
Второй раз в этот день горячая кровь вскипела во мне. Я схватил шпагу испанца, которая валялась рядом со мной на траве, и сделал выпад. Положение переменилось. Раньше мне пришлось драться дубиной против шпаги, зато теперь шпага была в моих руках. И если бы не Лили, которая, коротко вскрикнув от страха, успела ударить меня снизу по руке, так что клинок скользнул над плечом сквайра, я наверняка проткнул бы ее отца насквозь и окончил свои дни гораздо раньше — с петлей на шее.
— Безумец! — воскликнула Лили. — Неужели ты думаешь, что получишь меня, если убьешь моего отца? Сейчас же брось эту шпагу, Томас!
— Я вижу, тут надеяться мне почти не на что, — запальчиво возразил я, — а потому скажу тебе, что даже ради всех девушек на свете я никому не позволю избить меня палкой, как какого-нибудь мальчишку!
— За это я на тебя не сержусь, парень, — проговорил сквайр Бозард уже добродушнее. — Вижу, что у тебя тоже есть мужество, которое тебе сослужит добрую службу, и считаю, что был не прав, когда я сердцах обозвал тебя клистирной трубкой. Но я уже сказал, что эта девушка не для тебя, а потому лучше тебе уйти и забыть ее. И берегись, если я еще когда-нибудь увижу, что ты ее целуешь! За это ты поплатишься жизнью. Завтра я еще поговорю обо всем с твоим отцом, так и знай!
— Ну что ж, пойду, потому что мне пора уходить, — ответил я. — Однако я никогда не перестану надеяться, сэр, что когда-нибудь смогу назвать вашу дочь своей женой. Прощай, Лили! Переждем, пока буря утихнет!
— Прощай, Томас! — ответила она, заливаясь слезами. — Не забывай меня! А я свою клятву всегда буду помнить!
Но тут сквайр Бозард схватил ее за руку и увлек за собой.
Мне тоже осталось только уйти, и я удалился расстроенный, однако не слишком огорченный, ибо знал, что хотя и навлек на себя гнев отца, зато одновременно завоевал искреннюю любовь дочери, а любовь длится дольше, чем злоба, и, в конечном счете, рано или поздно побеждает.
Отойдя на некоторое расстояние, я, наконец, вспомнил о моем испанце: за всеми этими любовными и палочными объяснениями он у меня начисто выскочил из головы. Я тотчас повернул вспять, чтобы оттащить испанца в каталажку, заранее испытывая от этого удовольствие, потому что был рад хоть на ком-нибудь сорвать злость. Но судьба спасла его руками дурака. Добравшись до места, я увидел, что испанец исчез, а возле дерева, к которому он был накрепко прикручен, стоит деревенский дурачок Билли Минис к поглядывает то на дерево, то на серебряную монету у себя на ладони.
— Эй, Билли! Где человек, который был здесь привязан? — спросил я.
— Не знаю, мастер Томас, — прошепелявил он на своем норфолкском наречии, — я здесь не стану его воспроизводить. — Должно быть, уже полпути промчался, а куда — не знаю. Уж очень он быстро поскакал, когда я его подсадил на лошадь.
— Ты посадил его на коня, дурак? Когда это было?
— Когда было? Почем мне знать. Может, час прошел, а может, два. Мы во времени не разбираемся. Оно само ведет счет, нас не спрашивая, как хозяин харчевни. Ого, поглядели бы вы, как он поскакал! Шпоры-то у него длиннющие, а он прямо воткнул их в бока своей лошадке! И не диво! Подумать только — среди бела дня посреди королевской дороги на него напали разбойники! Бедняга едва не рехнулся от страха. Слова сказать не мог, только блеял, точно овца. Но Билли развязал его, поймал ему лошадь и посадил на седло. А за свое доброе дело Билли получил вот эту монетку. Ну и обрадовался же он, когда я его отпустил! Ого! Видели бы вы, как он мчался!
— Ты еще больший дурак, чем я думал, Билли Минис! — сказал я в сердцах. — Ведь этот человек едва не убил меня! Я с ним справился, связал, а ты его отпустил…
— Значит, он хотел вас убить, мастер, а вы его связали? Почему же тогда вы не посторожили его, пока я подойду? Тогда бы мы отвели его и посадили в колодки. Для нас это все равно, что раз плюнуть. Вот вы обозвали меня дураком. А если бы вы нашли человека, привязанного к дереву, всего в крови и в синяках, который даже говорить не может от страха, разве бы вы его не освободили? Вот он и удрал, и осталась от него только эта штучка!
И дурачок подбросил в воздух монету.
Сообразив, что на сей раз Билли прав и что я сам во всем виноват, я повернулся и, не говоря ни слова, направился к дому, однако не напрямик, а по тропинке, которая пересекала дорогу и вела к вершине холма «Графский Виноградник». Мне хотелось побыть немного одному и обдумать все, что произошло между мной, Лили и ее отцом.
Мой путь лежал по склону, поросшему густым подлеском, среди которого возвышались огромные дубы. Они и сейчас виднеются ярдах в двухстах от дома, где я пишу. Подлесок был прорезан тропинками, по которым частенько гуляла моя покойная мать. Одна из этих тропинок проходила у подножия холма вдоль берега живописной Уэйвни, а вторая шла параллельно ей футов на сто выше, по гребню холма. Иными словами говоря, эти тропинки или, вернее, одна замкнутая тропинка образовывала как бы вытянутый овал, короткие стороны которого поднимались по склонам холма.
Вместо того чтобы направиться вверх по тропинке прямо к дому, я немного спустился и пошел по ее нижней части вдоль берега. Здесь с одной стороны от меня текла река, с другой — рос густой кустарник. Я брел, опустив глаза, погруженный в глубокое раздумье о нашей любви, о горечи расставания с Лили и о гневе ее отца. Что-то белое попалось мне под ноги. Занятый своими мыслями, я не обратил внимания на эту тряпку и просто отбросил ее в сторону кончиком испанской шпаги. Однако форма и выработка этого куска материи остались в моей памяти. Я прошел еще шагов триста и был уже недалеко от дома, когда вдруг снова представил себе мягкую, нежную вещицу, брошенную на траву. В ней было что-то очень знакомое! Невольно мысль моя перескочила с клочка белой материи на испанскую шпагу, которой я его отбросил в сторону, а со шпаги — на ее владельца. Что привело его в наши края? Наверняка какое-нибудь недоброе дело. Почему он при виде меня испугался и почему, узнав мое имя, напал на меня?
Я остановился, все еще глядя себе под ноги. Случайно взгляд мой упал на следы, отпечатавшиеся на сыром песке тропинки. Это были следы моей матери. Я узнал бы их среди тысячи других, потому что такой маленькой ножки не было ни у одной женщины во всей округе.
Рядом с ними, словно преследуя их, шли другие следы. Сначала я их принял за женские, настолько они были узки, но тут же сообразил, что это не так: чересчур длинные для женской ноги отпечатки оставила совершенно незнакомая мне обувь со слишком острым носком и на слишком высоком каблуке. И тут я вдруг вспомнил, что на испанце были именно такие сапоги; я хорошо их разглядел, пока с ним разговаривал. Значит, это его следы шли за следами моей матери! Значит, он бежал за нею, потому что во многих местах следы сходились вплотную, а кое-где на сыром песке остались только отпечатки его ног, под которыми исчезли следы матери. И в тот же миг я догадался, какую белую тряпку я отбросил в сторону. Это была мантилья моей матери! Я ее узнал, потому что видел каждый день ее на голове матери, а тут она валялась на земле. Все это я сообразил мгновенно и оцепенел от невыносимого, острого ужаса. Зачем этот человек преследовал мою мать, и почему ее мантилья очутилась на тропинке?!
Я повернулся и бросился бежать как одержимый к тому месту, где заметил белое кружево. Следы все время были передо мной. Вот и то место. Да, это был головной убор моей матери, словно сорванный грубой рукой. Но где же она сама?
С замирающим сердцем я снова склонялся над отпечатками ног, стараясь их разобрать. Здесь они перемешались, как будто два человека кружились на месте то в одну, то в другую сторону, борясь друг с другом. Дальше на тропинке не было видно ничего. Тогда я начал рыскать вокруг, словно гончая. Сначала я направился в сторону реки, затем вверх по склону. Здесь следы появились вновь: одни убегали, а другие их преследовали. Я шел по ним ярдов пятьдесят с лишним, иногда теряя их на мягком дерне, но снова находя на песке или на суглинке. Так они привели меня к стволу большого дуба и тут снова смешались, потому что здесь преследователь настиг свою жертву.
Теперь я понял все и почти обезумел от страха. Беспорядочно, словно в кошмаре, я заметался во все стороны, пока не увидел продолжения следов — следов испанца. Отпечатки были четкими я глубокими, как будто человек нес какой-то тяжелый груз. Я пошел по этим следам. Сначала они вели меня вниз по склону холма к реке, затем свернули в сторону, к тому месту, где взросли кустарника были гуще. В самой чащобе, уже покрытые листьями, ветки были пригнуты к земле, словно для того, чтобы что-то скрыть. Я отвел их в сторону. В наступивших сумерках передо мной смутно белело мертвое лицо моей матери.
Глава V
ТОМАС ДАЕТ КЛЯТВУ
Не знаю, сколько времени я простоял, пораженный ужасом, над телом любимой матери, Потом я попробовал поднять ее и увидел, что грудь ее пронзена, пронзена той самой шпагой, которая все еще была у меня в руке.
Тогда я понял все. Это сделал испанец! Я встретил его, когда он спешил уйти подальше от места преступления. Узнав, чей я сын, он пытался убить меня из ненависти или по какой-то другой причине. И я держал этого дьявола в своих руках и упустил его, не отомстив только потому, что мне хотелось набрать цветущего боярышника для своей милой! Если бы я знал правду, я бы сделал с ним то же самое, что делают жрецы Анауака с теми, кого приносят в жертву своим богам!
Когда я все это осознал, слезы горечи, бешенства и стыда хлынули из моих глаз. Я повернулся и, как безумный, бросился бежать к дому.
Я встретил отца и моего брата Джеффри у ворот — они возвращались верхом с бангийского рынка, У меня было такое лицо, что, увидев его, оба закричали в один голос:
— Что? Что случилось?
Трижды я поднимал на отца глаза и не решался ответить, боясь, что этот удар его сразит. Но я должен был говорить и в конце концов сказал все, обращаясь к моему брату Джеффри:
— Там, у подножия холма, лежит наша мать, Ее убил испанец по имени Хуан де Гарсиа.
Услышав мои слова, отец побелел так страшно, словно у него остановилось сердце. Челюсть его отвалилась, и глухой стон вырвался из широко раскрытого рта. Однако, уцепившись рукой за луку, он удержался в седле и, склонив ко мне бледное, как у призрака лицо, спросил:
— Где испанец? Ты убил его?
— Нет, отец. Я встретился с ним случайно близ Грабсвелла. Когда он узнал мое имя, он хотел убить меня, но я обломал об него дубинку, избил его в кровь и отнял у него шпагу.
— Ну, а потом?
— А потом я его упустил, потому что не знал, что он сделал с моей матерью. Я все расскажу вам после…
— И ты отпустил его? Ты отпустил Хуана де Гарсиа? Пусть же проклятие божье лежит на тебе, сын мой Томас, до тех пор, пока ты не докончишь того, что начал сегодня!
— Не проклинайте меня, отец, я уже сам себя проклял в душе. Поверните лучше коней и скорее скачите в Ярмут, потому что он отправился туда часа два назад. Там стоит его корабль. Может быть, вы успеете его захватить, пока он не уплыл.
Не говоря больше ни слова, отец и брат круто развернули коней и канули во мрак наступающей ночи.
Всю дорогу они мчались галопом. Кони у них были добрые, и через полтора с небольшим часа бешеной скачки они добрались до Ярмута. Но стервятник уже улетел. По его следам они бросились в порт и узнали, что совсем недавно он отплыл на ожидавшей его лодке к своему кораблю, который стоял на рейде на якоре, заранее распустив почти все паруса. Приняв испанца на борт, корабль тотчас отплыл и затерялся в ночи. Тогда мой отец приказал объявить, что заплатит двести золотых монет тому, кто захватит убийцу, и два корабля пустились за ним в погоню. Но они не успели его перехватить. Задолго до рассвета испанский корабль вышел в открытое море и скрылся из виду.
Тем временем, когда отец и брат ускакали, я созвал всех слуг и работников и объявил им о том, что произошло. Затем, захватив фонари, потому что стало уже совсем темно, мы направились к густым зарослям кустарника, где лежало тело моей матери. Я шел впереди, потому что слуги трусили. Я тоже боялся, сам не знаю чего. Совершенно непонятно, почему мать, которая так нежно любила меня при жизни, теперь после смерти внушала мне такой ужас? Тем не менее, когда мы пришли на место и когда я увидел в темноте два горящих глаза и услышал треск сучьев, я едва не упал от страха, хотя и знал, что это может быть только лисица или какая-нибудь бродячая собака, привлеченная запахом смерти.
Наконец я приблизился к матери и подозвал слуг. Мы положили ее тело на дверь, снятую для этого с петель, и так в последний раз моя мать вернулась домой.
Эта тропинка навсегда останется для меня проклятым местом. С того дня, как моя мать погибла от руки своего двоюродного брата Хуана де Гарсиа, прошло семьдесят с лишним лет; я состарился и привык ко всяким ужасам, но все равно до сих нор не решаюсь ходить этой тропой один, особенно по ночам.
Я знаю, что воображение часто выкидывает с нами злые шутки, однако, когда с год назад я отправился расставлять силки на тетеревов и очутился в ноябрьских сумерках под тем самым дубом, готов поклясться, что вся эта сцена снова предстала предо мной. Я видел самого
себя молодым парнем: моя раненая рука все еще была повязана Лилиным платком. Я медленно спускался по склону холма, а за мной, сгибаясь под тяжестью страшной ноши, двигались силуэты четырех слуг. Как семьдесят лет назад, я снова слышал ропот волн и шум ветра, который шептался с речным камышом. Я видел облачное небо с разбросанными по нему редкими темно-синими просветами и колеблющиеся отблески фонарей на белой, вытянувшейся на двери фигуре с кровавым пятном на груди. Да, да, я сам слышал, как, идя впереди с фонарем в руках, приказывал слугам взять правее, чтобы обойти выбоину, и странно мне было слышать свой собственный юношеский голос. Я знаю, хорошо знаю, что это было только видение, но все мы — рабы своего воображения и все мы боимся мертвых, а потому даже мне страшно ходить по ночам по этой тропинке, хотя я и сам уже наполовину мертвец.
Но вот мы дошли с нашей ношей до дома, где женщины приняли ее и, рыдая, приступили к последнему обряду. Мне пришлось бороться не только с собственным отчаянием, но и заботиться о моей сестре Мэри; за нее я боялся больше всего. Я думал, что она сойдет с ума от ужаса и горя, но под конец она впала в какое-то оцепенение, а я спустился вниз и принялся расспрашивать слуг, сидевших в кухне вокруг очага. В ту ночь никто не ложился спать.
От слуг я узнал, что примерно за час или чуть побольше до того, как я встретился с испанцем, они видели на тропинке, ведущей к церкви, богато разодетого незнакомца. Он привязал своего коня среди кустов ежевики и дрока на вершине холма, некоторое время постоял, словно в нерешительности, пока моя мать не вышла из дому, а затем начал спускаться следом за ней. Я узнал также, что один из наших людей, работавших в саду, расположенном в каких-нибудь трехстах шагах от того места, где было совершено убийство, слышал крики, однако не обратил на них внимания. Он решил, что там забавляется какая-то парочка из Банги, затеявшая обычную майскую беготню по лесу. Воистину в тот день мне казалось, что весь наш дитчингемский приход превратился в приют для дураков, среди которых первым и самым тупым идиотом был я. Эта мысль с тех пор не раз приходила мне в голову уже в иных обстоятельствах.
Но вот пришло утро, и вместе с ним вернулись из Ярмута мой отец и брат. Они прискакали на чужих конях, потому что своих загнали. Следом за ними к полудню пришла весть, что корабли, отплывшие на поиски испанца, из-за шторма вернулись в порт, так и не увидев его судна.
Ничего не утаивая, я рассказал отцу все о моем столкновении с убийцей матери и выдержал новый приступ отцовского гнева за то, что, зная о страхе моей матери пред неким испанцем, не послушался голоса разума и упустил убийцу ради беседы со своей любимой. Брат мой Джеффри тоже не выразил мне ни малейшего сочувствия. Девушка нравилась ему самому, и он разозлился на меня, когда узнал, что мой разговор с Лили не был безрезультатным. Но об этой причине своей неприязни брат промолчал. И последней каплей, переполнившей чашу, было появление сквайра Бозарда, приехавшего вместе с другими соседями взглянуть на покойную и посочувствовать отцу в его утрате. Покончив с соболезнованиями, он тут же заявил, что моя помолвка с Лили произошла против его воли, что он этого не потерпит и что если я буду по-прежнему за ней волочиться, их старой дружбе с отцом придет конец.
Удары сыпались со всех сторон. Смерть любимой матери, тоска по возлюбленной, с которой меня разлучили, угрызения совести за то, что я выпустил испанца буквально из рук, гнев отца и злоба брата — все разом обрушилось на меня. Воистину эти дня были так беспросветно горьки, что в том возрасте, когда стыд и горе воспринимаются всего острее, я мечтал только об одном — умереть и лечь в землю рядом с матерью. Единственное, что меня поддержало тогда, это записка от Лили, переданная с ее доверенной служанкой. В ней Лили уверяла меня в своей нежной любви и заклинала не падать духом.
Наконец наступил день похорон, и мою мать, облаченную в белоснежные одежды, опустили на предназначенное ей место в приделе дитчингемской церкви. Там же, рядом с нею, покоится ныне и мой отец, а чуть поодаль, под бронзовыми изваяниями, — родители Лили и все их многочисленные дети.
Эти похороны были для меня мучительны. Не в силах сдержать свое горе, отец разрыдался, а моя сестра Мэри без чувств упала мне на руки. Почти все в церкви плакали, потому что хотя моя мать и была по рождению чужестранкой, ее все любили за обходительность и доброе сердце.
Но вот похороны подошли к концу. Благородная испанская дама и жена англичанина уснула последним сном в старой церкви, где она будет покоиться еще долго после того, как люди позабудут не только ее трагическую историю, но и самое ее имя. А это, как видно, случится скоро, потому что из всех Вингфилдов в наших краях остался в живых один я. У сестры моей Мэри, правда, есть наследники, к которым перейдет все мое состояние, за исключением некоторых пожертвований на бедных Банги и Дитчингема, однако они уже носят другое имя.
Когда все было кончено, я вернулся домой. Отец сидел в гостиной, погруженный в безысходную скорбь, а рядом с ним — мой брат Джеффри. Отец снова начал осыпать меня самыми горькими упреками за то, что я упустил убийцу, когда сам бог отдал его в мои руки.
— Вы забываете, отец, он же любезничал с девушкой, — язвительно заметил Джеффри. — А это для него, видно, было куда важнее, чем спасение матери. Ну что же, зато он сразу убил двух зайцев: позволил убийце бежать, хоть и знал, что наша мать больше всего боялась появления испанца, и заодно поссорил нас со сквайром Бозардом, нашим добрым соседом, которому почему-то весьма не понравилось подобное ухаживание.
— Да, ты прав, — отозвался отец. — Кровь матери на твоих руках, Томас!
Я слушал и чувствовал, что больше не в силах переносить подобную несправедливость:
— Все это ложь! — воскликнул я. — И я это повторю даже родному отцу, Ложь! Этот человек убил мою мать до того, как я его встретил. Он уже возвращался в Ярмут к своему кораблю и только случайно сбился с дороги. Почему же вы говорите, что кровь матери на моих руках? Что же до моего ухаживания за Лили Бозард, то это уже мое дело, братец, а не твое, хотя тебе, конечно, хотелось бы, чтобы все было иначе! А вы, отец, почему вы не сказали мне раньше, что боитесь этого испанца? Я слышал только какие-то намеки и не обратил на них внимания, потому что думал о другом. А теперь слушайте, что я вам скажу. Вы, отец, призвали на меня проклятие божье, чтобы оно тяготело надо мной до тех пор, пока я не найду убийцу и не завершу того, что начал. Да будет так! Пусть преследует меня проклятие божье, пока я его не найду. Я еще молод, но зато силен и ловок, С первой же оказией я отправляюсь в Испанию и буду охотиться за ним до тех пор, пока его не прикончу или не узнаю, что он уже мертв. Если вы дадите денег, чтобы помочь мне в поисках, — хорошо; если нет — обойдусь и без них. Но перед богом и перед духом моей матери я клянусь, что не успокоюсь и не остановлюсь до тех пор, пока не заколю злодея той же самой шпагой, которой была убита она, пока не отомщу за ее кровь убийце или не уверюсь, что он умер, и если я когда-либо почему-либо нарушу свою клятву, пусть погибну я еще более страшной смертью, чем погибла мать, пусть душа моя будет отвергнута в небесах, а имя мое навсегда опозорено на земле!
Так в ярости и отчаянии я дал клятву, воздев руки к небу, чтобы призвать его в свидетели истинности моих слов.
Отец смотрел на меня с одобрением.
— Если ты решился, сын мой Томас, в деньгах у тебя не будет недостатка, — сказал он. — Я бы сделал это сам, ибо кровь можно смыть только кровью, но силы мои уже не те. А потом меня слишком хорошо знают в Испании, и Святое Судилище меня сразу найдет. Отправляйся же, и да будет с тобой мое благословение! Ты должен это сделать, потому что наш враг ускользнул от нас по твоей оплошности.
— Да, да, он должен ехать, — поддакнул мой брат Джеффри.
— Ты это говоришь только потому, что рад от меня избавиться, — ответил я ему со злостью. — А избавиться от меня тебе хочется для того, чтобы занять мое место подле одной девушки, которую мы оба знаем. Ты хочешь воспользоваться моим отсутствием. Что ж, попытайся, если совесть тебе позволяет! Но помни — козни за моей спиной не доведут тебя до добра!
— Девушка достанется тому, кто сумеет ее завоевать, — ответил Джеффри.
— Сердце девушки уже завоевано, братец. Ты можешь купить у ее папаши только тело, но никогда не получишь души, а тело без души — незавидная добыча!
— Довольно! — вступился отец. — Не время сейчас болтать о любви и о девушках. Слушайте меня! Я расскажу вам о вашей матери и об испанце, который ее убил. Раньше я не говорил об этом, но теперь я должен сказать вам все.
И отец начал:
«Когда я был молодым парнем, мне пришлось по воле отца отправиться в Испанию. Я попал в монастырь в городе Севилье, однако монахи и монашеская жизнь не пришлись мне по душе, и я оттуда сбежал. Год с лишним я перебивался как мог, потому что после бегства из монастыря боялся вернуться в Англию. Впрочем, жил я не так уж плохо, добывая деньги разными случайными способами, но главным образом — стыдно признаться! — азартными играми, в которых мне всегда везло. И вот однажды ночью за игорным столом я встретил Хуана де Гарсиа. Это его настоящее имя. Он его выболтал Томасу в порыве ярости, когда хотел его заколоть.
В те времена де Гарсиа уже пользовался дурной славой, несмотря на то, что был еще совсем юнцом. Но собой он был хорош, отличался приятным обхождением и принадлежал к знатному роду. Случилось так, что он выиграл у меня в кости и, придя в отличное настроение, пригласил в дом своей тетки, знатной севильской вдовы. У нее была единственная дочь, и это была ваша мать. Я узнал, что девушка, Луиса де Гарсиа, обручена со своим двоюродным братом, однако не по собственной воле, ибо контракт о помолвке был подписан тогда, когда ей едва исполнилось восемь лет. Тем не менее союз этот считался законным и нерушимым, поскольку в Испании такая помолвка рассматривается чуть ли не как освященный церковью брак. Женщины, связанные подобными обязательствами, обычно не питают к своим нареченным никаких нежных чувств, и так было с юной Луисой. По правде говоря, она просто ненавидела и боялась Хуана де Гарсиа, хотя он, я думаю, — по-своему любил ее больше всего на свете. Под разными предлогами она добилась от Хуана согласия отложить свадьбу до тех пор, пока ей не исполнится двадцать лет. Но чем она становилась холоднее, тем больше он загорался желанием завладеть ею, а заодно и ее весьма значительным состоянием. Подобно всем испанцам, он был необузданно страстен и, как все беспутные игроки, всегда нуждался в деньгах.
Скажу, не вдаваясь в подробности, что с первой же встречи я и ваша мать полюбили друг друга, и единственным нашим желанием стало встречаться как можно чаще. Это нам было нетрудно, ибо мать Луисы тоже боялась я не любила своего племянника со стороны мужа и хотела избавить свою дочь от такого супруга. Кончилось все тем, что я открылся в своей любви, и мы тайно порешили бежать в Англию. Однако слух об этом дошел до Хуана де Гарсиа, который имел в доме своих соглядатаев и был ревнив и мстителен, как настоящий испанец.
Сначала он попытался отделаться от соперника, вызвав меня на дуэль, однако обстоятельства заставили нас разойтись, не позволив даже обнажить шпаги. Тогда он заплатил наемным убийцам, чтобы они разделались со мной, когда я выйду ночью на улицу. Но у меня под курткой была надета кольчуга, о которую сломались кинжалы бандитов, и я сам заколол одного из них. Дважды потерпев неудачу, де Гарсиа, однако, не успокоился. Дуэль к убийство из-за угла не помогли, зато оставался еще один, самый надежный способ. Я уже не знаю, как он узнал некоторые подробности из моей жизни, например, о том, что я сбежал из монастыря, но с таким козырем на руках ему оставалось только выдать меня Святому судилищу как еретика и вероотступника. Однажды ночью он так и сделал.
Это произошло накануне того дня, когда мы должны были сесть на корабль и отплыть из Испании. Луиса, ее мать и я сидели в их севильском доме, как вдруг в комнату ворвались шесть человек с капюшонами на головах и, не говоря ни слова, схватили меня. Когда я спросил, что они от меня хотят, они вместо ответа поднесли к моему лицу распятие. Я сразу понял, в чем дело, Женщины отшатнулись, захлебываясь рыданиями. Затем тайно и тихо меня доставили в башню Святого Судилища.
Я не буду рассказывать обо всем, что мне пришлось там вынести. Дважды меня пытали на дыбе, один раз прижигали раскаленным железом, трижды бичевали железными прутьями и все время кормили такими отбросами, какие у нас в Англии никто бы не предложил и собаке. А когда мое «преступное» бегство из монастыря и прочие так называемые «святотатства» были окончательно установлены, меня приговорили к сожжению.
И вот, когда после целого года пыток и ужасов я уже утратил последнюю надежду и приготовился к смерти, неожиданно пришла помощь. Вечером последнего дня (наутро меня должны были сжечь живьем на костре) в темницу, где я лежал без сил на соломе, явился мой главный мучитель. Он обнял меня и сказал, чтобы я воспрянул духом, ибо церковь сжалилась над моей молодостью и решила вернуть мне свободу. Сначала я дико расхохотался, полагая, что это было только новой пыткой, и не поверил ни одному его слову. Лишь когда с меня сняли мои лохмотья, одели в приличную одежду и вывели в полночь за ворота тюрьмы, я уверовал, что бог совершил это чудо. Измученный и пораженный, стоял я возле ворот, не зная, куда мне бежать, когда ко мне приблизилась закутанная в черный плащ женщина и прошептала: «Иди за мной!» То была ваша мать. Из хвастливой болтовни Хуана де Гарсиа она узнала о моей судьбе и решила меня спасти. Трижды все планы ее терпели неудачу, но, наконец, с помощью одного ловкого посредника золото сделало то, в чем мне отказало правосудие я милосердие. За мою жизнь и свободу ей пришлось заплатить огромную сумму.
Той же ночью мы обвенчались и бежали в Кадис. Однако мать Луисы не смогла последовать за нами, потому что была больна и не вставала с постели. Ради меня ваша любимая мать бросила все, что оставалось от ее состояния после выкупа, заплаченного за мою жизнь, и покинула свою семью и свою родину — так велика любовь женщины!
Все было подготовлено заранее. В Кадисе стоял на якоре английский корабль из Бристоля, «Мэри», за проезд на котором было уже заплачено. Однако неблагоприятный ветер задержал нас в порту. Он был так силен, что, несмотря на все свое желание спасти нас, капитан не решался вывести «Мэри» в открытое море. Мы провели в гавани два дня и еще одну ночь, опасаясь всего на свете, и все же счастливые нашей любовью. И опасались мы не без причины. Тот, кто бросил меня в темницу, поднял тревогу, уверяя всех, что я сбежал с помощью дьявола, своего господина, и меня искали по всему побережью. Кроме того, обнаружив исчезновение своей нареченной и будущей жены, Хуан де Гарсиа сообразил, что мы скрылись вместе. Обостренное ненавистью и ревностью чутье помогло ему проследить наш путь шаг за шагом, и в конце концов си нас нашел.
Наутро третьего дня яростный ветер утих, якорь был поднят и «Мэри» двинулась по фарватеру. Но когда корабль начал разворачиваться я матросы приготовились поднять паруса, к борту его подошла лодка с двумя десятками солдат. Еще две лодки спешили за первой. С лодки капитану приказали бросить якорь, потому что по повелению Святого Судилища его корабль должен быть задержан и обыскан. Случайно я оказался на палубе и уже собирался спуститься вниз, чтобы спрятаться, когда один из сидевших в лодке вскочил на ноги и закричал, что я и есть тот самый сбежавший еретик, которого они ищут. В этом человеке я сразу узнал Хуана де Гарсиа.
Наверное, капитан выдал бы меня, испугавшись, что его корабль задержат, а его самого со всей командой упрячут в тюрьму. Но я в отчаянии сорвал с себя одежду и, обнажив страшным раны, покрывавшие все мое тело, закричал матросам: «Англичане, неужели вы отдадите своего соотечественника этим чужеземным дьяволам? Взгляните, что они со мной сделали!» И я показал на едва затянувшиеся язвы, оставленные раскаленными щипцами. «Если вы меня выдадите, вы обречете меня на еще более страшные пытки, и я буду сожжен живьем! Сжальтесь хоть над моей женой, если вам не жалко меня! А если в ваших сердцах нет жалости, дайте мне шпагу, чтобы я мог умереть и спастись от пыток!»
И тогда один из матросов, уроженец Саутуолда, знававший моего отца, воскликнул: «Клянусь господом богом, я за тебя Вингфил! Если им нужен ты и твоя любимая, им придется сначала убить меня!» И с этими словами он схватил лук, сбросил с него чехол и, наложив стрелу на тетиву, прицелился в испанцев, сидевших в лодке. Следом за ним и другие матросы закричали: «Если вам нужен кто-нибудь из нас, идите сюда! Возьмите его сами! Суньтесь только, проклятые мучители!»
Глядя на матросов, и капитан обрел мужество. Ничего не ответив испанцам, он приказал половине команды как можно быстрее поднять паруса, а остальным в это время быть наготове, чтобы сбросить солдат, если те полезут на палубу.
Но тем временем подошли еще две лодки и уцепились баграми за борт корабля. Какой-то испанец вскарабкался на руслены, а оттуда на палубу, и я узнал в нем одного из священников инквизиции, который допрашивал меня во время пыток. Бешенство овладело мной, когда я вспомнил, как этот дьявол стоял и уговаривал моих мучителей постараться во имя любви к господу богу. Выхватив лук у моряка из Саутуолда, я до предела натянул тетиву к выстрелил. Я не промахнулся, Томас, потому что умел, как и ты, обращаться с луком. Испанец запрокинулся и полетел в море с доброй английской стрелой в груди.
После этого никто уже не пытался подняться ка борт: испанцы только стреляли в нас, и им удалось ранить одного человека. Капитан приказал нам оставить в покое луки и укрыться за фальшбортом, ибо паруса уже приняли ветер. И тогда Хуан де Гарсиа поднялся в лодке во весь рост и проклял меня и мою жену.
«Вы от меня все равно не уйдете! — кричал он, пересыпая свою речь проклятиями и бранными словами. — Даже если мне придется ждать двадцать лет, я все равно отомщу вам и всем, кто вам дорог! А ты, Луиса де Гарсиа, помни: где бы ты так спряталась, я найду тебя, и когда мы встретимся, тебе придется пойти за мной, куда я захочу, или этот час станет твоим смертным часом!»
Но мы уже плыли к Англии, и лодки вскоре остались за кормой».
— Вот, сыновья мои, — закончил рассказ отец, — теперь вы знаете, что случилось со мною в юности и как я женился ка вашей матери, которую сегодня похоронил. Хуан де Гарсиа сдержал свое слово.
— А все-таки странно, — проговорил Джеффри, — что после стольких лет он убил нашу мать. Ведь, по вашим словам, он был когда-то в нее влюблен. Право же, ни один злодей не сделал бы такого!
— Удивляться тут нечему, — ответил отец. — Мы не знаем, о чем они говорили, прежде чем он ее заколол. Ясно только одно: когда он крикнул Томасу, что хотел бы посмотреть, сколько правды в предсказаниях, он имел в виду какие-то слова вашей матери. И потом — много лет назад де Гарсиа поклялся, что либо она пойдет за ним, либо он ее убьет. Твоя мать была еще красива, Джеффри, и, возможно, он предложил ей на выбор — бежать с ним или умереть. А о большем, сын мой, и не старайся узнать…
Тут мой отец закрыл лицо руками и разразился душераздирающими рыданиями.
— Почему же вы не рассказали нам все это раньше, отец? — спросил я, когда снова мог заговорить. — Тогда на земле уже сейчас было бы одним негодяем меньше и мне бы не пришлось отправляться в далекий путь.
Я даже не представлял себе, каким этот путь окажется далеким!
Глава VI
ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!
Через двенадцать дней после похорон матери и после того, как отец рассказал нам историю своей женитьбы, я уже был готов отправиться на поиски. По счастью, в Ярмутском порту оказался корабль, отплывавший в Кадис. Это судно водоизмещением в сто тонн носило имя «Авантюристка», Оно шло с грузом сукна и прочих английских товаров, рассчитывая вернуться с вином и тисовыми палками для луков.
Отец заплатил за мой проезд на судне и, кроме того, дал мне пятьдесят фунтов золотом. Взять с собой больше я не рискнул, но отец снабдил меня также рекомендательными письмами от ярмутских купцов к их агентам в Кадисе: в рекомендациях предписывалось выдать мне любую нужную сумму в пределах ста пятидесяти английских фунтов и в дальнейшем оказывать всяческое содействие.
«Авантюристка» отплывала третьего числа июня месяца. Вечером первого я должен был выехать в Ярмут. Все мои вещи отправили заранее, и я уже попрощался со всеми, кроме одного человека, как раз того, с кем мне больше всего хотелось бы увидеться перед отъездом. Со дня нашего объяснения в любви я видел Лили только на похоронах моей матери, но поговорить тогда мы не смогли. Да и сейчас похоже было на то, что мне придется уехать, так и не сказав ей на прощание ни одного слова, ибо сквайр Бозард велел предупредить, что если я посмею приблизиться к его дому, слуги выставят меня за дверь, а я не желал подвергаться подобному позору.
Тяжко мне было отправляться в столь дальние края, откуда я мог и не вернуться, даже не сказав любимой последнего «прости».
Не зная, как мне поступить, я обратился со своим горем к отцу, рассказал ему обо всем и попросил помочь.
— Я уезжаю, чтобы отомстить за нашу общую утрату, — сказал я. — Может быть, мне придется расстаться с жизнью ради чести нашего имени. Помогите же мне теперь, отец!
— Мой сосед Бозард, — ответил отец, — прочит дочку за твоего брата Джеффри, а не за тебя, Томас. Своим добром каждый волен распоряжаться как хочет. Однако сегодня я тебе помогу, если сумею. Надеюсь, что меня-то он не выставят за порог! Прикажи оседлать коней: поедем к Бозарду вместе.
Не прошло и получаса, как мы уже были перед домом Лили. Отец сказал, что желает поговорить со сквайром. Слуга, помня приказ своего хозяина, посмотрел на меня с сомнением, однако впустил нас в приемный зал, где сидел, попивая эль, сам сквайр Бозард.
— Добрый день, сосед! — проворчал сквайр. — Рад тебя видеть. Однако ты привел с собой того, кому здесь вовсе не рады, хоть это и твой сын.
— Я привел его сюда в последний раз, брат Бозард, — ответил отец. — Выслушай его просьбу. Ты можешь сказать ему «да» или «нет» — дело твое, однако если ты ему откажешь, наша дружба от этого крепче не станет, потому что парень сегодня в ночь уезжает, чтобы поспеть на корабль и отплыть в Испанию. Он едет на поиски того, кто убил его мать, и едет по своей доброй воле, ибо, сам того не желая, позволил убийце бежать, и я считаю, что он делает правильно.
— Щенок он еще! — проговорил сквайр Бозард. — Молод он для такой охоты, к тому же в чужих краях! Однако мне его смелость нравится, и я желаю ему добра. Чего он от меня хочет?
— Разрешения проститься с твоей дочкой. Я знаю, что его ухаживания тебе не по нраву, и не удивляюсь. Я и сам считаю, что он пока слишком молод, чтобы думать о женитьбе. Но если он еще один раз увидится с девушкой, худого в этом не будет. А теперь — слово за тобой!
Подумав немного, сквайр Бозард ответил:
— Парень-то он бравый, хоть и не бывать ему моим зятем. И едет далеко. Как знать — может, совсем не вернется? Не хочу я, чтобы он поминал меня недобрыми словами! Ступай-ка вон под тот бук, Томас Вингфилд, и жди. Я пришлю туда Лили. Можешь поговорить с ней полчаса. Только смотри — не больше! Да не уходите никуда, чтобы вас было видно ив окон. И не благодари меня, ступай, пока я не передумал!
Я выбежал из дому, с замирающим сердцем остановился под буком и стал ждать появления Лили, словно ангела небесного. Воистину, когда она приблизилась, я подумал, что даже ангел не может быть прекрасней, добрей и нежней.
— О Томас! — прошептала она, когда мы поздоровались. — Неужели это правда, что ты плывешь за море на поиски испанца?
— Да, я плыву, чтобы искать этого испанца, чтобы найти его и убить, когда найду. Тогда я оставил его, чтобы прийти к тебе, а теперь я должен оставить тебя, чтобы найти его. Нет, только не плачь! Я поклялся это сделать, и если не исполню клятву, я буду опозорен.
— А я из-за твоей клятвы должна овдоветь, даже не став женой? Ах Томас, если ты уедешь, я тебя уже никогда не увижу!
— Почем знать, милая. Мой отец побывал за морями, прошел через все опасности и вернулся благополучно.
— Конечно, он-то вернулся, да еще не один! Ты молод, Томас, а в далеких странах столько прекрасных и знатных дам! Разве я смогу — удержать свое место в твоем сердце, когда буду так далеко?
— Клянусь тебе Лили…
— Нет, Томас, не клянись: зачем брать лишний грех на душу, если ты вдруг нарушишь клятву? Просто помни обо мне, любимый, а я тебя никогда не забуду! Ведь, может быть, — о, сердце мое разрывается, когда подумаю! — может быть, это наша последняя встреча на земле. Но если это так, будем надеяться на встречу в небесах. Но в одном будь уверен: я буду верна тебе, пока жива, и что бы ни делал отец, я скорее умру, чем нарушу свое обещание. Я молода, конечно, чтобы говорить так уверенно, но так оно и будет. О боже, это расставание хуже смерти! Уснуть бы сейчас вечным сном, чтобы все нас забыли! А может быть, лучше и впрямь тебе уехать… Ведь, если ты останешься, каково нам с тобой будет, пока жив отец, а я ему желаю долгой жизни!
— Вечный сон и забвение придут скоро, Лили: никто еще их не ждал слишком долго. Однако пока мы живы, надо жить. Давай же помолимся, чтобы нам жить друг для друга. Я отправляюсь не только на поиски врага, но и на поиски богатства, и я его завоюю ради тебя, чтобы мы могли пожениться.
Лили горько покачала головой.
— Это было слишком большим счастьем, Томас. Люди редко женятся по настоящей любви, а если это случается, то лишь для того, чтобы тут же потерять друг друга. Будем же благодарны за то, что узнали, какой может быть любовь на земле. И если не встретимся — будем любить друг друга в ином мире, где никто нам не скажет «нет».
Мы долго еще говорили, шепча несвязные слова любви, тоски и надежды, как это сделали бы любой юноша и девушка на нашем месте. Наконец Лили оглянулась с печальной и нежной улыбкой и сказала:
— Пора, милый. Вон в дверях стоит мой отец и зовет меня. Все кончено.
— Тогда будь что будет! — лихорадочно прошептал я и увлек Лили за ствол старого бука. Здесь я схватил ее в объятия и принялся целовать еще и еще, и она, не стыдясь, отвечала на мои поцелуи.
Плохо помню, что было потом. Помню только, что когда мы уже уезжали, я снова увидел любимое лицо, печальное и задумчивое. Лили смотрела, как я уходил из ее жизни. Потом в течение двадцати лет это печальное и прекрасное лицо вставало передо мной, как встает оно перед моими глазами сейчас, наперекор всему, и жизни, и смерти. Другие женщины тоже любили меня, и я знавал расставания пострашнее, но воспоминание об этой девушке и ее прощальный взгляд оказались сильнее всего. Вглядываясь в прошлое, я всегда видел ее лицо и знал, что оно никогда не потускнеет. Разве может какое-нибудь горе сравниться с горечью этой разлуки?
Над первой любовью обычно смеются, но если это настоящая любовь, если это не просто вспышка пробуждающейся страсти, такая первая любовь становится также последней любовью, вечной любовью, самым счастливым или самым горьким уделом, какой только может выпасть на долю мужчине или женщине. Это говорю вам я, старик, немало повидавший на своем веку. И это — святая истина.
Я позабыл рассказать еще об одном. Когда мы с отчаянием в душе целовались и обнимались за стволом старого бука, Лили сняла с пальца кольцо и сунула его мне в руку со словами: «Каждое утро, когда проснешься, смотри на него и вспоминай обо мне!» Это было кольцо ее матери. Оно и сейчас поблескивает при свете зимнего солнца на моей морщинистой руке, которая выводит эти строки. Долгие годы, заполненные самыми невероятными событиями, всегда и всюду, в бою и в любви, при зареве лагерных костров, в отблесках жертвенного огня или под мерцающими одинокими звездами среди безлюдной дикой пустыни это кольцо сияло на моем пальце, напоминая о той, которая мне его дала. И с этим кольцом я сойду в могилу. На внутренней стороне гладкого золотого кольца выгравирован девиз, сейчас уже полустертое двустишие:
Пускай мы врозь,
Зато душою вместе.
Воистину подходящие для нас слова! Они не утратили своего значения и поныне.
В тот же день мы с отцом отправились верхом в Ярмут. Мой брат Джеффри не поехал с нами, но простились мы дружески, и я этому рад, потому что больше я его уже не увидел. О Лили Бозард и о наших чувствах к ней не было сказано ни слова, хотя я прекрасно звал, что едва я скроюсь за поворотом, он тут же постарается занять мое место в ее сердце. Он и в самом деле сделал такую попытку, но за это я его прощаю. По правде говоря, его нельзя слишком порицать, потому что разве найдется хоть одни мужчине, который, увидев Лили, не захотел бы на ней жениться? Вряд ли. А раньше мы всегда были добрыми друзьями, и лишь позднее, когда оба возмужали и между нами встала любовь к Лили, мы начали постепенно отдаляться друг от друга. История довольно обычная. К тому же Джеффри ничего не добился и сердиться мне на него попросту не за что. Куда лучше вспоминать о нашей детской дружбе, предав остальное забвению. Бог с ним!
Моя сестренка Мэри, которая стала самой красивой девушкой во всей округе после Лили Бозард, горько плакала, разлучаясь со мной. Она была всего на год моложе меня, и мы нежно любили друг друга. Я утешил Мэри, как сумел, и, рассказав обо всем, что произошло между мною и Лили, попросил ее стать нашим союзником. Мэри обещала сделать все возможное, и хотя она не сказала, что у нее на уме, однако я понял: сестренка надеется нам помочь. Как я уже говорил, у Лили был брат, весьма многообещающий юноша, в то время он находился в колледже. Сестра и он питали друг к другу глубокую привязанность, которая, возможно, могла бы в дальнейшем вылиться в нечто более прочное.
Итак, мы поцеловались в последний раз и со слезами простились. Отец и я сели на коней и двинулись в путь. Но когда, миновав Пирнхоу-стрит, мы поднялись на невысокий холм за вайнгфордскими мельницами, расположенными левее Банги, я придержал своего коня, оглянулся назад, на живописную долину Уэйвни, и сердце мое сжалось от боли. Если бы я знал все, что мне предстоит пережить, прежде чем я снова увижу родные места, оно бы, наверное, разорвалось. Но господь бог, ниспосылающий людям по мудрости своей тягчайшие испытания, спасает их неведением. Ибо если бы мы обладали даром предвидеть будущее, я думаю, лишь немногие из нас согласились бы жить по доброй воле. Поэтому я только бросил последний долгий взгляд на темнеющие вдали кроны дубов, за которыми скрывался дом Лили, и тронул коня.
На следующий день я уже был на борту «Авантюристки». Перед самым отплытием сердце отца дрогнуло: он вспомнил, что я был любимцем матеря и испугался, что больше меня не увидит. Отец настолько встревожился, что в самый последний момент изменил свое решение и хотел меня удержать. Но я уже не мог остановиться, я выстрадал всю горечь расставания и не желал возвращаться на посмешище соседям.
— Слишком поздно? — сказал я отцу. — Вы сами хотели, чтобы я отомстил, и побуждали меня к этому самыми жестокими словами. А теперь, даже если я буду знать наверное, что через неделю умру, я все равно не останусь дома, потому что от таких клятв, как моя, не отказываются, и пока она не исполнена, проклятие будет тяготеть надо мной.
— Да будет так, сын мой! — со вздохом проговорил отец. — Страшная смерть твоей матери затмила тогда мой разум, и я наговорил такого, что, боюсь, мне еще придется раскаяться. К счастью, я вряд ли доживу до этого дня, ибо сердце мое разбито. Мне следовало бы вспомнить, что возмездие в руках божьих и оно обрушится в свое время без нашей помощи. Не поминай меня лихом, мой мальчик, если мы больше не встретимся. Я люблю тебя, и только еще более сильная любовь к твоей матери заставила меня обойтись с тобой так сурово.
— Я это знаю, отец, и не помню зла. Но если вы сами считаете, что вы передо мной в долгу, заплатите мне лишь одним: постарайтесь, чтобы мой брат, не вредил нам с Лили, пока меня здесь не будет.
— Я сделаю что могу, сын мой, хотя, признаться, не будь вы так сильно привязаны друг к другу, я бы с удовольствием их поженил. Но, повторяю, я уже недолго смогу заботиться о твоих и о прочих земных делах, а когда меня не станет все пойдет своим естественным путем. А тебе, Томас, я даю завет: не забывай своей веры и своей родины, что бы с тобой ни случилось, избегай ненужных стычек, держись подальше от женщин, губящих нашу молодость, а главное — следи за своим языком и своим характером, он у тебя далеко не голубиный. Кроме того, где бы ты ни был, де хули веру чужой страны, не насмехайся над ее обычаями и не нарушай их, иначе ты узнаешь, как жестоки бывают люди, когда думают, что это угодно их богам, — это я испытал на себе!
Я ответил, что не забуду его советов, и в действительности позднее они избавили меня от многих неприятностей. Затем отец обнял меня, благословил, и мы расстались.
Больше я его уже не увидел. Несмотря на то, что отец мой был еще далеко не стар, примерно через год после моего отъезда он скончался. Сердечный приступ застиг его в тот момент, когда однажды после воскресной службы он стоял в приделе дитчингемской церкви близ алтаря, размышляя над прахом моей матери. Так он умер, оставив моему брату все свои земли и состояние. Упокой, господи, его душу! Отец был чистосердечным человеком, но любил мою мать слишком сильно, чтобы широко смотреть на жизнь и всегда быть справедливым. Подобная любовь, естественная лишь для женщин, может превратиться в нечто сходное с обыкновенным эгоизмом и заставить того, кто ею одержим, относиться с безразличием ко всему остальному. По сравнению с матерью дети были для моего отца ничто, и он охотно отдал бы нас всех, лишь бы вернуть ей жизнь. Но в конечном счете это был благородный недостаток, потому что отец в своей страсти о себе совершенно не думал и заплатил за любовь дорогой ценой.
О том, как мы доплыли до Кадиса, куда, по слухам, направился корабль де Гарсиа, рассказывать почти нечего. В Бискайском заливе поднялся встречный ветер и отнес нас к гавани города Лиссабона, где мы и укрылись. Но в конечном счете мы благополучно достигли Кадиса, проведя в море сорок дней.
Глава VII
АНДРЕС ДЕ ФОНСЕКА
Теперь я должен рассказать обо всем, что приключилось со мной за тот год с лишним, который я провел в Испании. Однако я буду краток, ибо если начну вспоминать все подробности, то, наверное, скончаюсь сам, так и не успев окончить свою повесть.
Прежде всего я направился вверх по Гвадалквивиру к Севилье. Красотами этого древнего мавританского города восторгались многие путешественники, и я не буду на них останавливаться, потому что мне предстоит рассказ о таких землях, где еще не бывал ни один из вернувшихся в Англию смельчаков.
Итак, буду краток. Я подумал о том, что мне, наверное, придется задержаться на некоторое время в Севилье и, не желая привлекать внимания, а также для того, чтобы избежать лишних расходов, решил заняться своим прежним делом, то есть продолжить изучение медицины. Для этого я обратился к торговым агентам английской компании, которые должны были мне помочь, я раздобыл у них рекомендательные письма к севильским врачам. В них по моей просьбе я был представлен под именем Диего д'Айла, либо не хотел, чтобы все знали, что я англичанин. С виду я и не был похож на британца, как уже говорилось, внешность у меня была самая что ни на есть испанская, и подвести могла только моя речь. Но и это затруднение уменьшалось с каждым днем. Зная язык с детства от матери, я не упускал ни единой возможности усовершенствоваться в чтении и в разговоре, и уже через полгода в совершенстве овладел кастильским наречием, так что лишь едва заметный акцент отличал меня от настоящего испанца. Изучение языков мне вообще давалось легко.
По прибытии в Севилью я оставил свои вещи в одной из наиболее скромных гостиниц и немедленно отправился, чтобы вручить свое рекомендательное письмо известному севильскому врачу, имя которого я теперь уже позабыл. Этот врач имел прекрасный дом на широкой, обсаженной чудесными деревьями улице Лас Пальмас, ж которой сходились другие маленькие улочки. По одной из них я и пошел из своей гостиницы. Это был узенький, тихий переулок; дома выходили на него замкнутыми с трех сторон внутренними двориками, по-испански — патио. Шагая по переулку, я обратил внимание на человека, сидевшего на табурете в тени у своего патио. Этот маленький сухой старичок с удивительно умными и зоркими черными глазами тотчас меня заприметил.
Дом знаменитого врача был расположен таким образом, что старичок его видел, не вставая с места, и мог следить за всеми, кто входил или выходил ив дверей, Отыскав этот дом, я снова вернулся в тихий переулочек и принялся прогуливаться по нему взад и вперед, соображая, что мне сказать врачу, и все это время старичок не спускал с меня своих проницательных глаз. Наконец я приготовил свою речь и направился к дому врача, но только для того, чтобы услышать, что тот куда-то вышел. Спросив, когда его можно видеть, я повернулся и побрел по тому же узенькому переулку. Неторопливыми шагами дошел я до того места, где сидел старичок, но когда я с ним поравнялся, он уронил свою широкополую шляпу, которой обмахивался, прямо к моим ногам, Я нагнулся, поднял ее с мостовой и протянул старичку.
— Премного вам благодарен, юноша! — проговорил он глубоким приятным голосом. — Вы весьма любезны для иностранца.
— Откуда вы знаете, что я иностранец, сеньор? — спросил я, позабыв от удивления об осторожности.
— Если бы я не догадался раньше, я бы узнал это сейчас, — ответил он со спокойной улыбкой. — Ваша кастильская речь говорит сама за себя.
Я поклонился и хотел пройти мимо, когда он снова заговорил со мной:
— Вы куда-то спешите, мой юный друг? Не зайдете ли выпить со мной стаканчик винца? Оно того стоит!
Я уже решил было отказаться, но вдруг подумал, что делать мне совершенно нечего, а тут я, может быть, узнаю из его разговоров что-нибудь полезное.
— Благодарю вас, сеньор, — сказал я. — День сегодня жаркий, и я не прочь освежиться.
Он тотчас молча поднялся и провел меня во внутренний, вымощенный мраморными плитами дворик, весь увитый виноградными лозами. Посреди дворика был бассейн, заполненный водой, подле которого в тени виноградной листвы стояли стулья и маленький столик. Затворив дверь патио, старичок усадил меня, взял со стола серебряный колокольчик и позвонил. Из дома выбежала молоденькая прелестная девушка в причудливом испанском наряде.
— Подай нам вина! — приказал старичок.
Вино появилось мгновенно, белое вино, подобного которому я не пробовал еще ни разу.
— За ваше здоровье, сеньор… — и здесь мой хозяин остановился, подняв бокал и вопросительно глядя на меня.
— Диего д'Айла, — отозвался я.
— Гм, гм, — пробормотал он. — Имя испанское, или, вернее, подражание испанскому, потому что я такого не слышал, а у меня на имена хорошая память.
— Это мое имя, а об остальном думайте, как вам будет угодно, сеньор… — и я в свою очередь выжидательно посмотрел на него.
— Андрес де Фонсека, — представился он с поклоном, — врач этого города, и достаточно известный, особенно среди представительниц прекрасного пола. Будь по-вашему, дон Диего, я принимаю это имя, ибо имена ничего не значат и время от времени их можно просто менять. Я полагаю, что это никого, кроме их владельцев, не касается. Вы, я вижу, приезжий… Не удивляйтесь, сеньор! Здешний городской житель не станет оглядываться, колебаться к расспрашивать о том, как ему куда-то пройти, а, кроме того, уроженцы Севильи никогда не ходят летом по солнечной стороне улицы. А теперь, если вы не сочтете мой вопрос нескромным, расскажите, пожалуйста, что привело такого здорового юношу к моему сопернику и конкуренту?
И он кивнул в сторону дома знаменитого врача.
— Дела человека, точно так же, как и его имя, никого не касаются, кроме него самого, — ответил я, решив про себя, что передо мной один из тех лекарей, которые позорят наше искусство, бесстыдно гоняясь за пациентами ради наживы. — Однако я вам отвечу. Я тоже врач, хотя и недостаточно опытный. Я ищу место у какого-нибудь известного доктора, которому я мог бы помогать в его практике, пополняя свои знания и одновременно зарабатывая себе на пропитание.
— Ах вот как? В таком случае, сеньор, вы там ничего не найдете, — и он снова показал на дом врача. — Такие, как он, берут учеников только за хорошее вознаграждение: таковы обычаи нашего города.
— Значит, мне придется зарабатывать на жизнь другими способом или в другом месте.
— Не торопитесь. Давайте-ка сначала посмотрим, как вы разбираетесь в медицине и, что гораздо важнее, в природе человеческой, ибо в медицине вообще никто ничего толком не понимает, но тот, кто познал природу людей, может стать повелителем мужчин или женщин — их повелительниц.
И без дальнейших околичностей он принялся задавать мне вопросы, каждый из которых был так тонок и так прямо шел к самой сути дела, что я только удивлялся его проницательности. Некоторые вопросы относились к медицине, главным образом к особенностям женского организма, другие, более общие, больше касались женского характера. Наконец, он кончил и проговорил:
— Неплохо, сеньор! Вы юноша со знаниями и способностями, хотя вам не хватает опыта, как и следовало ожидать, учитывая ваш возраст. В вас виден ум, сеньор, но также и сердце, и это очень хорошо, потому что даже промахи человека с добрым сердцем зачастую лучше успехов бессердечного ловкача. Кроме того, у вас есть воля и вы умеете владеть собой.
Я поклонился, стараясь не показать, как мне приятны его слова.
— Однако, — продолжал он, — все это не заставило бы меня обратиться к вам с предложением, которое вы сейчас услышите, потому что и более достойные с виду юноши бывают неудачниками, наивными глупцами или вспыльчивыми задирами, каким и вы можете быть, насколько я понимаю. Но все же я рискну, потому что вы мне подходите совсем с другой стороны. Вы сами навряд ли понимаете, что вы очень красивы, сеньор, красивы редкой, необычной красотой, которую не преминут оценить севильские дамы.
— Весьма польщен, — отозвался я. — Однако позвольте узнать, что означают все эти комплименты? Короче, что вы мне предлагаете?
— Короче? Хорошо. Мне нужен помощник, обладающий всеми качествами, какие есть у вас, но, кроме того, еще одним, самым ценным,
которое я могу только в вас предполагать, — скромностью. Такой помощник не будет испытывать недостатка в деньгах, я предоставлю в его распоряжение этот дом, и он получит такую возможность изучать людей, о какой многие могут только мечтать. Что вы на это скажете?
— Я скажу вам, сеньор, что сначала хотел бы узнать, в чем я должен помогать. Ваше предложение звучит слишком заманчиво, но я боюсь, что за все эти блага мне придется выполнять работу, недостойную честного человека.
— Прекрасный довод, но, к счастью, совершенно ошибочный! Слушайте: вам, наверное, говорили, что тот врач, к которому вы сейчас ходили, а также такие-то, — здесь он назвал четыре-пять имен, — это самые знаменитые врачи Севильи? Ну так вот — это неправда? Самый знаменитый и самый богатый врач, у которого вдвое больше клиентов, чем у любого другого, — это я. Хотите знать, сколько я заработал за один сегодняшний день? Я вам скажу: двадцать пять песо золотом,
[234] больше, чем все мои остальные коллеги, вместе взятые, — в этом я готов об заклад побиться! Вы хотите знать, каким образом я зарабатываю так много? Вас, наверное, также интересует, почему при таких доходах я не хочу отдохнуть от своих трудов? Хорошо, я вам объясню. Я зарабатываю такие деньги, потакая тщеславию женщин и помогая им избавиться от результатов их собственной глупости. Когда у какой-нибудь дамы тяжело на сердце, она идет ко мне за утешением и советом. Когда у нее прыщи на лице, она бежит ко мне, и я ее лечу. Когда у нее тайный роман, я скрываю плоды ее нескромности. Для нее я вопрошаю будущее, для нее я воскрешаю прошлое, ее я исцеляю от воображаемых недугов, а довольно часто исцеляю и от настоящих болезней. Я держу в своих руках половину тайн Севильи, и если бы я заговорил, кровопролитие и разорение обрушилось бы на многие знатные семьи. Но я не заговорю: мне платят за молчание, и даже в тех случаях, когда мне не платят, я все равно молчу, чтобы не подорвать свою репутацию. Сотни женщин считают меня своим спасителем, а я их считаю дурочками. Однако заметьте — я никогда не захожу слишком далеко. Я могу продать любовный эликсир — подкрашенную воду, но отравленную розу — никогда! За этим обращайтесь к кому-нибудь другому! А в остальном я по-своему честен. Я принимаю людей такими, какие они есть, вот и все. Если женщинам нравится быть дурами, я пользуюсь их глупостью. На этой глупости я и разбогател. Да-да, теперь я разбогател, но уже не могу остановиться! Я люблю деньги, потому что это власть, но еще больше я люблю жизнь! Что там толкуют о романах и балладах! Разве может какой-нибудь роман сравниться с тем, что ежедневно происходит у меня на глазах? В каждом таком событии я играю свою роль, одну из первых ролей, хотя я и не чванюсь и не деру глотку на подмостках.
— Но если все это так, почему же вы обращаетесь за помощью к незнакомому человеку, о котором ничего не знаете? — подозрительно спросил я.
— Сразу видно, что у вас нет опыта! — рассмеялся старик. — Неужели вы думаете, что я выбрал бы какого-нибудь испанца, который мог бы иметь в этом городе какие-то неизвестные мне связи? Что же касается моей неосведомленности, молодой человек, то неужели вы думаете, что я зря сорок лет занимался своими необычными делами и не научился распознавать людей с первого взгляда? Я знаю вас, может быть, лучше, чем вы сами. Кстати, то, что вы по-настоящему влюблены в эту девушку в Англии, для меня уже достаточная рекомендация, потому что, не будь этой привязанности, вы бы наделали глупостей, которые могли бы поставить в затруднительное положение и вас и меня. Ага! Вы удивлены?
— Откуда вы знаете?.. — начал я я осекся.
— Откуда я знаю? Да очень просто! Ваши сапоги сшиты в Англии. Я видел таких немало, когда был в вашей стране. Ваше произношение тоже имеет, хоть и слабый, английский акцент, и вы дважды вставляли английские слова, когда не могли подыскать испанских, Что же касается девушки, то разве на вашем пальце не женское кольцо? Кроме того, когда я рассказывал о наших дамах, это вас не слишком заинтересовало, а будь ваше сердце свободным, вы в свои годы отнеслись бы к моим словам по-другому. Эта девушка, конечно, высокая и светловолосая? Я так и думал! Я давно заметил, что мужчины и женщины тянутся к своей противоположности: брюнеты — к блондинкам и наоборот. Разумеется, это правило не без исключений, но сейчас я угадал!
— Вы очень умны, сеньор.
— О нет, дело здесь не в уме, а в практике, и вы в этом убедитесь, когда пробудете со мною хотя бы год. Впрочем, похоже, вы не намерены так долго задерживаться в Севилье. Очевидно, вы прибыли сюда с какой-то целью и хотите с пользой провести время, пока ее не достигнете. Думаю, что и на этот раз я угадал. Ну что ж, пусть будет так. Я все же рискну, потому что цель и ее достижение зачастую бывают далеки друг от друга. Итак, вы принимаете мое предложение?
— Я хотел бы его принять.
— В таком случае вы его примете. Но прежде чем мы договоримся об условиях, должен вам еще кое-что сказать. Я не хочу, чтобы вы играли при мне роль аптекарского ученика: для всего света вы будете моим племянником, прибывшим из-за границы для изучения профессии врача. Конечно, вы будете мне помогать и в медицине, но это не все. Вы должны войти в жизнь Севильи, наблюдать за нужными мне людьми и капля за каплей, там — словом здесь — намеком и сотнями других способов, которые я вам подскажу, лить воду на мою, а также и на свою мельницу. Вы должны быть блестящим и остроумным или, наоборот, строгим, и преисполненным учености, как я прикажу; вам придется пустить в ход все ваши личные качества и способности, потому что иначе с моими клиентами дела не сделаешь. С идальго вы должны говорить о поединках, с дамами беседовать о любви, но боже вас упаси впутаться самому в то или другое — тогда вам несдобровать. И самое главное, — при этих словах обращение старика изменилось, а лицо его стало суровым, почти жестоким, — самое главное, молодой человек, не вздумайте обмануть мое доверие или доверие моих клиентов. Вы можете мне не верить во всем остальном, дело ваше, но в этом отношении я прошу вас ради вашего собственного блага поверить мне на слово. Я буду с вами совершенно откровенен: если вы предадите меня, вы
умрете. Вы умрете не от моей руки, но умрете. Таково мое условие, можете принять это или отвергнуть. Но даже если вы откажетесь, а потом где-нибудь разболтаете все, что здесь услышали, даже тогда вас рано или поздно постигнет нежданная кара. Вы меня поняли?
— Понял. Ради собственного блага я буду молчать.
— Юный сеньор, вы мне нравитесь все больше и больше! Если бы вы сказали, что будете молчать, потому что я вам доверился, я бы вам не поверил, ибо про себя вы бы подумали, что секреты, которые доверяют с такой легкостью, не стоит хранить. Но если вы поняли, что за разглашение тайны вас постигнет внезапная и жестокая смерть, — это уже другое дело! Итак, вы согласны?
— Согласен.
— Превосходно. Я полагаю, ваши вещи в гостинице? Сейчас я пошлю носильщиков; они оплатят ваш счет и все принесут сюда, Вам самим идти туда незачем, племянничек. Давайте-ка лучше посидим и выпьем еще по стаканчику! Чем скорее мы сойдемся, племянничек, тем лучше.
Вот так я познакомился с моим благодетелем сеньором Андресом де Фонсекой, самым удивительным человеком, какого я когда-либо видел.
Несомненно, читатель подумает, что, связавшись с ним, я поступил опрометчиво, сам накликал на себя беду, а может быть, просто попался в сети ловкого мошенника, который ради своих темных замыслов вовлек, меня, юнца, в преступное и гибельное дело. Но на поверку все вышло совсем не так, и это, пожалуй, самое странное во всей этой удивительной истории. Каждое слово Андреса де Фонсеки оказалось истинной правдой.
Он был джентльменом, наделенным блестящими способностями, однако со странностями: какое-то горе, поразившее его много лет назад, наложило на него отпечаток. Я не знаю, кто обучал его медицине, если он вообще когда-либо ей обучался, но как знаток людей, особенно женщин, он не имел себе равных. Он много путешествовал, много видел я ничего не забывал. В каком-то отношении он был просто знахарем, но его знахарство никогда не превращалось в бессмысленное шарлатанство. Правда, он стриг дураков и даже занимался астрологией, зарабатывая деньги на суевериях, но в то же время Андрес де Фонсека совершал немало добрых дел без всякого вознаграждения. Он мог взять с богатой дамы десять золотых песо за окраску волос и вместе с тем совершенно бесплатно нянчиться с какой-нибудь бедной девушкой, попавшей впросак. Мало того: после выздоровления он сам подыскивал ей подходящее приличное место! Он знал все тайны Севильи, но никогда не пытался ими торговать, говоря, что это не окупается. Андрес де Фонсека считал себя всесветным пройдохой, но в действительности же он был человеком честнейшей души.
Что касается меня, то я с ним чувствовал себя свободным и счастливым, насколько это возможно в моем положении. Вскоре я вошел в свою роль и разыгрывал ее превосходно. Меня представляли, как племянника старика Фонсеки, который практиковался под руководством своего дяди, богатого врача, чтобы впоследствии занять его место. Это в сочетании с моей внешностью и манерами открыло мхе доступ в лучшие дома Севильи. Здесь я выполнял ту часть наших общих дел, которую мой хозяин целиком препоручил мне, потому что сам он уже не показывался в светском обществе города. Денег у меня было вдоволь, и я мог жить припеваючи; впрочем, вскоре выяснилось, что в делах я разбираюсь не хуже, чем в удовольствиях. Все чаще и чаще среди веселого бала или во время карнавала ко мне приближалась то одна, то другая дама и, понизив голос, спрашивала, не согласится ли дон Андрес де Фонсека принять ее наедине по очень важному делу; в ответ на такой вопрос я назначал время и место свидания. Если бы не я, все эти клиентки были бы для нас потеряны, потому что многие из них иначе не смогли бы преодолеть свою стыдливость.
Точно таким же образом, когда празднество заканчивалось и я собирался домой, меня частенько брал под руку какой-нибудь щеголь и просил у моего хозяина помощи в самых разнообразных делах — в любовных, в финансовых, а то и в деле чести. Тогда я вел его прямо к нашему старинному мавританскому дому, где сидел и писал, облаченный в бархатную мантию, дон Андрес, подобный какому-то раскинувшему свою паутину ночному пауку, ибо большую часть наших дел мы вершили ночью. Тут же любой вопрос разрешался ко всеобщему благополучию — и не без выгоды для моего хозяина!
Постепенно я приобрел репутацию человека, который, несмотря на свою молодость, отличается крайней рассудительностью, никогда не говорит о том, что услышал, не вступает в ссоры, не пьет, не увлекается азартными играми и никому не выдает ни своих, ни чужих секретов; ни одна ив близко знакомых мне прелестных дам не могла похвастаться, что стала поверенной моих тайн. Точно так же стало известно, что я сам довольно умелый врач, и дамы Севильи начали передавать друг другу, что никто не может сравниться с племянником старого Фонсеки в искусстве удаления пятен с кожи и окраски волос, а, как известно, одно лишь это уже стоит целого состояния. Не удивительно, что клиентки начали все чаще и чаще обращаться именно ко мне. Короче говоря, дела наши шли так хорошо, что за полгода своей службы я увеличил почти на треть доходы от нашей и без того достаточно обширной практики, одновременно освободив моего хозяина от немалой доли хлопот.
Это была странная жизнь, и если бы я написал обо всем, что мне довелось узнать и услышать, получилась бы сказочная история, но к моему повествованию она не имеет отношения. Казалось, что все маски молчания и улыбок, с помощью которых мужчины и женщины скрывают свои истинные мысли, вдруг упали передо мной и я услышал голоса сердец, говоривших чистую правду. К нам приходили очаровательные девушки и милые жены и сознавались в таких пороках, что никто бы не поверил, если бы они не рассказывали о них сами; мы сталкивались порой с тайными убийствами супруга, любовника или соперницы; иногда появлялась какая-нибудь престарелая дама, стремившаяся заманить в свои сети молодого мужа, а иногда это был богач или богачка, мечтавшие купить себе титул, породнившись с обнищавшей, но знатной семьей. Таким я помогал без особой охоты, зато всякую повесть о несчастной или обманутой любви всегда выслушивал с сочувствием, потому что сам был в сходном положении. В подобных случаях моя симпатия была настолько глубокой и искренней, что несчастные красавицы не раз пытались найти во мне утешителя, и однажды дело дошло до того, что стоило мне захотеть, и я бы женился на одной из самых прелестных и самых богатых знатных дам Севильи.
Но мне не нужна была ни одна из них. День и ночь я думал только о моей златокудрой Лили.
Глава VIII
ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
Можно подумать, что при таком времяпрепровождении я совершенно забыл о цели своего приезда в Севилью, о том, что я должен найти Хуана де Гарсиа и отомстить ему за смерть моей матери. Но это не так. Едва обосновавшись в доме Андреса де Фонсеки, я начал как можно осторожнее разузнавать, где находится де Гарсиа, однако без малейших результатов. Размышляя хладнокровно, я пришел к убеждению, что у меня довольно слабые шансы отыскать де Гарсиа в Севилье. Правда, он говорил в Ярмуте, что направляется именно сюда, однако его корабль не появлялся ни в Кадисе, ни на Гвадалквивире, да и вообще вряд ли человек, совершивший убийство в Англии, станет рассказывать англичанам о том, куда он действительно хочет плыть. Тем не менее я продолжал поиски.
Старый дом моей матери и бабушки давно сгорел, жили они замкнуто, и через двадцать с лишним лет в Севилье о них все забыли. Мне удалось найти лишь одну прозябавшую в нищете старуху, которая некогда была служанкой моей бабушки и знавала мою мать. В тот момент, когда мать бежала в Англию, старуха была где-то в другом месте, однако я все же получил от нее кое-какие сведения. О том, что я внук ее бывшей госпожи, я ей, разумеется, не сказал.
Насколько мне удалось установить, после бегства матери с отцом в Англию де Гарсиа начал преследовать мою бабушку и свою тетку всевозможными тяжбами и прочими способами. Этот негодяй довел ее до полного разорения и после этого бросил умирать с голоду. О нищете, в которой она доживала свои дни, можно судить хотя бы по тому, что ее похоронили бесплатно в общей могиле. Старуха служанка еще рассказала мне, будто бы де Гарсиа вскоре совершил какое-то преступление и был вынужден бежать, но что это за преступление, она не помнила, поскольку с тех пор прошло не менее пятнадцати лет.
Все это я узнал на четвертый месяц пребывания в Севилье. Рассказ старухи был для меня, конечно, интересен, но поискам моим он нисколько не помог.
Дней через пять после этого разговора, возвращаясь ночью к себе домой, я разминулся на пороге патио с выходившей молодой женщиной под густой вуалью. Я обратил внимание на ее высокую стройную фигуру. Дама рыдала так безудержно, что все ее тело содрогалось. Подобные сцены для меня уже были привычны, ибо многие из тех, кто прибегал к помощи моего хозяина, имели все основания горько плакать, а потому я прошел мимо нее, ни слова не говоря. Но когда я вошел в комнату, где дон Андрес принимал пациентов, то рассказал ему о своей встрече и спросил, кто эта дама.
— Ах, племянник! — ответил Фонсека, который всегда называл меня так, а в последнее время вообще начал ко мне относиться, словно я и в самом деле был его родственником. — Аж, племянник, тяжелый случай! Но ты ее не знаешь — она из бесплатных клиентов. Бедняжка из знатной семьи, пошла в монахини, принесла обет, и тут появляется щеголь, тайно встречается с нею в монастыре, обещает на ней жениться, если она согласится с ним бежать, и на самом деле устраивает какую-то комедию венчания, как она рассказывает, и все прочее, Теперь он от нее сбежал, а она ждет ребенка. Но что самое страшное: если она попадется в лапы к попам, ее ждет мучительная, медленная смерть — несчастную замуруют в монастырскую стену. Она пришла ко мне посоветоваться и принесла вместо платы свои серебряные побрякушки. Вот они.
— И вы их взяли?
— Да, взял. Я всегда беру плату. Но я возместил их вес золотом. А потом я указал ей укромное местечко, где она сможет спрятаться от попов и переждать, пока охота за ней не кончится. Единственно, чего я не сделал, так это не сказал, что ее любовник — самый последний из мерзавцев, когда-либо появлявшихся на улицах Севильи. Но какой в этом толк? Она все равно его больше не увидит. Ты-ш-ш! Кажется, пришла герцогиня, Это астрологический случай. Где гороскопы и жезл? Ага. А хрустальный шар? Спасибо. Теперь прикрути лампы, дай мне вон ту книгу и исчезни!
Я повиновался и едва не столкнулся с массивной дамой, которая в сопровождении дуэньи боязливо пробиралась по темному коридору для того, чтобы узнать будущее по звездам и заплатить за это немало золотых песо. Вид ее так меня насмешил, что я быстро позабыл о другой даме и ее горестях.
Теперь я должен рассказать о том, как я во второй раз встретился со своим двоюродным дядюшкой и смертельным врагом Хуаном де Гарсиа.
Дня через два после того как я столкнулся с плачущей дамой под вуалью, я шел около полуночи по окраинной улочке города, где почти не встречается прохожих. Появляться одному в такое время в этом квартале весьма небезопасно, однако у меня было поручение от моего хозяина, не терпевшее отлагательств. К тому же я не имел врагов и, наконец, был вооружен: при мне была та самая шпага, что я отнял у де Гарсиа близ Дитчингема, шпага, которой была убита моя мать и которой я надеялся отомстить ее убийце. В обращении с этим оружием у меня к тому времени уже был изрядный опыт: каждый день я брал по утрам уроки фехтования.
Выполнив поручение, я шел, не торопясь, домой, раздумывая о своей странной жизни, столь отличной от моего детства, прошедшего в долине Уэйвни, и о многих прочих вещах. Я думал о Лили, о том, что ее преследует мой братец Джеффри, понуждая выйти за него замуж, и о том, сумеет ли она устоять перед его наглостью и волей своего отца. Так, размышляя, дошел я до прохода в стене, за которым начинался спуск к берегу Гвадалквивира, облокотился на гребень низкого парапета и невольно залюбовался красотой ночи.
Ночь была поистине прекрасна — я помню ее до сих пор. Те, кто знает Севилью, могут подтвердить, что нет ничего восхитительнее вот такой августовской ночи, когда над древним городом сияет луна, отражаясь в широких водах Гвадалквивира.
Пока я так стоял и любовался луной, снизу по ступенькам поднялся какой-то человек, прошел за моей спиною и углубился в темноту улицы. Сначала я не обратил на него внимания, но когда до меня донеслись голоса, оглянулся и увидел, что мужчина разговаривает с женщиной; они встретились в верхней части улочки, спускающейся к проходу в стене. Очевидно, это было любовное свидание. Подобные вещи всегда интересны, особенно для того, кто молод, поэтому я с любопытством стал наблюдать.
Вскоре я убедился, что любовники не проявляли друг к другу никакой нежности, особенно мужчина. Он все время отстранялся и отступал назад, приближаясь ко мне, словно спешил поскорее спуститься к лодке, на которой, по-видимому, приплыл. Меня это удивило, потому что даже на расстоянии и при свете луны я разглядел, как хороша его дама. Лица мужчины я не видел: он все время пятился, и широкополое сомбреро заслоняло его совершенно.
Постепенно они приблизились настолько, что я начал разбирать отдельные слова. Кавалер все так же отступал, а дама следовала за ним и умоляла:
— Нет, не верю, ты не покинешь меня! Ты ведь взял меня в жены, ты клялся, обещал… Неужели у тебя хватит духу бросить меня после этого? Я отказалась для тебя от всего! Мне грозит опасность. И ведь я…
Тут она перешла на шепот, и я не расслышал последних слов.
— Восхитительная! — заговорил мужчина. — Я обожаю тебя по-прежнему, но мы должны на время расстаться. Не жалуйся, Изабелла, ты и так мне многим обязана. Я вытащил тебя из могилы, я научил тебя жить и любить. С твоими достоинствами и твоими прелестями ты, конечно, сумеешь извлечь пользу из этой науки. Я не могу тебе дать денег, потому что у меня нет лишних, но я дал тебе опыт, который стоит дороже. Сердце мое разрывается, ибо нам придется ненадолго проститься. Но, как говорят:
Там, где солнце ярче,
Поцелуи жарче!..
— А я, пока…
Но тут мужчина снова понизил голос, и больше я ничего не смог разобрать.
Когда он заговорил впервые, дрожь пронизала меня с головы до ног. Эта сцена сама по себе была достаточно трагичной, но взволновала меня не она, а голос, этот голос! Он напомнил мне… нет, я, наверное, просто ослышался!
— О, не будь таким жестоким! — воскликнула дама. — Неужели ты оставишь меня одну, зная, в каком я положении и какая опасность мне угрожает? Умоляю, возьми меня с собою, Хуан!
С этими словами она схватила его за руку и прильнула к нему. Мужчина довольно грубо оттолкнул ее, но тут широкополая шляпа свалилась от толчка, и луна осветила его лицо. Это был Хуан де Гарсиа собственной персоной.
Ошибиться я не мог. То же самое, жестокое, изрезанное морщинами лицо, шрам на высоком лбу, тонкогубый язвительный рот, остроконечная бородка. Случай снова свел нас, и теперь-то я его убью или он убьет меня.
Сделав три шага вперед, я обнажил шпагу и остановился прямо перед ним.
— Что такое? — воскликнул он, в изумлении отступая назад. — Похоже, у тебя, голубка, есть телохранитель! Что угодно сеньору? Может быть, сеньор явился на защиту опечаленной красотки?
— Хуан де Гарсиа, я явился, чтобы отомстить за убитую женщину. Может быть, вы помните берег реки, далеко отсюда, в Англии, где вы встретили одну знакомую вам даму и оставили ее мертвой? Если вы забыли, то, может быть, вспомните хотя бы эту шпагу, которой я вас убью!
И с этими словами я взмахнул над головой некогда принадлежавшей ему шпагой.
— Матерь божья! Тот самый английский парень…
Но тут он остановился.
— Да, я Томас Вингфилд, который избил вас и связал. Теперь я хочу исполнить свою клятву и довершить то, что начал тогда. Защищайтесь, Хуан де Гарсиа, иначе я заколю вас на месте!
Сегодня эти слова, произнесенные самым решительным и мрачным тоном, кажутся мне какими-то театральными, но когда де Гарсиа их услышал, он сразу стал похож на затравленного волка. Я видел, что он не хочет драться, и не из трусости, ибо, надо отдать ему справедливость, он не был трусом, а из суеверия… Как я узнал позднее, он боялся со мной драться, ибо считал, что ему суждено умереть от моей руки. Именно поэтому он и пытался убить меня, когда встретился со мной в первый раз.
— Дуэль имеет свои законы, сеньор, — галантно возразил де Гарсиа. — Драться без секундантов, да еще в присутствии женщины не принято. Если вы полагаете, что я вас чем-то оскорбил, хоть я по правде не понимаю, о чем идет речь, и не знаю имени, которым вы меня называете, я встречусь с вами в другой раз, где и когда вам будет угодно.
В продолжение всей этой речи он озирался, пытаясь найти путь к отступлению. Но я его оборвал:
— Мне угодно встретиться с вами сейчас. Защищайтесь или я вас заколю!
Тогда он обнажил свою шпагу, и мы сошлись.
Схватка была отчаянной. Звон стали огласил всю тихую улочку. Искры так и сыпались от сталкивающихся клинков. Сначала преимущество было на стороне де Гарсиа, потому что ярость ослепляла меня, но постепенно я взял себя в руки и начал драться увереннее. Я хотел его убить, и я знал, что убью его, если нам ничто не помещает. Он был более искусным дуэлистом, чем я. До нашей встречи близ Дитчингема я вообще не видел испанской шпаги, но на моей стороне были справедливость и молодость, стальная рука и ястребиный глаз.
Медленно, шаг за шагом, я теснил его, и чем увереннее и опаснее становились мои выпады, тем беспорядочнее он защищался. Я уже дважды ранил его, один раз в лицо, и прижал спиной к стене прохода, спускавшегося к реке. Он больше не нападал, только отбивал мои выпады. И в эту минуту, когда победа была уже в моих руках, случилось несчастье. Женщина, которая до сих пор стояла в стороне, со страхом наблюдая за нами, увидела, что ее неверному любовнику угрожает смертельная опасность, и вцепилась в меня сзади, испуская пронзительные крики о помощи!
Я мгновенно стряхнул ее, но де Гарсиа успел воспользоваться своим преимуществом: сделав подлый выпад, он почти проткнул мое правое плечо. Теперь мне в свою очередь пришлось перейти к обороне, защищая свою жизнь.
Крики женщины привлекли внимание стражников, они неожиданно появились из-за угла, свистками призывая подмогу. Увидев их, де Гарсиа быстро отступил, повернулся и побежал вниз по проходу к реке. Дама тоже куда-то исчезла, и я остался один.
Стража приближалась. Капитан с фонарем в руке уже устремился ко мне, чтобы схватить меня. Рукояткой шпаги я ударил по фонарю, фонарь упал на мостовую, разбился и запылал, как костер.
После этого я, в свою очередь, повернулся и бросился бежать, потому что мне вовсе не улыбалось предстать перед городским судом за ночную драку. Но, спасаясь от стражи, я совсем забыл, что и враг мой тоже сбежал!
Трое стражников погнались было за мной, однако они были слишком тучными и скоро выбились из сил: пробежав с полмили, я от них отделался. Остановившись, чтобы перевести дыхание, я только тут вспомнил о де Гарсиа. Где его теперь искать?

Сначала я хотел вернуться, однако сообразил, что на прежнем месте его уже, конечно, нет, а меня стража может схватить, опознав по свежей ране, К тому же и рана начала давать о себе знать. Поэтому я повернулся и побрел домой, проклиная свою судьбу, женщину, которая вцепилась в меня как раз тогда, когда я уме был готов нанести смертельный удар, а заодно и свое неумение драться. Удар следовало нанести раньше! Дважды я мог это сделать и дважды не решался из-за излишней осторожности. Я хотел бить только наверняка, и вот упустил такой случай! Кто знает, когда еще он повторится? Как я теперь найду де Гарсиа в этом огромном городе?
Мне только сейчас пришло в голову, что он наверняка скрывается здесь под вымышленным именем, как тогда в Ярмуте. Горько мне было думать о том, что отмщение было так близко, и я снова сплоховал.
Добравшись, наконец, до дому, я решил обратиться за помощью к моему хозяину дону Андресу. До сих пор я ему об этом деле не говорил, потому что всегда предпочитал действовать самостоятельно, и он даже ничего не знал о моем прошлом. Но сейчас я прямо отправился в комнату, где он обычно принимал пациентов. Оказалось, однако, что Фонсека лег спать и просил его не будить, потому что чувствовал себя нездоровым… Поэтому я кое-как сам перевязал рану и тоже улегся в постель, весьма недовольный собой и своим невезением.
Утром я зашел в комнату моего хозяина. Он не вставал с постели из-за внезапных болей, послуживших началом болезни, которая свела его в могилу. Когда я начал приготовлять для него лекарство, он заметил, что я плохо владею правой рукой, и спросил, что случилось. Воспользовавшись случаем, я решил ему все рассказать.
— Хватит ли у вас терпения выслушать мою историю? — спросил я. — Мне нужна ваша помощь.
— А, обычный случай, — ответил он. — Врач не может исцелиться сам. Говори, племянник, я слушаю.
Тогда я присел к нему на кровать и поведал обо всем без утайки. Я рассказал ему историю знакомства матери и отца, рассказал о своем детстве, о том, как де Гарсиа убил мою мать, и о том, как я поклялся ему отомстить. Напоследок я описал все, что случилось прошлой ночью, когда мой враг ускользнул от меня. Пока я говорил, Фонсека, закутанный в богатый мавританский халат, сидел в кровати, поджав ноги, опираясь подбородком на колени, и пристально разглядывал мое лицо своими проницательными глазами. Но пока я не замолчал, он не произнес ни слова, не сделал ни единого жеста.
— Ну и дурень же ты, племянничек! — заговорил он наконец. — Причем редкостный дурень! Обычно юнцы грешат излишней поспешностью, а ты поплатился из-за чрезмерной осторожности. Из-за этой сверхосторожности ты упустил удобный скучай во время поединка прошлой ночью, из-за нее ты ничего не рассказал мне раньше я упустил еще лучшую возможность. Неужели ты не знаешь, что я не раз помогал в подобных делах совершенно чужим людям и никогда не выдавал их секретов? Почему же ты не посоветовался со мной?
— Не знаю, — пробормотал я. — Мне хотелось сначала попытаться самому…
— Гордыня до добра не доводит! А теперь слушай мена, племянник. Если бы я узнал эту историю месяц назад, де Гарсиа был бы сейчас уже мертв. Он умер бы самой жалкой смертью, и не от твоей руки, а от руки закона. Я знаком с этим человеком со дня его рождения и знаю о нем вполне достаточно, чтобы дважды его повесить. Для этого мне стоило только заговорить. Больше того. Я знал твою мать, мой мальчик, и теперь-то я понимаю, почему твое лицо сразу показалось мне знакомым: ты на нее очень похож. Ведь это я подкупил стражников инквизиции, чтобы они выпустили твоего отца, хотя его самого я так и не видел. И побег к Англию подготовил тоже я. Что касается де Гарсиа, то я раз пять держал его в своих руках, и каждый раз он носил другое имя. Однажды он сам явился ко мне в качестве клиента, но я не захотел пачкать руки и не взялся за ту мерзость, которую он мне предлагал сделать. Де Гарсиа самый грязный из всех известных мне негодяев Севильи, а этим уже сказано многое. Но в то же время он самый умный и самый мстительный. Он погряз в пороках, и на совести у него не одна загубленная душа. Но все его злодеяния не принесли ему ничего: до сих пор он остается безвестным проходимцем и живет вымогательством или за счет какой-нибудь женщины, которую грабит на досуге. Подай мне мои книги вон из того сундука, и я тебе расскажу, кто такой твой де Гарсиа.
Я повиновался и передал ему несколько тяжелых пергаментных томов, каждый из которых был завернут в тонкую кожу. Страницы томов покрывали шифрованные записи.
— Это мои заметки, — проговорил Фонсека. — Прочесть их не сможет никто, кроме меня. Посмотрим оглавление, Так, вот оно Дай мне теперь третий том. Найди двести первую страницу.
Я положил открытую в нужном месте книгу перед ним на кровать, и он начал читать непонятные знаки с такой легкостью, словно это были обычные буквы.
— Де Гарсиа, Хуан. Рост, внешность, семья, ложные имена и так далее. Вот его история, слушай!
Далее следовали целые две страницы, густо исписанные тайнописью. Расшифровывая ее на ходу, Фонсека начал читать.
Запись была немногословной, но я ничего подобного ей не слышал никогда, ни до, ни после. Здесь было собрано все, все пороки и преступления, какие только может совершить человек в погоне за наслаждениями и золотом и ради удовлетворения своих страстей и мстительной ненависти.
В этом черном списке было два убийства: удар ножом в спину сопернику и отравление любовницы. Но, кроме того, здесь перечислялись и другие вещи, слишком постыдные, чтобы о них писать.
— Конечно, мои заметки далеко не полны, — спокойно проговорил дон Андрес, — он натворил гораздо больше. Но то, что здесь записано, я знаю наверное, и одно из этих убийств можно доказать, когда его схватят. Постой, дай-ка мне чернила! Я должен дополнить эту запись.
И он приписал снизу:
«В мае 1517 года вышеупомянутый де Гарсиа отплыл в Англию якобы с торговыми целями и там, в дитчингемском приходе графства Норфолк, убил Луису Вингфилд, в девичестве Луису де Гарсиа, свою кузину, с которой был ранее обручен. Приблизительно в сентябре месяце того же года с помощью ложной свадьбы он соблазнил, а затем бросил донну Изабеллу ив знатного рода Сигуенса, бывшую монахиню из монастыря нашего города».
— Не может быть! — воскликнул я. — Неужели де Гарсиа бросил ту самую девушку, что позавчера приходила к вам ночью за советом?
— Ту самую, племянник. Ты сам слышал, как она умоляла его прошлой ночью. Если бы я знал позавчера то, что знаю сегодня, этот мерзавец уже был бы надежно упрятан в темницу. Но, может быть, еще не поздно. Хоть я и болен, я поднимусь и сделаю что могу. Предоставь это мне, племянник. Ступай, позаботься о себе, а это оставь мне. Если что-нибудь еще можно сделать, я это сделаю. Стой, скажи посыльному, чтобы был наготове, Сегодня вечером я узнаю все, что можно будет узнать.
Ночью Фонсека послал за мной. — Я навел справки, — сказал он. — Я даже поднял на ноги судебных ищеек — впервые за много лет. Сейчас они охотятся за де Гарсиа, как собаки-людоеды за беглым каторжником. Но пока о нем ничего не слышно. Он исчез бесследно. Этой ночью я отправил письмо в Кадис, потому что он, по-видимому, спустился вниз по реке. Но кое-что я все-таки разузнал. Сеньора Изабелла захвачена стражей. В ней опознали монахиню, сбежавшую из монастыря, и передали ее для допроса в руки инквизиции. Иными словами говоря, если ее проступок будет доказан, ее ждет смерть.
— Неужели ей нельзя помочь?
— Поздно. Если бы она меня послушалась, ей бы сейчас ничто не угрожало.
— Но можно с ней хоть как-то связаться?
— Нет. Двадцать лет тому назад еще можно было что-то сделать, но теперь инквизиция стала суровей и неподкупней. Золото там бессильно. Больше мы ее не увидим и ничего о ней не услышим вплоть до ее смертного часа. Если она захочет поговорить со мной перед смертью, может быть, ей окажут такую милость, однако и в этом я сомневаюсь. Впрочем, непохоже, чтобы она это пожелала. Ах, если бы ей удалось скрыть свое положение! Но надежды мало. Не смотри так печально, племянник, религия требует жертв. Может быть, для нее будет лучше умереть сразу, чем жить еще долгие годы погребенной заживо в монастыре. Ведь умирают только один раз! Да падет ее кровь на голову Хуана де Гарсиа!
И я ответил:
— Аминь.
Глава IX
ТОМАС СТАНОВИТСЯ БОГАЧОМ
В течение нескольких месяцев мы больше ничего не слышали ни о де Гарсиа, ни об Изабелле де Сигуенса. Оба исчезли, не оставив следов, и все наши поиски были напрасны.
Я вернулся к своей прежней жизни помощника Фонсеки и снова начал появляться в свете в качестве его племянника. Но с той ночи, когда я дрался на дуэли с убийцей матери, здоровье моего хозяина становилось все хуже и хуже из-за непонятной болезни печени, которая не поддавалась никакому лечению. Через семь месяцев он уже не мог вставать с постели и говорил с трудом. Тем не менее Фонсека сохранил полную ясность ума и время от времени даже принимал некоторых клиентов, приходивших к нему за советом. Закутавшись в свой расшитый халат, он беседовал с ними, сидя в глубоком кресле. Но тень смерти уже коснулась его, и он сам это понимал.
С каждым днем Фонсека все больше и больше привязывался ко мне. Он полюбил меня всей душой, словно родного сына, а я в свою очередь делал все возможное, чтобы хоть немного облегчить его страдания: других врачей он и близко к себе не подпускал.
Однажды, чувствуя, что силы его уже покидают, Андрес де Фонсека выразил желание переговорить с нотариусом. Названный им нотариус пришел и на час с лишним заперся наедине с моим хозяином. После этого он ненадолго вышел и вернулся с несколькими своими писцами. Попросив меня удалиться, они снова заперлись в комнате Фонсеки. Наконец, все ушли, унося с собой какие-то исписанные пергаменты.
Вечером Фонсека послал за мной. Он выглядел очень слабым, но настроение у него было бодрое.
— Подойди поближе, племянник, — сказал он. — Сегодня у меня было много дел, Я всегда был занят делами, всю мою жизнь, и не годится мне под конец впадать в праздность. Ты знаешь, что я сегодня делал?
Я отрицательно покачал головой.
— Ну так я тебе скажу. Я составлял завещание, Ведь после меня кое-что останется, не так уж много, но все-таки кое-что.
— Не говорите о завещании! — взмолился я. — Вы проживете еще много лет, верьте!
Фонсека рассмеялся:
— Плохо же ты обо мне думаешь, племянник, если считаешь, что меня можно так легко провести! Я скоро умру, ты сам это знаешь, но смерти я не боюсь. В жизни я был удачлив, но несчастлив, потому что юность мне искалечили, — теперь это уже неважно. История старая, и нечего ее вспоминать. К тому же какой дорожкой ни иди, все равно придешь к одному — к могиле. Каждый из нас должен пройти свой жизненный путь, но когда доходишь до конца, уже не думаешь, гладок он был или нет. Религия для меня ничто: она не может меня ни утешить, ни устрашить. Только сама моя жизнь может меня осудить или оправдать. А в жизни я творил и зло, и добро. Я творил зло, потому что соблазны бывали порой слишком сильны, и я не мог совладеть со своей натурой; я и делал добро, потому что меня влекло к нему сердце. Но теперь все кончено. И смерть в сущности совсем не такая уж страшная штука, если вспомнить, что все люди рождаются, чтобы умереть, как и прочие живые существа. Все остальное ложь, но в одно я верю: есть бог, и он куда милосерднее тех, кто принуждает нас в него верить. Здесь Фонсека остановился, выбившись из сил.
Я потом часто вспоминал его слова, да и сейчас их вспоминаю, когда сам близок к смерти, Фонсека был фаталистом, и я не могу с ним согласиться, ибо верю, что в известных пределах мы сами создаем свой характер и свою судьбу. Но с его последними словами я целиком согласен. Есть бог, и он милосерд, и смерть не страшна ни сама по себе, ни тем, что грядет за ней.
Но вот Фонсека заговорил снова:
— Зачем ты заставляешь меня говорить о таких вещах? Это меня утомляет, а времени у меня осталось немного. Я говорил о своем завещании. Слушай, племянник. Кроме определенной и, как ты сам понимаешь, небольшой суммы, оставленной мной для бедных, все мое достояние я завещал тебе.
— Мне?! — воскликнул я в изумлении.
— Да, племянник, тебе. А почему бы и нет? У меня нет близких, а тебя я полюбил, хотя думал, что уже не смогу полюбить ни мужчину, ни женщину, ни ребенка. Я тебе благодарен: ты показал мне, что сердце мое не омертвело. Прими же сей дар в знак моей признательности!
Я начал его бессвязно благодарить, но Фонсека оборвал меня:
— Тебе достанется в общей сложности около пяти тысяч золотых песо, или двенадцать с лишним тысяч ваших английских фунтов, — для начала сумма вполне достаточная, чтобы такой молодой человек, как ты, зажил безбедно, даже вдвоем с женой. В Англии это наверняка будет целым состоянием. Я полагаю, что теперь-то отец твоей нареченной не будет возражать против вашей свадьбы. Кроме того, тебе достанется мой дом со всем его содержимым. Серебро, а главное — книги тоже стоят немало: советую их сохранить. Все это перейдет к тебе по закону, все формальности соблюдены и никто не сможет оспаривать твоих прав. Предчувствуя свой конец, я заранее собрал все мои деньги — большая часть золота лежит в ларцах в потайной нише вон в той стене, ты о ней знаешь, племянник. Я бы оставил тебе много больше, если бы встретил тебя несколько лет назад. Но тогда я думал, что слишком разбогател, наследников у меня не было, и я тратил деньги не глядя: помогал всем бедным, укрывал всех бездомных и страждущих. Слушай, Томас Вингфилд! Большая часть этого золота — плод людской глупости я порочности, плата за человеческие слабости и грехи. Постарайся же использовать его с умом, на дело справедливости и свободы. Пусть оно пойдет тебе на пользу и пусть оно напоминает тебе обо мне, о твоем хозяине, старом испанском мошеннике, пока ты сам не оставишь его своим детям или нищим. А теперь еще одно слово. Если можешь, смири свою душу и не преследуй больше Хуана де Гарсиа. Захвати свое состояние, отправляйся с ним в Англию, женись на своей любимой и живи с ней счастливо, как тебе заблагорассудится! Подумай, кто ты такой, чтобы брать на себя отмщение этому негодяю? Оставь его! Он сам навлечет на себя возмездие. Иначе тебе придется вынести немало трудностей и опасностей, а кончиться это может тем, что ты потеряешь и жизнь, я любовь, и все свое достояние.
— Но ведь я поклялся его убить! — возразил я. — Разве могу я нарушить подобную клятву? Разве смогу я спокойно сидеть дома, покрытый позором?
— Не знаю, не знаю! Здесь я тебе не судья. Делай что хочешь, но помни: если ты поступишь по-своему, может случиться так, что ты будешь опозорен еще больше. Ты с ним дрался, и он от тебя бежал. Не будь же глупцом и оставь его в покое. А теперь нагнись и поцелуй меня. Простимся! Я не хочу, чтобы ты видел как я буду умирать, а смерть моя уже рядом. Не знаю, встретимся мы, когда пробьет и твой смертный час, или нас ждут разные звезды. Если так — прощай навсегда!
Я нагнулся и поцеловал его в лоб. Слезы хлынули у меня из глаз. Только сейчас я понял, как сильно его любил: мне казалось, что умирает мой родной отец.
— Не плачь, проговорил Фонсека. — Вся наша жизнь — расставание. Когда-то у меня был сын, такой же, как ты, и не было ничего страшнее нашего прощания. А сейчас я иду к нему, потому что он не может прийти ко мне. О чем же плакать? Прощай, Томас Вингфилд! Да хранит тебя бог. А теперь — иди.
Я ушел весь в слезах, и той же ночью перед рассветом Андреса де Фонсека не стало. Мне сказали, что он умер в полном сознании, шепча имя своего сына, о котором заговорил со мной только в последний час.
Я так никогда и не узнал, что произошло с его сыном и с самим Фонсекой. Подобно индейцу, он шел по жизненной тропе, шаг за шагом заметая за собой все следы. Он никогда не рассказывал о своем прошлом, и я не нашел ни малейших сведений о нем ни в книгах, ни в документах, которые после него остались.
Однажды много лет спустя, я прочел все тома зашифрованных записей Фонсеки: перед смертью он дал мне ключ к шифру. Они стоят передо мной и сейчас, когда я пишу эти строки. В них я нашел немало историй позора, горя и преступлений, немало рассказов об обманутом доверии, о проданной честности, о жестокости священнослужителей, о торжестве жадности над любовью и торжестве любви над смертью. Их хватило бы по меньшей мере на полсотни больших романов. Но в этой хронике давно ушедшего и забытого поколения ни разу не упоминается даже имя Фонсеки и нет ни намека на его собственную историю. Она утрачена навсегда и, может быть, к лучшему.
Так умер мой лучший друг и мой благодетель.
Когда Фонсеку обрядили для похорон, я пришел еще раз взглянуть на него. Объятый смертным сном, он казался спокойным и даже красивым.
В этот момент ко мне приблизилась женщина, которая обмывала его, и подала мне два изящных портрета-медальона на слоновой кости: она нашла их на груди покойного. Эти медальоны до сих пор у меня. На одном из них изображена головка дамы с нежным и задумчивым выражением; на другом — лицо мертвого юноши, прекрасное, но бесконечно печальное. По всей видимости то были мать и сын, а больше я о них
ничего не знаю.
На следующий день я похоронил Андреса де Фонсеку. Похороны были скромные, потому что он приказал не тратить деньги на погребение его трупа.
С кладбища я вернулся домой, где меня ожидали нотариусы. Печати были сломаны, документы зачитаны, и я вступил в полное владение всем достоянием покойного. После того как я уплатил пошлину, налог на наследство и выдал нотариусам положенное вознаграждение, они удалились, униженно кланяясь. Ведь отныне я был богат!
Да, я стал богачом, и богатство, к которому я так стремился, досталось мне без всякого труда. Однако оно меня не радовало. Я провел самый горький из всех вечеров с тех пор, как высадился в Испанию. Печаль и сомнения разрывали мне сердце, тоскливое одиночество давило меня. Но я не знал, что эта горестная ночь к утру мне покажется еще страшнее.
Я сидел за столом и делал вид, что ужинаю, когда слуга доложил, что в гостиной какая-то дама ожидает моего покойного хозяина. «Наверное, клиентка, которая еще не знает о смерти Фонсеки», — решил я, и уже хотел приказать слуге, чтобы он ее выпроводил, но потом подумал, что, может быть, смогу ей чем-нибудь помочь или хотя бы выслушать ее и на время забыть свое собственное горе. Поэтому я велел провести даму ко мне. В комнату вошла высокая женщина, закутанная в темный плащ с капюшоном, скрывавшим ее лицо. Я поклонился, усадил ее, но внезапно она снова поднялась и проговорила тихо и быстро:
— Я хотела видеть дона Андреса де Фонсеку, а не вас!
— Андреса де Фонсеку сегодня похоронили, — ответил я. — Во всех делах я был его помощником и остался его наследником. Если могу вам чем-нибудь помочь, располагайте мной.
— Вы так молоды, слишком молоды, — смущенно пробормотала дама, — а дело это ужасное и спешное. Можно ли вам верить?
— Судите сами, сеньора.
Подумав немного, дама сбросила плащ, под которым оказалось одеяние монахини.
— Слушайте, — сказала она. — Этой ночью мне предстоит еще немало забот, и я с трудом урвала время, чтобы прийти сюда для дела милосердия. Я не могу вернуться с пустыми руками, поэтому мне приходится вам верить. Но сначала поклянитесь святым именем Божьей Матери, что вы меня не предадите.
— Я даю вам мое слово, — ответил я. — И если этого вам недостаточно, закончим наш разговор.
— Не сердитесь на меня! — взмолилась женщина. — Я не выходила за стены монастыря уже много лет, и у меня большое горе. Мне нужен самый сильный яд. Я хорошо вам заплачу.
— Убийцам я не пособник, — возразил я. — Для чего вам понадобился яд?
— О, я не должна… Но я вижу, что мне придется сказать. Этой ночью в нашем монастыре должна умереть одна женщина, почти девочка, молоденькая и красивая. Она нарушила обет и сегодня ночью умрет вместе со своим ребенком. Она, она… о господи! их замуруют живыми в стену монастыря, который она осквернила. Таков приговор, и его невозможно ни отменять, ни смягчить. Я аббатиса этого монастыря — не спрашивайте ни моего имени, ни как называется монастырь, — и я люблю эту грешницу, словно родную дочь. Только благодаря моим особым заслугам перед церковью и моим тайным покровителям мне удалось добиться для нее высшей милости: прежде чем работу закончат, я смогу дать ей чашу с водой, к которой будет подмешан яд, и смочить отравой губы младенца, чтобы они умерли быстро. Я смогу это сделать, не беря на душу греха. У меня есть тайное отпущение. Помогите же мне стать невинной убийцей и спасти эту грешницу от последних земных страданий.
У меня нет слов, чтобы описать, что я испытал, слушая этот страшный рассказ. Оцепенев от ужаса, я тщетно пытался что-то ответить, как вдруг у меня мелькнула чудовищная мысль.
— Эту женщину зовут Изабелла де Сигуенса? — спросил я.
— Да, — ответила аббатиса, — так ее звали в мире, хоть я и не понимаю, откуда вам это известно.
— В этом доме известно многое, святая мать. Скажите, можно ли ее спасти с помощью денег или каких-нибудь посулов?
— Немыслимо: приговор утвержден Трибуналом Милосердия. Она должна умереть через два часа. Вы дадите мне яд?
— Я могу его дать только в том случае, если буду уверен в его назначении. Откуда я знаю, может, вы просто выдумали всю эту историю и воспользуетесь ядом таким образом, что мне потом придется отвечать перед законом! Я дам его вам только при одном условии: я должен видеть сам, как вы его используете.
Аббатиса задумалась на мгновение, затем проговорила:
— Хорошо, это возможно: мое отпущение прикроет и этот грех. Но вам придется надеть монашескую рясу с капюшоном, ибо те, кто исполняет приговор, не должны знать ни о чем. Однако другие будут знать, и я предупреждаю: если вы проговоритесь, вас ждет суровая кара. Церковь жестоко мстит тем, кто выдает ее тайны, сеньор.
— Когда-нибудь эти тайны сами отомстят за себя церкви, — с горечью ответил я. — А теперь извините, мне нужно найти подходящее средство. Оно должно подействовать быстро, но не слишком, иначе ваши псы увидят, что добыча от них ускользнула, прежде чем закончат свою дьявольскую работу. Вот это нам подойдет, — и я показал ей флакон, который вынул из ларца, где хранились яды. — Одевайтесь, святая мать, и пойдемте, совершим ваше «дело милосердия».
Она повиновалась, и мы вышли из дому.
Быстро оставив позади людные улицы, мы вступили в старую часть города и спустились к реке. Здесь аббатиса показала мне на ледку, которая ждала у пристани. Мы сели в нее к поплыли вверх по течению. Через милю с лишним лодка подошла к причалу под высокой стеной. Мы сошли на берег, приблизились к глухой деревянной двери, и аббатиса трижды постучала. Стукнуло дверное окошко, за которым смутно белело в темноте чье-то лицо. Человек что-то спросил, моя спутница ему тихо ответила. Через некоторое время дверь отворилась, и мы оказались в большом, окруженном стеной саду апельсиновых деревьев.
— Я привела вас в наш дом, — обратилась ко мне аббатиса. — Если вы случайно знаете, где вы находитесь и как называется это место, ради вашего же блага прошу вас обо всем позабыть, когда вы закроете за собой эту дверь.
Не отвечая, я озирался вокруг. Вот он, этот сырой, темный сад! Наверное, здесь де Гарсиа встретил несчастную девушку, которая должна умереть сегодняшней ночью.
Мы прошли по саду шагов сто и вновь остановились перед дверью в стене низкого здания, выстроенного в мавританском стиле. Здесь моя спутница опять постучала, но на сей раз переговоры длились дольше. Наконец, дверь открыли, и мы очутились в еле освещенном узком и длинном коридоре, в глубине которого я различил фигуры монахинь, скользивших взад и вперед, подобно летучим мышам в гробнице. Аббатиса повела меня за собой по коридору, пока мы не дошли до двери с правой стороны. Она открыла дверь, впустила меня в келью и оставила одного в темноте.
Минут десять с лишним я стоял во власти самых противоречивых мыслей, о которых предпочитаю не вспоминать. Но вот дверь снова открылась, и аббатиса вошла в сопровождении высокого монаха, облаченного в белую рясу доминиканцев. Его лица я не мог различить, потому что на голове у него был такой же белый остроконечный колпак; сквозь прорези виднелись одни глаза. Некоторое время монах рассматривал меня при свете фонаря. Потом он заговорил:
— Привет тебе, сын мой. Мать аббатиса рассказала мне о твоем деле. Ты слишком молод для таких вещей.
— Будь я старше, они бы от этого не сделались приятнее, святой отец. Вы знаете, о чем идет речь. Меня просили достать смертельный яд для некоторых милосердных целей. Я принес яд, но я должен убедиться сам, что он будет использован по назначению.
— Сын мой, ты слишком подозрителен! Церковь не занимается убийствами. Эта женщина должна умереть, ибо грех ее доказан, а в последнее время подобная распущенность становится всеобщей. Посему после долгих молитв, размышлений и тщетных поисков обстоятельств, могущих смягчить ее участь, она было осуждена на смерть теми, чьи имена слишком святы, чтобы их называть. Я же — увы! — нахожусь здесь для того, чтобы проследить за исполнением приговора с некоторыми отступлениями которые из милости разрешил допустить по отношению к ней ее верховный судья. Вижу, что тебе, сын мой, необходимо присутствовать при свершении этого дела милосердия, а потому не стану чинить тебе препятствий. Мать аббатиса уже предупредила тебя, какая кара ждет тех, кто выдает тайны церкви? Ради тебя самого прошу — не забывай об этом!
— Я не из болтунов, святой отец, и предупреждать меня не к чему. Но вот еще что. За этот визит мне должны хорошо заплатить, яд стоит недешево.
— Не бойся, лекарь! — ответил монах с ноткой презрения в голосе. — Назови свою цену, и тебе заплатят.
— Я прошу не денег, святой отец. Я бы сам заплатил немало, чтобы только не находиться здесь этой ночью. Я прошу, чтобы мне дали возможность переговорить с девушкой, прежде чем она умрет.
— Что?! — воскликнул монах. — Надеюсь, не ты ее совратил? Если это так, ты поистине наглец, достойный разделить ее участь!
— Нет, святой отец, это не я. Я видел Изабеллу де Сигуенса лишь однажды и ни разу не говорил с ней. Ее соблазнил не я, но я знаю этого человека. Его имя Хуан де Гарсиа.
— Вот как? — быстро проговорил монах. — Она ни за что не хотела сказать его настоящее имя, даже под угрозой пыток. Несчастная заблудшая душа, она была искренна в своем заблуждении. О чем же ты хочешь с ней говорить, сын мой?
— Я хочу у нее узнать, куда я направился этот человек. Он мой враг, и я буду преследовать его, как преследовал до сих пор. Он причинил мне и моей семье куда больше зла, чем этой бедной девушке. Не откажите мне, святой отец, чтобы я мог отомстить ему за себя и за церковь.
— Господь сказал: «Мне отмщение, и аз воздам!» Но, быть может, сын мой, господь избрал тебя орудием своей мести. Я дам тебе возможность поговорить с ней. Облачись в эти одежды, — тут он протянул мне белую доминиканскую рясу с таким же капюшоном, — и следуй за мной.
— Сначала, — возразил я, — надо передать яд аббатисе, потому что я не хочу давать его сам. Возьмите этот флакон, святая мать, и когда придет время, вылейте его в чашу с водой. Смочите как следует губы и язык младенца, а остальное дайте матери и проследите, чтобы она все выпила. Прежде чем будет положен последний кирпич, они крепко уснут и больше уже не проснутся.
— Я это сделаю, — пробормотала аббатиса. — Отпущение придает мне смелость, и я это сделаю во имя любви и милосердия.
— Ты слишком мягкосердечна, сестра, — проговорил монах, осеняя себя крестным знамением. — Правосудие — вот истинное милосердие! Горе немощной плоти, восстающей против духа!
Когда я облачился в одеяние белого призрака, монах и аббатиса взяли фонари и повели меня за собой.
Глава X
СМЕРТЬ ИЗАБЕЛЛЫ ДЕ СИГУЕНСА
Мы молча шли по длинному коридору, и я видел, как сквозь зарешеченные дверные окошки келий за нами следят глаза монахинь, заживо погребенных в своих склепах. Чему же тут удивляться, если женщина не побоялась смерти, лишь бы вырваться из этой темницы в мир жизни и любви! И вот за такое «преступление» она должна теперь умереть. Нет, воистину бог не забудет злодеяний этих попов и этой нации, что их породила!
И бог не забыл. Ибо где ныне величие Испании и что стало с жестокими обрядами, которыми она славилась? Здесь, в Англии, их узы порваны навсегда. Они хотели заковать нас, свободных англичан, в свои кандалы, но мы их разбили, и они уже никогда больше не пригодятся.
В дальнем конце коридора оказалась лестница: по ней мы спустились вниз и остановились у тяжелой, окованной железом двери. Монах отпер ее своим ключом, впустил нас и снова запер изнутри. Отсюда шел второй коридор, высеченный в толще стены, за ним была еще одна дверь, а за ней — место казни.
Это было низкое сырое подземелье, внешнюю стену которого омывала река; в мертвой тишине я слышал, как журчат ее воды. Оно имело приблизительно восемь шагов в ширину и десять в длину. Своды его поддерживали массивные колонны, за ними в стене виднелась вторая дверь, ведущая в темницу.
В дальнем углу этого мрачного склепа, тускло освещенного факелами и фонарями, два человека в грубых черных рясах с глухими колпаками на головах молчаливо перемешивали известковый раствор, от которого в затхлом воздухе поднимались клубы горячего пара. Рядом с ними лежали аккуратные штабеля обтесанных камней, а напротив виднелась вырубленная в толще стены ниша, похожая на большой гроб, поставленный вертикально на более узкий конец. Напротив ниши стояло тяжелое кресло из каштанового дерева. В той же стене я заметил еще две подобные ниши, заложенные брусками такого же беловатого камня. На каждой из них виднелась глубоко высеченная дата. Одна ниша была замурована более ста лет назад, другая — спустя лет семьдесят.
Когда мы вошли в подземелье, в нем не было никого, кроме двух монахов-каменщиков, но вскоре из второго коридора до нас донеслись звуки нежного и торжественного песнопения. Дверь открылась, монахи прекратили работу и отошли от кучи извести. Звуки становились все громче. Вскоре я уже мог разобрать слова: это была латинская заупокойная молитва. Затем появился и сам хор: восемь монахинь с закрытыми вуалями лицами попарно прошли через дверь, встали в ряд у противоположной стены и умолкли. За ними вошла обреченная в сопровождении еще двух монахинь и последним — священник с распятием в руках. На нем была черная сутана, и его полубезумное лицо оставалось открытым.
Все это и другие подробности я заметил и запомнил, однако тогда мне казалось, что я не вижу ничего, кроме лица несчастной жертвы. Я ее узнал, хоть и видел всего лишь раз, да и то при лунном свете. Она сильно изменилась: прелестное лицо отекло, приобрело восковой оттенок, и теперь на нем выделялись только темно-красные губы да огромные, сверкающие, словно звезды, измученные глаза. Но лицо было то же самое! Именно эту женщину я видел какие нибудь восемь месяцев назад, когда она говорила со своим неверным возлюбленным. Только теперь ее высокая фигура была окутана смертным саваном, по которому волной рассыпались черные пряди волос, и в руках она держала спящего младенца, судорожно прижимая его время от времени к груди.
У порога своей могилы Изабелла де Сигуенса остановилась и начала затравленно озираться, словно взывая о помощи. Но тщетно ее отчаянный взгляд впивался в закрытые капюшонами лица безмолвных зрителей. Потом она увидела нишу, кучу дымящейся извести, содрогнулась и, наверное бы, упала, если бы не сопровождавшие ее монахини, — они подхватили несчастную под руки, подвели к креслу и опустили в него, как живой труп.
Ужасный ритуал начался. Монах-доминиканец встал перед осужденной, объявил о ее преступлении и огласил приговор:
— Да будет она, а вместе с нею дитя ее греха оставлены наедине с господом богом, дабы он поступил с ними по воле своей!
[235] Однако несчастная, по-видимому, не слышала ни приговора, ни последовавших за ним увещеваний. Наконец, монах кончил, перекрестился и, повернувшись ко мне, сказал:
— Приблизься к грешнице, брат мой, и поговори с ней, пока еще не поздно!
После этого он приказал присутствующим отойти в дальний конец подземелья, чтобы они не слышали нашего разговора, и все безмолвно повиновались. По-видимому, они приняли меня за монаха, который должен исповедовать осужденную.
С бьющимся сердцем я подошел ближе, наклонился к ней и заговорил над самым ее ухом:
— Слушайте меня, Изабелла де Сигуенса! — когда я произнес ее имя, она содрогнулась. — Где де Гарсиа, который вас соблазнил и бросил?
— Откуда вы знаете это имя? — спросила она. — Даже пытки не могли у меня его вырвать.
— Я не монах и не знаю ни о каких пытках. Я тот самый человек, который дрался с де Гарсиа в ту ночь, когда вас схватили, и который убил бы его, если бы не вы.
— Я его спросила, и в этом мое утешение.
— Изабелла де Сигуенса, — продолжал я. — Я ваш друг, самый искренний и последний, в чем вы сами сейчас убедитесь. Скажите мне, где этот человек? Между нами есть счеты, которые нужно уладить.
— Если вы мой друг, не мучьте меня больше. Я ничего о нем не знаю. Много месяцев назад он отправился туда, куда вы навряд ли когда-нибудь попадете, в Индию.
[236] Но и там вам его все равно не найти.
— Как знать! На тот случай, если мы все же встретимся, не захотите ли вы что-нибудь ему передать?
— Нет, Хотя… постойте! Расскажите ему, как мы умерли, его жена и его ребенок, и скажите, что я сделала все, чтобы инквизиция не узнала его настоящего имени, ибо тогда его ожидала бы такая же участь.
— Это все?
— Да… Нет, скажите ему еще, что я умерла любя его и прощая.
— У меня мало времени, — сказал я. — Очнитесь и слушайте!
Я сказал так потому, что она словно погрузилась в какой-то полусон.
— Я был помощником Андреса де Фонсеки, советом которого вы пренебрегли себе на погибель. Я дал вашей аббатисе одно снадобье. Когда она поднесет вам чашу воды, выпейте все и дайте испить ребенку. Если вы так сделаете, ваша смерть будет легкой и безболезненной. Вы меня поняли?
— Да, да! — прошептала она, задыхаясь. — Пусть наградит вас за это господь! Теперь я не боюсь. Я сама давно хотела умереть и страшилась только этой казни.
— Тогда прощайте, несчастная женщина! Бог с вами.
— Прощайте! — ласково ответила она. — Но зачем же меня называть несчастной, если я умру такой легкой смертью вместе с тем, кого я люблю?
И она посмотрела на своего спящего младенца.
После этого я отошел от нее и молча встал у стены, опустив голову, затем доминиканец приказал всем занять свои места.
— Заблудшая сестра, — обратился он снова к осужденной. — Не хочешь ли сказать нам что-нибудь, пока уста твоя не умолкли навеки?
— Да, хочу! — ответила она чистым и нежным голосом; теперь, когда она узнала, что смерть ее будет быстрой и легкой, он даже не дрожал. — Да, я хочу вам сказать, что умираю с чистой совестью, ибо если я и согрешила, то только против обычая, а не против бога. Правда, я нарушила свои обеты, но меня заставили их принять насильно, и они меня все равно не связывали. Я была рождена для любви и света, а меня заточили во мрак монастыря, чтобы я гнила здесь заживо. Поэтому я и нарушила обеты, и я рада, что так сделала, хотя и расплачиваюсь за это жизнью. Пусть даже меня обманули, пусть моя свадьба не была настоящей свадьбой, как мне сейчас говорят, — я этого не знаю, — для меня она все равно останется истинной и святой, и душа моя чиста перед господом. Я жила настоящей жизнью, несколько счастливых часов я была женою и матерью, и теперь лучше мне по вашей милости умереть сразу в этом склепе, чем медленно умирать в тех кельях наверху. А теперь слушайте меня! Вы осмеливаетесь говорить детям божьим: «Не смейте любить!»
— и убиваете их за любовь друг к другу, Но ваше изуверство обернется против вас самих. Попомните мои слова, оно обернется против вас и против церкви, которой вы служите, и тогда служители и церковь падут, а имена их станут проклятием в устах людей!
Шепот изумления и страха пронесся по подземелью.
— Она рехнулась! — воскликнул доминиканец. — Она потеряла разум и богохульствует в своем безумии. Не слушайте ее! Напутствуй ее, брат мой, — обратился он к священнику в черной сутане, — да поскорее, пока она еще чего-нибудь не наговорила!
Чернорясый поп с горящим, пронзительным взглядом приблизился к осужденной, сунул свой крест ей под нос и что-то забормотал. Но она резко поднялась с кресла я оттолкнула распятие.
— Поди прочь — вскричала она. — Не тебе меня исповедовать! Я покаюсь в моих грехах перед богом, а не перед такими, как ты, убивающими людей во имя Христа!
От этих слов фанатик пришел в ярость.
— Отправляйся же в ад нераскаянной, проклятая, — завопил он и ударил несчастную тяжелым распятием из слоновой кости прямо по лицу, осыпая ее непристойной бранью.
Доминиканец гневно приказал ему замолчать, но Изабелла де Сигуенса только вытерла кровь с рассеченного лба и расхохоталась жутким безумным смехом.
— О, теперь я вижу, что ты еще к тому же и трус! — проговорила она. — Слушай же меня, поп! В последний свой час я молю бога, чтобы ты сам погиб от рук фанатиков и еще более страшной смертью, чем я!
Когда ее втолкнули в смертную нишу, она снова заговорила.
— Дайте нам попить, — попросила она, — меня и мое дитя томит жажда.
Я увидел, как из двери темницы, где была заключена осужденная, появилась аббатиса с чашей воды и ковригой хлеба в руках, и по ее виду понял, что она уже влила мое снадобье в воду. И больше я ничего не видел.
Сразу после этого я попросил доминиканца поскорее открыть дверь и выпустить меня из подземелья. Сделав несколько шагов по коридору, я остановился подальше от двери и здесь, оцепенев от ужаса, простоял бог весть сколько времени. Наконец, я увидел перед собой аббатису с фонарем в руке.
— Все кончено, — проговорила она, горестно всхлипывая. — Нет, не бойтесь, ваше снадобье подействовало. Еще первый камень не был положен, а мать и дитя уже спали глубоким сном. Но она умерла нераскаянной и без исповеди. Горе ее душе!
— Горе душам всех, кто приложил руку к этому делу! — ответил я. — А теперь отпустите меня, святая мать, и дай нам бог никогда больше не встречаться!
Она отвела меня обратно в келью, где я сбросил проклятый монашеский балахон, а оттуда — к двери в садовой ограде и к лодке, которая все еще ожидала у причала. Почувствовав на своем лице нежное дуновение ночного ветра, я обрадовался так, словно наконец-то очнулся от страшного кошмара. Но ни в эту, ан в следующие ночи сон не шел ко мне. Едва я смежал глаза, как передо мной возникал образ несчастной красавицы, такой, как я ее видел в последний раз. Освещенная тусклым отблеском факелов, закутанная в саван, стоит она гордо и непокорно в своей нише, словно в каменном гробу, прижимая одной рукой младенца к груди и протягивая другую за чашей с ядом.
Видеть такое дважды вряд ли кто пожелает, да и тех, кто видел подобное хоть один раз, тоже найдется немного — инквизиция и ее пособники, совершая свои злодеяния, стараются избавиться от свидетелей. И если я не слишком хорошо описал события той ночи, то вовсе не потому, что забыл их, а потому, что даже сейчас, по прошествии почти семидесяти лет, мне трудно писать обо всех этих ужасах.
Пожалуй, самым удивительным из того, что я видел в ту необычайную ночь, было чувство несчастной красавицы к негодяю, который соблазнил ее, обманул ложной свадьбой, а потом оставил умирать лютой смертью. Она любила его до последнего мгновения. Чем заслужил подобный человек столь святую жертву? Не знаю. Но это было именно так. Раздумывая обо всем, что тогда произошло, я вспоминаю сегодня о вещах не менее удивительных, чем беззаветное чувство несчастной женщины. Я уже говорил, что когда священник ударил ее, она пожелала ему умереть от рук таких же фанатиков еще более страшной смертью. Так оно и случилось. Много лет спустя этот самый священник, по имени отец Педро, был послан в Анауак для обращения язычников, и здесь прославился своей жестокостью, за которую индейцы прозвали его «Христов Дьявол». Однажды он забрался дальше, чем следовало, на земли еще не покоренного тогда племени отоми, попал в руки жрецов бога войны Уицилопочтли и, по кровавому обычаю, был принесен ему в жертву. Когда его повели на казнь, я ему напомнил предсмертное проклятие Изабеллы де Сигуенса, не сказав, однако, что сам присутствовал при ее кончине. И тогда на какой-то момент ужас обуял его. Он увидел во мне только индейского вождя и подумал, что сам сатана говорит моими устами, чтобы помучить его перед смертью, Но довольно об этом. Если понадобится, я расскажу обо всем подробнее в другом месте. А теперь скажу лишь одно: потому ли, что провидение захотело воздать ему полной мерой, по чистой ли случайности, или потому, что Изабелле де Сигуенса в ее последний час открылось будущее, фанатик этот погиб именно так, как она предсказала, и я о нем нисколько не сожалею, хотя его смерть и навлекла на меня впоследствии немало несчастий.
Так умерла Изабелла де Сигуенса, загубленная попами только за то, что осмелилась преступить их устав.
Когда все, что я видел к слышал в ту страшную ночь, немного улеглось в душе, я смог, наконец, подумать о себе. С одной стороны, я стал богатым человеком, я если бы захотел теперь вернуться в Норфолк со своим состоянием, меня бы ожидало прекрасное будущее; об этом мне говорил еще Фонсека. Но, с другой стороны, клятва, данная мной, висела на мне, точно гиря. Я поклялся отомстить Хуану де Гарсиа и призвал на себя все кары небесные, если этого не исполню. Но как я ему отомщу, если буду жить в Англии в мире и благополучии?
Наконец, теперь я знал, где был мой враг, или хотя бы в какой части света его искать. Там, где белых людей не так много, ему не удастся спрятаться от меня, как в Испании. Я узнал об этом от осужденной женщины и рассказал здесь довольно подробно ее историю лишь потому, что если бы не она, я никогда не отправился бы на Эспаньолу,
[237] точно так же, как если бы жрецы племени отоми не принесли в жертву ее палача, отца Педро, я никогда не вернулся бы в Англию, ибо не будь этого жертвоприношения, испанцы не стали бы осаждать Город Сосен, и я до сих пор, наверное, был бы там, живой или мертвый. Так незначительные с виду события определяют судьбы людей. Если бы Изабелла де Сигуенса не произнесла нескольких роковых слов, я со временем отчаялся бы в бесплодных поисках и уплыл домой, в Англию, где меня ожидало счастье. Но, услышав ее слова, я уже не мог так поступить, потому что с моей стороны это было бы, как я думал на горе себе, последней трусостью. Тем более что теперь я считал своим долгом отомстить за двоих, за смерть моей матеря и за смерть Изабеллы де Сигуенса. Это может показаться удивительным, но если бы кто-нибудь видел, как страшно умирала юная красавица, он без сомнения поклялся бы отплатить за ее муки тому, кто ее соблазнил и бросил.
Кончилось все это тем, что я по своему упрямому нраву пошел наперекор собственным желаниям, не послушался предсмертного совета моего благодетеля и решил исполнить свою клятву: последовать за де Гарсиа хоть на край света и убить его там, где встречу.
Для начала я все же постарался ловко и незаметно разузнать, действительно ли де Гарсиа отплыл в Индию. Не вдаваясь в подробности, расскажу о том, что мне удалось установить, пользуясь имевшейся у меня путеводной нитью.
Через два дня после той ночи, когда я дрался с де Гарсиа на дуэли, какой-я мужчина, по описанию очень похожий на него, однако носящий другое имя, отплыл из Севильи на караке,
[238] которая направлялась к Канарским островам. Там карака должна была дождаться прибытия других судов и вместе с ними отплыть к Эспаньоле. Сопоставив целый ряд обстоятельств, я убедился, что этот человек был не кем иным, как Хуаном де Гарсиа. В этом не было ничего удивительного, хотя я только тогда вспомнил, что Индия служила убежищем для многих авантюристов и всяких мерзавцев, которым нельзя было оставаться в Испании. И вот я принял решение последовать за ним. Единственное, что хоть немного меня утешало, так это мысль, что я увижу новые чудесные края. В то время я даже не предполагал, сколько новых чудес меня там ожидает.
Но сначала я должен был распорядиться так неожиданно доставшимся мне богатством. Что с ним делать и как его сохранить до своего возвращения, я просто не знал и, лишь случайно услышав, что в Кадис прибыла из Ярмута «Авантюристка», тот самый корабль, на котором я приплыл в Испанию, тут же решил, что надежнее всего будет переправить золото я прочие ценные вещи в Англию, где их сберегут для меня в полной неприкосновенности. Тотчас же я направил нарочным письмо моему другу капитану «Авантюристки», сообщая, что у меня есть для него ценный груз. После этого я начал спешно готовиться к отъезду. Из-за спешки мне пришлось предать дом моего благодетеля и множество прочих вещей по самым низким ценам. Большую часть книг, посуду и некоторые другие предметы я велел упаковать в ящики и отправил по реке в Кадис, на имя тех самых торговцев, к которым у меня были рекомендательные письма от ярмутских купцов. Только после этого я уехал сам, увозя с собой все мое золото в многочисленных мешочках, тщательно запрятанных среди прочих вепрей.
Так год спустя я навсегда покинул Севилью. Этот город принес мне удачу. Я приехал сюда бедняком, а уезжал богатым человеком. О приобретенном мною опыте, который сам по себе стоил немало, нечего и говорить. И тем не менее я был рад отъезду, потому что здесь, в этом городе, Хуан де Гарсиа снова ускользнул от меня, здесь я потерял своего лучшего друга, и здесь я видел смерть Изабеллы де Сигуенса.
До Кадиса я добрался благополучно, не потеряв ни одной вещи. В порту я нанял лодку и вскоре уже был на борту «Авантюристки», где меня встретил капитан Бэлл. Он был в добром здравии и, увидев меня, весьма обрадовался. Но я обрадовался еще больше, когда узнал, что у капитана Бэлла было для меня три письма: одно от отца, второе от сестренки Мэри, а третье от моей нареченной Лили Бозард. Это единственное письмо, которое я от нее получил.
Однако содержание писем оказалось далеко не радостным. Отец мой был совсем плох и почти не вставал с постели. Как потом выяснилось, он умер в нашей дитчингемской церкви в тот самый день, когда я получил его письмо, но это я узнал уже много лет спустя. Письмо отца было коротеньким и печальным. В нем он говорил, что весьма сожалеет о том что позволил мне уехать, что, наверное меня больше не увидит, а потому молит бога сохранить мне жизнь и помочь благополучно вернуться на родину.
Что касается Лилиного письма, которое она сумела отправить тайком, когда узнала, что «Авантюристка» снова отплывает в Кадис, то оно было хоть и более длинное, но не менее печальное. Лили писала, что едва я уехал из дома мой братец Джеффри заручился согласием ее отца, и они вдвоем принялись ее осаждать, принуждая к замужеству. Жизнь девушки превратилась в настоящий ад; мой братец преследовал ее неотступно, а сквайр Бозард пилил свою дочь каждый день, обзывая упрямой ослицей, которая отказывается от богатства ради какого-то нищего бродяги.
«Но верь мне, любимый, — писала далее Лили, — я не отступлюсь от своей клятвы, если только они не заставят меня выйти замуж насильно. А они уже грозились это сделать. Но если даже им удастся привести меня к алтарю против моей воли, то знай, Томас, я недолго буду чужой женой. Здоровье у меня, правда, крепкое, но тогда я просто умру от стыда и горя. И за что мне все эти муки? Неужели только за то, что ты беден?! И все же я твердо надеюсь, что все образуется к лучшему, хотя бы потому, что мой брат Уилфрид серьезно увлечен твоей сестрой Мэри. До сих пор он тоже торопил меня с этой свадьбой, но Мэри наш с тобой верный друг, и она сумеет склонить брата на нашу сторону, прежде чем примет его предложение».
Заканчивалось письмо всякими нежными словами и пожеланиями благополучного возвращения.
Примерно об этом же говорила в своем письме и моя сестренка Мэри. Она писала, что пока ничего не может сделать для нас с Лили. Мой братец Джеффри сходит с ума от любви, отец слишком болен и ни во что не вмешивается, а сквайр Бозард зарится на наши земли и потому решительно настаивает на свадьбе. Однако, по ее словам, все это должно измениться, потому что вскоре она, возможно, сумеет замолвить за меня словечко и, надеется, небезуспешно.
Подобные новости заставили меня глубоко задуматься. С новой силой проснулась во мне тоска по дому, преследуя меня, словно наваждение. Нежные слова моей нареченной и тонкий аромат, исходивший от ее письма, воскресили передо мной образ любимой, и сердце мое разрывалось от желания снова быть рядом с ней. К тому же я знал, что теперь меня встретят с распростертыми объятиями, ибо мое состояние было много больше того, на что мог рассчитывать мой братец, а родители не выставляют за дверь женихов, у которых в кармане двенадцать тысяч золотых монет. И, наконец, мне так хотелось повидать отца, пока он еще жив!
Однако между мной и родиной лежали тень Хуана де Гарсиа и моя клятва. Я так долго стремился к мести, это чувство настолько овладело мной, что теперь я уже не мог даже думать о счастливой жизни, пока цель не достигнута. Для того, чтобы быть счастливым, я должен был уничтожить де Гарсиа, Я уверился в том, что, пока он жив, проклятие, произнесенное мной, будет преследовать меня повсюду.
Поэтому я сделал следующее. Обратившись к нотариусу, я приказал ему составить дарственную, которую перевел на английский язык. По этой дарственной я разделил все мое состояние, за исключением оставленных для себя двухсот песо, на три части и передал его трем лицам на сохранение вплоть до того дня пока я сам за ним не явлюсь. Указанными тремя лицами были мой старый учитель, честнейший доктор Гримстон из Банги, моя сестра Мэри Вингфилд и моя невеста Лили Бозард. Этой дарственной, засвидетельствованной для большей верности на борту корабля капитаном Бэллом и еще двумя англичанами, я доверял вышеупомянутым лицам распоряжаться моим состоянием по своему усмотрению, однако с таким условием, чтобы не менее половины денег было вложено в земельные владения, а остаток — в доходные дела. Вся прибыль и доходы с имений должны были выплачиваться Лили Бозард до тех пор, пока она не выйдет замуж.
Одновременно с дарственной я составил завещание. Большая часть моего состояния переходила по нему к Лили Бозард, если ко дню моей смерти она будет не замужем, а остальное — к моей сестре В случае замужества или смерти Лили ее доля переходила к Мэри или ее наследникам.
Когда оба документа были подписаны и запечатаны, я вручил их вместе со всем моим достоянием капитану Бэллу, чтобы он в свою очередь доставил все это в Банги и передал доктору Гримстону, который должен был его за это щедро вознаградить. Капитан со слезами умолял меня отправиться вместе со всеми моими сокровищами в Англию, и лишь когда я наотрез отказался, обещал все исполнить в точности.
Вместе с золотом и документами я послал несколько писем: отцу, сестре, брату, доктору Гримстону, сквайру Бозарду и, наконец, самой Лили. В этих письмах я рассказал обо всем, что со мной приключилось, начиная с первого дня пребывания в Испании, так как убедился, что прежние мои письма вообще не достигли Англии, и объявил о своем решении последовать за де Гарсиа хоть на край света.
«Я сам отдаляю и, может быть, теряю счастье, — писал я Лили, — которое мне дороже всего на земле. Пусть люди думают, что я сошел с ума! Но ты, ты знаешь мое сердце и ты меня не осудишь, хотя мое решение и принесет тебе много горя. Ты знаешь, что если я в чем-нибудь утвердился, ничто, кроме смерти, не заставит меня отступить. А я, кроме того, связан клятвой; нарушить ее мне не позволит совесть. Даже рядом с тобой я не смогу быть счастливым, если сейчас откажусь от своих поисков. Сначала дело, а потом отдых; сначала горе, и лишь потом — радость. Не бойся за меня, я верю, что не погибну и вернусь. А на тот случай, если мне не суждено будет вернуться, я сделал все так, чтобы тебе никогда не пришлось выходить замуж против своей воли. Но сейчас, пока де Гарсиа жив, я буду его преследовать».
Своему братцу Джеффри я написал очень короткое письмо, где высказал все, что думаю о человеке, который преследует беззащитную девушку и старается напакостить отсутствующему брату. Мне потом рассказывали, что это письмо ему весьма не понравилось.
Здесь же я хочу сказать, что мои письма и все прочее благополучно прибыли в Ярмут. Затем золото и вещи переправили в Лоустофт, погрузили на баркас, а когда капитан Бэлл покончил с выгрузкой своего корабля, он поднялся в этом баркасе по Уэйвни до Банги, и здесь все было перенесено в дом доктора Гримстона на Незергейт-стрит.
Капитан Бэлл заранее предупреждал о своем приезде моего отца, сестру и брата, а также сквайра Бозарда, его сына и дочь, и в тот день они собрались в доме доктора Гримстона все, за исключением моего отца — он уже два месяца покоился на кладбище.
С безграничным удивлением выслушали они рассказ капитана, но их изумление еще более возросло, когда сундуки открыли и начали взвешивать их содержимое, чтобы сверить его с цифрами, приведенными в моих письмах, ибо столько золота за раз в нашем Банги до сих пор еще не видал никто.
Тут Лили расплакалась, сначала от радости, потому что теперь я был богат, а затем от горя, потому что я не вернулся одновременно с моими сокровищами. Сквайр Бозард, увидев золото я услышав мою дарственную, сразу сделавшую Лили богатой женщиной, независимо от того, жив я или нет, во всеуслышание поклялся, что всегда думал обо мне только самое хорошее, а потом поцеловал свою дочь, желая ей счастья и поздравляя с большой удачей. Короче говоря, остались довольны все, кроме моего братца, который выскочил из дому, не сказав никому ни слова. С того дня он начал предаваться всевозможным бесчинствам, опускаясь все ниже: ведь у него, можно сказать, отняли желанную чашу, не дав испить ни глотка! Унаследовав земли нашего отца, он решил, что Лили во что бы то ни стало выйдет за него замуж, если не по доброй воле, то насильно, ибо даже в наши дни отец может принудить свою дочь к замужеству, особенно если она не достигла совершеннолетия, а сквайр Бозард, всегда полагавший, что с девичьими желаниями нечего считаться, перед таким насилием не остановился бы. Но с того дня все изменилось, — так велика сила золота! О том, чтобы выдать Лили за кого-нибудь, кроме меня, больше не было и речи. Теперь отец сам удержал бы ее, если бы она захотела так поступить, ибо тогда Лили потеряла бы все полученные от меня богатства. Зато все продолжали громко возмущаться моей глупостью, порицая меня за то, что я не отказался от клятвы и решил последовать за своим врагом даже в далекую Вест-Индию. Сквайр Бозард утешался лишь тем, что в любом случае, погибну я или выживу, деньги все равно останутся у его дочери. И только Лили, заступаясь за меня, говорила:
— Томас дал клятву, и он должен ее исполнить. Это дело его чести, и теперь я буду ждать до конца, пока мы не встретимся на земле или на том свете.
Однако подобные воспоминания здесь некстати, потому что прежде чем я узнал обо всем этом, прошло еще много-много лет.
Глава XI
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
На другой день после того, как я передал капитану Бэллу письма я все мое состояние, «Авантюристка» уже медленно огибала мол кадисского порта. Глядя ей вслед, я почувствовал такую тоску, что, признаюсь, заплакал. С радостью я расстался бы со всеми погруженными на нее сокровищами, если бы вместо них она уносила домой меня. Но решение мое оставалось непоколебимым, и к английским берегам мне было суждено вернуться лишь много лет спустя и на другом корабле.
В порту оказалась большая испанская карака «Las Cinque Llagas», или «Пять ран Христовых», готовая отплыть к Эспаньоле. Я выправил разрешение на торговлю для купца д'Айла и под этим именем взошел на судно. Чтобы обман не раскрылся, я, кроме того, накупил на сто пять песо всевозможных товаров, которые, как я узнал, были в Индии в большом спросе, и погрузил их в трюм того же корабля.
Все судно было забито испанскими авантюристами, по большей части просто всевозможными мошенниками с самыми удивительными биографиями. Впрочем, они были довольно сносными попутчиками, пока не напивались. К тому времени я настолько овладел кастильской речью и приобрел такую неподдельно испанскую внешность, что мае легко было сойти за их соотечественника, чем я и не преминул воспользоваться, выдумав подходящую историю о своем родстве и о причинах, побудивших меня пытать счастье за океаном. В остальном же я, как и раньше, полагался только на самого себя. Впрочем, несмотря на мою сдержанность и на то, что я не принимал участия в общих оргиях, попутчики вскоре меня полюбили, главным образом за то, что я врачевал их недуги.
О нашем плавании в сущности рассказывать нечего, если не считать его печального окончания. Месяц мы провели на Канарских островах, затем отплыли к Эспаньоле, и всю дорогу нам сопутствовала прекрасная погода, только ветер был слабый.
Когда до Санто-Доминго, порта нашего назначения, оставалась, по словам капитана, всего неделя пути, погода внезапно переменилась. С севера на нас обрушился яростный шторм, усиливавшийся с каждым часом. Три дня и три ночи наш неуклюжий корабль стонал и скрипел под ударами урагана, который увлекал нас неизвестно куда. Наконец стало ясно, что, если буря не утихнет, мы пойдем ко дну. Судно трещало по всем швам, одну мачту снесло, а у другой сломало верхнюю часть на высоте двадцати футов от палубы. Появилась течь. Но все эти беды ничего не значили по сравнению с тем, что произошло на четвертый день. Огромный вал сорвал руль, и наше беспомощное судно оказалось целиком во власти волн. Примерно через час зеленая стихия океана еще раз обрушилась на палубу, вывернула якорный шпиль, и вода хлынула в трюм. Теперь наша гибель стала неизбежной.
И вот тогда началось самое ужасное. В течение последних дней и матросы, я пассажиры беспрерывно пили, пытаясь заглушить страх, и сейчас, когда они увидели, что конец близок, все заметались взад и вперед по кораблю. Молитвы, стенания и проклятия смешались в одном хоре. Те, кто был еще трезв, начали спускать обе лодки. Вдвоем с одним достойным священником мы пытались усадить в них детей и женщин, которых на судне оказалось немало, но сделать это было нелегко. Пьяные матросы отшвырнули нас в сторону и сами бросились в лодки, Одна из них тут же перевернулась, и все, кто был в ней, пошли ко дну. В этот момент карака начала крениться, быстро погружаясь.
Увидев, что ждать больше нельзя, я сказал священнику, чтобы он следовал за мной, прыгнул в море и поплыл ко второй лодке, с которой тщетно пытались справиться несколько кричащих от страха женщин. Плавал я неплохо, и не только сам благополучно добрался до лодки, но успел еще вытащить из воды и священника, который уже захлебывался.
В это время судно, высоко задрав нос, погрузилось кормой в воду. В таком положении оно держалось минуты две на поверхности; это позволило нам взяться за весла и отплыть от него. Едва мы отгребли, раздался дикий отчаянный вопль тех, кто еще оставался на борту, и корабль канул в бездну. Будь мы ближе, он увлек бы нас за собой.
Несколько мгновений мы сидели молча, онемев от ужаса. Затем, когда воронка, образовавшаяся на месте гибели корабля, перестала бурлить, мы поплыли обратно. Все вокруг было покрыто обломками, но мы смогли подобрать только одного ребенка, уцепившегося за весло. Остальные двести человек, находившиеся на борту, исчезли
в пучине вместе с судном. Может быть, кто-нибудь еще был в живых и держался на воде, но в наступившей темноте мы не нашли среди волн никого.
В сущности в этом нам повезло, потому что в лодке было уже десять человек и больше она не смогла бы вместить ни души. Мужчин оказалось только двое — священник и я.
Как я уже сказал, наступила темнота, и к ночи море, по счастью, утихло, иначе бы мы тоже перевернулись. Единственное, что нам теперь оставалось, это держать лодку носом к волнам. Так мы провели всю бесконечную ночь. Странно было видеть, или, вернее, слышать, как мой добрый спутник, священник, продолжая грести, исповедовал женщин одну за другой, а потом, отпустив все греки, возносил к небесам молитвы о спасении наших душ, ибо о спасении тела никто уже не помышлял. В ту ночь я пережил такое, что трудно себе представить, но я не буду на этом останавливаться, потому что впереди меня ожидало гораздо худшее, и об этом мне еще предстоит рассказать.
Наконец, ночь прошла, и над пустынным морем занялся рассвет. Взошло солнце. Сначала мы ему обрадовались, потому что продрогли до костей, но вскоре жара стала невыносимой. В лодке у нас не оказалось ни пищи, ни воды, и нас начала мучить жажда.
Между тем порывистый ветер сменился устойчивым бризом. С помощью весел и одеяла нам удалось соорудить некое подобие паруса, и наша лодка довольно быстро пошла вперед. Но океан велик, а мы даже не знали, в какую сторону плывем.
С каждым часом страшная жажда терзала нас все сильнее. Около полудня внезапно умер один ребенок, и мы опустили его труп за борт. Часа через три его мать зачерпнула полный черпак горько-соленой воды и начала жадно пить. Сначала казалось, что это умерило ее жажду, но потом ею вдруг овладело безумие. Вскочив на ноги, она выпрыгнула из лодки и утонула.
Когда солнце, подобное сияющему, раскаленному докрасна ядру, наконец кануло за горизонт, в лодке осталось только два человека, которые еще могли сидеть, — священник и я. Остальные лежали вповалку на сланях, еле шевелясь, словно умирающие рыбы, и жалобно стеная. Но вот пришла ночь; воздух стал чуть заметно свежее и немного облегчил наши страдания. Мы молились о дожде, но его не было, и когда солнце снова взошло в безоблачном небе, мы поняли, что видим его в последний раз, если только нас не спасет какое-нибудь чудо. Жара стояла невыносимая.
Через час после восхода умер еще один ребенок. Когда мы опускали его тело за борт, я случайно поднял глаза и вдруг заметил вдалеке судно. Оно шло в нашу сторону и, судя по его курсу, должно было проплыть милях в двух от нас. Возблагодарив бога за этот чудесный знак, мы со священником взялись за весла и начали потихоньку выгребать наперерез кораблю. Ветер к тому времени настолько ослаб, что наш жалкий парус уже не мог сдвинуть лодку с места.
Так мы гребли около часа. К тому времени ветра совсем не стало, и корабль с обвисшими парусами замер неподвижно милях в трех от нас. Мы со священником продолжали работать веслами из последних сил. Мне казалось, что я умру в этой лодке под обжигающими лучами солнца. Ни одно дуновение не облегчало немилосердную жару, и губы наши уже начали трескаться от жажды. Но мы продолжали бороться, пока тень от парусов не упала на лодку и мы не увидели матросов, разглядывавших нас с палубы корабля. В следующее мгновение мы подошли к борту, сверху упала веревочная лестница и послышалась испанская речь.
Я не помню, как мы поднялись на палубу. Помню только, что я свалился в тени под навесом из парусины и принялся пить и пить воду, которую мне подавали кружку за кружкой. Наконец мне удалось утолить жажду, но тут я почувствовал такую тошноту и головокружение, что уже не мог проглотить ни кусочка пищи, хотя мне ее сунули прямо в руки. В этот момент я, по-видимому, потерял сознание, потому что когда я очнулся, солнце уже стояло прямо над головой.
Я думал, что все еще сплю. Почему-то мне слышался знакомый и ненавистный голос, но в действительности я был под навесом один: вся команда корабля столпилась на носу вокруг лежащего на палубе человека.
Рядом со мной стояли большое блюдо с едой и фляга, полная крепкого вина. Почувствовав прилив сил, я с жадностью принялся есть я пить, пока не насытился.
Тем временем матросы на носу корабля подняли лежавшего там человека и выбросили его за борт. Я успел заметить, что кожа у него была черная. Затем трое мужчин — по одежде я принял их за офицеров — направились ко мне, и я поднялся на ноги, чтобы их приветствовать.
— Сеньор, — проговорил мягким и вежливым тоном самый высокий офицер, — разрешите поздравить вас с чудесным…
Но тут он внезапно умолк.
Неужели я все еще бредил? Голос был мучительно знакомый! Я поднял глаза, взглянул в лицо мужчины и увидел перед собой Хуана де Гарсиа!
Но он в свою очередь тоже узнал меня.
— Карамба! — воскликнул де Гарсиа. — Какая встреча! Приветствую вас, сеньор Томас Вингфилд. Смотрите, друзья, кого мы выудили из моря! Этот молодой человек не испанец, он английский шпион! Последний раз мы с ним встретились на улице в Севилье, где он пытался убить меня, потому что я хотел выдать его властям. А теперь он очутился здесь. Только вот с какими целями? Об этом следует спросить у него.
— Это ложь, — возразил я. — Я не шпион, и в эти моря меня привело мое личное дело. Я хотел найти вас.
— Ну что же, это вам удалось, вполне удалось. Только не слишком ли велика удача, сеньор? А теперь отвечайте, правда ли, что вас зовут Томас Вингфилд и что вы англичанин?
— Это правда, но я…
— Минутку! Почему же тогда ваш дружок священник сказал мне, что на «Las Сinque Llagas» вы плыли под именем д'Айла?
— У меня были на то причины, Хуан де Гарсиа.
— Вы ошиблись, сеньор. Меня зовут Сарседа, и мои товарищи могут это подтвердить. Когда-то я знавал одного дворянина по имени де Гарсиа, но он давно умер.
— Ты лжешь — воскликнул я, но в этот миг один из приятелей де Гарсиа ударил меня прямо в лицо.
— Потише, любезный, — остановил его де Гарсиа. — Не пачкай руки об эту крысу. А если уж хочешь бить, то возьми лучше палку. Вы слышали, друзья, он признался, что плыл под чужим именем и что на самом деле он англичанин, один ив врагов нашей родины. Могу добавить, что я лично знаю его, как шпиона, который уже покушался на убийство, — в этом даю вам мое честное слово. А теперь, сеньоры, поскольку мы представляем здесь его величество короля и облечены всей полнотой власти, нам надлежит вынести ему приговор. Но чтобы никто не подумал, что я могу погрешить против закона из-за того, что эта английская собака обозвала меня лжецом, я предоставляю судить его вам.
Я снова попытался заговорить, но испанец, тот самый, что меня ударил, подлец с жестоким лицом бандита, выхватил шпагу и поклялся, что если я еще раз открою рот, он проткнет меня насквозь. После этого я предпочел молчать.
— Этот англичанин неплохо будет выглядеть на рее! — проговорил все тот же испанец.
Де Гарсиа с безразличным видом мурлыкал какой-то мотивчик. Он посмотрел вверх на мачту, потом на мою шею, улыбнулся, и его взгляд, полный ненависти, обжег меня, словно огнем.
— У меня есть предложение получше, — вступился третий офицер. — Если мы его повесим, могут пойти разговоры. Но даже в лучшем случае мы все равно лишимся хорошего барыша. А парень сложен неплохо и протянет в рудниках не один год. Предлагаю продать его вместе с остальным грузом. А если вы против, я куплю его сам; мне такие в моем поместье пригодятся!
При этих словах лицо де Гарсиа слегка побледнело. Ему, конечно, хотелось отделаться от меня раз и навсегда, но из осторожности он счел более разумным не возражать.
— Что касается меня, — проговорил он, деланно позевывая, — то я не против. Бери его хоть даром, друг мой! Только смотри за ним получше, не то он воткнет тебе стилет в спину.
Офицер расхохотался и ответил:
— Вряд ли у него будет такая возможность! Я в рудники не спускаюсь, а нашему голубчику придется провести остаток своих дней на глубине ста футов под землей. Да и теперь, я думаю, тебе будет лучше внизу, англичанин!
Офицер окликнул матроса и приказал ему принести кандалы, снятые с мертвеца. Меня обыскали, отняли у меня все золото — то немногое, что со мной оставалось, набили мне на ноги цепь, соединенную с кольцом на шее, и потащили к трюму. Но прежде чем я туда попал, я уже догадался, что представлял собой груз этого корабля. Он вез рабов, захваченных на Фернандине — так испанцы называют остров Кубу. Он вез их для продажи на Эспаньолу. И я был теперь одним из этих рабов.
Не знаю, как описать все ужасы трюма, в который меня привели. Он был низким, не более шести футов в высоту, и рабы в кандалах лежали прямо на дне судна, в затхлой трюмной воде. Их было здесь так много, что они могли только лежать, прикованные цепями к кольцам, ввинченным во внутреннюю обшивку бортов. В общей сложности неделю тому назад сюда впихнули не менее двухсот мужчин, женщин и детей, но теперь рабов стало меньше. Уже умерло человек двадцать, и это считалось немного, потому что обычно испанцы заранее списывают в убыток треть или даже половину «товара» своей дьявольской торговли.
Когда я очутился в трюме, мной овладела смертельная слабость. Я и так был едва жив, и меня окончательно доконали ужасные звуки, отвратительная вонь и то что предстало передо мной при свете фонарей моих тюремщиков, тускло мерцавших в трюме, куда не проникали ни свет, ни воздух. Не обращая на это внимания, мои провожатые потащили меня вперед, и вскоре я уже стоял, прикованный к цепи посреди темнокожих мужчин и женщин. Ноги мои были в трюмной воде.
Испанцы удалились, с издевкой бросив мне на прощание, что для англичанина и такая постель слишком хороша. Некоторое время я крепился, потом сон или обморок пришли мне на помощь, и я погрузился во мрак.
Так миновали сутки.
Когда я снова открыл глаза, рядом со мной стоял с фонарем тот самый испанец, которому меня продали или просто отдали, и следил за тем, как сбивают кандалы с темнокожей женщины, прикованной к моей цепи. Она была мертва; при свете фонаря я успел разглядеть, что умерла она от страшной болезни, с которой мне до сих пор не приходилось встречаться. Впоследствии я узнал, что она называется «черной рвотой». Женщина оказалась не единственной ее жертвой: я насчитал еще двадцать трупов. Их вытащили из трюма один за другим. Многие другие рабы тоже были больны.
Испанцы казались весьма встревоженными. Они ничего не могли поделать с ужасной болезнью и решили только очистить трюм и проветрить его, оторвав несколько досок палубного настила над нашими головами. Если бы они этого не сделали, мы наверняка погибли бы все. Я уверен, что избежал заразы лишь потому, что самое широкое отверстие в палубе оказалось прямо надо мной, и когда я выпрямился, насколько позволяла цепь, я мог дышать сравнительно чистым воздухом.
Раздав нам воду и пресные лепешки, испанцы ушли. Воду я с жадностью выпил, но лепешки есть не смог, потому что они оказались заплесневелыми.
То, что я видел и слышал вокруг было так жутко, что не хочется об этом писать. Солнце нагревало палубу, и мы изнемогали от страшной жары. Чувствовалось, что судно неподвижно: я понял, что ветра нет и мы дрейфуем.
Поднявшись на ноги, я уперся пятками в стрингер — продольное крепление корабля, а спиной — о борт. В таком положении мне были видны ноги тех, кто проходил по палубе. Внезапно перед моими глазами проплыла сутана священника. Я подумал, что, наверное, это мой попутчик, с которым мы спаслись после кораблекрушения, и постарался привлечь его внимание. После нескольких попыток мне это удалось. Как только священник понял, кто находится в трюме, он прилег на палубу словно для того, чтобы отдохнуть, и мы немного поговорили.
Священник сказал, что на море штиль, как я и предполагал, и что на корабле свирепствует мор, уложивший уже треть команды. Он прибавил, что их поразила небесная кара за жестокость и злодеяния.
На это я ему ответил, что кара небесная постигла не только захватчиков, но и захваченных, и спросил, где сейчас де Гарсиа, или, как его здесь называют, Сарседа.
Священник сообщил мне, что сегодня утром он заболел. Новость эта несказанно обрадовала меня, потому что если я ненавидел де Гарсиа и раньше, то легко представить, как возненавидел я его теперь.
После этого священник ушел, но скоро вернулся. Он принес мне воды с лимонным соком, которая показалась мне божественным нектаром, хорошей пищи и фруктов, Все это он передал мне сквозь отверстие в палубе. С большим трудом я подхватил еду своими закованными руками и тотчас съел все до крошки. Затем священник удалился, к вящему моему огорчению. Причину его ухода я узнал только на следующее утро.
Прошел день, за ним — бесконечно длинная ночь. Наконец в трюме снова появились испанцы. На сей раз им пришлось вытащить сорок трупов, а больных за это время стало еще больше. Когда испанцы ушли, я опять встал на ноги и начал поджидать моего друга священника. Но я ждал напрасно; он так и не появился.
Глава XII
ТОМАС НА БЕРЕГУ
Я простоял больше часа и едва не свернул себе шею, высматривая своего благодетеля. Наконец, когда я уже готов был упасть на дно трюма, потому что не мог больше держаться в таком скрюченном положении, в отверстии между досками мелькнул край женского платья. Я узнал одежду одной из дам, что была с нами в лодке.
— Сеньора! — зашептал я. — Ради бога, выслушайте меня! Это я, д'Айла! Я здесь, среди рабов, меня заковали в цепи.
Женщина вздрогнула, но потом так же, как священник, присела на палубу, и я рассказал ей об ужасах трюма я о том, как я попал в такое положение, не зная, что ей уже все известно.
— Увы, сеньор, — ответила она мне, — наши дела немногим лучше. Страшный мор губит всех. Шесть матросов уже умерли, а тех, кто хрипит в агонии, — еще больше. Лучше бы нам тогда утонуть вместе со всеми! Мы спаслись от моря, а попали прямо в ад.
Моя мать скончалась, мой маленький братишка умирает.
— Где священник? — спросил я.
— Он умер этим утром; его только что сбросили в море. Перед смертью он рассказал мне о вас и просил помочь вам, если будет возможно. Но он уже говорил совсем несвязно, и я подумала, что он бредит. К тому же, чем я могу вам помочь?
— Может быть, вы сумеете раздобыть мне еду и питье, — ответил я. — Жаль нашего друга, упокой господи его душу. А что капитан Сарседа? Он уже умер?
— Нет, сеньор, он единственный, кому удалось побороть заразу, и теперь он поправляется. Простите, я должна идти к своему брату. Еду я вам сейчас принесу.
Она ушла, по скоро вернулась с пищей и флягой вина, спрятанной в складках одежды. Я снова насытился, благословляя ее доброту.
Так эта женщина кормила меня два дня, принося еду по ночам. На вторую ночь она сказала, что ее маленький брат умер, а из команды осталось всего пятнадцать здоровых матросов и один офицер. Сама она чувствовала, что заболевает. Еще она сказала, что запасы воды на судне подходят к концу, а пищи не осталось. После этого я ее уже больше не видел и думаю, что она тоже умерла, Через двадцать часов после ее последнего посещения я сам покинул проклятый корабль.
Целый день никто не заходил в трюм, чтобы накормить рабов или хотя бы присмотреть за ними. Впрочем, большинство из них уже не нуждалось ни в каком присмотре. Лишь немногие еще оставались в живых, но и те, насколько я мог рассмотреть, были поражены болезнью. Сам я так и не заразился, наверное, потому, что отличался в те дни силой и завидным здоровьем, спасавшим меня от всяких простуд и недомоганий. К тому же пища моя была много лучше. Но я чувствовал, что долго мне не протянуть. Закованный в цепи среди мертвецов чудовищного плавучего гроба, я мечтал о смерти, как о сладком избавлении от всех этих ужасов и страданий.
Так прошел еще один день, такой же удушающе жаркий. За ним наступила ночь, наполненная дикими воплями и хрипением умирающих. Но мне все же удалось заснуть, и во сне я бродил с любимой по берегу родного Уэйвни.
Под утро меня разбудил лязг железа. Открыв глава, я увидел, что несколько испанцев при свете фонарей сбивают оковы со всех рабов подряд — и с мертвых, и с живых. Освободив тело раба от цепей, они накидывали на труп или на умирающего веревочную петлю, а затем те, кто был наверху, вытаскивали его через люк на палубу. После этого за бортом слышал я тяжелый всплеск, завершавший дело. Я понял, что испанцы решили выбросить всех рабов в море из-за нехватки воды и в надежде, что это, может быть, спасет от заразы тех, кто еще оставался в живых.
Испанцы подходили ко мне все ближе. Скоро между ними и мной осталось только два темнокожих раба, один мертвый, а второй живой; после них шла моя очередь. Зная, какая незавидная участь меня ожидает, я начал раздумывать, что делать дальше: сказать им, что я здоров, что болезнь меня не тронула, и вымолить себе жизнь, или покориться и оказаться за бортом? Мне очень хотелось жить, но уже по тому, что я принял решение не делать ни малейших усилий и встретить смерть, как милосердную избавительницу, можно судить, насколько я исстрадался телом и ослаб духом от пережитых ужасов. К тому же я знал, что любая моя попытка сохранить жизнь заранее обречена на неудачу. Испанские моряки обезумели от страха и думали только о том, чтобы поскорее избавиться от рабов, которые требовали воды и, самое главное, были, по их мнению, источником заразы. Поэтому я прочел все молитвы, какие только мог вспомнить, и приготовился к смерти. Но как ни тверда была моя душа, бедная плоть содрогалась, устрашенная близким концом и тем неизведанным, что ее ожидало после.
Но вот, отправив наверх моего еще живого товарища по несчастью, прикованного со мной рядом, испанцы взялись за меня. Полуголые матросы трудились ожесточенно, стараясь поскорей разделаться с ненавистной работой. Они обливались потом и, чтобы не упасть в обморок, то и дело подкреплялись глотками виноградной водки.
— Этот тоже еще жив и, похоже, не болен, — проговорил один моряк, сбивая с меня кандалы.
— Живой он или мертвый, кончай с ним скорее! — злобно отозвался другой испанец, и я узнал в нем того самого офицера, которому я был отдан в рабство. — Эта английская собака принесла нам несчастье. У него дурной глаз. За борт его! Пусть там попробует сглазить акул!
— Правильно, — ответил моряк и последним ударом освободил меня от цепей. — Когда остается по кружке воды на брата, гостей потчевать нечем: их выставляют за дверь. Молись, англичанин, и пусть твои молитвы помогут тебе хоть немного больше, чем всем остальным на этом проклятом богом корабле. Вот тебе снадобье, чтобы облегчить конец, — его осталось больше, чем воды.
С этими словами он протянул мне свою флягу. Я жадно припал к ней и начал пить большими глотками. Водка меня немного приободрила. После этого испанцы обвязали меня веревкой, дали сигнал, и те, кто был на палубе, принялись тянуть так, что вскоре я повис в воздухе под открытым люком.
В этот миг свет фонаря упал на офицера, сделавшего меня рабом и теперь приказавшего выбросить за борт, и я прочел на его лице приговор, который был ясен для любого врача.
— Прощай! — сказал я ему. — Наверное, мы скоро встретимся. О чем ты хлопочешь, глупец? Отдохни лучше напоследок, потому что мор коснулся тебя. Через шесть часов ты умрешь!
Услышав мои слова, он разинул рот и на мгновение онемел от ужаса. Потом ив его уст полились страшные проклятия; он размахнулся молотком, и едва не нанес мне удар, который положил бы конец всем моим страданиям. Но в этот миг меня вытащили наверх.
В следующую секунду веревку отпустили, и я свалился на палубу. Рядом со мной стояли два чернокожих — их обязанностью было сбрасывать в море несчастных рабов, — а позади них с изможденным после недавней болезни лицом сидел в кресле Хуан де Гарсиа я обмахивался своим сомбреро: ночь была очень жаркой.
Он сразу узнал меня при лунном сиянии и обратился ко мне:
— Что я вижу? Ты все еще здесь я все еще жив, кузен? Да ты и впрямь молодец; я думал, что ты уже подох ни подыхаешь.
Если бы не проклятый мор, мне пришлось бы самому об этом позаботиться, но в конце концов все обошлось к лучшему. Я получу немалое удовольствие, отправив тебя к акулам, кузен Вингфилд. Это будет единственная удача за наше плавание, но она утешит меня за все сразу. Значит, ты отправился за море, чтобы отомстить мне, не так ли? Ну что ж, я надеюсь, что ты неплохо провел здесь время. Обстановка была, правда, скромной, зато какой сердечный прием тебе оказали! Но — увы! — гость нас покидает, и надо его проводить. Спокойной ночи, Томас Вингфилд! Если встретишь свою матушку, скажи ей: я сожалею о том, что мне пришлось ее заколоть, ибо она единственное существо на земле, которое я любил. Ты, наверное, думаешь, я приехал тогда для того, чтобы ее убить? Нет. Она сама меня вынудила, и я это сделал, спасая свою собственную жизнь. Если бы я ее не убил, не видать мне Испании! В ней было слишком много моей крови, и она не дала бы мне уйти живому. Похоже, что и в твоих жилах бежит та же кровь, иначе ты бы не думал так много о мести. Увы, это не довело тебя до добра.
Здесь он умолк, откинулся в кресле и снова начал обмахиваться своей широкополой шляпой.
Даже в тот миг, когда я стоял на краю бездны, горячая кровь закипела во мне от этих гнусных насмешек. Да, де Гарсиа мог, конечно, торжествовать! Я преследовал его по пятам, но чем это кончилось? Еще секунда, и он отправит меня к акулам. И все же я постарался ему ответить как можно достойнее.
— Судьба против меня, де Гарсиа, — сказал я. — Но если в тебе осталась хоть капля мужества, дай мне шпагу и мы окончим наш спор раз и навсегда. Я знаю, ты ослабел после болезни, но и я не сильнее тебя после всех ночей и дней, проведенных в вашем аду. Силы равны де Гарсиа.
— Возможно, кузен, вполне возможно! Но к чему нам драться? По чести говоря, когда мы встречались лицом к лицу, мне до сих пор не везло, и это весьма прискорбно. Но знай: я дважды сплоховал только потому, что меня смущало предсказание, будто встреча с тобой станет моим концом. Главным образом, из-за этого я и решил отправиться в более теплые края. Но теперь ты сам видишь, как глупо верить в пророчества. Я хоть и перенес болезнь, пока еще жив, и умирать не собираюсь, а ты — извини меня за невежливое напоминание, — ты уже, можно сказать, мертвец. Вот эти сеньоры, — тут де Гарсиа показал на двух чернокожих, которые, воспользовавшись нашим разговором, сбросили в море еще одного извлеченного из трюма раба, — эти сеньоры сейчас оборвут нашу приятную беседу. Если хочешь передать со мной какую-нибудь просьбу, говори, потому что время не терпит. Мы должны очистить трюм до рассвета.
— Я тебя ни о чем не прошу, де Гарсиа, — ответил я. — Зато к тебе у меня есть поручение, и я его выполню. Только сначала я тебе кое-что скажу. Тебе кажется, что ты победил, грязный убийца, но подожди радоваться. Игра еще не окончилась. Твои страхи еще могут сбыться. Я умру, но месть моя будет жить, ибо я вручаю ее богу, как следовало бы это сделать сразу. Может быть, ты проживешь еще несколько лет, но куда ты денешься от его отмщения? В один прекрасный день ты умрешь точно так же, как я умру в эту ночь, и что тогда? Что будет тогда, де Гарсиа?
— Полно тебе болтать, кузен, — проговорил он с презрительной усмешкой. — Насколько я знаю, ты еще не стал проповедником. Ты сказал, что у тебя есть ко мне поручение. Говоря быстрей! Время идет, Томас Вингфилд! Кто мог послать весть изгнаннику вроде меня?
— Изабелла де Сигуенса, которую ты обманул ложной женитьбой и бросил, — ответил я.
Де Гарсиа вскочил с кресла и остановился передо мной.
— Что с ней? — спросил он лихорадочным шепотом.
— Монахи замуровали ее живьем вместе с ребенком.
— Замуровали живьем? Матерь божья! Откуда ты это знаешь?
— Я случайно был при этом, вот и все, Она просила рассказать тебе о том, как они умирали, она и дитя, о том, что она никому не открыла твоего имени и умерла любя и прощая. Больше она ничего не сказала, но я хочу кое-что добавить. Пусть образы этой несчастной и моей матери преследуют тебя вечно, пусть они преследуют тебя в жизни и после смерти, на земле и в аду!
Де Гарсиа на мгновение закрыл лицо ладонями, но потом опустил руки, повалился на свое кресло и крикнул чернокожим матросом:
— Кончайте с этим рабом! Чего вы медлите?
Негры двинулись ко мне, однако я не намеревался даваться им в руки. Я задумал, если удастся, заставить де Гарсиа разделить со мной мою участь. Рванувшись вперед, я обхватил его поперек тела и стащил с кресла. Ярость и отчаяние удвоили мои силы. Мне удалось поднять де Гарсиа на уровень фальшборта, но на этом все кончилось. В то же мгновение чернокожие матросы схватили меня и вырвали негодяя из моих рук. Я понял, что все пропало. Не дожидаясь, когда негры изрубят меня своими тесаками, я оперся руками о фальшборт и сам прыгнул в море.
Разум подсказывал мне, что в моем положении лучше всего было бы утонуть сразу. Я решил, что не стану сопротивляться и прямехонько пойду ко дну. Однако сила жизни оказалась сильнее меня; едва очутившись в воде, я поспешил вынырнуть и поплыл вдоль борта корабля, стараясь держаться в тени, потому что опасался, как бы де Гарсиа не приказал прикончить меня выстрелом из лука или из мушкета. И как раз в это мгновение сверху послышался его голос:
— Теперь-то он наверняка подох! — говорил де Гарсиа, приправляя свои слова проклятиями. — Но пророчество все же едва не сбылось, Черт возьми, сколько страха я пережил из-за этого щенка!
Я плыл и ругал себя за то, что не погиб сразу. На что мне было надеяться? Если даже ни одна акула не позарится на меня, я смогу продержаться так в теплой воде часов шесть-восемь, а потом все равно утону. Какой же смысл бороться и тратить силы? И тем не менее я продолжал неторопливо плыть. После зловонного удушливого трюма прикосновение свежей воды и чистый воздух были для меня как вино и пища. Каждый гребок увеличивал мок силы.
Я уже отстал от корабля ярдов на сто, и с палубы вряд ли кто-либо мог меня заметить, но я все еще слышал тяжелые всплески падающих за борт трупов и пронзительные крики последних, оставшихся в живых рабов. Подняв голову, я огляделся. Невдалеке от меня покачивался на волнах какой-то предмет. Я поплыл к нему, ожидая, что каждый миг будет моим последним мигом, потому что эти воды кишели акулами.
Вскоре я приблизился к плавающему предмету и с радостью обнаружил, что это была большая бочка, сброшенная с корабля. Она держалась стоймя, и волны в нее не заплескивались.
Мне удалось уцепиться за верхний край бочки, и я увидел, что она наполовину заполнена испорченными пресными лепешками; наверное, потому ее и выбросили в море. Эта масса гнилого теста, словно балласт, удерживала бочку на поверхности, не давая ей перевернуться.
Я подумал, что если мне удастся забраться в бочку, акулы хотя бы на время будут мне не страшны. Но как это сделать? И в это мгновение я случайно обернулся. Все мысли разом вылетели из моей головы, Шагах в двадцати я увидел плавник акулы, которая неслась прямо на меня. Ужас овладел мной, отчаяние придало мне силу и сообразительность. Одним рывком я выпрыгнул из воды, ухватился за противоположный край бочки и упал в нее, подогнув колени.
Как удалось мне совершить этот прыжок, я не могу понять до сих пор, но в следующую секунду я уже был внутри бочки, отделавшись только царапиной на подбородке.
Однако неожиданно обретенная мной лодка готова была сама пойти ко дну под тяжестью заплесневелых мокрых лепешек, моего тела и воды, которая залилась внутрь, когда я ее наклонил. Края бочки выступали над поверхностью всего на какой-нибудь дюйм. Я понял, что достаточно одного всплеска и бочка пойдет до дну. А плавник акулы был уже всего в пяти ярдах. В следующее мгновение она с разгону ткнулась носом о дерево, и бочку сильно тряхнуло.
Я начал лихорадочно вычерпывать воду руками. Края бочки почти не возвышались над уровнем океана. Когда, наконец, они поднялись дюйма на два, акула, разъяренная тем, что упустила добычу, повернулась на бок, и я услышал, как ее зубы проскрежетали по деревянным клепкам и железным обручам бочки. Бочка закрутилась на месте, и волна снова захлестнула ее. Я вычерпывал воду как одержимый. Если бы акула напала еще раз, я бы наверняка погиб, но, по-видимому, дерево и железо пришлись ей не по вкусу. Акула удалилась, однако еще в течение нескольких часов я видел время от времени, как ее плавник вспарывает морскую гладь.
Сначала, пока воды было много, я выплескивал ее пригоршнями, потом снял сапог и приспособил его вместо черпака. Когда края бочки поднялись дюймов на двенадцать, мне пришлось остановиться; я боялся, что, если вычерпаю всю воду, бочка перевернется. Теперь можно было, наконец, передохнуть. Но тут мне пришла в голову мысль, что все мои усилия тщетны, что я все равно либо утону, либо погибну от жажды, и я горько посетовал на свое малодушие, которое только затягивало и умножало мои страдания.
В отчаянии я воззвал к небесам, и молился так искренне и горячо, как никогда. Вскоре ко мне вернулись надежда и какое-то удивительное спокойствие. За последние несколько дней страшная опасность грозила мне трижды: во время кораблекрушения, в трюме корабля работорговцев, где я мог умереть от голода и мора, и вот теперь, когда меня поджидали свирепые пасти акул. Но я был уверен, что и на сей раз все обойдется. Ведь не для того я два раза спасался от бед, которые для других были бы верной смертью, чтобы на третий раз погибнуть самым жалким образом! И вот, хотя в моем положении всякая надежда была безумием, я снова начал надеяться. Не скажу, что эта благодать снизошла на меня свыше. Скорее всего во мне было тогда слишком много жизни, и я просто не мог поверить, что скоро умру.
Постепенно я настолько приободрился, что начал даже замечать красоту ночи. Океан был тих, как пруд; ни одно дуновение ветерка не тревожило его гладь. Луна уже заходила, и все небо усыпали бесчисленные, удивительно яркие звезды, каких не бывает в Англии. Но вот и они начали бледнеть, небо на востоке порозовело, и вскоре первые лучи солнца выглянули ив-за горизонта. В это время над гладью вод поднялся густой туман, в котором на расстоянии пятидесяти ярдов ничего не было видно. Час с лишним я плыл вслепую. Лишь когда солнце поднялось выше, туман рассеялся, и я заметил, что меня отнесло от корабля довольно далеко: на горизонте виднелись только верхушки его мачт, а потом и они исчезли. К этому времени вся поверхность океана очистилась; только с одной стороны, непонятно почему, над самой водой осталась висеть узенькая полоска не то тумана, не то пара.
Солнце становилось все жарче, причиняя мне жестокие муки. За исключением нескольких глотков водки, выпитой в трюме моей плавучей тюрьмы, я ничего не пил уже целые сутки. Не стану описывать всех моих страданий. Час проходил за часом, а я все еще стоял в своей бочке, изнывая от жажды, с непокрытой головой под палящими лучами тропического солнца, ослепительный блеск которого отражался в зеркальной глади океана. Тот, кто не испытал ничего подобного, вряд ли сможет это представить. Временами меня охватывала непереносимая слабость, и несколько раз я едва не вывалился в море. Наконец, я впал в смутный полусон, или, вернее, полузабытье, от которого меня пробудили плеск волн и птичьи голоса.
Подняв голову, я с изумлением и великой радостью увидел, что странная узенькая полоска тумана на самом деле оказалась низким берегом. Прилив быстро нес меня к отмели в устье большой реки. Многочисленные чайки с криком кружились над тем местом, где при слиянии пресной и соленой воды ходили рыбьи стаи. Вот одна чайка выхватила из воды рыбу весом не менее трех фунтов и хотела подняться вверх, но тяжесть оказалась для нее слишком велика. Тогда она принялась долбить рыбу клювом по голове, пока не оглушила, а затем начала ее рвать на куски. В это время бочонок подплыл к ней совсем близко, и, сделав усилие, я ухитрился выхватить у чайки ее добычу. В следующее мгновение я уже пожирал трепещущую рыбу. Это может показаться отвратительным, но я еще ни разу в жизни не ел с таким аппетитом и еще ни одно блюдо не казалось мне столь освежающим!
Поскольку воды у меня не было, я съел сколько мог, а остаток рыбы спрятал в карман своего камзола. После этого мысли мои обратились к ревущему на отмели прибою. Скоро мне стало ясно, что, стоя в бочке, пересечь полосу бурунов невозможно, поэтому я опрокинулся вместе с бочкой в воду, а когда она всплыла, сел на нее верхом. В полосе прибоя меня едва не сбросило, однако прилив быстро нес бочку вперед, буруны вскоре остались позади, и я очутился в устье большой реки.
Здесь судьба еще раз улыбнулась мне: я выловил из воды плывший по течению сук и теперь мог грести. С помощью этого весла мне удалось направить мою посудину к густо заросшему тростником берегу, на котором чуть поодаль стеной стояли прекрасные высокие деревья с гроздьями крупных орехов в зеленых кронах.
Так, проведя в своей бочке без малого десять часов, я благополучно высадился на сушу. В этом мне тоже помог чистый случай, ибо река буквально кишела отвратительными пресмыкающимися, так называемыми крокодилами, или, иначе, аллигаторами. Но тогда я даже не подозревал об их существовании.
Я достиг земли как раз вовремя, потому что, когда я подплывал к берегу, начался отлив, который вместе с течением реки понес меня обратно в открытое море. Запоздай я немного, и мне бы уже не выбраться. Последние десять минут мне пришлось напрягать все силы, чтобы заставить бочку двигаться вперед. Наконец я заметил, что подо мной глубина не достигает и четырех футов, свалился с бочки и вброд добрался до отмели. Здесь я упал ничком на песок и возблагодарил бога за чудесное спасение.
Вскоре, однако, жажда охватила меня с новой силой я заставила подняться на ноги. Я побрел вверх по берегу реки, пока не натолкнулся на лужицу дождевой воды. На вкус она оказалась пресной и свежей, и я припал к ней, обливаясь слезами радости.
Я пил и пил до тех пор, пока мог. Только те, кто побывал в ноем положении, знают, как вкусна прохладная чистая вода!
Напившись, я смыл морскую соль с лица и тела, достал из кармана остатки рыбы и доел ее до конца. Эта трапеза меня подкрепила, однако я был настолько измучен, что тут же растянулся в тени под каким-то кустом с белыми цветочками и мгновенно уснул.
Когда я открыл глаза, была уже ночь. Наверное, я проспал бы еще немало часов, если бы не боль и непонятное жжение во всем теле. Наконец меня так допекло, что я в бешенстве вскочил на ноги, проклиная все на свете. Сгоряча я никак не мог понять причину своих мучений, но потом заметил, что воздух прямо кишит похожими на комаров насекомыми, издающими тонкий звенящий писк. Опускаясь на мою кожу, они сосали из меня кровь и одновременно впускали яд в ранки. Испанцы называют этих подлых кровопийц москитами. Еще хуже были насекомые величиной с булавочную головку. Они набрасывались сотнями, впивались, словно бульдоги в медведя, вгрызаясь глубоко в тело, так, что потом оставались гноящиеся язвочки. Эти создания, которые испанцы называют «гаррапатас», представляют собой разновидность мелких клещей. Кроме них, было еще множество разных мучителей — всех не перечесть, — отличавшихся друг от друга по размерам и по виду, но имевших одну общую особенность: все они сосали кровь к все были ядовиты.
Целую ночь я сражался с этой напастью и едва не сошел с ума. У меня не было ни мгновения покоя! Незадолго до рассвета я бросился к реке и улегся в воду, надеясь хоть немного облегчить свои страдания, но не пролежал и десяти минут, как рядом со мной выполз из ила огромный крокодил. Никогда еще я не видел такого отвратительного и страшного чудовища и, конечно, в ужасе выскочил на берег, где меня тотчас с жужжанием облепили мириады летающих и ползающих кровопийц…
Но довольно об этих гнусных насекомых!
Глава XIII
ЖЕРТВЕННЫЙ КАМЕНЬ
Наконец пришло утро, застав меня в самом плачевном положении. Лицо мое разнесло от яда москитов, словно тыкву, да и тело выглядело не лучше. Жгучие уколы не прекращались, и я то бежал, то прыгал, как сумасшедший. Сам не зная куда, я продирался наугад сквозь густые заросли. Вокруг не было никаких признаков человеческого жилья — одно бесконечное болото. Я шел вдоль берега реки, то и дело натыкаясь на крокодилов и отвратительных змей. Чувствуя, что силы меня покидают и что я уже недолго смогу выносить эти муки, я решил идти вперед до конца, пока не свалюсь замертво, и пусть тогда смерть избавит меня от всех страданий.
Так я пробирался час с лишним, пока не вышел на открытый берег, где не было ни кустов, ни тростника. Я шел, подпрыгивая, приплясывая и отмахиваясь распухшими руками от проклятых кровопийц, тучей круживших над моей головой. Конец мой был уже близок. Силы меня покидали, я едва не валился с ног. И в этот миг я внезапно увидел перед собой группу бронзовокожих людей в белых одеждах. По-видимому, они ловили в реке рыбу, но теперь сидели на берегу и ели, а позади них стояло на воде множество длинных челнов, нагруженных всякой всячиной.
Заметив меня, туземцы громко закричали что-то на незнакомом мне языке, схватили лежавшее рядом с каждым оружие — луки со стрелами и деревянные палицы, утыканные со всех сторон острыми осколками вулканического стекла,
[239] — и начали приближаться, по-видимому, намереваясь меня прикончить. Я воздел руки и взмолился о милости. Когда туземцы увидели, что я безоружен и совершенно беспомощен, они опустили оружие и заговорили со мной на своем языке. Я потряс головой в знак того, что ничего не понимаю, потом показал рукой в сторону моря, а затем на свое распухшее лицо и тело. Туземцы закивали головами. Один из них сбегал к челнам и принес какую-то пахучую мазь коричневого цвета. Затем он знаками приказал мне снять остатки изорванной одежды, приводившей всех в немалое изумление. Когда я разделся, туземцы умастили меня коричневой мазью, и я сразу почувствовал величайшее облегчение: зуд и жжение прекратились, а самое главное — запах мази отгонял насекомых, которые отныне мне почти не докучали.
После этого туземцы накормили меня жареной рыбой, лепешками и напоили восхитительным горячим напитком, покрытым коричневой пузырящейся пеной; позднее я узнал, что это был шоколад. Когда я поел, туземцы тихонько посовещались между собой, а затем знаками приказали мне пойти в один из челнов и лечь на специально подстеленные циновки. Я повиновался. Следом за мной в тот же челн — он был достаточно велик — сели еще три человека. Один из них, весьма важный мужчина с приятным лицом и величавыми движениями — я его сразу признал за самого главного, — сел напротив меня, а двое других поместились на носу и на корме и взялись за весла. Мы отчалили в сопровождении других трех челне, но едва успели проплыть с милю, как я погрузился в сон, сломленный крайней усталостью.
Пробудился я совершенно свежим, проспав, по-видимому, немало часов, потому что солнце уже садилось. С удивлением я заметил, что величавый туземец, сидевший в челне напротив меня, оберегает мой сон, отгоняя от меня комаров густолистой веткой. Судя по его доброте, мне нечего было опасаться дурного обращения. Успокоившись, я начал раздумывать, куда я, собственно говоря, попал, что это за удивительная страна и кто эти люди. Но вскоре я перестал ломать себе голову и, вместо того чтобы предаваться пустым измышлениям, залюбовался проплывавшими перед моими глазами картинами.
Мы поднимались теперь по более узкой реке, чем та, на берег которой я высадился. Заболоченные заросли исчезли, и вместо них по обеим сторонам раскинулось открытое пространство. Берега можно было бы назвать голыми, если бы не огромные деревья, превосходившие по величине самые большие дубы, Некоторые из них были удивительно красивы! Лианы опутывали их, свешиваясь с верхних ветвей, а между ними виднелись удивительные пышные цветы, растущие прямо на древесной коре, словно мох на стенах. Хриплоголосые птицы с ярким сверкающим оперением порхали в листве, обезьяны трещали и бормотали, встревоженные нашим приближением.
Когда солнце, озарявшее последними лучами это удивительное, небывалое зрелище, закатилось, мы подошли к бревенчатому причалу и высадились на берег. Стемнело почти сразу, и я разобрал только, что меня куда-то ведут по хорошей дороге. Вскоре мы достигли ворот; здесь толпилось множество людей и слышался лай собак; по-видимому, это был вход в город. Пройдя ворота, мы углубились в длинную улицу с домами по обеим сторонам. У порога последнего дома мой спутник остановился, взял меня за руку и ввел в узкую низкую комнату, освещенную глиняными светильниками. Несколько женщин приблизились и поцеловали его, другие, по-видимому служанки, склонились перед ним, касаясь одной рукой пола. Затем все взгляды обратились ко мне, и со всех сторон на моего спутника посыпались вопросы, о содержании которых я мог только догадываться.
Когда всеобщее любопытство было удовлетворено, женщины принесли блюда со множеством странных кушаний и расставили их прямо на полу. Хозяин пригласил меня разделить с ним ужин. Я сел рядом с ним на циновку и принялся за еду.
Прислуживавшие нам женщины были довольно привлекательны, но среди них особенно выделялась своей грацией одна, высокая, стройная девушка с нежным и добрым выражением лица, придававшим ее красоте особую прелесть. Она была такой же смуглой, как все, но с правильными чертами лица и прекрасными глазами. Я говорю о ней здесь по двум причинам: потому, что она дважды спасла меня — от жертвоприношения и от пыток, и потому, что эта женщина была не кто иная, как Марина; впоследствии она стала любовницей Кортеса, и без нее он никогда бы не сумел захватить Мехико. Но в то время она даже не думала, что именно ей суждено отдать свою родину Анауак во власть жестоким испанским поработителям.
С первого взгляда я заметил, что Марина — отныне я буду называть ее так потому, что ее полное индейское имя слишком длинно, — была тронута моим горестным состоянием и делала все возможное, чтобы услужить мне и избавить меня от назойливого любопытства окружающих. Она принесла мне воды умыться, дала чистое полотняное одеяние взамен грязных лохмотьев и накинула на мои плечи плащ, искусно сшитый из ярких перьев.
После ужина меня проводили в отдельную маленькую комнату с циновкой вместо постели, на которой я тотчас растянулся и принялся размышлять о своей судьбе. Мой прежний мир был потерян, и, по-видимому, навсегда, но зато я очутился среди приятных и добрых людей, по всем признакам вовсе не походивших на дикарей. Правда, меня беспокоила одна вещь: я обнаружил, что, несмотря на хорошее обращение, со мной обходились, как с
пленником: на пороге моей маленькой комнаты спал воин, вооруженный копьем с медным наконечником.
Прежде чем заснуть, я выглянул сквозь забранное деревянной решеткой отверстие, заменявшее окно, и увидел, что дом расположен на краю обширной площади. Посредине возвышалась огромная темная масса в форме пирамиды высотой более чем в сто футов. На вершине этой пирамиды виднелись очертания храма, как я правильно угадал, а перед входом в него горел огонь. Уже засыпая, я все еще раздумывал, для чего понадобилось такое гигантское сооружение и во славу каких богов оно было воздвигнуто?
Утром мне это предстояло узнать.
Здесь следует, пожалуй, рассказать о том, что мне стало известно лишь много времени спустя. Я попал в город Табаско, столицу одной из южных провинций Анауака, расположенную от главного города Теночтитлана, ныне Мехико, на расстоянии нескольких сотен миль. Река, к устью которой меня пригнало, называется Рио-Табаско. Именно здесь высадился Кортес в следующем году. А моим хозяином был касик, или вождь, Табаско, тот самый, что впоследствии подарил Кортесу Марину. Таким образом, я оказался первым белым человеком, жившим среди индейцев, если не считать некоего Агилара; лет за шесть до меня буря выбросила его с несколькими товарищами на юкатанское побережье.
Агилара выручил Кортес, а все остальные были принесены в жертву Уицилопочтли, жестокому богу войны. Но индейцы уже были наслышаны об испанцах и смотрели на них с суеверным ужасом. Примерно за год до этого побережье Юкатана посетил идальго Эрнандес де Кордова, неоднократно сражавшийся с туземцами, а после него, незадолго до моего появления, в устье реки Табаско заходили каравеллы Хуана де Грихальвы. Таким образом, меня приняли за одного ив людей этого незнакомого странного племени теулей, как индейцы называли испанцев, а следовательно — за врага, крови которого жаждали их боги.
Освеженный крепким сном, я поднялся с рассветом, умылся и, облачившись в приготовленные для меня полотняные одежды, вышел в большую комнату. Тотчас мне принесли еду, но едва я успел подкрепиться, как в комнату вошел мой хозяин, касик, в сопровождены еще двух людей, вид которых заставил меня содрогнуться от ужаса. Какая-то странная масса склеивала в отвратительный колтун ж черные длинные и прямые космы, лица выражали устрашающую жестокость, а черные одежды были расшиты таинственными мистическими знаками кроваво-красного света. Все присутствующие, не исключая самого касика, с явным уважением относились к этим людям, разглядывавшим меня с такой свирепой радостью, что кровь стыла в жилах. Один из них приблизился, раскрыл одеяние у меня на груди и, положив омерзительную грязную ладонь на мое тревожно бьющееся сердце, принялся считать вслух его удары, что-то приговаривая. Как я узнал позднее, он говорил, что я очень силен. Все это время его спутник не открывал рта и только одобрительно кивал головой.
Чтобы понять, что здесь происходит, я начал всматриваться в лица окружающих, пытаясь прочесть на них ответ, и вдруг встретился взглядом с глазами Марины. То, что я в них прочел, не оставило у меня ни малейшего сомнения: они были полны страха и жалости. Я понял, что меня ожидает какая-то ужасная смерть. Но прежде чем я успел осознать это до конца и что-либо сделать, жрецы, или, как их называют индейцы,
паба, схватили меня и вытащили из дома. Все присутствующие, за исключением касика и Марины, высыпали следом за нами.
Я увидел, что нахожусь на обширном плацу или базарной площади, окруженной красивыми каменными домами; лишь изредка среди них попадались глинобитные хижины. Площадь быстро заполняли толпы народу. Мужчины, женщины и дети — все старались взглянуть, как меня ведут к высокой пирамиде, на вершине которой пылал огонь.
У подножия пирамиды меня втолкнули в небольшую комнату, вырубленную в ее толще. Здесь еще несколько жрецов сорвали с меня всю одежду, кроме набедренной повязки, и возложили мне на голову венок из цветов. В этой комнате уже находилось два других индейца; судя по их искаженным от ужаса лицам, они были тоже обречены на смерть.
Но вот где-то наверху над нашими головами тревожно, громко забил барабан. Нас вывели из комнаты и поместили в середине многочисленной процессии и жрецов так, что я оказался впереди осужденных индейцев. Жрецы затянули какой-то гимн, и мы начали подниматься на пирамиду с уступа на уступ, каждый раз обходя ее вокруг, пока, наконец, не достигли верхней квадратной площадки со сторонами, равными примерно сорока футам. Отсюда открывался прекрасный вид на раскинувшийся внизу город и окрестности, но мне было не до прелестных пейзажей. Напротив меня, на другом краю площадки, стояли две деревянные башни высотой футов в пятьдесят — храм бога войны Уицилопочтли и храм бога воздуха Кецалькоатля. Сквозь открытые настежь двери храмов виднелись чудовищно уродливые, высеченные из камня фигуры обоих богов, а перед ними на низеньких алтарях плавали в больших золотых блюдах сердца вчерашних жертв. Стены храмов покрывали изнутри омерзительные и страшные изображения. Напротив башен горел на большом алтаре неугасимый огонь, перед алтарем возвышался прямоугольный выпуклый сверху блок из черного мрамора высотой с обыкновенный стол, какие стоят у нас в харчевнях, а рядом лежал огромный круглый камень с медным кольцом посредине, высеченный в форме жернова футов десяти в поперечнике.
Все это я хорошо запомнил, хотя и не имел времени как следует рассмотреть, потому что едва мы достигли верхней площадки, как меня схватили и поставили на жерновообразный камень. Здесь на меня надели кожаный пояс, привязанный к медному кольцу веревкой как раз такой длины, чтобы я мог свободно перебегать с края на край камня, но не дальше. Затем мне сунули в руки копье с кремневым наконечником, раздали такие же копья двум обреченным индейцам, которые шли следом за мной, и знаками приказали начать бой: индейцы должны были нападать, а я — защищать свой камень.

Я подумал, что если мне удастся сразить этих двух несчастных, может быть, меня помилуют, и приготовился убить ни в чем не повинных людей ради спасения своей собственной жизни. Верховный жрец подал знак, приказывая индейцам напасть на меня, однако оба они были настолько испуганы, что не двинулись с места. Тогда жрецы принялись хлестать их кожаными бичами, и несчастные устремились ко мне, крича от боли. Один из индейцев первым достиг камня. Я ударил и пронзил копьем его руку. Выронив свое оружие, он отскочил в сторону, и второй индеец последовал за ним. Они не хотели сражаться, и никакие удары бичей уже не могли их заставить напасть на меня.
Видя, что мужество окончательно покинуло пленников, жрецы решили с ними разделаться. Под громкое пение и музыку они подтащили раненого мной индейца к черному мраморному столу — я уже понял, что это был жертвенный камень — и опрокинули его на выпуклую верхнюю площадку грудью вверх. Пять жрецов вцепились в несчастного: один держал его за голову, двое за руки и двое за ноги. Затем к нему приблизился верховный жрец, облаченный в багряное одеяние, тот самый, что считал удары моего сердца. Пробормотав какое-то заклинание, он взметнул
итцтли — изогнутым ножом из вулканического стекла, одним ударом вспорол грудь бедного индейца и совершил древний обряд жертвоприношения солнцу.
В это мгновение вся стоявшая внизу многочисленная толпа, перед глазами которой разыгрывали этот кровавый спектакль, простерлась ниц и лежала на земле до тех пор, пока сердце жертвы не опустили на золотое блюдо перед богом Уицилопочтли. Затем страшные жрецы бога набросились на тело жертвы. С дикими криками они дотащили его до края верхней площадки пирамиды, или, правильнее,
теокалли, и швырнули вниз так, что оно покатилось по крутому склону. У подножия теокалли труп подхватили какие-то ожидавшие этого момента люди и унесли. В то время я еще не знал, для чего он им нужен.
Тотчас вслед за первой жертвой последовала вторая, и снова толпа на площади благоговейно простерлась ниц. Затем наступил мой черед. Когда жрецы схватили меня, все смешалось перед моими глазами, и я пришел в себя уже на проклятом жертвенном камне. Повиснув на моих руках и ногах и оттягивая назад голову, жрецы не давали мне шевельнуться. Я лежал на спине, выпятив грудь колесом, так, что туго натянутая кожа на ней едва не лопалась, как на барабане. А надо мной стоял сам дьявол в образе человеческом со стеклянным ножом в руке. Никогда не забуду я ни его свирепого лица, искаженного жаждой крови, ни его сверкающих из-под сальных косиц глазок. Откидывая назад свисающие на лоб пряди, жрец медлил. Он примеривался не спеша, покалывая меня ножом в то место, куда хотел нанести удар. Казалось, прошла целая вечность, пока я лежал так, вздрагивая от каждого укола, но вот, наконец,
паба решился и взмахнул ножом.
Словно сквозь туман, я видел, как стремительно опускался нож. Последний мой час пробил! Но в этот миг чья-то рука перехватила руку жреца на полдороге, и я услышал тихий голос.
Ка видно, то, что он говорил, пришлось жрецу не по вкусу. Пронзительно взвыв, он рванулся, чтобы заколоть меня, но та же рука снова перехватила нож на лету. Жрец ушел в храм Кецалькоатля, а я так и остался распростертый на жертвенном камне, испытывая муки тысячи смертей. Почему меня не убили сразу? Неужели они еще будут меня пытать перед смертью? Одна эта мысль была для меня ужаснее всех агоний.
Я лежал на проклятом черном камне, и лучи солнца жгли мою обнаженную грудь. Снизу доносился отдаленный гул многотысячной толпы. И пока я лежал на этом ужасном ложе, казалось, вся моя жизнь пронеслась перед моими глазами. Я вспомнил тысячи давно забытых мелочей, вспомнил далекое детство, мою клятву, прощальный поцелуй и последние слова Лили, вспомнил, какое лицо было у де Гарсиа, когда меня бросили в море, вспомнил смерть Изабеллы де Сигуенса, и последняя смутная мысль моя была горестным удивлением: почему, почему служители всех богов так жестоки?!
Но вот снова послышался звук шагов, и я поспешно закрыл глаза. Я больше не в силах был видеть этот страшный нож! Однако прошло мгновение, еще мгновение, еще, а удара все не было. Вместо этого меня внезапно отпустили и поставили на ноги, хотя я думал, что ноги уже мне больше никогда не понадобятся, а затем довели до края площадки, потому что сам идти я не мог. Тут мой жрец-палач, прокричав собравшейся у подножия теокалли толпе какие-то слова, заставившие ее зашуметь, как лес от порыва ветра, обнял меня окровавленными руками и поцеловал в лоб.
Только теперь я заметил, что рядом со мной стоят захвативший меня в плен касик, величественный и невозмутимый, с вежливой улыбкой на лице. Улыбаясь, он отдал меня жрецам и теперь все с той же улыбкой вырвал из их рук.
Мне помогли омыться, снова одели, ввели в святилище Кецалькоатля и поставили перед ужасным изваянием этого божества. Пока жрецы бормотали свои молитвы, я стоял неподвижно, не в силах оторвать взгляда от золотого блюда, на котором уже должно было бы лежать мое сердце. Затем поддерживая с двух сторон, мне помогли спуститься по огибающей пирамиду лестнице к подножию теокалли, где касик взял меня за руку и повел сквозь толпу. Я заметил, что теперь индейцы смотрят на меня с непонятным благоговением. Первым человеком, встретившим нас в доме касика, была Марина: она обратилась ко мне с какими-то ласковыми словами, но я их не понял. Меня отпустили в мою комнату, и здесь я провел остаток дня, совершенно измученный пережитым волнением. Поистине я попал в страну сатаны!
А теперь время рассказать о том, как мне удалось спастись от жертвенного ножа. Мне помогла Марина. Я приглянулся ей, и она сжалилась над моей страшной участью. Обладая живым умом, Марина сумела избавить меня от смерти.
Когда я уже шел к жертвенному камню, она обратилась к своему хозяину касику и напомнила ему, что император Анауака Монтесума, обеспокоенный появлением теулей или испанцев, как известно, не раз выражал желание увидеть одного из них. Марина сказала, что я, несомненно, теуль, и Монтесума наверняка разгневается, если меня принесут в жертву в этом отдаленном городе, вместо того чтобы сначала показать ему, а уж потом, если он пожелает, покончить со мной в столице. Касик ей ответил, что речь ее мудра, однако сейчас говорить об этом поздно, потому что жрецы уже завладели мной и вырвать жертву ив их рук немыслимо.
— О нет! — возразила Марина. — Надо просто сказать им вот что: они хотят принести теуля в жертву Кецалькоатлю, а Кецалькоатль сам был белокожим.
[240] Что, если этот теуль — один из его детей? Бог разгневается, когда его сына принесут ему я жертву. Но если даже бог не разгневается, то Монтесума наверняка придет в ярость и отомстит и тебе, и жрецам.
Выслушав Марину, касик понял, что она права, и поспешил подняться на теокалли. Он подоспел как раз вовремя, чтобы остановить занесенный надо мной нож. Сначала верховный жрец ни о чем не хотел слышать и кричал о святотатстве, однако когда касик растолковал ему, в чем дело, жрец сообразил, что разумнее уступить и не навлекать на себя гнев Монтесумы. Поэтому меня освободили, отвели в святилище, а затем снова показали народу, и
паба объявил, что бог признал меня одним из своих сыновей. Этим и объясняется то благоговейное почтение, с которым отныне смотрели на меня индейцы.
Глава XIV
СПАСЕНИЕ КУАУТЕМОКА
После этого ужасного дня жители Табаско начали относиться ко мне превосходно и уже не помышляли о том, чтобы принести испанца, или теуля, как они меня называли, в жертву своим богам. Все сразу переменилось. Теперь я был хорошо одет, всегда сыт и мог разгуливать где угодно, хотя и в сопровождении воинов, которые в случае моего бегства поплатились бы головой. Я узнал, что на следующий же день после того, как меня вырвали из рук жрецов, к великому правителю Монтесуме были отправлены гонцы с известием о моем пленении. Монтесума должен был передать с ними свою волю. Но до Теночтитлана путь был неблизкий, и пока гонцы вернулись, прошло немало недель.
Тем временем я каждый день усердно изучал язык майя,
[241] а также ацтеков. В этом мне особенно помогала Марина. Сама она была родом не из Табаско, а из Пайналлы, расположенной в юге — восточной части страны. Мать продала Марину торговцам, чтобы все наследство досталось другому ребенку, родившемуся у нее от второго брака, и, таким образом, Марина очутилась в конце концов у касика Табаско.
Помимо языков, я старался как можно лучше узнать историю и обычаи этой страны и научиться читать рисунчатое письмо, которым здесь пользовались. В то же время благодаря своим познаниям в медицине я постепенно завоевал славу великого врачевателя, так что жители Табаско окончательно уверились в том, будто я настоящий сын доброго бога Кецалькоатля.
Но чем больше я узнавал этот народ, тем меньше я его понимал. Во многих отношениях индейцы стояли на одном уровне с известными мне народами Европы. Они были искуснейшими ремесленниками и строителями. Немногие наши города могут похвастаться столь совершенной архитектурой и немногие страны — столь же справедливыми законами. Кроме того, этот народ терпелив и мужествен. Но суеверия подтачивали его изнутри, словно грибок, разрушающий сердцевину здорового дерева. Сами по себе верования индейцев были довольно возвышенными и даже имели немало общего с христианской религией, например обряд крещения, однако к чему они приводили на деле, — об этом я уже говорил.
А теперь я спрашиваю себя, что в конечном счете хуже — приносить людей в жертву богам или пытать их в подземельях инквизиции и замуровывать заживо в стенах монастырей? Пожалуй, последнее более жестоко.
За месяц, проведенный в Табаско, я выучил язык настолько, что уже мог разговаривать с Мариной. Мы стали друзьями, и только. От Марины я получил большую часть сведений об этой стране, а кроме того, она учила меня, как себя держать, чтобы не попасть в беду. В благодарность я рассказал ей кое-что о нашей религии и об обычаях европейцев. Именно эти знания помогли ей впоследствии сделаться незаменимой для испанцев, принять их веру и вступить на путь белых людей.
Так я прожил в доме касика Табаско более четырех месяцев. Под конец благоволивший ко мне касик даже предложил мне в жены свою сестру, и был немало удивлен, когда я как можно почтительнее отклонил его милость, потому что девушка была по-настоящему красива. Несмотря на отказ, со мной продолжали обходиться великолепно, и если бы сердце не влекло меня к далекой родине и не возмущалось кровавыми обрядами, происходившими на моих глазах почти ежедневно, я бы, наверное, целиком отдал его этому доброму, искусному и трудолюбивому народу.
Наконец, по истечении полных четырех месяцев, прибыли посланцы двора Монтесумы, задержавшиеся в пути из-за разлива рек и прочих дорожных происшествий. Император настолько заинтересовался вестью о моем пленении, что счел необходимым послать за мной своего родного племянника принца Куаутемока, поручив ему доставить меня в столицу под усиленной охраной из лучших воинов.
Я никогда не забуду нашу первую встречу с принцем, ставшим впоследствии моим добрым другом и собратом по оружию. Когда он прибыл с эскортом в Табаско, я охотился в окрестностях города на оленей, изумляя индейцев искусной стрельбой из лука. Они ведь не знали, что я достиг совершенства в обращении с этим видом оружия еще на родине, где дважды завоевывал первый приз на состязаниях бангийской общины. Гонец прервал нашу охоту, и мы поспешили в город, захватив с собой подстреленного оленя. Приблизившись к дому касика, я увидел, что весь двор заполнен пышно разряженными воинами. Среди них особенно выделялся своим великолепием один индеец. Он был молод, очень высок и широкоплеч, с приятным лицом и орлиным взором. Весь его властный облик был преисполнен величия. Тело индейца прикрывал золотой панцирь, на плечи был наброшен плащ из сверкающих перьев, искусно подобранных в перемежающиеся разноцветные полосы. Голову его украшал золотой шлем, увенчанный царским символом орла, раздирающего золотую змею, инкрустированную драгоценными камнями. На руках выше локтей и на ногах под коленями он носил золотые обручи с самоцветами, а в руке у него было длинное копье с медным наконечником.
Вокруг этого человека толпилось множество других знатных воинов, разодетых не менее пышно, с той лишь разницей, что вместо золотого панциря они носили стеганые хлопковые доспехи — эскаупили,
[242] а шлемы их вместо царского символа украшали пучки длинных перьев, скрепленных пряжками с каменьями. Так предстал передо мной принц Куаутемок, племянник Монтесумы, а позднее — последний император Анауака.
Увидев принца, я приветствовал его по обычаю индейцев — коснулся правой рукой земли, а потом поднес эту руку ко лбу. Куаутемок пристально разглядывал меня несколько мгновений — я стоял перед ним в простой охотничьей одежде с луком в руках, — потом улыбнулся открытой дружеской улыбкой и сказал:
— Поистине, теуль, если я хоть что-нибудь понимаю в людях, мы с тобою равны по происхождению и по летам, а потому не подобает тебе склоняться передо мной, словно рабу перед господином!
И с этими словами он протянул мне руку. Я пожал ее и с помощью Марины, не спускавшей восторженных глаз со столь знатного повелителя, ответил:
— Может быть, и так, принц. У себя на родине я действительно был человек с именем и достатком, однако здесь я только несчастный раб, спасенный от смерти на алтаре.
— Я это знаю, — проговорил он, хмурясь. — Хорошо, что тебя успели спасти и нож не оборвал твою жизнь. Иначе гнев Монтесумы обрушился бы на весь город, и тогда…
С этими словами он посмотрел на касика, который задрожал всем телом — такой страх внушало в те дни грозное имя Монтесумы.
Затем Куаутемок спросил меня, правда ли, что я теуль, то есть испанец. Я ответил, что нет, что я из другого племени белых людей, но, в жилах моих течет половина испанской крови. Это его удивило: до сих пор он не слыхал о других белокожих племенах. Тогда я кое-что рассказал ему о себе, главным образом о том, как я здесь очутился.
Выслушав меня, Куаутемок проговорил:
— Если я правильно понял твои слова, теуль, ты не испанец, хотя в тебе есть испанская кровь, и ты прибыл сюда на испанском корабле. Все это непонятно. Однако пусть в этом разбирается сам Монтесума, а сейчас давай поговорим о другом. Покажи мне, как ты стреляешь из своего большого лука. Ты привез ого с собой или сделал здесь? Мне сказали, что среди местных жителей ты самый лучший стрелок!
Я показал ему изготовленный мной лук, посылавший стрелы шагов на шестьдесят дальше любого индейского лука, и мы заговорили с ним о битвах и об охоте. Марина помогала нам, возмещая бедность моего языка, и к вечеру мы с принцем были уже друзьями.
С неделю Куаутемок и его воины отдыхали в городе Табаско, и все это время мы часто встречались я беседовали втроем: принц, Марина и я. Вскоре я заметил, что Марина посматривает на высокого гостя влюбленными глазами. Ее привлекало не только его богатство и знатность; обладая большим честолюбием, Марина не желала прозябать в рабстве у касик и мечтала разделить с Куаутемоком власть и славу.
Всевозможными способами пыталась она завоевать сердце принца, но он ее просто не замечал. Наконец она решилась поговорить с ним начистоту и сделала это в моем присутствии.
— Завтра ты покидаешь наш город, принц, — начала она вкрадчивым тоном. — Если ты позволишь говорить своей рабыне, я бы хотела испросить у тебя одну милость.
— Говори, женщина, — ответил Куаутемок.
— Я прошу об одном: купи меня у касика или, если хочешь, прикажи, чтобы он отдал меня тебе, Я хочу последовать за тобой в Теночтитлан.
Куаутемок расхохотался.
— Ты говоришь откровенно, женщина, — сказал он. — Но ты должна знать, что в городе Теночтитлане меня ждет моя царственная сестра и жена Течуишпо, а с ней еще три знатные женщины, которые, к несчастью, довольно ревнивы.
Несмотря на свою смуглую кожу, Марина густо покраснела, и я в первый и последний раз увидел, как в ее добрых глазах загорелся гнев.
— Принц, — проговорила она, — я просила только взять меня с собой! Я не просила тебя брать меня в жены или в наложницы!
— Но ты об этом думала, — ответил он насмешливо.
— О том, что я думала, принц, не будем говорить! Я хотела увидеть великий город и великого императора, потому что устала от этой жизни здесь и потому, что тоже хотела возвыситься. Ты отказал мне, принц, но придет время и я, может быть, возвышусь и без твоей помощи. Тогда я вспомню, как ты меня унизил, и отплачу за все и тебе и твоему царскому дому!
Куаутемок снова рассмеялся, но потом сразу посуровел.
— Ты забылась, рабыня! — проговорил он. — Того, что ты здесь наболтала, хватит, чтобы отправить на жертвенный камень десяток людей. Но твоя женская гордость уязвлена, и ты сама не понимаешь, что говоришь, а потому я забуду твои слова. И ты, теуль, тоже забудь их, если только понял.
Марина повернулась к пошла к выходу. Грудь ее бурно вздымалась от ярости, оскорбленного тщеславия, а может быть, и от горя отвергнутой любви. Когда Марина проходила мимо меня, я услышал, как она бормотала сквозь зубы:
— Ладно, принц, ты, может быть, и забудешь, но я — никогда!
Впоследствии я частенько задумывался, вспоминая тот день.
Что это было? Говорила Марина наобум, просто в порыве гнева или в то мгновение перед ней действительно открылось грядущее? И еще об одном я спрашиваю себя: какую роль сыграл разговор с Куаутемоком в дальнейшей судьбе Марины? Правда ли, что она отдала свою родину на позор и поругание только из-за любви к Кортесу, как она мне сама потом говорила? Ответить на эти вопросы трудно, да, пожалуй, и незачем отвечать, потому что вряд ли они имеют прямое отношение к тому, что вскоре произошло. Когда случается какое-нибудь великое событие, мы начинаем отыскивать его причины в прошлом и зачастую ошибаемся. Скорее всего у Марины была обыкновенная вспышка гнева, которая вскоре прошла и была забыта. В самом деле, редко кто строит здание своей жизни на прочном фундаменте какого-нибудь одного чувства — ненависти или надежды, отчаяния или страсти, — как это было со мной. Гораздо чаще зодчим человеческих судеб становится случай; хочется этого людям или нет, он властно вмешивается в их жизнь и перестраивает ее по-своему. Только одно я знаю — Марина действительно не забыла того разговора, и в свое время мне довелось услышать, как она напомнила принцу о каждом его слове и как благородно ответил ей Куаутемок.
Прежде чем говорить о том, что случилось со мной в Теночтитлане, где дочь Монтесумы стала моей женой и где я снова встретил де Гарсиа, я хочу рассказать еще об одном эпизоде моего пребывания в городе Табаско.
В день нашего отъезда, чтобы умилостивить богов, испросить их помощи в дальней дороге, а также по случаю одного из очередных празднеств, которых у индейцев неисчислимое множество, на теокалли было устроено великое жертвоприношение. Мне приходилось наблюдать эти ужасы ежедневно, и в тот день тоже я поднялся вместе со всеми на вершину ступенчатой пирамиды. Внизу собрались толпы народу. Мы стояли вокруг жертвенного камня и ждали. Все было готово.
Но вот свирепый паба, тот самый, что считал удары моего сердца, вышел из святилища и сделал знак своим слугам половить на жертвенный камень первого раба. В это мгновение принц Куаутемок внезапно шагнул вперед и, указав на пабу, приказал жрецам:
— Схватить этого человека!
Те заколебались. Куаутемок был, конечно, принцем, в жилах его текла царственная кровь, но наложить руку на верховного жреца считалось святотатством! Тогда Куаутемок с улыбкой снял с руки перстень, украшенный темно-синим камнем, на котором были выгравированы какие-то странные знаки. Одновременно он вынул свиток с начертанными на нем рисунчатыми письменами и показал его вместе с перстнем жрецам. Это был перстень самого Монтесумы а на свитке стояла подпись верховного жреца Теночтитлана. Ослушаться того, кто обладал подобными знаками власти, вначале обречь себя на верную смерть и бесчестье. Поэтому жрецы, не говоря ни слова, схватили своего главаря и замерли, ожидая дальнейших приказаний.
— Положите его на камень и принесите в жертву богу Кецалькоатлю! — коротко проговорил принц.
Теперь палач, которому смерть других доставляла такую жестокую радость, сам затрясся от страха и зарыдал. Как видно, собственное лекарство пришлось ему не по вкусу!
— За что меня приносят в жертву, принц? — кричал он. — Ведь я был верным служителем богов и императора!
— За то, что ты хотел принести в жертву этого теуля, — ответил Куаутемок, указывая на меня. — За то, что ты хотел этим нарушить волю своего повелителя Монтесумы и за прочие злодеяния, записанные на этом свитке. Теуль — сын Кецалькоатля, ты сам это объявил. Пусть же Кецалькоатль получит жертву за своего сына! Я сказал. Кончайте с ним!
Тотчас же младшие жрецы, которые до этого момента были только слугами верховного пабы, повалили его на жертвенный камень. Один из них облачился в его багряную мантию и, невзирая на мольбы и угрозы своего бывшего хозяина, показал на нем свое искусство. Еще миг — и тело негодяя покатилось вниз по склону пирамиды. Должен сказать, что я отнюдь не был огорчен, когда этот палач погиб точно такой же смертью, на какую он обрекал множество более достойных людей. Мне, видно, недостает христианской кротости.
Когда все было кончено, Куаутемок повернулся ко мне и проговорил:
— Так погибнут все твои недруги, брат мой теуль.
Этот эпизод показал мне, какой огромной властью обладал Монтесума. Достаточно было показать перстень с его руки, чтобы заставить жрецов без промедления умертвить своего собственного верховного пабу.
Примерно час спустя мы уже тронулись в дальний путь. Перед этим я успел, однако, дружески проститься со своим приятелем касиком и с Мариной, не сумевшей напоследок удержаться от слез. С касиком я больше не встречался, но Марину мне еще довелось увидеть.
Наше путешествие продолжалось целый месяц. Путь был неблизкий и очень тяжелый. Зачастую приходилось прорубать себе дорогу заново сквозь чащу леса, то и дело застревая на речных переправах. За это время я видел немало удивительного. С величайшим почетом принимали нас в многочисленных городах, где мы останавливались, но если описывать все подряд, это займет слишком много времени.
Об одном событии мне все же придется рассказать, потому что оно послужило началом нашей дружбы с принцем Куаутемоком. Эта дружба оборвалась только с его смертью, но светлая память о ней до сих пор живет в моем сердце.
Однажды, когда нас задержала разлившаяся река, мы решили, чтобы провести время, поохотиться на красного зверя. Вскоре три оленя были подстрелены, но тут Куаутемок заметил на холме еще одного самца, и мы начали к нему подкрадываться впятером. Однако олень стоял на открытом месте и приблизиться к нему оказалось невозможно — вокруг ярдов на сто не было ни кустика, ни деревца. Тогда Куаутемок начал надо мной подшучивать.
— Про тебя, теуль, рассказывали сказки, говорили, что второго такого стрелка не сыскать. Вот тебе олень — он стоит в три раза дальше, чем нужно нам, ацтекам, для верного выстрела. Покажи на нем свое искусство!
— Попробую, — ответил я, — хоть цель и далека.
Мы укрылись под деревом сейба, нижние ветви которого простирались футах в пятнадцати над землей. Здесь я наложил стрелу на тетиву своего большого, изготовленного моими собственными руками лука, точно такого же, какой был у меня на родине, в Англии, прицелился и выстрелил. Стрела просвистела и под одобрительный ропот восхищенных зрителей мгновенно вонзилась в цель, поразив оленя прямо в сердце.
Мы уже выходили из-под дерева, направляясь к убитому оленю, как вдруг с нижних ветвей сейбы на плечи принцу прыгнул пума-самец, подстерегавший ту же добычу. Пума — огромный дикий кот, раз в пятьдесят тяжелее обыкновенного — сбил принца на землю и, сидя у него на спине, принялся терзать его и рвать своими когтями. Если бы не золотой панцирь и шлем, свирепый хищник сразу покончил бы с ним и Куаутемок никогда не стал бы императором Анауака. Впрочем, возможно, для самого Куаутемока это было бы много лучше.
Увидев, что пума терзает и рвет тело принца, сопровождавшие его знатные воины подумали, что он уже мертв, и, несмотря на всю свою храбрость, бросились бежать, охваченные неудержимым ужасом. Но я не побежал, хотя охотнее всего последовал бы за ними. На поясе у меня висело излюбленное оружие индейцев, заменяющее им меч, — плоская дубина, острые края которой утыканы осколками обсидиана, словно зазубренный бивень меч-рыбы. Высвободив ее из ременной петли, я напал на пуму. От первого удара по голове зверь покатился по земле, обливаясь кровью, но уже в следующее мгновение сжался в ком и с яростным ревом прыгнул на меня. Схватив свой деревянный меч двумя руками, я со всего размаха ударил его еще раз, когда он был в воздухе. Второй удар пришелся между растопыренных лап пумы прямо по морде и черепу. Он был так силен, что мое оружие разлетелось на куски, но пуму это не остановило. Могучий толчок швырнул меня на землю, зверь обрушился на меня и впился зубами и когтями мне в грудь. Хорошо еще, что в тот день я надел куртку из стеганого хлопка, иначе хищник просто растерзал бы меня, но даже эти доспехи не спасли мою шею и затылок от жестоких ран. Глубокие следы когтей пумы я ношу на своем теле и поныне.
Я уже думал, что пришел мой конец, однако нанесенный мной страшный удар оказался для пумы роковым, потому что один из обсидиановых осколков проник в мозг хищника. Когти его судорожно сжались, впиваясь в мое тело, он в последний раз поднял голову, взвыл, словно подыхающая собака, и замертво рухнул на меня.
Придавленный непомерной тяжестью и обессиленный глубокими ранами, я лежал так, пока мужество не вернулось к нашим спутникам. Наконец они приблизились и стащили с меня мертвую пуму. К этому времени принц Куаутемок, который видел все, но не мог пошевельнуться, тоже поднялся на ноги.
— Теуль, — сказал он мне, — ты поистине храбрый человек, и если ты выживешь, клянусь, я буду твоим другом до самой смерти, как ты был моим.
Принц обращался только ко мне, словно не замечая остальных воинов; их он не счел нужным даже упрекнуть.
Но тут я потерял сознание.
Глава XV
ДВОР МОНТЕСУМЫ
Я так ослабел от ран, что с неделю после этого случая не мог тронуться с места, да и потом меня пришлось нести на носилках. Лишь когда мы находились уже в трех днях пути от Теночтитлана, я смог идти сам. Дороги здесь были куда лучше английских, и о них тщательно заботились. Я радовался, что держусь на собственных ногах, потому что мне вовсе не нравилось ехать на плечах у других людей, как это принято у индейцев. Такой способ передвижения больше подходит для женщин. К тому же в нем не было больше никакой необходимости. Жара спала, и теперь мы шли по прохладному плоскогорью, переваливая через хребты.
Никогда еще я не видел такой мрачной местности, как эти бесконечные голые пространства, где росли только редкие колючки алоэ
[243] да кактусы самых фантастических видов, ибо только они и могли выжить на песчаной безводной почве. Поистине удивительная страна! Три совершенно различные по климату области уживаются в ней бок о бок, и рядом с великолепием тропиков лежит бескрайняя мертвая пустыня.
На ночь остановились в одном на выстроенных вдоль дороги домов для путников. Дом этот стоял недалеко от перевала через
сьерру, или горную цепь, окружающую долину Теночтитлана. Снова в путь мы пустились задолго до рассвета, потому что здесь на большой высоте было так холодно, что после привычной жары почти никто не мог спать. К тому же Куаутемок хотел к ночи добраться до города.
Через несколько сотен шагов дорога вывела нас на перевал. Невольно я остановился, охваченный восторгом и удивлением. Далеко внизу, словно в огромной чаше, лежали земли и воды, еще скрытые от глаз ночными тенями, зато прямо передо мной возвышались окутанные облаками вершины двух снежных гор. Лучи еще невидимого солнца уже играли на них, окрашивая снежную белизну кровавыми бликами. Это были Попокатепетль — «Холм, который курит», и Истаксиуатль — «Спящая женщина».
[244] Невозможно представить более величественное зрелище, чем эти две вершины в предрассветный час.
Над высоким кратером Попокатепетля поднимался толстый столб дыма. Пронизанный изнутри отблесками пламени и залитый снаружи темно-алым заревом восходящего солнца, он казался вращающейся огненной колонной. У ее основания сверкающие склоны постепенно меняли свой цвет от ослепительно белого до темно-красного, от красного до густо-малинового, и так — через все великолепие оттенков радуги. Описать это невозможно, а представить себе подобное зрелище может только тот, кто сам видел вулкан Попокатепетль в лучах восходящего солнца.
Налюбовавшись Попокатепетлем, я повернулся к Истаксиуатлю. Эта гора не так высока, как ее «муж» — ацтеки считают оба вулкана мужем и женой. Сначала я увидел только огромную, словно изваянную из снега, фигуру женщины, которая как бы покоится в вознесенном к облакам гробу, рассыпав волной волосы по склону горы. Но вскоре солнечные лучи коснулись ее, и она пробудилась и величаво поднялась из розового тумана, являя поразительное и захватывающее зрелище. Однако как ни хороша спящая женщина на рассвете, я больше люблю ее вечером, когда она возлежит во всем своем великолепии на ложе ночной темноты и медленно, торжественно погружается во мрак.
Пока я любовался вершинами, заря постепенно разливалась сверху по склонам вулканов, освещая покрывающие их леса. Однако обширная долина все еще была заполнена густым туманом; он медленно перекатывался, словно волнующееся море, из которого, подобно островкам, выступали верхушки холмов и крыши храмов. По мере того как мы спускались по довольно крутой дороге, туман постепенно рассеивался, и, наконец, внизу засверкали освещенные солнцем озера Чалько, Хочимилько
[245] и Тескоко, подобные трем гигантским зеркалам. На берегах озер виднелись многочисленные города, но самый большой из них — Теночтитлан, казалось, плыл посредине водной глади. Вокруг городов и за ними зеленели возделанные поля маиса, заросли алоэ и густые рощи, а далеко позади возвышалась черная стена скал, замыкающих долину.
Целый день мы быстро продвигались по этой волшебной стране. Позади остались города Амекамека и Айоцинго, которые я не стану описывать, а также множество живописных селений, разбросанных по берегу озера Чалько. Затем мы вступили на каменную дамбу, похожую на широкую дорогу, проложенную посреди озера, и во второй половине дня достигли город Тлауака. Отсюда мы направились к Истапалапану, где Куаутемок хотел заночевать в доме своего царственного дяди Куитлауака. Но когда мы добрались до города, оказалось, что Монтесума, извещенный скороходами о нашем приближении, повелел нам немедленно прибыть в Теночтитлан и выслал для этого навстречу паланкины. Нам оставалось только сесть в них и покинуть цветущий город садов.
Носильщики, не останавливаясь, несли нас по южной дамбе в столицу. Мы двигались мимо городов, выстроенных на вбитых в дно озера сваях, мимо садов, выращенных на плотах и плававших на воде, словно лодки, мимо бесчисленных теокалли и пышных святилищ. Озеро вокруг было заполнено множеством легких пирог, а по дамбе сновали в разных направлениях тысячи индейцев, занятых своими делами. Наконец, перед самым заходом солнца мы достигли Холока, укрепленного сторожевого форта, который расположен на скрещении двух дамб. Я написал «расположен», но увы! — его уже больше нет. Кортес разрушил Холок, точно так же как все остальные прекрасные города, представшие в тот день перед моими глазами.
От Холока начинался Теночтитлан — теперь его называют Мехико, — самый величественный и могучий из всех городов, какие мне доводилось когда-либо видеть. В предместьях дома были построены из адобов — слепленных из ила необожженных кирпичей, — но в центральных, богатых кварталах возвышались здания, сложенные из красного камня. Посредине каждого дома, окруженного садом, находился открытый дворик. Между домами пролегали бесчисленные каналы с пешеходными дорожками по обеим сторонам. На площадях стояли ступенчатые пирамиды, дворцы и храмы. Но все это сразу померкло, когда мы очутились на огромной торговой площади, или тьянкес, и я увидел гигантскую пирамиду. К вершине ее с юга и с севера, с запада и с востока вели четыре каменные лестницы, на ступенях пирамиды лежали груды человеческих черепов, а на самом верху стоял великолепный храм из полированных глыб с высеченными на всех стенах изображениями змей. Я видел этот храм лишь мельком, потому что уже смеркалось, и нас быстро понесли куда-то дальше сквозь темные улицы.
Через некоторое время я заметил, что здания города остались позади. Теперь мы поднимались на холм, поросший могучими кедрами. Наконец носилки остановились на широком дворе, и меня попросили сойти.
Дом, куда привел меня принц Куаутемок, оказался поистине необычайным! Потолки во всех комнатах были из кедрового дерева, на стенах висели богатые разноцветные ткани, а золота здесь было, наверное, столько же, сколько в нашем английском доме бывает кирпича и дуба. Вслед за слугами с кедровыми жезлами в руках мы прошли сквозь анфиладу комнат и галерей, пока, наконец, не добрались до зала, где нас ожидали другие слуги. Они омыли нас ароматной водой, облачили в пышные наряды, а затем провели к двери, перед которой нам пришлось снять сандалии и накинуть грубые темные плащи, чтобы скрыть под ними свои роскошные одеяния. Только после этого нам позволили переступить порог и войти в большой зал, где уже собралось множество знатных мужчин и несколько женщин. Все они стояли неподвижно и были закутаны в такие же грубые плащи. Дальний конец вала отгораживала позолоченная деревянная ширма, из-за которой доносилась нежная музыка.
Мы остановились посредине вала, освещенного благоухающими факелами. Несколько человек приблизилось к нам, приветствуя принца Куаутемока, однако я заметил, что все они с любопытством рассматривают меня. Но вот к нам подошла высокая, стройная женщина необычайной красоты. Она была облачена в великолепное одеяние, украшенное драгоценностями, которые виднелись ив-под темного плаща. Я уже устал удивляться и был до крайности утомлен, но, несмотря на все, вид этой женщины буквально поразил меня: никогда еще я не встречал такого прелестного лица! Обрамленное падающими на плечи волнистыми прядями, оно было озарено большими, ласковыми, как у лани, глазами; благородные черты были необычайно нежны; лицо казалось немного грустным, но чувствовалось, что при случае оно может быть яростным и даже жестоким. Этой знатной особе было не более восемнадцати лет; она находилась в самом начале расцвета, однако обладала формами зрелой женщины и поистине царственным величием.
— Привет тебе, мой брат Куаутемок! — проговорила она приятным голосом. — Наконец-то ты прибыл! Мой царственный отец давно тебя ждет, и тебе придется ему объяснить, почему ты задержался. Моя сестра и твоя жена тоже удивлялась твоему опозданию.
Пока девушка говорила, я скорее почувствовал, чем увидел, что она внимательно меня разглядывает.
— Привет тебе, Отоми, сестра моя! — ответил принц. — Я задержался в дороге. Путь от Табаско дальний, а тут еще с моим спутником теулем, — при этих словах он кивнул в мою сторону, — приключилось по дороге несчастье.
— Какое несчастье?
— Он спас меня от когтей пумы, рискуя жизнью, когда все остальные бежали, ну и сам пострадал. Дело вот как было… — И принц коротко рассказал о нашей охоте.
Девушка слушала внимательно, и я заметил, как горели ее глаза, пока принц говорил. Но вот он кончил, и она обратилась ко мне:
— Добро пожаловать, теуль, — проговорила она с улыбкой. — Ты не из нашего племени, но все равно ты мне нравишься.
И все так же улыбаясь, она отошла от нас.
— Кто эта знатная женщина? — спросил я Куаутемока.
— Это моя двоюродная сестра Отоми, принцесса племен отоми, любимая дочь моего дяди Монтесумы, — ответил принц. — Ты ей понравился, теуль, и это очень хорошо по многим причинам. Но… тш-ш-ш!
![]()
src="/i/5/482905/i_010.png">
В этот момент ширма в дальнем конце зала раздвинулась, и я увидел высокого человека, окутанного клубами табачного дыма. Он сидел на расшитых узорами подушках и по индейскому обычаю курил позолоченную деревянную трубку. Это был сам император Монтесума. Его необычайно бледное для индейца лицо, обрамленное тонкими черными волосами, казалось унылым и меланхоличным. На нем были ослепительно белое одеяние из чистейшей хлопковой ткани, золотой пояс и сандалии, унизанные жемчужинами. Голову его украшали перья царственного зеленого цвета. Позади императора виднелось несколько красивых почти нагих девушек, которые наигрывали на разных музыкальных инструментах, а напротив них стояли четыре старейших советника, босые и закутанные в темные плащи.
Когда ширма раздвинулась, все, кто был в зале, упали на колени, и я поспешил последовать их примеру. Но вот император сделал знак своей позолоченной трубкой, разрешая присутствующим подняться, и мы снова встали на ноги. Однако я заметил, что все стоят сложив руки и не смеют оторвать взгляд от пола.
Монтесума сделал еще один жест, и к нему приблизились трое пожилых мужчин. Насколько я мог понять, это были послы. Они обратились к императору с какой-то просьбой и он ответил им кивком головы. После этого они отошли, беспрестанно кланяясь и пятясь задом, пока не смешались с толпой. Затем Монтесума что-то сказал одному из своих сверстников; тот поклонился и медленно направился в зал, озираясь по сторонам. Наконец, его взгляд упал на Куаутемока, заметить которого, по правде говоря, было нетрудно, потому что он был на голову выше всех присутствующих.
— Привет тебе, принц, — проговорил советник. — Царственный Монтесума желает говорить с тобой и с твоим спутником теулем.
— Делай все, как я, теуль, — шепнул мне Куаутемок и направился к деревянной ширме. Когда мы вошли, ширму за нами задвинули, отгородив нас от зала.
Некоторое время мы стояли неподвижно, сложив руки и потупив глаза, пока нам не сделали знак приблизиться.
— Рассказывай, племянник, — негромко, но повелительно проговорил Монтесума.
— Я прибыл в город Табаско, о прославленный Монтесума! Я нашел там теуля и привел его сюда. Я также принес в жертву верховного жреца согласно твоему царственному повелению и теперь возвращаю знак императорской власти.
С этими словами Куаутемок передал советнику перстень Монтесумы.
— Почему ты так задержался, племянник?
— В дороге случилась беда, о царственный Монтесума! Спасая мне жизнь, мой пленник теуль жестоко пострадал от когтей пумы; ее шкуру мы привезли тебе в дар. Только тогда император ацтеков впервые обратил ко мне взор. Один из советников подал ему свиток, и Монтесума принялся читать письмена-рисунки, время от времени поглядывая на меня.
— Описание точное, — проговорил он, наконец. — В нем не сказано только одного — что этот пленник прекраснее любого мужчины Анауака. Скажи, теуль, зачем твои собратья пришли в мои владения? Зачем они убивают мой народ?
— Об этом я ничего не знаю, о повелитель, — ответил я, как умел, с помощью Куаутемока. — Эти люди не братья мне.
— В донесении сказано, что в твоих жилах течет кровь теулей и что ты высадился на наши берега или близ берегов с одной из их больших пирог, — ты сам в этом признался.
— Да, это так, повелитель, однако я из другого племени, а до берега я доплыл в бочке.
— Я полагаю, что ты лжешь, — нахмурившись, проговорил Монтесума. — Так тебя сожрали бы крокодилы и акулы. Но скажи мне, теуль, — продолжал он с видимым волнением, — скажи мне, вы правда дети Кецалькоатля?
— Не знаю, о повелитель. Я из племени белых людей, и нашим отцом был Адам.
— Наверное, это другое имя Кецалькоатля. Давно уже было предсказано, что дети его вернутся, и вот час их прихода, как видно, наступил.
Тяжело вздохнув, Монтесума заговорил снова:
— Ступай, теуль, завтра ты мне расскажешь о своих собратьях, а потом совет жрецов решит твою участь.
Услыхав о жрецах, я затрясся всем телом, умоляюще сжал руки к воскликнул:
— Если хочешь, убей, повелитель, только не отдавай меня снова жрецам!
Все мы в руках жрецов, чьими устами говорят боги, — холодно возразил Монтесума. — Кроме того, я думаю, что ты мне солгал. А теперь — уходи!
Так я удалился с самыми мрачными предчувствиями, и Куаутемок, повесив голову, вышел вместе со мной. Я проклинал тот час, когда черт меня дернул сознаться, что во мне есть испанская кровь, хоть я и не испанец. Знай я тогда то, что знаю теперь, даже пытки не вырвали бы у меня ни слова! Но сейчас горевать об этом было уже поздно.
Вслед за Куаутемоком я прошел в отдаленные покои дворца Чапультепека, где нас ожидала его прелестная жена, царственная принцесса Течуишпо, а вместе с ней еще несколько знатных мужчин и женщин. Среди них была и дочь Монтесумы.
Во время пышного ужина я оказался рядом с принцессой Отоми. Она мило беседовала со мной, расспрашивая о моей стране и о племени теулей. От нее я узнал, что эти теули, или испанцы, весьма беспокоили императора, принимавшего их за детей бога Кецалькоатля. Монтесума свято верил в древнее пророчество, гласившее, что Кецалькоатль скоро вернется и будет снова править своей страной.
В тот вечер Отоми была так очаровательна и царственно прекрасна, что сердце мое дрогнуло; впервые за все последнее время другая женщина заставила меня на миг забыть мою нареченную. Ведь она была так далеко, где-то в Англии, и я уже думал, что больше ее никогда не увижу! Но, как я узнал позднее, в ту ночь сердце дрогнуло не только у меня.
Неподалеку от нас сидела Папанцин, царственная сестра Монтесумы. Она была уже далеко не молода и вовсе не красива, однако я редко видел такое привлекательное и в то же время такое печальное лицо, словно уже отмеченное печатью смерти. Через несколько недель она и в самом деле умерла, но даже в могиле не обрела покоя. Однако об этом речь впереди.
Покончив с едой, мы запили ее напитком какао, или шоколадом, и выкурили по трубке табаку. Этому странному, но весьма приятному обычаю я научился еще в Табаско и не могу от него отказаться до сих пор, хотя доставать заморское зелье у нас в Англии нелегко.
Наконец, меня проводили в маленькую, облицованную панелями кедрового дерева комнату, отведенную мне под спальню, однако заснуть мне долго еще не удавалось. Я был переполнен новыми впечатлениями. Передо мной теснились странные картины незнакомой страны, столь высоко цивилизованной и одновременно варварской; я думал о ее печальном монархе, у которого есть все, что только может сердце пожелать: сказочные богатства, сотни прекрасных жен, любящие его дети, бесчисленные армии и все великолепие искусства; об этом абсолютном повелителе миллионов, правящем самой чудесной на свете империей, которому доступны все земные радости, об этом человеке, равном богам во всем, кроме бессмертия, и почитаемом, как божество, и в то же время угнетенном страхами и суевериями и в глубине души более несчастном, чем самый последний раб из его дворцов. Вслед за пророком Екклезиастом Монтесума мог бы горестно возопить:
«Собрал я себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел себе певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия…
Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им; не возбранял я сердцу моему никакого веселия; потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих; и было это долею моею от всех трудов моих.
Но вот оглянулся я на все дела мои и на труд, которым трудился я, совершая их, и вижу — все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!»
Так мог бы сказать Монтесума я так говорил он, только другими словами. Пляска смерти, изображенная на стенах дитчингемской часовни, где скелеты ведут за собой трех царей, достаточно ясно показывает, что монархам не избежать общей судьбы и что счастья отпущено на их долю ничуть не больше, чем на долю прочих сынов человеческих. И даже совсем наоборот, как говорил мне однажды мой благодетель Андрес де Фонсека. Истинное счастье — лишь сон, от которого мы пробуждаемся ежечасно для горестей нашей короткой и многотрудной жизни.
Затем мои мысли перенеслись к прекрасной принцессе Отоми, смотревшей на меня, как я заметил, с такой добротой, и образ ее был сладостен для моего сердца, ибо я был молод, а моя единственная любовь — Лили осталась где-то далеко-далеко и казалась мне потерянной навсегда. Что же тут удивительного, если меня покорили достоинства этой индейской девушки? Поистине не нашлось бы мужчины, которого она бы не околдовала своей нежностью, красотой и той особой царственной грацией, какую дает лишь кровь императоров и долголетняя привычка повелевать. В ней, так же как в ее пышных одеяниях, было нечто варварское, но тогда я видел в этом лишь еще одно достоинство. Именно это больше всего притягивало и волновало меня; ее нежная женственность была окрашена особым оттенком, непонятным и мрачным; ее восточная роскошь, которой так не хватает нашим слишком благовоспитанным английским леди, одновременно действовала на воображение и на чувства, проникая через них прямо в сердце.
Да, Отоми была из тех женщин, о чьей любви мужчина может только мечтать, зная, что подобных характеров на свете очень немного, а исключительных условий, способных их воспитать, — и того меньше. Целомудренная и страстная, царственно благородная, богато одаренная природой, очень женственная, одновременно храбрая, как воин, и прекрасная, как прекраснейшая из ночей, с живым разумом, открытым для познания, и светлой душой, которую неспособно сломить никакое испытание, с виду вечно изменчивая, но в действительности преданная и дорожащая своей честью, как мужчина, — такова была Отоми, дочь Монтесумы, принцесса племен отоми. Можно ли удивляться, что ее красота запала мне в сердце, и что позднее, когда судьба подарила мне любовь принцессы, я ее тоже полюбил?
И в то же время в характере Отоми были такие черты, которые оттолкнули бы меня, если бы я о них знал. Несмотря на все свои достоинства, красоту и очарование, Отоми оставалась в глубине души дикаркой, и как она ни старалась это скрыть, кровь ацтеков временами брала в ней свое.
Так я раздумывал, лежа в одной из комнат дворца Чапультепека, когда тяжелые шаги стражи за дверью напомнили мне о том, что любовь и прочие прекрасные вещи не для меня, ибо жизнь моя по-прежнему висит на волоске. Завтра жрецы будут определять мою участь, а пленник, попавший в руки жрецов, может предугадать их решение заранее. Я был для них чужестранцем из племени белых людей. Такая жертва, конечно, в тысячу раз приятнее их богам, чем сердце простого индейца. Меня для того спасли от жертвенного ножа в Табаско, чтобы положить на более высокий алтарь Теночтитлана, — вот и все. Мне суждено погибнуть ужасной смертью вдали от родины, и ни одна душа на земле об этом даже не узнает. С такими печальными мыслями я погрузился в сон.
Меня разбудили утренние лучи солнца. Поднявшись со своей циновки, я подошел к оконному проему, забранному деревянной решеткой, и выглянул наружу.
Дворец, где я находился, стоял на вершине каменистого холма. Его подножие омывали волны озера Тескоко, посреди которого примерно в миле с небольшим вздымались над водой храмовые башни Теночтитлана. По склонам холма и вокруг него отдельными группами росли гигантские кедры, увешанные серыми бородами лишайников, придававшими им странный призрачный вид. Они были так огромны, что самый большой дуб из нашего дитчингемского прихода показался бы карликом рядом с самым маленьким кедром, а самый высокий из них достигал у земли в окружности двадцати двух шагов. Между этими древними исполинами и в тени их ветвей раскинулись сады Монтесумы, с удивительными пышными цветами, с мраморными водометами, с многочисленными птичниками и вагонами для диких зверей. Мне кажется, я не видел на свете ничего прекраснее!
[246] «Ну что ж, — подумал я про себя. — Пусть я погибну! Зато я видел Анауак, его императора, его обычаи и его народ, а это уже кое-что значит!»
Глава XVI
ТОМАС — БОГ
Разве могло мне в то раннее утро прийти в голову, что еще до захода солнца я, скромный дворянин Томас Вингфилд, превращусь в божество и стану самым почитаемым после императора Монтесумы человеком, или, вернее, богом города Теночтитлана!
А произошло это так. После завтрака с домашними принца Куаутемока меня отвели в зал суда, или, как его здесь называли, «Судилище» Бога. Там восседал на золотом троне Монтесума и вершил правосудие с такой пышностью и торжественностью, что я не берусь это описать. Вокруг него толпились советники и знатнейшие придворные, а перед ним лежал человеческий череп, увенчанный диадемой с изумрудами небывалой величины, от которых исходило даже сияние. В руке император держал вместо скипетра стрелу.
Перед Монтесумой стояло несколько вождей, или касиков, схваченных за измену. Суд над ними был короток. После того как было предъявлено обвинение, их спросили, что они могут сказать в свое оправдание, и каждый в нескольких словах изложил свою историю. Затем Монтесума, до сих пор безмолвный и неподвижный, взял свиток, на котором были изображены письменами-рисунками преступления касиков, и все так же молча проткнул стрелой образ каждого обвиняемого, осуждая всех на смерть. Обреченных тут же увели, и я так и не узнал, какая казнь их ожидала.
Когда с изменниками было покончено, в зал вошло несколько жрецов в мрачных черных одеяниях со свисающими на спины спутанными космами. Дрожь охватила меня при виде этих надменных и жестоких людей с пронзительными глазами. Я заметил, что даже к самому императору они относились без особого почтения.
Советники и знатные воины отошли, жрецы заговорили с Монтесумой. Затем двое ив них приблизились ко мне, взяли меня на рук стражи и подвели к трону. Здесь один жрец внезапно приказах мне раздеться, и я со стыдом повиновался. Когда на мне не осталось никакой одежды и я стоял обнаженный перед троном, жрецы обступили меня и начали внимательно разглядывать мое тело. На руке у меня выделялся шрам, оставленный шпагой де Гарсиа, а на плечах и на спине багровели едва затянувшиеся рубцы от когтей и зубов пумы. Жрецы спросили, откуда у меня эти следы. Я ответил. Отойдя в сторону, чтобы я не мог их слышать, спи принялись яростно спорить между собой, но не пришли ни к какому решению и вынуждены были обратиться к императору. Немного подумав, он заговорил, и его слова я услышал:
— Изъяны эти ему не присущи, их не было на его теле при рождении. Это следы ярости человека и зверя.
Жрецы еще о чем-то посовещались, и, наконец, старший из них шепнул несколько слов на ухо Монтесуме. Император кивнул, поднялся с трона и приблизился ко мне. Я стоил перед ним обнаженный, вздрагивая от холода, ибо воздух в окрестностях Теночтитлана бывает довольно свеж. Монтесума на ходу снял с шеи цепь из золота и изумрудов, отстегнул застежку своей царской мантии и собственными руками возложил на меня цепь и накинул мантию мне на плечи. Затем он униженно преклонил передо мной колени, с мольбой простер ко мне руки и обнял меня.
— Привет тебе, о божественный сын Кецалькоатля! — заговорил он. — Будь благословен, вместилище духа Тескатлипоки. Души Мира, творца всего сущего! За какие заслуги осчастливил ты нас своим появлением на этот год? Что можем мы сделать, чтобы отплатить тебе за высокую честь? Ты создал нас и всю эту землю, — будь же благословен! Повелевай нами — мы все твои слуги. Приказывай — и твое повеление будет исполнено, пожелай — и твое пожелание сбудется прежде, чем твои уста произнесут его. О Тескатлипока! Я, Монтесума, твой раб, склоняюсь перед тобой, и весь мой народ склоняется вместе со мною!
И снова упал на колени.
— Мы взываем к тебе, — заголосили жрецы. — Мы склоняемся перед тобой, о Тескатлипока!
А я продолжал молча стоять, пораженный всем этим непонятным фарсом. Монтесума хлопнул в ладоши — и на его зов появились женщины в красивых одеяниях и с гирляндами цветов. Они облачили меня в принесенные одежды, украсили мне голову цветами, не переставая молиться и повторять:
— Тескатлипока, что умер вчера, явился к нам снова. Возрадуйтесь! Тескатлипока явился к нам снова в образе пленного теуля!
Только тогда я понял, что теперь я бог, и не просто бог, а величайший из богов. Ни разу в жизни я не чувствовал себя так глупо!
Следом за женщинами появились почтительные и важные мужчины с музыкальными инструментами в руках. Мне сказали, что отныне они будут моими наставниками, а целый эскорт царских слуг — моими рабами. Под звуки музыки меня вывели из зала. Впереди шел глашатай, громко выкрикивая, что вот шествует бог Тескатлипока, Душа Мира, творец всего сущего, снова посетивший свой народ. Меня провели по всем дворам и всем бесконечным комнатам дворца, и везде мужчины, женщины и дети склонялись передо мной до земли и молились на меня, Томаса Вингфилда из дитчингемского прихода, графства Норфолк, и под конец мне стало казаться, что, должно быть, я просто рехнулся.
Затем меня усадили в паланкин и понесли вниз с холма Чапультепека по дамбе, и дальше — по городу, через все улицы к обширной площади перед храмом. Впереди шли глашатаи и жрецы, позади следовали знатные юноши и слуги, и всюду, где бы мы ни проходили, толпы людей простирались передо мной ниц. Постепенно я начал понимать, что быть богом — дело довольно утомительное.
Между стен, украшенных изваяниями змей, меня понесли по идущей ломаной спиралью лестнице на вершину огромного теокалли, где стояли идолы и святилища. Здесь под несмолкающий гром большого барабана жрецы начали приносить в мою честь жертву за жертвой, и я вынужден был смотреть на все эти кровавые зверства, едва сдерживая тошноту.
Но вот меня попросили выйти из паланкина. Под ноги мне подстилали ковры и бросали цветы, однако я пришел в ужас, ибо подумал, что сейчас меня принесут в жертву мне самому или какому-нибудь другому богу. К счастью, это оказалось не так. У края верхней площадки — слишком близко я подходить отказался, опасаясь, как бы меня не столкнули неожиданно вниз — сам верховный жрец объявил многотысячной толпе о моем божественном сане, и все — народ на площади и жрецы на пирамиде — молитвенно преклонили колени. Церемония продолжалась мучительно долго. Голова моя шла кругом от всех этих молений, музыки, воплей и окровавленных трупов, и я вздохнул облегченно, когда мы, наконец, двинулись обратно в Чапультепек.
Однако здесь меня ожидали новые почести. Мне отвели целую анфиладу великолепных комнат, примыкающих к покоям самого императора, и торжественно объявили, что отныне все родичи и домочадцы Монтесумы становятся моими слугами, и тот, кто посмеет ослушаться моего повеления, умрет.
Тогда я, наконец, впервые заговорил и пожелал остаться, один, чтобы хоть немного отдохнуть. Слугам я повелел за это время приготовить праздничную трапезу в покоях принца Куаутемока, где надеялся встретиться с Отоми.
Наставники и знатные воины из моей свиты пытались было возразить, что эту ночь хотел отпраздновать со мной мой слуга Монтесума, однако я не изменил решения. В конце концов они удалились, предупредив, что вернутся через час, чтобы отправиться вместе со мной на пир. Сбросив знаки своего божественного достоинства, я с наслаждением растянулся на подушках и принялся думать. Странное возбуждение владело мной. Разве я не был богом и разве власть моя не была почти беспредельной? Однако недоверчивый разум задавал каверзные вопросы. Чего ради меня сделали богом и надолго ли я сохраню эту власть?
Не прошло и часа, как мои знатные наставники я слуги вернулись с новыми одеяниями и свежими цветами. Облачив меня и украсив венками, они двинулись следом за мной в покои Куаутемока. Прекрасные женщины шли впереди и наигрывали на музыкальных инструментах.
Принц Куаутемок уже ожидал нас. Здесь мне была оказана такая встреча, словно я, его недавний пленник, был самим императором. И в то же время мне показалось, что он был чем-то смущен, а в глазах его светилась жалость. Наклонившись вперед, я шепотом спросил Куаутемока:
— Что все это значит, принц? Я действительно бог или надо мной издеваются?
— Тш-ш-ш! — ответил он еле слышным голосом, низко склоняясь передо мной. — Для тебя это и хорошо и плохо, друг мой теуль. Потом я тебе объясню.
И уже громко прибавил:
— О Тескатлипока, бог богов, угодно ли будет тебе, чтобы мы вкушали трапезу вместе с тобой или ты желаешь остаться один?
— Принц, — ответил я, — боги любят хорошую компанию.
Пока мы так переговаривались, я заметил в толпе, заполняющей валу, принцессу Отоми. Поэтому, когда все начали рассаживаться на подушках за низким столом, я задержался, подождал, пока она займет свое место, и тотчас же сел рядом с ней. Это вызвало короткое замешательство среди присутствующих, так как приготовленное для меня почетное место находилось в голове стола, где справа от меня должен был сидеть принц Куаутемок, а слева — его жена, царственная Течуишпо.
— Твое место не здесь, о Тескатлипока, — проговорила Отоми, и ее оливковое лицо слегка порозовело.
— Я думаю, царственная Отоми, что бог может сидеть там, где он хочет, — ответил я и, понизив голос, добавил: — Разве может быть для бога более почетное место, чем рядом с самой прекрасной богиней на земле?
Она снова покраснела и сказала:
— Увы, я совсем не богиня, а простая смертная девушка. Слушай, если хочешь, чтобы я была рядом с тобой за трапезой, ты должен встать и объявить свою волю; никто не посмеет тебя ослушаться, даже мой отец Монтесума.
Тогда я поднялся и на сквернейшем ацтекском языке обратился ко всем присутствующим:
— Отныне мое место на пирах всегда будет рядом с принцессой Отоми, — такова моя воля!
При этих словах Отоми покраснела еще больше. Гости начали перешептываться. Принц Куаутемок сначала нахмурился, потом улыбнулся. Зато мои знатные наставники низко склонились, а глашатаи провозгласили:
— Повинуйтесь воле Тескатлипоки! Да будет отныне место царственной принцессы Отоми рядом с богом Тескатлипокой, ибо бог возлюбил ее!
С этого вечера Отоми всегда сидела рядом со мной, за исключением тех случаев, когда мне приходилось вкушать трапезы вместе с Монтесумой. В городе прекрасную Отоми теперь называли не иначе, как «благословенная принцесса, возлюбленная богом Тескатлипокой». Сила обычая и суеверий была так велика, что ацтеки искренне полагали, будто тот, кто хоть на короткое время воплотил в себе Душу Мира, может осчастливить знатнейшую женщину в стране и оказать ей величайшую честь, выразив простое желание, чтобы она была его соседкой по трапезе.
Когда пиршество началось, я тихонько спросил Отоми, что все ото может означать.
— Увы, — проговорила она шепотом, — разве ты не знаешь? Сейчас я не могу ответить, но скажу одно: пока ты бог и можешь сидеть, где хочешь, но придет время — и тебя положат там, где ты не хотел бы лежать. Слушай, когда трапеза кончится, скажи, что желаешь прогуляться по дворцовому саду и что я должна тебя сопровождать. Тогда я, наверное, смогу тебе рассказать все.
Я последовал ее совету и, когда пиршество завершилось, сказал, что хочу пройтись по садам с принцессой Отоми. Мы вышли из дворца и вступили под сень величественных кедров, поросших длинными лохмами серого лишайника; словно бороды целой армии седовласых старцев, свисали они с каждой ветки, раскачиваясь и жалобно шурша под порывами прохладного ночного ветерка. Но увы! Мы были здесь не одни. Шагах в двадцати позади нас двигалась вся моя свита вместе с музыкантами, беспрестанно дудящими вразнобой на своих проклятых флейтах, и хорошенькими танцовщицами, пляшущими под их нестройную музыку. Напрасно я приказывал им угомониться, напрасно говорил, что издревле ведется, чтобы час музыки и плясок чередовался с часом тишины — это было мое единственное повеление, которое никогда не исполнялось: свита, музыканты и танцовщицы сопутствовали мне везде и всюду. Только в те дни я понял, каким неоценимым сокровищем может быть иногда одиночество.
Нам ничего не оставалось, как продолжать нашу прогулку в тени деревьев, и вскоре, несмотря на несмолкающую музыку, преследовавшую нас по пятам, мы были захвачены разговором, из которого я узнал, какая ужасная судьба меня ожидает.
— Слушай, теуль, — проговорила Отоми, всегда называвшая меня так, когда нас никто не мог слышать, — в нашей стране есть обычай каждый год выбирать молодого пленника и делать его земным воплощением бога Тескатлипоки, создателя мира. Для этого пленник должен обладать только двумя качествами — благородным происхождением и красотой без пороков и изъянов. Случилось так, что тот день, когда ты явился сюда, был днем избрания нового пленника для воплощения бога, и жрецы избрали тебя, ибо ты знатного рода, и ты прекраснее любого мужчины Анауака. Кроме того, ты из племени теулей, детей Кецалькоатля, слухи о которых давно уже доходят до нас. Мой отец Монтесума страшится их появления больше всего на свете, и потому жрецы решили, что ты сможешь отвратить от нас гнев теулей и умилостивить богов.
Отоми умолкла, словно с трудом подыскивая слова для того, что ей предстояло сказать, но я не обратил на это внимания. Речь ее польстила мне; она внутренне перекликалась с сознанием моего величия и возвышала меня в моих собственных глазах. Ведь прелестная принцесса сама признала, что я прекраснее любого мужчины в Анауаке! До сих пор я считал себя просто довольно приглядным парнем, и уж конечно ни мужчина, ни женщина, ни ребенок еще не говорили мне, что я «прекрасен». Однако чем выше вознесешься, тем страшнее падение. Так было и теперь.
— Теуль, я должна сказать тебе правду, — продолжала Отоми, — хоть и горько мне, что ты узнаешь ее от меня. Целый год ты будешь богом города Теночтитлана, и ничто тебя не будет тревожить. Тебе придется только присутствовать на разных церемониях, и тебя научат некоторым обрядам. Любое твое желание будет законом, и если ты кому-нибудь улыбнешься, улыбка твоя будет благословением божьим, и люди будут на тебя молиться. Сам Монтесума, отец мой, будет относиться к тебе с почтением, как к равному, или даже больше. Все радости будут доступны тебе, кроме женитьбы. Лишь в начале последнего месяца года тебе выберут в жены четырех самых красивых девушек нашей страны.
— А кто их будет выбирать? — спросил я.
— Не знаю, теуль, — поспешно ответила Отоми. — Я не знакома с этим тайным обрядом. Иногда выбирает сам бог, а иногда — жрецы. Бывает по-разному. Но дослушай меня до конца и тогда ты наверняка забудешь все остальное. Месяц ты проживешь со своими женами, и весь этот месяц пройдет в пиршествах и празднествах во всех самых знатных домах города. Но в последний день месяца тебя посадят в царскую барку и вместе с твоими женами повезут к тому месту, что называется «Плавильня Металлов». Там тебя возведут на теокалли, который мы называем «Дом Оружия», где твои жены простятся с тобой навсегда. А затем — увы, теуль, мне трудно тебе это говорить! — ты будешь принесен в жертву тому самому богу, чей дух воплощаешь, великому богу Тескатлипоке. Сердце твое вырвут из груди, голову твою отделят от тела и насадят на кол, прозванный «Столбом для голов»…
Услышав этот страшный приговор, я громко застонал, и ноги мои подкосились так, что я едва не упал на землю. Но затем безудержная ярость овладела мной, и, забыв советы своего отца, я проклял всех жестоких богов Анауака и народ, который им поклоняется, сначала на языках ацтеков и майя, а когда мои знания истощились, продолжал поносить их по-испански и на старом добром английском языке.
Но тут Отоми, которая наполовину поняла меня, а об остальном могла догадаться, в ужасе простерла ко мне руки и взмолилась:
— Прошу тебя, теуль, не проклинай грозных богов, иначе тебя тотчас постигнет жестокая кара! Если тебя услышат, все подумают, что в тебя вошел не добрый дух, а злой, и ты умрешь в страшных мучениях. Но если даже люди ничего не узнают, тебя услышат боги, ибо они вездесущи!
— Пусть слышат! — ответил я. — Это ложные боги, и страна эта проклята, потому что им поклоняется. Идолы ваши обречены, и все идолопоклонники обречены вместе с ними — это я тебе говорю. Пусть меня услышат! Лучше сейчас умереть под пытками, чем целый год выносить пытку приближающейся смерти! Но я умру не один. Море крови, пролитой вашими жрецами, взывает об отмщении к истинному богу, и он за нее воздаст!
Вне себя от ужаса и бессильной ярости я продолжал бушевать. Отоми, испуганная и пораженная, слушала мои ужасные проклятия, а позади нас пищали флейты и плясали танцоры.
Но вдруг я заметил, что Отоми словно перестала меня слышать: взгляд ее был обращен на восток, и выражение у нее было такое, как будто сиз увидела привидение. Я оглянулся. Все небо позади меня было озарено. От самого горизонта до зенита по нему разливалось веером мертвенно-бледное сияние, пронизанное огненными искрами. Казалось, что ручка этого чудовищного веера покоится где-то на земле, а перья его закрывают всю восточную половину неба. Я невольно умолк, пораженный небывалым зрелищем, и в тот же миг вопли ужаса огласили дворец. Все его обитатели высыпали наружу, чтобы взглянуть на пылающее на востоке знамение.
Но вот из дворца в окружении знатнейших мужей вышел сам Монтесума, и я увидел в призрачном свете, что губы его дрожат, а руки жалко трясутся. И тогда свершилось новое чудо. Из безоблачного неба на город опустился огненный шар; на мгновение он задержался на самом высоком храме, вспыхнул, озарив ослепительным светом теокалли и прилегающую к нему площадь, и погас. Но на месте его тотчас поднялось новое пламя — пылал храм Кецалькоатля.
Крики отчаяния и жалобные стоны вырвались у всех, кто наблюдал это зрелище с холма Чапультепека и снизу, из города. Даже я испугался неизвестно чего, хотя и понимал, что сияние, озарявшее небо в эту и следующие ночи, скорее всего было обыкновенной кометой, а пожар в храме могла вызвать шаровая молния. Однако ацтеки, и особенно Монтесума, чей разум был смущен слухами о появлении людей странного белого племени, которые, если верить пророчествам, должны были сокрушить и уничтожить его империю, увидели во всем этом самые дурные предзнаменования. К тому же если у них и оставались еще какие-то сомнения, случай постарался рассеять их окончательно.
Как раз в этот момент, когда все еще стояли, оцепенев от ужаса, сквозь толпу пробрался измученный и запыленный в дальней дороге гонец. Упав ниц перед императором, он вынул из складок своей одежды свиток с письменами и протянул его одному из знатных придворных. Однако нетерпение Монтесумы было так велико, что он, нарушая все обычаи, вырвал свиток из рук советника, развернул и при свете пылающего неба и храма начал читать рисунчатые письмена. Все молча смотрели на него. Вдруг Монтесума громко вскрикнул, отбросил свиток и закрыл лицо руками. Случайно свиток оказался поблизости от меня, и я увидел на нем грубые изображения испанских кораблей и людей в испанских доспехах. Отчаяние Монтесумы сразу стало понятно: испанцы высадились на его землю.
Несколько советников приблизились к императору, пытаясь его утешить, но он оттолкнул их.
— Оставьте меня! — простонал он. — Не мешайте мне оплакивать мой народ. Пророчество свершилось, и Анауак обречен. Дети Кецалькоатля господствуют на моих берегах и убивают моих детей. Оставьте, не мешайте мне плакать!
В это мгновение к нему приблизился второй гонец из дворца.
Отчаяние было написано на его лице.
— Говори, — приказал Монтесума.
— О владыка, пощади уста, несущие скорбную весть. Твоя царственная сестра Папанцин умирает, сраженная ужасными знамениями, — и он показал на пылающее небо.
Услышав, что его любимая сестра лежит на смертном одре, Монтесума молча закрыл лицо краем своей императорской мантии и медленно побрел во дворец.
Багряное зарево по-прежнему искрилось и полыхало на востоке, подобно чудовищному противоестественному закату, а внизу в городе огонь продолжал яростно пожирать храм Кецалькоатля.
Я повернулся к Отоми. Она стояла рядом со мной, пораженная и дрожащая.
— Разве я не сказал тебе, принцесса Отоми, что страна эта проклята?
— Да, ты сказал, теуль, — отозвалась Отоми. — Наша страна проклята.
Затем мы направились во дворец, и даже в этот ужасный час танцоры и музыканты последовали за нами.
Глава XVII
ПРОРОЧЕСТВО ПАПАНЦИН
К утру Папанцин умерла, а вечером того же дня ее с великой пышностью похоронили на кладбище Чапультепека рядом с царственными предками императора. Но это соседство, как мы увидим позднее, пришлось ей не по душе.
В тот же день я узнал, что быть богом не так-то просто. От меня требовалось, чтобы я изучил всевозможные искусства, в частности ужасную музыку, хотя к музыке у меня вообще не было ни малейшей склонности. Но в данном случае моего мнения никто не спрашивал. Мои наставники, почтенные пожилые люди, которые могли бы найти себе более достойное занятие, явились ко мне с лютнями, чтобы я выучился на них играть. Другие принялись обучать меня ацтекской грамоте, поэзии и прочим искусствам, как они сами их понимали, но этому я учился с удовольствием. Однако я не забывал пророческих слов о том, что умножающий свои знания умножает свои горести. И в самом деле, какой мне был толк от всех этих наук, если они в скором времени должны были умереть вместе со мной на жертвенном камне!
Мысль о проклятом жертвоприношения сначала приводила меня в отчаяние. Однако затем я подумал о том, что смертельная опасность уже грозила мне неоднократно, но я всегда выходил сухим из воды. Может быть, мне повезет и на сей раз? Во всяком случае до смерти было еще далеко. Пока я был богом и хотел, независимо от того, погибну я потом или уцелею, прожить отведенный мне срок как бог, наслаждаясь всеми доступными богу благами жизни. И я зажил вовсю. Вряд ли кто-нибудь когда-либо имел больше возможностей, да еще таких необычных, и уж наверняка никто не сумел бы ими лучше воспользоваться. Поистине если бы не тоска по дому и по моей далекой возлюбленной, временами охватывавшая меня с непреодолимой силой, я чувствовал бы себя почти счастливым. Власть моя была безмерна, а все окружающее удивительно я необычно. Но продолжим рассказ.
В течение нескольких дней после смерти Папанцин дворец и весь город были погружены в траур. Распространялись всевозможные странные слухи, смущая умы людей. Каждую ночь пылающее зарево озаряло восточную половину неба, и каждый день приносил все новые знамения и чудеса или новые страшные россказни об испанцах. Большинство считало их белокожими богами, детьми Кецалькоатля, возвратившимися на свою землю, которой некогда владел их предок.
Среди всей этой сумятицы хуже всего себя чувствовал сам император. Последние несколько недель он почти ничего не ел, не пил и совсем не спал. В таком состояния Монтесума отправил гонцов к своему старому сопернику, суровому и мудрому Несауалпилли, вождю союзного государства Тескоко. Он просил его приехать, и Несауалпилли приехал.
Это был старик с проницательными и свирепыми глазами. Мне довелось стать свидетелем его встречи с Монтесумой, потому что в качестве бога я свободно разгуливал по всему дворцу и даже мог присутствовать на совете императора со старейшинами.
Когда оба монарха обменялись приветствиями, Монтесума заговорил с Несауалпилли о знамениях, о появлении теулей и попросил рассеять своей мудростью окружающий его мрак. Несауалпилли погладил свою длинную седую бороду и ответил, что как ни тяжело у Монтесумы на сердце, скоро ему придется еще тяжелее.
— Слушай меня, — сказал старик. — Я знаю, что дни нашей власти сочтены. Я в этом настолько уверен, что готов с тобой сыграть в мяч на все мое царство, которое и ты и все твои предки так хотели завоевать.
— А какой заклад должен поставить я? — спросил Монтесума.
— Мы будем играть так. Ты поставишь трех бойцовых петухов, и если я выиграю, ты отдашь мне их шпоры. А я ставлю все мое царство Тескоко.
— Ставки неравные, — заметил Монтесума. — Петухов много, а царств куда меньше.
— Ну и что же из того? — возразил вождь-старик. — Мы играем против судьбы. Как сложится игра, так и будет. Если ты выиграешь царство — все будет хорошо, а если я выиграю петушиные шпоры — тогда прощай навсегда слава Анауака, ибо народ наш перестанет быть народом и земли наши захватят пришельцы.
— Ну что ж, сыграем и посмотрим, — согласился Монтесума, и они направились к площадке для игры в
тлачтли.
[247]
Игра началась. Сначала выигрывал Монтесума и уже громко похвалялся, что скоро будет повелителем Тескоко.
— Хорошо, если так! — сказал умудренный годами Несауалпилли, и с этого мгновения удача отвернулась от императора ацтеков. Как он ни старался, ему ни разу больше не удалось втолкнуть шар в кольцо, и под конец Несауалпилли выиграл своих петухов. Заиграла музыка, придворные столпились вокруг старого вождя, поздравляли его с победой. Но он в ответ лишь тяжело вздохнул и проговорил:
— Лучше бы я проиграл свое царство, чем выиграл этих птиц, ибо тогда мое царство перешло бы в руки человека из нашего народа. Но — увы! — и мои и его владения достанутся чужеземцам, которые свергнут наших богов и всю нашу славу обратят в ничто!
С этими словами он поднялся и, простившись с императором, отбыл в свою страну. По счастью, старый вождь скоро умер, так что ему не пришлось самому увидеть исполнение своих страшных предсказаний.
На следующий день после отъезда Несауалпилли прибыло новое известие о действиях испанцев, обеспокоившее Монтесуму еще больше. Охваченный страхом, он послал за астрологом, прославленным на всю страну мудростью своих прорицаний. Астролог явился, и Монтесума заперся с ним наедине. Не знаю, что он сказал императору, но, по-видимому, ничего приятного не было в его пророчествах, потому что той же ночью Монтесума приказал своим воинам обрушить дом мудреца, и тот погиб под развалинами собственного жилища.
Два дня спустя после смерти астролога Монтесума, упорно считавший меня одним из теулей, решил, что я могу дать ему необходимые сведения. На закате он послал за мной и предложил прогуляться вместе с ним по саду. Я пришел в сопровождении своих музыкантов, ни на минуту не оставлявших меня в покое, но тут император сказал, что хочет поговорить со мной наедине и повелел всем удалиться. Следом за ним, держась на шаг сзади, я вступил под сень могучих развесистых кедров.
— Теуль, — заговорил наконец Монтесума, — расскажи мне о своих братьях! Зачем они высадились на наших берегах? Но смотри, бойся солгать!
— Они мне не братья, о Монтесума! — ответил я. — Только моя мать была из их племени.
— Я повелел тебе говорить только правду. Ты слышал, теуль? Если твоя мать была из их племени, разве ты не такой же, как они, разве ты не плоть от плоти и не кровь от крови своей матери?
— Как будет угодно повелителю, — проговорил я с поклоном и начал рассказывать об испанцах — об их стране, об их величин, жестокости я ненасытной жажде золота. Монтесума слушал с жадностью, но, по-видимому, не верил и половине того, что я говорил, ибо страх сделал его безмерно подозрительным. Когда я умолк, он снова спросил меня:
— Для чего же они явились в Анауак?
— Боюсь, повелитель, что они пришли, чтобы захватить эту землю или, в лучшем случае, чтобы разграбить все ее сокровища и свергнуть ее богов.
— Что же ты мне посоветуешь, теуль? Как защититься от этих могучих воинов, одетых в металл и скачущих на свирепых диких зверях? У них есть какие-то трубки, грохочущие словно гром, от звуков которого валятся сотни врагов, а в руках у них оружие ив сверкающего серебра. Как бороться с ними? Увы, противиться им невозможно, ибо они — сыновья Кецалькоатля, вернувшиеся, чтобы завладеть своей землей. Я слышал о них с самого детства, я страшился их всю жизнь, и вот сегодня они стоят у моего порога.
— Я всего лишь бог, — ответил я, — но если земной владыка дозволит, я дам ему простой совет. На силу отвечают силой! Теулей мало, и против каждого из них ты можешь выставить тысячу воинов. Напади из них первым, не жди, пока они найдут себе союзников, раздави их сразу!
— И это советует мне тот, чья мать была из племени теулей, — с ехидной усмешкой проговорил император. — Скажи мне еще, советник, как я смогу узнать, что против меня сражаются люди, а не боги? Как я смогу узнать истинные желания и замыслы этик людей или богов, если они не говорят на моем языке, а я не говорю на их языке?
— Это нетрудно сделать, о Монтесума, — ответил я. — Мне знаком их язык. Пошли меня — и я все для тебя узнаю.
Произнося эти слова, я почувствовал, как в сердце моем загорелась надежда. Если бы мне удалось добраться до испанцев, я бы спасся от жертвенного алтаря! А может быть, даже вернулся на родину. Ведь они приплыли на кораблях, и корабли, наверное, поплывут обратно. Пока что мне нечего было жаловаться на свою участь, но, само собой разумеется, больше всего мне хотелось бы снова очутиться среди христиан.
Некоторое время Монтесума молча смотрел на меня, потом ответил:
— Теуль, ты, наверное, принимаешь меня за глупца. Да неужели ты думаешь, что я пошлю тебя к ним, чтобы ты рассказал своим братьям о моем страхе, о моей слабости и показал им все наши уязвимые места? Неужели ты думаешь, мне неизвестно, для чего ты сюда явился? Глупец! Я знаю — ты лазутчик теулей! Ты пробрался к нам, чтобы все разведать о нашей стране! Я узнал об этом в первый же день, и клянусь богом Уицилопочтли, если бы ты не был посвящен Тескатлипоке, твое сердце завтра же дымилось бы на алтаре! Поостерегись же и не давай мне больше лживых советов, иначе ты умрешь гораздо раньше, чем думаешь. Знай, я расспрашивал тебя нарочно, ибо так повелели боги. Я прочел их волю на сердцах сегодняшних жертв и заговорил с тобой, чтобы выведать твои тайные мысли и обратить их против тебя. Ты советуешь мне сразиться с теулями? Так вот, я не буду с ними сражаться. Я встречу их ласковыми словами и подарками, ибо знаю: ты советуешь мне только то, что меня погубит!
Все это Монтесума проговорил негромко, захлебываясь от ярости; он стоял передо мной со скрещенными на груди руками, низко опустив голову, и нервная дрожь сотрясала все его тело. Я испугался не на шутку. Хоть я и был богом, я прекрасно понимал, что достаточно одного кивка земного властелина, чтобы обречь меня на самую мучительную смерть. И тем не менее больше всего в тот момент меня поразила глупость этого человека, во всем остальном столь мудрого и
рассудительного. Он не доверял мне и в то же время слепо верил своим идолам, толкавшим его на верную смерть. Но почему? Только сегодня я нашел ответ на этот вопрос.
Сам Монтесума не был виноват, Неотвратимый рок направлял каждый его шаг, и сама судьба говорила его устами. Боги Анауака были ложными богами. Я знаю теперь, что за их уродливыми каменными изваяниями скрывался живой дьявольски жестокий ум жрецов, — не зря ведь они говорили, что боги любят кровавые человеческие жертвы. Но проклятие тяготело над ними. И когда император вопрошал своих идолов через жрецов, они давали ему лживые советы, обрекавшие на гибель их самих и всех, кто им поклонялся, ибо так было предопределено.
Пока мы говорили, солнце быстро зашло, и все погрузилось во мрак. Только снежные вершины вулканов Попокатепетль и Истаксиуатль все еще были освещены зловещим кроваво-красным заревом.
Никогда еще фигура мертвой женщины, покоящейся в своем вечном гробу на вершине Истаксиуатля, не вырисовывалась с такой четкостью и совершенством, как в ту ночь. Может быть, это была игра воображения, однако я ясно видел гигантское окровавленное женское тело, лежащее на смертном одре.
Но, очевидно, это была не только моя фантазия, потому что когда Монтесума умолк, взгляд его случайно упал на вершину вулкана, и он тоже замер, не в силах отвести от нее глаз.
— Смотри, теуль! — проговорил он, наконец, с горьким смехом. — Смотри! Там покоится душа народа Анауака, омытая кровью и готовая к погребению, Ты видишь, как страшна она даже в смерти?
Но едва он произнес эти слова и повернулся, чтобы уйти, как со стороны горы понесся дикий нечеловеческий вопль, преисполненный такой страшной муки, что у меня кровь застыла в жилах. Монтесума в ужасе уцепился за мою руку, и мы оба уставились на Истаксиуатль, откуда неслись эти неземные рыдания. Нам показалось, что окровавленная, залитая жутким багровым светом фигура спящей женщины приподнялась из своего каменного гроба. Она поднималась медленно, словно пробуждаясь ото сна, и, наконец, встала во весь свой гигантский рост на вершине горы. Дрожа от страха, смотрели мы на пробудившуюся великаншу, закутанную в белоснежные одеяния, словно запятнанные кровью.
Несколько мгновений призрак стоял неподвижно, глядя вниз на Теночтитлан. Затем он внезапно простер к нему руки, жестом, преисполненным сострадания, и в тот же миг ночной мрак поглотил его, и скорбные стоны постепенно затихли вдали.
— Скажи, теуль, — прошептал император, — разве это не ужасно, каждый день видеть подобные знамения? Я боюсь. Прислушайся к стенаниям в городе! Там тоже видели этот призрак. Слышишь, как кричит от страха народ? Слышишь, как жрецы бьют в барабаны, чтобы отвратить от нас проклятие? Плачь, плачь, народ мой! Молитесь, жрецы, и умножайте жертвы, ибо день вашей гибели близок! О Теночтитлан, царь всех городов! Я вижу тебя разрушенным и поруганным. Я вижу дворцы твои почерневшими от пожарищ, храмы твои — оскверненными, прекрасные сады — одичавшими. Я вижу твоих благородных жен наложницами чужеземцев; твоих царственных принцев — их слугами. Каналы твои покраснели от крови детей твоих, дамбы твои усыпаны их обугленными костями. Смерть повсюду, бесчестие — хлеб твой, отчаяние — участь твоя. Ты взрастил меня, царь городов, колыбель моих предков. А ныне я говорю тебе — прощай навсегда!
Так горевал Монтесума среди ночной темноты, громко изливая свою скорбь. Но вот из-за гор выглянула полная луна, и ее тусклое сияние просочилось сквозь ветви кедров, увешанные призрачными бородами лишайников. Оно осветило высокую фигуру Монтесумы, его искаженное горем лицо, его тонкие руки, то взлетающие, то падающие в пророческом экстазе, мои блестящие украшения и кучку замерших от страха придворных и музыкантов, которые на сей раз позабыли о своих дудках. Налетел слабый порыв ветра, печально прошелестел в ветвях могучих деревьев на склонах и у подножия холма Чапультепека и смолк. Никогда еще я не видел более странной и зловещей сцены, таинственной и полной неосознанного ужаса. Монарх заранее оплакивал падение своего народа и своего могущества! Еще ничего не случилось ни с ним, ни с его подданными, а он уже знал, что они обречены, и слова отчаяния вырывались из его сердца, сокрушенного одной лишь тенью грядущих бед.
Но чудеса этой ночи еще не кончились.
Когда Монтесума прокричал в тоске свои пророческие видения, я осторожно спросил, не позвать ли придворных, которые обычно его окружали, но сейчас держались от нас на некотором расстоянии.
— Нет, — ответил император ацтеков. — Я не хочу, чтобы они прочли страдание и страх на моем лице. Они могут бояться, но я должен казаться неустрашимым. Пройдись немного со мной, теуль, и если ты задумал убить меня — убей, я не буду об этом жалеть.
На это я ничего не ответил и молча последовал за Монтесумой; он направился вниз по одной из самых темных тропинок, извивающихся между стволами кедров. Если бы я захотел, я мог бы легко его здесь убить, но что в этом пользы? Кроме того, хотя я и знал, что Монтесума мой враг, сердце мое возмущалось при одной мысли об убийстве.
Милю с лишним император прошагал, не произнося ни слова. Мы шли то в тени деревьев, то по открытому месту среди садов, украшенных чудными цветами, пока не очутились перед воротами, за которыми находилась усыпальница царского дома. Как раз напротив ворот была широкая прогалина, залитая ярким лунным светом. Посреди нее лежало что-то белое, похожее издали на тело женщины, но заметил это я один. Ничего не видя вокруг, Монтесума пристально смотрел на ворота. Наконец он заговорил:
— Эти ворота открылись четыре дня назад для моей сестры Папанцин. И вот я думаю — через сколько дней они откроются для меня?
Когда он заговорил, фигура на траве вздрогнула, словно пробуждаясь ото сна. Она вздрогнула, как снежная женщина на горе, она так же приподнялась, так же встала во весь рост и так же простерла руки. Теперь Монтесума увидел ее и задрожал, и я почувствовал, что меня тоже бьет дрожь.
Женщина — ибо это была женщина — медленно приближалась к нам. Уже можно было разглядеть, что она облачена в смертные одежды. Но вот она подняла голову, и лунный свет упал на ее лицо. Монтесума дико вскрикнул, и я закричал вместе с ним: мы узнали тонкое бледное лицо принцессы Папанцин, той самой Папанцин, что была погребена здесь четыре дня назад.
Ступая легко и неслышно, словно во сне, она шла к нам, пока не остановилась перед кустом, тень от которого нас скрывала. Здесь Папанцин — или дух Папанцин — посмотрела прямо на нас открытыми, но ничего не видящими слепыми глазами и произнесла голосом Папанцин:
— Монтесума, брат мой, ты здесь? Я чувствую, что ты рядом, но не вижу тебя.
Тогда Монтесума вышел из тени и встал лицом к лицу с привидением.
— Кто ты? — проговорил он. — Кто ты, принявшая облик мертвой и носящая одеяние мертвой?
— Я Папанцин, — ответила та. — Я воскресла из мертвых, чтобы принести тебе весть, брат мой Монтесума.
— Какую весть ты несешь мне? — хриплым голосом спросил император.
— Весть о гибели, брат мой. Царство твое падет, скоро ты умрешь, а вместе с тобой — десятки и десятки тысяч твоих подданных. Четыре дня я была среди мертвых и там я видела твоих ложных богов. Это не боги, а дьяволы! Там же я видела тех, кто им поклоняется, и жрецов, которые им служат. Все они осуждены на муки невыносимые. Народ Анауака обречен, потому что он чтит этих дьявольских идолов.
— Папанцин, сестра моя, неужели у тебя нет для меня ни слова утешения?
— Ни слова, — ответила она. — Если ты отречешься от ложных богов, ты, может быть, спасешь свою душу, но свою жизнь и жизнь своего народа тебе уже не спасти.
После этого Папанцин повернулась и скрылась в тени деревьев; я слышал, как ее смертные одеяния прошелестели по траве.
Безудержная ярость охватила вдруг Монтесума.
— Будь же ты проклята, сестра моя Папанцин! — закричал он громовым голосом. — Для чего ты воскресла? Неужели только для того, чтобы принести мне эту черную весть? Если бы ты принесла мне надежду, если бы указала путь к спасению — я бы с радостью тебя приветствовал. А теперь — уходи назад во мрак, и пусть вся тяжесть земли придавит твое сердце навечно! А мои боги — им поклонялись мои отцы, и я буду им поклоняться до конца. Пусть даже они отвернутся от меня, я их все равно не оставлю! Боги разгневаны, ибо жертвы оскудевают на алтарях. Отныне я их удвою! Я прикажу положить на алтари всех жрецов, потому что они не могут умилостивить богов.
Монтесума неистовствовал, как слабый человек, обезумевший от ужаса. Знать и придворные, следовавшие за нами в отдалении, столпились теперь вокруг него, испуганные и недоумевающие.
Наконец, Монтесума разодрал на себе царское одеяние и, вырывая клочья волос из головы и бороды, в судорогах покатился по земле. Придворные подхватили его и унесли во дворец.
Три дня и три ночи императора никто не видел. Однако то, что он говорил о жертвоприношениях, оказалось не пустыми словами, ибо со следующего утра количество жертв было удвоено по всей стране. Тень креста уже пала на алтари Анауака, но к небесам все еще вздымался дым жертвоприношений, а с вершин теокалли по-прежнему слышались страшные крики пленников. Час дьявольских богов уже пробил, но они все еще собирали свою последнюю кровавую жатву, и жатва их была изобильной.
Я, Томас Вингфилд, видел эти знамения собственными глазами, но чем они были — предупреждением, ниспосланным свыше, или просто случайным явлением природы — сказать не берусь. Всю страну в те дни охватил ужас, и вполне возможно, что мятущийся разум людей принимал за вещие знаки то, на что в другое время никто не обратил бы внимания.
Что же касается воскресения Папанцин, то это истинная правда, хотя скорее всего она вовсе не умирала, а просто была погружена в глубокий обморок. С той ночи она уже не появлялась, и сам я больше ее не встречал. Однако мне говорили, что впоследствии Папанцин приняла христианство и часто рассказывала об удивительных и странных вещах, которые она видела в царстве смерти.
[248][249]
Глава XVIII
ВЫБОР НЕВЕСТ
Со дня моего превращения в бога Тескатлипоку до вступления испанцев в Теночтитлан прошло несколько месяцев, и все это время, город был охвачен тревогой. Снова и снова Монтесума слал к Кортесу послов со щедрыми дарами, с золотом и драгоценными каменьями, упрашивая его удалиться. Безумный император не понимал, что, выставляя напоказ свои огромные богатства, он только дразнит стервятника, привлекая его к своему гнезду.
Кортес отделывался от его послов ничего не стоящими вежливыми заверениями и такими же дешевыми безделушками. И это — было все.
Но вот испанцы двинулись в глубь страны, и Монтесума с ужасом узнал о разгроме воинственного племени тласкаланцев. Тласкаланцы были его извечными злейшими врагами, но до сих пор они являлись преградой между ацтеками и белыми завоевателями. Затем пришла весть о том, что побежденные тласкаланцы превратились в союзников и слуг своих недавних противников, и теперь тысячи свирепых тласкаланских воинов идут вместе с испанцами на священный город Чолулу. Прошло еще немного времени, и повсюду разнесся слух о кровавой бойне в Чолуле, где победители свергли всех святых, или, вернее, святотатственных богов, этого города с их пьедесталов.
Об испанцах рассказывали всяческие чудеса. Шептались об их мужестве я силе, об их неуязвимых доспехах, об их оружии, извергающем гром во время сражений, о свирепых зверях, на которых они скакали. Однажды Монтесуме доставили головы двух белых людей, убитых в одной ив схваток, — две устрашающие огромные волосатые головы, а вместе с ними — голову лошади. При виде этих чудовищных останков Монтесума едва не потерял сознание от страха, но все же приказал выставить их в большом храме напоказ и объявить народу, что подобная судьба ожидает каждого, кто посмеет вторгнуться в Анауак.
Тем временем в делах империи царили разброд и смятение. Каждый день собирались советы знати, верховных жрецов и вождей соседних дружественных племен. Одни говорили одно, другие — другое, а в конечном счете оставались лишь неуверенность и преступная нерешительность. Если бы Монтесума прислушался в те дни к голосу великого воина Куаутемока, Анауак не был бы сейчас испанским владением, ибо Куаутемок снова и снова убеждал Монтесуму отбросить все его страхи и, пока еще не поздно, объявить теулям открытую войну. Довольно послов и подарков! Надо собрать все бесчисленное войско ацтеков и раздавить врага в горных проходах!
Но — увы! — на все его уговоры Монтесума неизменно отвечал:
— Ни к чему все это, племянник. Можно ли бороться против этих людей, если сами боги за них. Если боги захотят, они вступятся за нас, а если нет — горе нам! О себе я не думаю, но что будет с моим народом? Что будет с женщинами и детьми, что будет с больными и стариками? Горе нам, горе!
После этого он закрывал лицо и принимался стонать и плакать, как малый ребенок. Куаутемок покидал его, не находя слов от ярости при виде подобной глупости великого императора. Но что он мог сделать? Так же, как и я, Куаутемок полагал, что само небо лишило Монтесуму разума, чтобы покарать и уничтожить Анауак.
Здесь следует сказать, что, хотя мое положение бога и позволяло мне все знать и все видеть, я, Томас Вингфилд, оставался вместе с тем только жалкой игрушкой, увлекаемой волной великих событий, которые в течение двух последующих поколений стерли державу ацтеков с лица земли. Правда, я был игрушкой, вознесенной на вершину этой волны, но власти у меня было ровно столько же, сколько у клочка пены на гребне морского вала. Монтесума принимал меня за шпиона и не верил ни одному моему слову; жрецы смотрели на меня как на бога и как на будущую жертву; только мой друг Куаутемок да еще Отоми, тайно любившая меня, все-таки доверяли мне, и с ними я часто беседовал обо всем, объясняя им истинный смысл того, что происходило на наших глазах. Но оба они тоже были бессильны.
Утратив разум, Монтесума все еще сохранял всю полноту власти и дрожащей рукой направлял корабль империи то туда, то сюда; казалось, что это гигантское судно покинуто всеми матросами и несется по воле стихий прямо навстречу гибели.
Ужас перед грядущим охватил поголовно всех. Но несмотря на это, а может быть, именно поэтому люди безудержно предавались наслаждениям, отрываясь от них только для свершения религиозных обрядов. В те дни никто не пропускал ни одного празднества, и ни один алтарь не оставался пустым. Подобно реке, убыстряющей бег свой по мере приближения к пропасти, в которую ей предстоит низвергнуться, народ Анауака, словно предвидя скорую гибель, пробудился ото сна и зажил напряженной лихорадочной жизнью. С утра до вечера с алтарей на вершинах теокалли слышались вопли жертв, и с вечера до утра улицы оглашала нестройная дикая музыка. «Заморские боги идут на нас, — говорили люди. — Давайте же пировать и пить, потому что завтра мы умрем!» И вот самые добродетельные женщины пускались в безудержное распутство, самые благородные мужи, дорожившие честью своего имени, становились подлецами, и даже дети в те дни шатались пьяные по улицам города, хотя это для ацтеков — неслыханное преступление!
Монтесума покинул Чапультепек и вместе со всем своим двором перебрался во дворец на обширной площади напротив большого теокалли. Этот дворец был настоящим городом внутри города. Под его кровлями по ночам собиралось более тысячи человек, не говоря уже о всевозможных карликах и уродцах, о сотнях редкостных птиц в птичнике и множестве диких зверей в клетках. Здесь, в этом дворце, я пировал каждый день с кем хотел, а когда мне надоедали пиршества, облачался в сверкающие одеяния и в сопровождении толпы юных слуг и знатных мужей выходил на улицы, наигрывая на ацтекской лютне (до какой-то степени я овладел этим ненавистным инструментом). Народ с криками выбегал из домов и склонялся передо мной, дети осыпали меня цветами, девушки плясали вокруг, целуя мне руки и ноги, и вскоре за мной уже двигалась тысячная толпа. И я тоже плясал и вопил, как юродивый, потому что в те дни среди всеобщего фанатизма меня охватило какое-то странное безумие. Я старался заглушить страх, я хотел забыть о том, что обречен на жертвоприношение и что каждый день приближает к моему сердцу окровавленный жреческий нож.
Я хотел забыть, но — увы! — это было не в моей власти. Сколько бы я ни пил, пары
мескаля и
пульке[250] мгновенно улетучивались из моей головы; ароматы цветов, красота женщин и преклонение народа больше не волновали меня; неотступно, неотвязно думал я о своей обреченности, с тоской вспоминая родной дом и далекую любимую. В те дни мне казалось, что сердце мое не выдержит, и если бы не доброта Отоми, я бы, наверное, наложил на себя руки. Но прекрасная и величественная дочь Монтесумы всегда была рядом со мной. Она находила тысячи способов отвлечь меня и успокоить, а время от времени с ее уст срывались неясные слова надежды, от которых кровь начинала быстрее пульсировать в моих жилах.
Я хочу напомнить, что, когда я впервые встретил Отоми при дворе Монтесумы, она показалась мне очень красивой и привлекательной. Но сейчас, хотя я по-прежнему находил ее такой же прекрасной, в моем окаменевшем от ужаса сердце не было места для нежных чувств ни к Отоми, ни к какой-либо другой женщине. Когда я не был опьянен хмелем или поклонением толпы, все мои помыслы устремлялись к небесам: я старался примирить с ними свою душу, что, по правде говоря, было нелегко.
Я часто беседовал с Отоми, рассказывая ей о нашей вере и прочих вещах, как когда-то рассказывал Марине, которая теперь была, по слухам, любовницей и переводчицей Кортеса, предводителя испанцев. Отоми сосредоточенно слушала, не сводя с меня своих нежных глаз, но не больше, ибо скромность этой прекраснейшей из женщин можно было сравнить только с ее мужеством и красотой.
Так продолжалось до тех пор, пока испанцы не выступили из Чолулы на Теночтитлан.
Как-то утром я сидел в саду с лютней в руках. Знатные мужи из моей свиты и мои наставники о чем-то оживленно разговаривали, держась на почтительном расстоянии. Со своего места мне был виден двор, где ежедневно собирался императорский совет, и я заметил, что, когда вожди удалились, по двору начали сновать жрецы, а затем показалась группа красивых девушек в сопровождении нескольких женщин средних лет.
Появился принц Куаутемок и подошел ко мне. В последнее время он не часто улыбался, но сегодня Куаутемок с улыбкой спросил, знаю ли я, что там происходит. Я ответил, что не знаю, да и знать не хочу, должно быть, Монтесума собирает новые «подношения», чтобы отправить их своим испанским хозяевам.
— Думай, о чем говоришь, теуль! — запальчиво проговорил Куаутемок. — Даже если бы ты сказал правду, я бы заставил тебя проглотить свои слова и не поглядел бы, что в тебе дух Тескатлипоки! Только моя любовь спасает тебя.
Затеи, немного успокоившись, он продолжал:
— Увы, безумие моего дяди привело к тому, что такие речи стали возможны. Ах, если бы я был императором Анауака! Не прошло б и недели, как головы всех этих теулей из Чолулу уже украшали бы карнизы вон того храма!
— Думай, о чем говоришь, принц, — насмешливо ответил я. — Если кое-кто услышит твои слова, тебе придется их проглотить самому. Но когда-нибудь ты сделаешься императором, и тогда мы посмотрим, как ты справишься с теулями. Во всяком случае другие посмотрят, потому что я-то уже этого не увижу. Но что там происходит? Может быть, Монтесума выбирает себе новых жен?
— Да, он выбирает жен, но только не для себя. Знай, теуль, тебе осталось недолго жить. Поэтому Монтесума вместе со жрецами уже выбирает тех, кто станут твоими женами.
— Моими женами? — крикнул я, вскакивая на ноги. — Женами того, кто обручен со смертью? Что мне теперь в любви и в женитьбе! Пройдет неделя, другая — и моим брачным ложем станет алтарь. Ах, Куаутемок, ты говоришь, что любишь меня. Я спас тебе жизнь. Если ты меня любишь, спаси меня теперь. Ведь ты поклялся это сделать.
— Я поклялся сделать все, что в моей власти, и готов отдать за тебя жизнь, теуль. Я готов сдержать свое слово, ибо не все ценят жизнь так высоко, как ты, мой друг. Но помочь тебе я все равно не смогу. Ты посвящен богам, и умри я хоть тысячу раз, это не изменит твоей судьбы. Только небо может спасти тебя, если захочет. Поэтому утешься, теуль, и когда придет час — умри мужественно. Твоя участь ничем не хуже моей и многих других, ибо смерть ожидает нас всех. А теперь — прощай!
Когда принц удалился, я покинул сады и ушел в свои покои, где обычно принимал тех, кто приходил на поклонение к богу Тескатлипоке, как меня называли. Здесь я сел на свое золотое ложе и окутался табачным дымом. По счастью, я был один. Без моего позволения сюда никто не осмеливался входить.
Но вот главный из моих слуг объявил, что кто-то желает со мной говорить. Я был измучен своими мыслями, и чтобы хоть как-нибудь отвлечься, склонил голову в знак согласия. Слуга вышел, и передо мной очутилась закутанная женщина. С удивлением посмотрев на нее, я приказал ей открыть лицо и говорить. Женщина повиновалась, и я увидел принцессу Отоми.
Ничего не понимая, я встал ей навстречу. Обычно принцесса никогда не приходила ко мне одна, но я подумал, что у нее ко мне дело, а может быть, она выполняет какой-нибудь неизвестный мне обряд.
— Прошу тебя, сядь, — смущенно проговорила Отоми. — Тебе не подобает стоять передо мной.
— Отчего же? — спросил я. — Если бы я даже не уважал тебя, как принцессу, я все равно воздал бы должное твоей красоте.
— Довольно слов! — прервала меня Отоми жестом гибкой руки. — Я пришла сюда, о Тескатлипока, по древнему обычаю, ибо я несу тебе весть. Те, кто станут твоими женами, избраны. Я должна назвать тебе их имена.
— Говори, принцесса Отоми?
— Это… — и здесь она назвала имена трех девушек. Я знал, что они были первыми красавицами в стране.
— Мне показалось, что их должно быть четыре, — проговорил я с горькой усмешкой. — Или у меня отняли четвертую жену?
— Их четыре, — ответила Отоми и снова умолкла.
— Говори же! — вскричал я. — Скажи мне, какую еще несчастную девку выбрали в жены мошеннику, обреченному на жертвоприношение?
— Тебе выбрали одну девушку высокого рода, носившую иные титулы, чем те, которыми ты ее награждаешь, о Тескатлипока.
Я вопросительно взглянул на нее, и Отоми тихо проговорила:
— Четвертая и первая среди всех — это я, Отоми, принцесса племен отоми, дочь Монтесумы.
— Ты! — воскликнул я, падая на подушки ложа. — Неужели ты?
— Да, я. Слушай! Я была избрана жрецами, как самая красивая девушка Анауака, хоть я и недостойна такой чести. Мой отец, император, пришел в ярость и сказал, что ни за что на свете его дочь не станет женой пленника, который должен умереть на жертвенном алтаре. Но жрецы ответили ему, что в такое время, когда боги разгневаны, он не должен требовать исключений для своей дочери. «Разве знатнейшая женщина страны не достойная жена для бога?» — спросили они. И тогда мой отец согласился и сказал, что пусть будет так, как я пожелаю. И я сказала вслед за жрецами, что в нашей юдоли скорби самая гордая должна унизиться до праха под ногами и стать женой пленного раба, названного богом и обреченного на жертвоприношение. Так я, принцесса Отоми, согласилась стать твоею женой, о Тескатлипока! Но если бы я знала тогда то, что читаю сейчас в твоих глазах, я бы, наверное, не согласилась. В своем унижении я надеялась обрести любовь хотя бы на краткий миг, чтобы затем умереть рядом с тобой на алтаре, ибо обычай моего народа, если я захочу, дает мне на это право. Однако теперь я вижу — ты мне не рад. Отступать уже поздно, но ты можешь не бояться. У тебя будут другие, а я тебя не потревожу. Я сказала все, что должна была сказать. Могу я теперь удалиться? Торжественное бракосочетание назначено через двенадцать дней, о Тескатлипока!
Поднявшись с ложа, я взял Отоми за руку и проговорил:
— Благодарю тебя, благородная душа! Если бы не ты с Куаутемоком, если бы не ваши заботы и доброта, которыми вы меня окружили, я бы, наверное, давно уже погиб. Но ты хочешь утешать меня до последнего мгновения, ты даже решила умереть вместе со мной, если только я правильно тебя понял. Но почему, скажи мне, Отоми? В нашей стране женщина должна полюбить мужчину небывалой любовью, чтобы решиться разделить с ним ложе, ожидающее меня вон на той пирамиде. Я не могу поверить, чтобы ты, достойная любого властелина, отдала свое сердце жалкому рабу! Как истолковать мне твои слова, принцесса Отоми?
— Ищи ответ в своем сердце, — прошептала она, и рука ее дрогнула в моей руке.
Я посмотрел на Отоми: она была прекрасна! Я подумал о ее преданности, о ее самоотверженности, не отступившей перед самой ужасной из смертей, и дуновение нежности, сестры любви, коснулось моей души. Но даже в этот миг передо мной встал английский сад, образ девушки-англичанки, с которой я простился под дитчингемским буком, и я вспомнил клятвы, которыми мы тогда обменялись. Я знал, что она была жива к верна мне. И я подумал, что, пока я жив, я должен хранить ей верность, хотя бы в душе. Мне придется жениться на этих индеанках, и я женюсь на них, но если я хоть однажды скажу Отоми, что люблю ее, я нарушу клятву. А Отоми нужна любовь, и на меньшее она не согласится. И как я ни был взволнован, как ни велико было искушение, я не сказал ей слов, которых она ждала.
— Присядь, Отоми, — проговорил я. — Присядь и выслушай меня. Ты видишь этот золотой перстень?
Я снял с пальца Лилино колечко и показал ей:
— Видишь надпись внутри кольца?
Отоми кивнула головой, но не произнесла ни слова. В глазах ее я увидел страх.
— Я прочту тебе эту надпись, Отоми, — сказал я и перевел на ацтекский язык трогательное двустишие:
Пускай мы врозь,
Зато душою вместе.
Только тогда Отоми заговорила.
— Что означает эта надпись? — спросила она. — Ведь я понимаю только наши письмена-рисунки, теуль.
— Она означает, Отоми, что в далекой стране, откуда я пришел, живет одна женщина. Она любит меня, и я люблю ее.
— Значит, она твоя жена?
— Нет, Отоми, она мне не жена, но она обещана мне в жены.
— Она обещана тебе в жены, — горестно повторила Отоми. — Значит, так же, как и я. В этом мы с ней равны, теуль. Разница только в том, что ее ты любишь, а меня — нет. Ты это хотел мне сказать? В таком случае не трать больше слов — я все поняла. Но если я потеряла тебя, то и она потеряет. Между тобой и твоей любимой катит волны великое море с бездонными глубинами, между вами встал жертвенный алтарь и всепожирающая смерть. А теперь позволь мне уйти, теуль. Я должна стать твоей женой, это уже неизбежно, но я не буду тебе слишком докучать, и скоро все это кончится. Ты отправишься в Звездный Дом, и я буду молиться, чтобы ты нашел там, что ищешь. Все эти месяцы я старалась вдохнуть в тебя надежду, найти выход, и мне уже казалось, что я его нашла. Но я ошиблась, и теперь все кончено. Если бы ты от души сказал, что любишь меня, было бы много лучше для нас обоих; если ты скажешь это перед самым концом, нам еще может быть хорошо, однако об этом я тебя не прошу. Не надо лжи! Я ухожу, теуль, но хочу сказать тебе перед уходом: сейчас я уважаю тебя больше, чем раньше, за то, что ты осмелился мне, дочери Монтесумы, высказать всю правду, когда солгать было так легко и куда безопаснее. Эта женщина за морями должна быть тебе благодарна. Я не желаю ей ничего худого, но между мной и ею отныне вражда не на жизнь, а на смерть. Мы с ней чужие и останемся чужими, но она касалась твоей руки так же, как я прикасаюсь к ней сейчас; ты соединил нас и ты сделал нас врагами. Прощай, мой будущий муж! Мы больше не встретимся до того дня, когда «несчастная девка» будет отдана в жены «мошеннику». Ты сам так сказал, теуль!
С этими словами Отоми встала, закуталась с головой в свои одеяния и медленно вышла из комнаты, оставив меня в крайнем смущении. Только глупец мог отвергнуть любовь этой царицы женщин, и теперь, когда я так поступил, меня терзало раскаяние. Я спрашивал себя: смогла бы Лили снизойти с высоты подобного величия, сбросить пурпур императорской мантии и лечь рядом со мной на окровавленный жертвенный камень? Наверное, нет, потому что подобной дикой самоотверженности не встретишь среди женщин нашего мира. Лишь дочери Солнца любят с такой огромной полнотой и ненавидят так же страстно, как любят. Им не нужны жрецы, чтобы освятить любовные узы, но если эти узы станут им ненавистны, их не удержат никакие мысли о долге. Желание, чувство — для них единственный закон, и они повинуются ему слепо. Ради удовлетворения своей страсти они готовы пойти на все, вплоть до смерти, вплоть до полного самозабвения.
Глава XIX
ЧЕТЫРЕ БОГИНИ
Прошло еще немного времени, и вот наступил день, когда Кортес со своими завоевателями вступил в Теночтитлан. Не стану описывать всего, что творили испанцы в городе, ибо это дело историка, а я рассказываю лишь свою собственную историю. Поэтому я буду говорить лишь о том, что касается меня лично.
Мне не довелось видеть самой встречи Кортеса с Монтесумой. Я видел только, как император облачился в самые великолепные одеяния и отбыл в сопровождении знатнейших мужей, подобный Соломону в сиянии своей славы. Но думаю, что ни один раб не шел к жертвенному алтарю с таким тяжелым сердцем, какое было у Монтесумы в тот злосчастный день. Безумие погубило его, и, наверное, он сам понимал, что идет навстречу своей судьбе.
Позднее, уже под вечер, я снова увидел императора: в золотом паланкине он направлялся во дворец, выстроенный его отцом, Ахаякатлем, и расположенный шагах в пятистах от собственного дворца Монтесумы, как раз напротив, по западную сторону от большого храма. Вслед за этим послышались крики толпы, ржание лошадей, голоса вооруженных солдат, и я увидел из своих покоев испанцев, двигавшихся по главной улице. Сердце мое радостно забилось: ведь это были христиане!
Впереди на коне ехал, закованный в богатые доспехи, предводитель испанцев, Кортес, человек среднего роста, с благородной осанкой и задумчивыми, но все подмечающими глазами. За ним, некоторые верхом, но большей частью в пешем строю, двигались солдаты его маленькой армии. Завоеватели с изумлением озирались вокруг, переговариваясь по-испански. Их была всего горсточка, бронзовых от солнца, израненных в битвах и одетых почти в лохмотья. Глядя на этих зачастую даже плохо вооруженных людей, я мог только восхищаться их непреклонным мужеством, которое проложило дорогу сквозь тысячные толпы врагов и, несмотря на болезни и беспрестанные схватки, позволило им добраться до самого сердца империи Монтесумы.
Рядом с Кортесом, держась рукой за его стремя, шла красивая индеанка в белом платье и венке из цветов. Проходя мимо дворца, она повернула голову — и я тотчас ее узнал: то была моя старая знакомая, Марина. Она принесла своей стране неисчислимые беды, но, несмотря на это, по-видимому, была счастлива, согретая славой и любовью своего повелителя.
Пока испанцы проходили мимо, я пристально вглядывался в их лица со смутной и злой надеждой. Конечно, смерть могла разделить нас навсегда, но все же я был почти уверен, что увижу среди конкистадоров
[251] своего врага. Неясный инстинкт говорил мне, что он жив, и я знал: при первой же возможности де Гарсиа присоединится к этому походу — запах крови, золота и грабежа должен был привлечь его жестокое сердце. Однако среди тех, кто входил в этот день в Теночтитлан, я не увидел его.
Ночью я встретился с Куаутемоком и спросил, как идут дела.
— Хорошо для коршуна, который забрался в гнездо голубки, — с горькой усмешкой ответил принц, — но для голубки совсем скверно. Сейчас мой дядюшка Монтесума воркует там, — принц указал на дворец Ахаякатля, — и предводитель испанцев воркует вместе с ним. Но я слышал клекот ястреба в его голубином ворковании. Скоро мы увидим в Теночтитлане страшные дела!
И он был прав. Через неделю испанцы предательски захватили Монтесуму и сделали своим пленником. Они держали императора в предоставленном им дворце Ахаякатля, и солдаты стерегли его день и ночь.
Дальнейшие события следовали одно за другим. Вожди прибрежных племен взбунтовались и убили нескольких испанцев. По наущению Кортеса Монтесума вызвал их в Теночтитлан, а когда они явились, испанцы сожгли непокорных живьем на дворцовой площади. Но это было еще не все. Самого Монтесуму, закованного в цепи, заставили присутствовать при казни. Император ацтеков пал так низко, что на него надели кандалы, словно на обыкновенного вора. Тотчас после этого унижения Монтесума поклялся в верности королю Испании, а вскоре обманом завлек и передал в руки испанцам Кокамацина, правителя Тескоко, задумавшего напасть на захватчиков. Затем Монтесума вручил испанцам все накопленное им золото и все императорские сокровища стоимостью в сотни и сотни тысяч английских фунтов. И народ все это терпел, потому что люди были поражены и по привычке продолжали повиноваться приказам своего плененного императора.
Но когда Монтесума позволил испанцам устроить богослужение в одном ив святилищ большого храма, поднялся ропот возмущения, и тысячи ацтеков охватила безмолвная ярость. Она носилась в воздухе, ее можно было услышать в каждом слове, и голос ее был подобен отдаленному рокоту бушующего океана. Тучи сгустились. Буря могла разразиться с минуты на минуту.
Несмотря на все это, жизнь моя протекала по-прежнему, за исключением того, что теперь мне не позволяли выходить из дворца, опасаясь, как бы я не связался каким-нибудь способом с испанцами, хотя те даже не подозревали, что ацтеки захватили и обрекли на жертвоприношение белого человека. Кроме того, я в эти дни почтя не встречался с принцессой Отоми. После нашего странного объяснения в любви первая из назначенных мне невест избегала меня, и, когда мы все же оказывались вместе за трапезой или в саду, она говорила только о самых общих предметах или о государственных делах. Так продолжалось до нашего бракосочетания. Я помню, что оно произошло за день до страшной гибели шестисот знатнейших ацтеков, собравшихся по случаю празднества в честь Уицилопочтли.
В день моей свадьбы мне воздавали величайшие почести, как настоящему богу. Самые высокопоставленные люди города приходили на поклонение и окуривали меня ароматами, так что под конец я почувствовал тошноту от всех этих фимиамов.
Несмотря на то что страна была охвачена горем, жрецы по-прежнему неукоснительно выполняли все обряды, и жестокость их нисколько не уменьшилась. На меня возлагали большие надежды, люди верили, что, принеся меня в жертву, они отвратят от себя гнев богов, потому что я в их глазах был одним ив теулей.
На закате в мою честь было устроено роскошное пиршество, продолжавшееся более двух часов. По окончании его все присутствующие поднялись и хором начали меня славить:
— Слава тебе, о Тескатлипока! Да будешь ты счастлив здесь, на земле, и да будешь ты счастлив там, в Доме Солнца! Когда ты придешь туда, вспомни о нас! Вспомни, что мы почитали тебя, вспомни, что мы отдавали тебе все наилучшее, и прости нам наши грехи. Слава тебе, о Тескатлипока!
Затем вперед выступили двое знатных старейшин и, засветив факелы, провели меня в великолепную залу, где я до этого ни разу не бывал. Здесь они переодели меня в еще более роскошный наряд из тончайшей хлопковой ткани с вышивками из сверкающих перьев колибри. На голову мне возложили венец из цветов, а на шею и на запястья — изумрудное ожерелье и браслеты с каменьями невиданной величины и ценности. В этом наряде, который больше подошел бы какой-нибудь красотке, я чувствовал себя самым разнесчастным щеголем…
Когда мое облачение было завершено, все факелы внезапно погасли, и на мгновение воцарилась тишина. Затем издалека донеслись приближающиеся женские голоса: девушки пели свадебную песню, по-своему очень красивую, однако я затрудняюсь ее описать.
Песня кончилась. В темноте слышалось теперь только шуршание одежд и тихий шепот. Но вот из мрака прозвучал мужской голос:
— Вы здесь, избранницы неба?
— Мы здесь, — откликнулся женский голос. Мне показалось, что это была Отоми.
— О девы Анауака! — снова заговорил из темноты незримый человек. — О Тескатлипока, бог среди богов! Внимайте мне! Вам, девы, оказана великая честь. Небо вас наделило знатностью, добродетелями и красотой четырех великих богинь, и небо избрало вас в спутницы великому богу, вашему создателю и властелину, соизволившему посетить нас на короткий срок, после которого он возвратится в свой дом, в Обиталище Солнца. Будьте же достойны этой чести! Угождайте ему и ублажайте его, чтобы он снизошел к вашим ласкам и, когда настанет час возвращения на небеса, унес с собой добрую память и самые лучшие мысли о вашем народе. В этой жизни вам недолго придется быть рядом с ним, ибо дух его, подобно птице в клетке, уже расправляет крылья и скоро вырвется из темницы плоти, чтобы нас покинуть. Близок день, когда он вновь обретет свободу! Если вы захотите, одной из вас будет дозволено последовать за ним в его светлый дом и вознестись вместе с ним в Обиталище Солнца. Но я говорю вам всем, последуете вы за ним или останетесь здесь, чтобы оплакивать его до конца своих дней, — любите его и ублажайте его, будьте с ним нежны и приветливы, иначе вас ожидает кара и в этой жизни и в той, иначе гнев небес будет преследовать вас и весь наш народ. А тебя, о Тескатлипока, мы просим принять этих девушек, наделенных именами и достоинствами своих небесных богинь-покровительниц, ибо они знатнее и прекраснее всех дев Анауака, а одна из них — дочь нашего императора. Конечно, все они не совершенны, ибо истинное совершенство возможно только в твоем небесном царстве. Здесь нет совершенных женщин, и они лишь тени, лишь воплощения высоких богинь, твоих настоящих жен. Увы, мы отдаем тебе самое лучшее, и у нас нет иного. Но мы надеемся, что, когда ты покинешь нас, ты не будешь думать плохо о женщинах этой страны и благословишь их с высоты, ибо у тебя останутся приятные воспоминания о тех, которые на земле были названы твоими женами.
Голос умолк, затем зазвучал снова:
— Женщины, именами всех богов и вашими божественными именами — Хочи, Хило, Атла, Клихто
[252] — соединяю вас с нашим создателем Тескатлипокой на все время его пребывания на земле! Бог воплощенный, создавший вас, берет вас в жены! Да будет завершен обряд, и да будет счастлив ваш брак. Но знайте — радость ваша не вечна! Взгляните сейчас на то, что грядет впереди!
Едва отзвучали эти слова, в дальнем конце зала вспыхнуло множество факелов, озарив ужасающую сцену. Там, на жертвенном камне, лежал человек. Я до сих пор не знаю, что это было — живой человек или восковая фигура, но либо он был раскрашен, либо слеплен из воска, потому что кожа у него была светлая, как у меня. Пять жрецов держали его за руки, за ноги и за голову, а шестой стоял над ним, сжимая двумя руками обсидиановый нож. Жрец взмахнул ножом, и, когда лож, сверкая, начал опускаться, все факелы вдруг погасли. Послышался глухой удар, протяжный стон прозвучал из темноты, и все стихло.
Но вот невесты снова затянули свадебную песню, однако после того, что я видел и слышал мгновение назад, даже этот странный, дикий и нежный напев уже не мог меня взволновать.
Они пели в темноте все громче и громче, пока в дальнем углу не загорелся один факел, потом второй, еще и еще, но я так и не заметил, кто их зажигал. Наконец весь зал был залит ярким светом. Алтарь, жертва, жрецы — все исчезло. Мы остались одни — я и четыре моих жены.
Это были высокие красивые женщины, облаченные в белые одежды невест, украшенные цветами и драгоценными каменьями. На лбу у каждой был начертан символ одной из четырех богинь, и воистину Отоми, самая статная и прекрасная из всех, казалась настоящей богиней. Одна за другой они подходили ко мне, с улыбкой преклоняли колени и говорили, целуя мне руки:
— Я избрана, чтобы стать на время твоей женой, о Тескатлипока. Я счастливейшая из жен. Пусть сделают добрые боги так, чтобы я понравилась тебе и ты полюбил меня так же сильно, как я почитаю тебя!
Проговорив эти слова, девушка отходила в сторону, чтобы не слышать того, что будет говорить другая.
Последней приблизилась ко мне Отоми. Она преклонила колени, произнесла священную формулу, а затем негромко добавила:
— Я говорила с тобой, как невеста и богиня должна говорить со своим мужем и богом Тескатлипокой. А теперь, теуль, я говорю с тобой, как женщина с мужчиной. Ты не любишь меня и, если дозволишь, мы не будем мужем и женой, ибо нас соединили по чужой воле. Этим ты меня избавишь от унижения. А о них не беспокойся, — она кивнула в сторону остальных трех невест, — это мои подруги, и они меня не выдадут.
— Как хочешь, Отоми, — коротко ответил я.
— Благодарю тебя за доброту, теуль, — с печальной улыбкой прошептала Отоми, еще раз склонилась передо мной и отошла — такая величественная и прекрасная, что сердце мое снова сжалось, как от любви. С той ночи и до страшного часа жертвоприношения мы не обменялись с принцессой Отоми ни одним поцелуем, ни одним нежным словом.
Тем не менее наша привязанность и дружба росли с каждым днем. Мы часто беседовали, и я делал все возможное, чтобы склонить сердце Отоми к истинной вере. Но это оказалось нелегким делом. Подобно своему отцу Монтесуме, принцесса Отоми почитала богов своего народа, хотя и ненавидела жрецов. Человеческие жертвоприношения, если только жертвами не были враги, вызывали ее возмущение. Она говорила, что все это придумано жрецами и что раньше на алтари богов возлагали не людей, а цветы.
Так продолжалось изо дня в день. Чувство мое постепенно и незаметно становилось все глубже, так что под конец, сам не знаю как, я полюбил Отоми больше всех на свете — после Лили.
Что касается остальных трех женщин, то, несмотря на всю их доброту и привлекательность, они вскоре стали мне ненавистны. Но я по-прежнему продолжал с ними пировать и бражничать ночи напролет, ибо, если бы стало известно, что они не смогли мне угодить, их ожидала бы постыдная смерть. А кроме того, я старался утопить свой страх в вине и наслаждениях, ибо дни мои были сочтены и ужасный конец приближался неотвратимо.
На следующий день после моей женитьбы произошло позорное убийство шестисот знатных ацтеков, совершенное по приказу идальго Альварадо, который командовал испанцами в отсутствие Кортеса. Сам Кортес в это
время находился на побережье и сражался с Нарваэсом, которого послал против Кортеса его старый враг, губернатор Кубы Веласкес.
В тот день должно было состояться празднество в честь бога Уицилопочтли с жертвоприношениями, песнями и танцами на большом дворе храма, окруженном стеной с высеченными на ней извивающимися змеями. По счастливой случайности принц Куаутемок, прежде чем отправиться в храм, решил в то утро сначала навестить меня.
Взглянув на его пышное одеяние, я спросил, не собирается ли он принять участие в празднестве.
— Да, — ответил принц. — А почему ты об этом спрашиваешь?
— Потому что на твоем месте я бы туда не пошел, Скажи, Куаутемок, у танцующих будет оружие?
— Нет, это против обычая.
— Значит, они будут безоружны, Куаутемок, эти благородные юноши, цвет страны. Они будут плясать безоружные внутри замкнутой ограды, а вооруженные теули будут на них смотреть. Скажи мне теперь, принц, что станет со всеми этими знатными танцорами, если теули затеют с ними ссору?
— Не знаю, почему ты так говоришь? Я уверен, что белые люди не способны на трусливое подлое убийство, однако я послушаюсь твоего совета. Празднество все равно начнется, — видишь, все уже собрались, — но я на него не пойду.
— Ты мудр, Куаутемок, — проговорил я. — Ты всегда был мудр, я это знал!
Немного погодя Отоми, Куаутемок и я вышли в сад и поднялись на вершину небольшой пирамиды, миниатюрного теокалли, выстроенного Монтесумой, чтобы наблюдать сверху за торговой площадью и храмовыми дворами. Отсюда хорошо были видны знатные ацтеки, танцующие под музыку и пение. В ярких лучах солнца их накидки из перьев сверкали и переливались, как драгоценные камни. Какое это было радостное зрелище! И разве могли они предположить, чем все это кончится?
Среди танцоров кучками стояли испанцы в латах, вооруженные мечами и аркебузами. Вскоре я заметил, что постепенно они выбрались из толпы индейцев и, как пчелы в рои, начали собираться у входов и в других местах под прикрытием Змеиной Стены.
— Что бы это значился — спросил я Куаутемока, и в то же мгновение увидел, как один ив испанцев взмахнул над головой куском белой ткани.
Не успела белая тряпка опуститься, как весь двор храма заволокло дымом, и вслед за этим до нас донесся звук залпа из аркебуз. Мертвые и раненые усеяли весь двор, но основная масса безоружных танцоров продолжала стоять посредине, сбившись в кучу, словно стадо испуганных овец, и онемев от ужаса. Тогда испанцы обнажили мечи я, выкрикивая имена своих святых покровителей, как они это всегда делают, когда намереваются совершить какое-нибудь злодеяние, бросились на беззащитных ацтеков и начали их убивать. Одни были зарублены на месте, другие с криками пытались спастись бегством, но уйти не удалось никому, потому что выходы охранялись, а стены были слишком высоки, чтобы через них перебраться. Испанцы — да покарает их всевидящий бог! — перебили всех до единого. Они управились быстро? Не прошло и десяти минут после того, как белая тряпка взвилась в воздух, как шестьсот ацтеков, мертвых или умирающих, уже лежало на каменных плитах двора, а испанцы с победными криками срывали с поверженных драгоценные украшения.
Я повернулся к принцу.
— Похоже, ты хорошо сделал, что не отправился на это веселое празднество, друг мой Куаутемок, — проговорил я.
Куаутемок не ответил. Он стоял молча и, не отрываясь, смотрел на убитых и на убийц. Только Отоми сказала с горькой улыбкой:
— Вы, христиане, добрые люди! Так-то вы отблагодарили нас за гостеприимство? Я думаю, что мой отец Монтесума теперь может быть вполне доволен своими гостями Ах, будь я из его месте — все эти люди уже лежали бы на жертвенных алтарях! Ты говорил мне, что наши боги — дьяволы Кто же тогда эти убийцы, почитающие твоего бога?
Но тут наконец Куаутемок заговорил:
— Нам остается только одно — месть! Монтесума превратился в женщину. Для меня он умер. И если понадобится, я убью его сам, собственными руками! Но в Анауаке еще осталось двое мужчин — мой дядя Куитлауак и я. Хватит! Иду собирать войска!
И Куаутемок ушел.
Всю ночь город гудел, как осиное гнездо, а наутро торговую площадь и все улицы, насколько хватал глав, заполнили десятки тысяч вооруженных воинов, Волна за волной устремлялись они на дворец Ахаякатля и, подобно волнам, разбивающимся об утес, откатывались назад под огнем испанцев. Ацтеки трижды ходили на приступ и трижды отступали. Перед четвертым штурмом на стене появился Монтесума, этот трусливый женоподобный монарх. Он умолял народ разойтись, потому что иначе ему самому грозила гибель, и благоговение ацтеков перед священной императорской властью все еще было так велико, что они прекратили штурм.
Однако расходиться никто не думал. Раз Монтесума запретил убивать испанцев, решено было уморить их голодом, и с этого часа началась глухая блокада дворца.
В первом сражении погибли сотни ацтекских воинов, но осажденные понесли более ощутимые потери. Ацтеки захватили в плен нескольких испанцев и множество их союзников тласкаланцев. Несчастных пленников тут же втащила на большой теокалли и принесли в жертву перед храмами на глазах их товарищей.
Спустя несколько дней в Теночтитлан вернулся с подкреплением Кортес. Он разгромил своего соперника, и многие солдаты Нарваэса примкнули к победителю. Среди них был один человек, которого я знал более чем хорошо.
Неизвестно, почему Кортесу позволили беспрепятственно соединиться с его соратниками во дворце Ахаякатля. На следующий день он приказал выпустить на свободу брата Монтесумы Куитлауака, правителя Палапана, надеясь, что тот успокоит народ. Однако Куитлауак не был трусом. Едва очутившись за оградой своей темницы, он тотчас созвал совет, который в его отсутствие возглавлял Куаутемок. На совете было принято решение сражаться до конца. Монтесуму объявили изменником, погубившим страну своей трусостью. И битва возобновилась.
Если бы это решение было принято на какие-нибудь два месяца раньше, в Теночтитлане уже не осталось бы ни одного живого испанца. Конечно, Марина, возлюбленная Кортеса, немало способствовала своей хитростью его успехам, но главным виновником собственного падения и гибели империи Анауак был все же Монтесума.
Глава XX
СОВЕТ ОТОМИ
На другой день после возвращения Кортеса в Теночтитлан, за час до рассвета, пронзительные крики тысяч воинов, звуки дудок и бой барабанов прервали мой тяжелый сон. Я поспешил подняться на свой наблюдательный пост на вершине маленького теокалли. Вскоре ко мне присоединилась Отоми.
Внизу собрались для боя все жители города. Повсюду, куда ни взглянешь, в садах, на торговых площадях, на всех улицах, толпились тысячи и десятки тысяч людей. Одни были вооружены пращами, другие — луками и стрелами, третьи — копьями с медными наконечниками и дубинами, утыканными острыми осколками обсидиана. Самым беднейшим горожанам оружием служили обожженные на огне колья. Тела знатных воинов прикрывали золотые доспехи и плащи из перьев, на головах у них красовались деревянные раскрашенные шлемы с пучками волос на гребне, изображавшие морды волков, змей или пум; на тех, кто победнее, были эскаупили, или панцири из стеганого хлопка, но большая часть воинов не имела на теле ничего, кроме набедренных повязок. Даже на плоских кровлях домов и на уступах большого теокалли толпились отряды воинов, забравшиеся туда, чтобы сверху осыпать занятый врагами дворец метательными снарядами. Странное и незабываемое зрелище представлял собой город, залитый алым светом зари.
Но вот первые лучи солнца скользнули над крышами храмов и над стенами дворца, озарив по одну сторону переливающиеся перья и острия бесчисленных пик, а по другую — яркие боевые значки и сверкающие латы испанских солдат, суетившихся позади своих укреплений. Испанцы лихорадочно готовились к защите.
Едва солнце взошло, жрец пронзительно затрубил в раковину, и, словно в ответ ему, в лагере испанцев тревожно запела труба. Тысячи ацтеков с яростными криками двинулись на приступ. Небо потемнело от ливня стрел и камней.
В тот же миг стены дворца Ахаякатля опоясала зигзагообразная линия огня и дыма. С грохотом, подобным грому, аркебузы и пушки христиан косили наступающих воинов, разметая их толпы, как осенние листья.
На мгновение ацтеки заколебались. Стоны и вопли неслись к небесам. Но тут я увидел, как вперед вырвался Куаутемок с боевым значком в руках, и его воины, сомкнув ряды, устремились за ним. Вскоре они уже были под стенами дворца, и штурм начался.
Ацтеки сражались самоотверженно. Раз за разом пытались они взобраться на стену, карабкаясь по телам убитых, словно по лестнице, и каждый раз откатывались с жестокими потерями. Видя, что таким способом ворваться во дворец не удастся, индейцы начали разбивать нижнюю часть стены тяжелыми бревнами, но когда стена рухнула и воины, мешая друг другу, ринулись в образовавшуюся брешь, испанцы встретили их огнем пушек. Каждый залп расчищал в толпе нападающих длинные кровавые просеки, оставляя на месте десятки трупов.
Тогда ацтеки принялись обстреливать испанцев горящими стрелами. Им удалось поджечь внешние деревянные строения, однако сам дворец, сложенный из камня, не мог загореться. Яростные атаки продолжались двенадцать долгих часов подряд, и только внезапно наступившая темнота прервала сражение. Но всю ночь в городе пылали бесчисленные факелы, слышались стоны умирающих и рыдания женщин: ацтеки уносили убитых.
А с рассветом битва возобновилась. Кортес с большей частью испанских солдат и несколькими тысячами своих союзников-тласкаланцев предпринял вылазку. Сначала я решил, что он ударит по дворцу Монтесумы, и смутная надежда на спасение забрезжила передо мной — я думал, что в сумятице боя мне, может быть, удастся бежать. Однако я ошибся в своих предположениях. Кортес хотел прежде всего сжечь окружающие дома, с плоских кровель которых ацтеки осыпали его солдат градом стрел и камней, причиняя значительный урон, особенно тласкаланцам. Атака была отчаянной и увенчалась успехом. Ацтеки дрогнули под натиском всадников — их обнаженные тела не могли противостоять испанской стали. Вскоре запылали десятки домов, и к небу поднялся огромный вращающийся столб дыма, подобный тому, что поднимается над жерлом Попокатепетля.
Однако многие из тех, кто выехал на коне или вышел в пешем строю из дворца Ахаякатля, не вернулись в тот день назад. Ацтеки бросались под ноги лошадям и стаскивали всадников с седел. В тот же день всех плененных принесли в жертву Уицилопочтли на большом теокалли, чтобы их товарищи могли это видеть. Одновременно на алтарь положили одну из захваченных лошадей, которую с великим трудом наполовину ввели, наполовину втащили на вершину ступенчатой пирамиды. Никогда еще жертвы не были так многочисленны, как в эти дни непрекращающихся боев. Кровь потоками струилась по алтарям, вопли жертв, не смолкая, звенели в моих ушах, а проклятые жрецы трудились без устали, ибо этим они надеялись умилостивить своих ботов и вымолить у них победу над теулями.
Теперь жертвоприношения совершались даже ночью, при свете неугасимого священного огня. Те, кто участвовали в них, казались снизу какими-то адскими духами, терзающими несчастных грешников среди пламени преисподней, совсем как на изображении Страшного Суда в нашей дитчингемской церкви. И каждый час грозный голос звучал из темноты, призывая на головы испанцев все беды и проклятия:
— Эй, теули, Уицилопочтли жаждет вашей крови! Скоро, скоро вы последуете за теми, кто уже взошел на его алтарь. Вы их видели сами! Близок час! Клетки готовы, ножи остры, железо для пыток раскалено. Готовьтесь, теули! Вы можете перебить еще многих, но вам не уйти?
Битва не утихала. Каждый день ацтеки несли огромные потери. Погибло уже несколько тысяч воинов, однако испанцы тоже едва держались. Измученные беспрестанными схватками, израненные и голодные, они не знали теперь ни минуты покоя.
Но вот однажды утром в самый разгар штурма на главной башне дворца появился сам Монтесума, разодетый в великолепные одеяния с диадемой на голове. Перед ним стояли глашатаи, держа в руках золотые жезлы, а вокруг теснились прислуживавшие пленному императору придворные и испанская стража.
Монтесума вытянул вперед руку — и сражение мгновенно замерло. Мертвая тишина простерлась над площадью, даже раненые перестали стонать. И тогда Монтесума заговорил, обращаясь к многотысячной толпе. Я был слишком далеко и не разобрал его слов; мне пересказали его речь позднее. Император просил свой народ прекратить войну, он называл испанцев своими гостями и друзьями и обещал, что они сами оставят Теночтитлан. Но едва он успел произнести эти трусливые слова, ярость охватила его подданных, столько лет почитавших своего повелителя, словно бога. Толпа заревела. Казалось, все выкрикивают только два слова:
— Баба! Предатель!
Затем снизу взвилась стрела и вонзилась в императора. Следом за стрелой посыпался град камней. Я увидел, как Монтесума пошатнулся и упал на плоскую кровлю башни.
Вдруг чей-то голос прокричал:
— Монтесума умер! Мы убили нашего императора!
С испуганными воплями толпа бросилась врассыпную, и через мгновение на площади, где только что стояли тысячи воинов, не осталось ни одной живой души.
Отоми все время находилась рядом со мной и видела, как упал ее царственный отец. Пытаясь хоть как-нибудь утешить плачущую девушку, я повел ее во дворцовые покои. Здесь мы столкнулись с принцем Куаутемоком. В полном вооружении, с луком в руках он выглядел свирепо и устрашающе.
— Правда ли, что Монтесума умер? — спросил я.
— Не знаю и знать не хочу, — ответил принц с дикой усмешкой. Затем, обращаясь к Отоми, прибавил:
— Ты можешь проклясть меня, сестра, потому что этого трусливого вождя, превратившегося в предателя и бабу, этого изменника, лгущего своему народу и своей стране, поразила моя стрела.
Отоми вытерла слезы.
— Нет, — проговорила она, — я не стану тебя проклинать, Куаутемок. Боги поразили моего отца безумием раньше, чем ты поразил его своей стрелой, и если он умрет, будет лучше для него самого и для его народа. Но я знаю, Куаутемок, что твое преступление не останется безнаказанным. За это святотатство ты сам погибнешь позорной смертью.
— Может быть, — ответил Куаутемок, — зато я не умру предателем.
И с этими словами он вышел.
Должен сказать, что этот день, как я полагал, был последним днем моей жизни, потому что назавтра истекал ровно год воплощения Томаса Вингфилда в бога Тескатлипоку. В следующий полдень меня должны были принести в жертву. Несмотря на всеобщее смятение, несмотря на несмолкающий плач над убитыми и ужас, нависший над городом, подобно грозовой туче, все религиозные церемонии и празднества соблюдались так же строго и, пожалуй, даже строже, чем раньше. Так в эту ночь было устроено в мою честь прощальнее пиршество. Я должен был сидеть увенчанный цветами в окружении своих жен и принимать поклонение знатнейших людей города, еще оставшихся в живых. Среди них был и Куитлауак, которому после смерти Монтесумы предстояло стать императором.
Это была печальная трапеза. Как я ни старался заглушить все чувства и мысли хмелем, страх не покидал меня, да и у гостей не было особых причин для веселья. Сотни их родичей и тысячи соплеменников погибли; испанцы продолжали держаться в своей крепости; император, которого они почитали, как бога, пал в этот день от руки одного из них, а самое главное — все они чувствовали себя обреченными. Чему же тут удивляться, если они не радовались? Поистине никакие поминки не могли быть тоскливее этого пиршества: ни цветы, ни прекрасные женщины не радовали глаз. Но в конечном счете это и были поминки — поминки по мне.
Наконец пир окончился, и я удалился к себе. Отоми осталась, а три моих жены последовали за мной, называя меня самым счастливым и самым благословенным, потому что завтра я вознесусь в свой божественный дом, то бишь — на небеса! Но я не благословил их за это и, придя в ярость, выгнал всех троих, сказав на прощание, что если я действительно вознесусь, то моим единственным утешением будет мысль о том, что сами они останутся далеко внизу.
После этого я упал на подушки своего ложа и горько зарыдал от страха и тоски. Вот к чему привела меня клятва покарать де Гарсиа! Завтра мое сердце вырвут из груди и принесут в дар дьяволу. Воистину прав был мудрый Андрес де Фонсека, когда советовал воспользоваться счастливым случаем и забыть о мести. Если бы я прислушался к его словам, я уже был бы женат на своей нареченной и наслаждался ее любовью в родном доме в мирной Англии. А вместо этого моя загубленная душа отдана во власть дьяволов, которые завтра принесут ее в жертву сатане.
Обезумев от этих мыслей и невыносимого страха, я с громкими рыданиями воззвал к творцу, умоляя его избавить меня от столь жестокой смерти или хотя бы отпустить мне мои грехи, чтобы я мог завтра умереть с миром.
Так, плача и бормоча молитвы, я незаметно погрузился в полусон. Мне привиделось, будто я иду по склону холма близ тропинки, бегущей через наш сад к дитчингемской церкви. Ветерок шепчется с травами на склонах, сладкий запах наших английских цветов щекочет мне ноздри, и душистый воздух июня овевает мой лоб. Мне снилась ночь, и я думал о том, как прекрасно сияние луны над лугами и над рекой, а вокруг со всех сторон звенели соловьиные трели. Но меня занимали не эта музыка и не красоты природы. Я все время видел перед собой тропинку, спускающуюся от церкви по холму к задней стороне нашего дома, и напряженно прислушивался, стараясь уловить шорох приближающихся шагов. Но вот на холме послышалась песенка — очень грустная песенка о том, кто уплыл далеко-далеко и уже никогда не вернется, — и вскоре на вершине под яблонями показалась белая фигура. Медленно-медленно приближалась она ко мне, и я знал, что это Лили, моя любимая! Вот она перестала петь, тихонько вздохнула и подняла опечаленное лицо. И хотя я увидел лицо женщины средних лет, оно все еще было прекрасно, даже прекраснее, чем в расцвете юности.
Лили спускается к подножию холма, приближается к маленькой садовой калитке, и тогда я выхожу из тени деревьев и останавливаюсь перед ней. С испуганным криком отступает она назад, молча всматривается в мое лицо, и чуть слышно шепчет:
— Неужели? Неужели это ты, Томас? Ты так изменился… Скажи, это ты, живой, воскресший из мертвых, или это твой призрак?
И медленно, робко видение протягивает ко мне руки, чтобы меня обнять.
Тут я проснулся. Я проснулся, и что же: передо мной стояла прекрасная женщина в белом, и луна освещала ее точно так же, как во сне, и руки ее были с любовью простерты мне навстречу.
— Это я, любимая, а не призрак! — воскликнул я, соскакивая со своего ложа и прижимая возлюбленную к своей груди. Но прежде чем я успел поцеловать ее, прежде чем мои губы коснулись ее губ, я понял все. Та, кого я держал в объятиях, была не моя нареченная Лили Бозард, а Отоми, принцесса племен отоми, названная моей женой. Я понял, что это был только сон, самый жестокий и грустный сон, посланный мне, словно в насмешку, чтобы вся горькая правда еще ярче предстала передо мной.
Выпустив Отоми, я громко застонал и упал на свое ложе. Краска стыда залила лицо и шею принцессы, ибо она любила меня и мой поступок оскорбил ее до глубины души; Отоми было нетрудно догадаться, что означали мои слова и жесты.
Тем не менее она ласково заговорила со мной:
— Прости меня, теуль, я хотела только взглянуть, как ты спишь, и не собиралась тебя будить. А потом я хотела поговорить с тобой наедине, пока не взошло солнце. Может быть, я еще смогу что-нибудь сделать или хотя бы утешить тебя, ибо конец уже близок. Скажи, ты хотел обнять меня, потому что спутал во сне с другой женщиной? Наверное, она для тебя прекраснее и милее…
— Мне снилось, что это была моя невеста, которую я люблю, — с трудом ответил я. — Она далеко за морями. Только незачем сейчас говорить о любви и прочих вещах. На что мне все это, если я сам ухожу во мрак?
— По совести говоря, я и сама не знаю, теуль, но я слышала от мудрых людей, что истинная любовь вспыхивает во мраке смерти и превращает его в свет. Не печалься! Если в твоей или в нашей вере есть хоть капля правды, глазами души ты увидишь свою любимую на земле или в небесах, прежде чем солнце зайдет еще раз, а я буду молиться, чтобы она осталась тебе верна. Скажи, она тебя сильно любит? Легла бы она рядом с тобой на жертвенный камень, как хотела сделать я, если бы у нас все шло по-другому?
— Нет, — ответил я. — Не в обычае наших женщин расставаться с жизнью из-за того, что мужу приходится умирать.
— Наверное, они считают, что лучше жить и выйти замуж за другого, — спокойно проговорила Отоми, но я заметил, как глаза ее сверкнули, а грудь, освещенная луной, задышала глубоко и часто.
— Довольно болтать об этих глупостях, — прервал я ее. — Слушай, Отоми, если бы я действительно был тебе дорог, ты бы спасла меня от ужасной казни или уговорила Куаутемока помочь мне? Ты — дочь Монтесумы. Неужели за все эти месяцы ты не могла добиться от своего отца — императора приказа о моем помиловании?
— Плохо же ты обо мне думаешь, теули — взволнованно ответила Отоми. — Я была тебе лучшим другом. Знай — все эти месяцы день и ночь я только и делала, что искала и придумывала способы тебя спасти. Пока мой отец император сам не стал пленником, я не давала ему покоя, и, наконец, он приказал не пускать меня к себе. Я пыталась подкупить жрецов, я все подготовила для твоего побега, и Куаутемок помогал мне, потому что он тебя тоже любит. Если бы не приход этих проклятых теулей, если бы не война, охватившая город, я бы наверняка спасла тебя, ибо женский ум изворотлив и всегда найдет лазейку даже там, где отступит любой мужчина. Но война изменила все. Предсказатели и жрецы, читающие по звездам, обрекли тебя на смерть. Они сказали, что если завтра ровно в полдень кровь твоя обагрит алтарь, а сердце будет принесено в дар богу Тескатлипоке, наш народ одержит победу над теулями и уничтожит их всех. Но если жертвоприношение свершится раньше или позже назначенного часа — гибель Теночтитлана предрешена. Кроме того, жрецы объявили, что ты должен умереть не в «Доме Оружия» посреди озера, а на вершине большого теокалли перед великой статуей бога. Об этом известно всей стране. Сейчас тысячи жрецов возносят молитвы, чтобы жертва была счастливой. Над жертвенным камнем уже подвешено золотое кольцо, через которое солнечный луч ровно в полдень упадет на твою грудь, там, где бьется сердце. Последние недели, боясь, что ты убежишь к теулям, жрецы подстерегали каждый твой шаг, как ягуар добычу. За нами, твоими женами, тоже следят. В эту ночь вокруг дворца установлено три ряда стражи, а за твоими дверями и под каждым окном стерегут жрецы. Суди сам, теуль, стоит ли надеяться на побег!
— Пожалуй, не стоит, — ответил я. — И все же я знаю один путь. Если я умру сам, они не смогут меня убить.
— Нет, нет! — поспешно вскричала Отоми. — Что тебе это даст? Пока ты жив, можно еще надеяться, но когда ты умрешь — все будет кончено. К тому же если умирать, то лучше от руки жреца. Верь мне, хотя такая смерть и кажется ужасной, — при этих словах Отоми содрогнулась, — зато она мгновенна и почти безболезненна — так говорят все жрецы. Сначала они хотели тебя пытать, чтобы воздать богу высшую честь, но от этого мы с Куаутемоком сумели тебя избавить.
Отоми присела рядом со мной на ложе, взяла меня за руку и продолжала:
— О теуль, не думай больше о кратком миге ужаса! Думай о том, что грядет за ним. Неужели смерть, даже мгновенная, так страшна? Мы все умрем: этой ночью, завтра или послезавтра — неважно когда, а твоя вера, как наша, учит, что за гробом нас ожидает бесконечная благодать. Подумай об этом, друг мой! Завтра ты избавишься от всех тревог и суеты; борьба, страдание, страх перед будущим, отравляющий душу, — все останется позади, и ты обретешь покой, которого уже никто никогда не нарушит. Ты встретишься там со своей матерью — я о ней столько слышала! Может быть, к тебе придет та, что любит тебя еще больше, чем твоя мать, и — кто знает? — наверное, встретишь там и меня.
Тут глаза Отоми как-то странно блеснули.
— Тебе придется пройти по темной дороге, но зато она хорошо проторена и в конце ее сияет свет. Будь же мужчиной, мой друг, и ни о чем не скорби! Радуйся тому, что так рано избавился от горестей и сомнений и скоро достигнешь врат счастья; радуйся, что пересек пустыню жизни и теперь увидишь сверкающие озера, цветущие сады я храмы страны блаженных. А теперь прощай! Мы больше не встретимся до жертвоприношения, когда женщины, называемые твоими женами, придут проститься с тобой на нижней ступени теокалли. Прощай, добрый друг мой, и помни мои слова. Согласишься ты с ними или нет, но я уверена — ты будешь храбр, потому что я тебя об этом прошу и потому что иначе ты себя обесчестишь. Ты умрешь мужественно, теуль, как если бы на тебя были обращены глаза всего твоего народа.
Неожиданно Отоми нагнулась, нежно, как сестра, поцеловал меня в лоб и выскользнула из комнаты. Занавес на дверях опустился за ней, но эхо ее благородных слов все еще продолжало звучать в моем сердце.
Ничто не может заставить человека думать с радостью о близкой смерти, а меня ожидала такая смерть, перед которой содрогнулся бы любой. Но в то же время я понимал, что Отоми права. Смерть сама по себе не так страшна, жизнь бывает куда страшнее. И вскоре неестественное спокойствие окутало мою душу, словно густой туман, опустившийся над океаном. Пусть бушуют внизу незримые волны, пусть сияет наверху солнце — здесь в непроницаемой серой мгле царит покой.
Я как бы отрешился от своего земного существа и на все смотрел теперь со стороны с новым, неизведанным доселе чувством. Мое жизненное плавание подходило к концу, берег смерти был уже близок, и в ту ночь я понял, как понимаю это сегодня, на склоне лет, что для нас, простых смертных, смерть значит гораздо больше, чем быстролетное мгновение жизни. Я мог спокойно вспомнить свое прошлое, спокойно раздумывать о том, что ожидает мою душу в будущем, и даже восхищаться кроткой мудростью этой индеанки, способной на столь благородные слова и мысли.
Да, что бы ни случилось, в одном я ее не разочарую: уповая на бога, я умру мужественно, как умирают настоящие англичане. Эти варвары не посмеют сказать, что иноземец был трусом. Разве не умирают на алтарях сотни таких же, как я, не проронив ни звука? Разве не умерла моя мать от руки убийцы? Разве не замуровали живьем Изабеллу де Сигуенса только за то, что она имела глупость полюбить негодяя, который ее покинул? Мир полон ужаса и страданий, и кто я такой, чтобы жаловаться и роптать?
Так я размышлял, пока не рассвело и голоса воинов, готовых к бою, не зазвучали навстречу восходящему солнцу. Теперь с каждым днем сражение кипело все ожесточенней, и этому дню суждено было стать одним из самых ужасных. Но мне не было дела до войны ацтеков с испанцами. Я готовился к своей последней схватке, ибо смерть уже простерла надо мною длань.
Глава XXI
ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ
Но вот послышалась музыка, и в сопровождении художников — мастеров по разрисовке тела — в комнату вошли мои слуги с еще более роскошными нарядами, чем все, что я носил до сих пор. Слуги раздели меня, и художники принялись за работу. Все мое тело они раскрасили уродливыми красно-бело-синими узорами, так что я стал похож на какое-то знамя, а лицо и губы вымазали багряной краской. На груди, над сердцем, они как можно точнее и тщательнее намалевали алый круг. Затем, собрав мои падающие на плечи длинные волосы, они соорудили из них на макушке пучок, перевязанный красной вышитой лентой, как это принято у индейцев, и воткнули в него несколько ярких перьев.
После этого меня облачили в пышное одеяние, чем-то напоминающее верховные ризы, продели мне в уши золотые кольца, надели на руки и ноги золотые обручи, а на шею — ожерелье из бесценных изумрудов. Кроме того, на моей груди сверкал огромный драгоценный камень, переливавшийся, как море при лунном свете, а к подбородку мне подвесили бороду из розовых морских раковин. Наконец, нацепив на меня столько венков и цветочных гирлянд, что я превратился в настоящее майское дерево, какое устраивают в нашей дитчингемской общине, они отошли в сторону, восхищенные делом своих рук.
Вновь зазвучала музыка. Мне дали две лютни, по одной в каждую руку, и повели в большой зал дворца.
Здесь уже собрались все знатные ацтеки, облаченные в праздничные одежды. На возвышении стояли четыре мои жены в одеяниях четырех богинь — Хочи, Хило, Атлы и Клитхо. Эти имена они получили в день свадьбы. Атлой была принцесса Отоми.
Когда я занял свое место на возвышении, они приблизились ко мне, по очереди целуя меня в лоб, и начали предлагать мне всякие сласти; на золотых блюдах, а также шоколад и мескаль в золотых чашах. Я не мог ничего есть и только выпил крепчайшего мескаля, чтобы хоть немного приободриться.
Когда эта церемония завершилась, наступила мгновенная тишина, а затем в дальнем конце залы показалась зловещая процессия людей в багряных жертвенных одеяниях. Это шли жрецы, с ног до головы заляпанные кровью. Кровь склеивала их длинные спутанные волосы, кровь покрывала голые руки, и даже свирепые глаза, казалось, были налиты кровью. Жрецы приблизились к возвышению, и тогда верховный паба внезапно вскинул вверх руки и возопил:
— Люди, склонитесь перед бессмертным богом!
Все, кто собрались в зале, простерлись ниц, громко восклицая:
— Мы поклоняемся богу!
Жрец трижды прокричал эти слова, и присутствующие трижды падали наземь, повторяя ответ. Затем, когда все поднялись на ноги, верховный жрец обратился ко мне:
— Прости нас, Тескатлипока, что мы не можем почтить тебя по обычаю, ибо наш повелитель должен был склониться перед тобой вместе с нами. Но ты знаешь, какое горе постигло твоих рабов: нам приходится в своем собственном доме сражаться с теми, кто богохульствует и оскорбляет тебя, о Тескатлипока, и других богов, твоих братьев, а наш возлюбленный император тяжко ранен и находится в руках святотатцев. Скоро, скоро ты достигнешь предела своих желаний и вознесешься на небеса! Ты покинешь свою земную оболочку, показав нам всем, что человеческое благополучие — лишь быстролетная тень. И тогда, во имя нашей любви к тебе, заклинаем тебя, о Тескатлипока, сделай так, чтобы мы победили твоих врагов, святотатцев, и смогли почтить тебя, принеся их в жертву на твоем алтаре. О Тескатлипока, ты недолго побыл среди нас, и ты не желаешь оставаться с нами, ибо тебе уготована вечная слава. Давно уже ты ожидал этого счастливого дня, и вот, наконец, он пришел. Мы любили тебя, мы поклонялись тебе, сделай же так, чтобы мы, твои дети, увидели тебя в сиянии славы! Ниспошли нам радость венного благополучия, о Тескатлипока, ниспошли благодать народу, среди которого ты согласился прожить этот год!
Так говорил верховный жрец, и голос его временами тонул среди громких рыданий собравшихся и горестных воплей моих жен. Отоми стояла молча.
Наконец верховный паба сделал знак, заиграла музыка, и жрецы окружили нас со всех сторон. Две мои жены-богини встали впереди меня, две — позади, и так мы вышли из зала, а затем через широко распахнутые перед процессией ворота — за стены дворца. С каменным спокойствием смотрел я по сторонам, и в этот последний час ничто не ускользало от моего внимания. Странное зрелище открылось передо мной! В нескольких сотнях шагов индейцы продолжали яростно штурмовать дворец Ахаякатля, где укрылись испанцы. Отдельные отряды воинов то тут, то там пытались взобраться на стены; испанцы косили их смертоносным огнем, а их союзники тласкаланцы сбрасывали нападающих копьями и боевыми палицами. В то же время другие отряды ацтеков, усеявшие крыши уцелевших от пожара соседних домов и все выступы большого теокалли, на котором мне предстояло испустить дух, осыпали тысячами дротиков, стрел и камней занятый испанцами дворец и другие участки обороны противника.
А всего в пятистах ярдах от того места, где кипела эта смертоносная битва, на другом конце площади, у ворот дворца Монтесумы разыгрывалась совершенно иная сцена. Огромная толпа с множеством женщин и детей собралась здесь, чтобы увидеть мою смерть. Люди пришли с охапками цветов, с музыкой, с песнями, и, когда я предстал перед ними, приветственные крики на мгновение заглушили гром выстрелов и яростный шум сражения. Время от времени шальное пушечное ядро врезалось в толпу, оставляя на месте убитых и раненых, но никто не разбегался и не прятался. Люди только громче кричали:
— Слава тебе, Тескатлипока, и прощай! Будь благословен, спаситель наш! Слава тебе и прощай!
Процессия медленно пробиралась сквозь толпу по узкому проходу, сплошь усыпанному цветами. Наконец мы пересекли площадь и достигли подножия теокалли. Здесь собралось так много народу, что нам пришлось остановиться. Пока жрецы расчищали путь, какой-то воин проложил себе дорогу сквозь толпу и склонился передо мной. Я узнал принца Куаутемока.
— Теуль, чтобы проститься с тобой, я оставил своих людей, — прошептал Куаутемок, кивнув в сторону воинов, готовых к штурму дворца Ахаякатля. — Наверное, мы скоро встретимся снова. Верь мне, теуль, я сделал бы все, чтобы выручить тебя, но это невозможно. Если бы мог, я поменялся бы с тобой местами. Прощай, друг? Ты дважды спас мою жизнь, а я твою спасти не сумел.
— Прощай, Куаутемок, — ответил я. — Да хранит тебя небо, ибо ты был мне верным другом.
И мы расстались.
У подножия теокалли все шествие выстроилось заново, и здесь одна из моих жен простилась со мной, бросившись мне на грудь и заливаясь слезами. Но я не стал рыдать на ее груди. Медленно и торжественно мы начали подниматься по каменным лестницам, расположенным таким образом, что после каждой из них нам приходилось совершать полный круг на очередном уступе пирамиды. Целый час бесконечная процессия ползла к вершине, обвивая весь теокалли пестрой ломаной спиралью. На каждом повороте мы останавливались, и я расставался либо с одной из жен, либо с одним из своих музыкальных инструментов (причем это я делал без малейшего сожаления), либо с одной из частей своего странного наряда.
Но вот, наконец, по широким ступеням последней лестницы мы взошли на плоскую вершину теокалли. Это была ничем не огражденная площадь, более обширная, чем весь наш церковный двор в Дитчингеме. Здесь на головокружительной высоте стояли храмы Уицилопочтли и Тескатлипоки, огромные сооружения из камня а дерева, внутри которых находились безобразные идолы этих богов и страшные комнаты, залитые кровью жертв. Напротив храмов горел неугасимый священный огонь, стояли жертвенные камни, орудия пыток и большой барабан, обтянутый змеиной кожей. Остальная часть вершины теокалли была совершенно голой. Голой, но не безлюдной. На стороне, обращенной к испанцам, толпилось несколько сотен воинов, беспрестанно осыпавших врага стрелами и камнями, а на противоположном краю собрались в ожидании моей смерти жрецы. Внизу вся обширная площадь, окруженная развалинами домов, была заполнена многотысячной толпой. Некоторые из ацтеков по-прежнему сражались с испанцами, но большинство собралось сюда только для того, чтобы увидеть, как меня принесут в жертву.
Мы достигли вершины теокалли за два часа до полудня, потому что до жертвоприношения еще предстояло выполнить ряд церемоний. Сначала меня ввели в святилище бога Тескатлипоки, имя которого я носил. Здесь стояло его изваяние из черного мрамора с золотыми украшениями. Идол держал в руке полированный золотой щит, устремив на него глаза из драгоценных камней. Жрецы говорили, что он видит в этом зеркале все, что было и что будет на созданной им земле.
Перед идолом стояло золотое блюдо. Верховный жрец взял его и, бормоча заклинания, принялся вытирать концами своих длинных слипшихся волос. Начистив блюдо до блеска, жрец поднес его к моим губам, чтобы я дохнул на сверкающую поверхность. Смертельная слабость и головокружение охватили меня: я понял, что после этого обряда блюдо готово принять сердце, которое еще трепетало и билось в моей груди.
Не знаю, какие еще церемонии ожидали меня в этом проклятом капище, — внезапное смятение на площади вокруг пирамиды заставило жрецов бросить все и поспешно вывести меня ив храма. Я взглянул вниз и замер: доведенные до бешенства градом стрел и камней, сыпавшихся на них с уступов, испанцы пошли на приступ большого теокалли.
Крупные отряды под предводительством самого Кортеса прокладывали себе дорогу сквозь толпы ацтеков, запрудивших всю площадь. Вместе с испанскими солдатами пробивалось несколько сотен их союзников, тласкаланцев. Но в то же время к подножию первой лестницы устремились тысячи ацтекских воинов, чтобы здесь раздавить белых захватчиков. Через пять минут враги встретились, и отчаянная, беспощадная схватка началась.
Под прикрытием залпов из аркебуз и мушкетов испанцы непрерывно атаковали ацтеков, однако их кони скользили на каменных плитах пирамиды и съезжали вниз. Тогда испанцы пошли на приступ в пешем строю. Нанося ацтекам огромные потери, они добрались до первых ступеней нижней лестницы, но впереди весь спиральный подъем, все уступы и вся вершина теокалли были сплошь облеплены сотнями воинов. Сумеют ли испанцы пробиться сквозь подобную массу? Задача казалась невыполнимой. И все же, когда я подумал об этом, вспышка надежды потрясла меня, как удар. Ведь если испанцы захватят храм, жертвоприношение не состоится! До полудня меня не посмеют принести в жертву (так сказали Отоми) — значит, впереди без малого два часа. Если испанцы за эти два часа одержат верх — я, может быть, останусь жив; если же нет — меня ждет неминуемая смерть.
Когда меня вывели из святилища Тескатлипоки, я с удивлением увидел принцессу Отоми, или, как ее называли, богиню Атлу. Последней из четырех жен она склонилась передо мной у самого входа в храм, но вместо того, чтобы уйти, все еще стояла среди жрецов и о чем-то с ними спорила. Из-за шума сражения я ничего не слышал, однако страстные слова Отоми, во-видимому, убедили жрецов; они были смущены, и в то же время в их главах сверкала жестокая радость. Жрецы склонились перед принцессой. Неторопливо отвернувшись от них. Отоми направилась ко мне, и даже в это мгновение я не мог не залюбоваться ее царственно-величавой поступью. Я взглянул на ее сосредоточенное лицо — оно светилось глубоким внутренним огнем отречения и одновременно было счастливым, как у невесты, идущей навстречу объятиям любимого.
— Почему ты не ушла, Отоми? — спросил я. — Теперь уже поздно: испанцы окружили теокалли. Теперь тебя убьют или захватят в плен.
— Пусть будет что будет, — коротко ответила она, и некоторое время мы молча наблюдали за продолжавшимся штурмом.
Битва становилась все ожесточеннее. Защищая святилище своих богов, ацтекские воины сражались отчаянно. На глазах бесчисленных толп, окруживших площадь и молча наблюдавших за боем, они бросались на испанские мечи, хватали испанцев голыми руками и, завывая от ярости, старались столкнуть их с уступов теокалли. Иногда это им удавалось, и целый ком человеческих тел, в середине которого оказывался один из испанцев, срывался вниз и разбивался о каменные плиты мостовой. Однако, несмотря на все усилия ацтеков, их войско, подобно огромной змее, медленно сокращаясь, отползало к вершине теокалли, а ряды испанцев, закованных в сверкающие доспехи, следовали за ним под градом копий и стрел. С каждой минутой шаг за шагом они взбирались все выше. Испанцы дрались так, как могут драться лишь те, кто знает, какая судьба ждет жертвы богов Анауака. Они сражались за свою жизнь, за честь и за свои души, ибо знали, что в случае поражения им всем уготована смерть на жертвенных алтарях.
Так прошел час. Испанцы достигли уже середины теокалли. Устрашающие звуки битвы становились все громче и громче. Испанцы испускали воинственные крики и призывали на помощь своих святых, ацтеки отвечали им дикими воплями, жрецы взывали к богам и криками старались подбодрить воинов, а наверху заглушая даже выстрелы из аркебуз и пушек, грозно гудел огромный барабан из змеиных кож, по которому исступленно колотил полуголый жрец. Лишь толпы народа внизу оставались безмолвными и недвижимыми. Не произнося ни звука, люди стояли с поднятыми вверх лицами, и я видел, как солнце отражается в тысячах широко раскрытых глаз.
Все это время мы с Отоми находились около жертвенного камня, окруженные кольцом жрецов. Над камнем на четырех вставленных в особые углубления столбах был натянут большой кусок черной ткани с укрепленной в середине золотой воронкой дюймов шести в поперечнике. Лучи солнца, проходя сквозь воронку, падали на затененное черной тканью пространство ярким пятном величиной с яблоко. По мере того как солнце поднималось все выше, это световое пятно перемещалось, пока, наконец, не достигло края жертвенного камня и не легло на него.
В то же мгновение верховный паба подал знак, и жрецы схватили меня. Словно жестокие дети, ощипывающие живую птицу, они сорвали последние яркие одежды и теперь на моем разрисованном теле не осталось ничего кроме набедренной повязки. Я понял, что час мой пробил. Но — странное дело! — впервые за весь этот день мужество вернулось ко мне, и я даже обрадовался, зная, что скоро избавлюсь от своих мучителей.
— Прощай, Отоми! — ясным голосом заговорил я, поворачиваясь к ней, и умолк на полуслове. Покончив со мной, жрецы раздевали теперь ее! Через мгновение великолепные одеяния принцессы были сорваны, и она предстала передо мной во всем совершенстве своей красоты, едва прикрытой волною длинных волос да вышитым клочком хлопковой ткани на бедрах.
— Не удивляйся, теуль, — тихо проговорила она в ответ на мой невысказанный вопрос. — Я твоя жена, и этот камень будет нашим брачным ложем, первым и последним. Хоть ты и не любишь меня, я сегодня умру рядом с тобой той же смертью, что и ты. На это у меня есть право! Я не могу тебя спасти, теуль, но умереть вместе с тобой я могу.
От изумления я онемел, и, прежде чем снова обрел дар речи, жрецы меня повалили. Второй раз в жизни я очутился на проклятом жертвенном камне! В тот же миг послышался еще более яростный и продолжительный вопль сражающихся, возвестивший о том, что испанцы уже поднялись до подножия последней лестницы.
Едва меня уложили на огромный жертвенник, как Отоми оказалась рядом. Ей пришлось прижаться ко мне вплотную, потому что я должен был лежать в самой середине, и для нее почти не осталось места. Но час жертвоприношения еще не наступил. Жрецы привязали вас
веревками к медным кольцам, вделанным в каменные плиты, покрывавшие вершину теокалли, и отвернулись, наблюдая за битвой.
Несколько минут мы лежали молча бок о бок, и с каждым мгновением во мне росло чувство удивления и бесконечной благодарности — удивления перед смелостью этой женщины и благодарности за ее великую любовь, которую она не побоялась скрепить своей кровью. Ради любви ко мне Отоми решила умереть вместе со мной, потому что без меня ей не нужны были ни жизнь, ни почести, ни богатство. И в то мгновение, когда я подумал об этом чуде, неизведанное сияние озарило мне душу. Всем сердцем потянулся я к Отоми, ибо понял, что никто не будет мне дороже и ближе этой царственной женщины — никто, даже моя невеста! Я почувствовал… Нет, об этом я не смогу рассказать. Я знаю только, что слезы хлынули из моих глаз, потекли по моему раскрашенному лицу, и я повернулся к Отоми.
Напрягаясь, насколько позволяли веревки, она старалась повернуться на левый бок, длинные волосы ниспадали с жертвенного алтаря на каменные плиты, и лицо ее было обращено ко мне. Мы лежали так близко друг к другу, что наши губы почти соприкасались.
— Отоми, — прошептал я. — Отоми, ты слышишь? Я люблю тебя!
Я увидел, как затрепетала ее грудь, перетянутая веревкой, и румянец заиграл на ее лице.
— О, я вознаграждена, — ответила она, и наши губы слились в поцелуе, первом и, как мы думали, последнем. Да, мы поцеловались на жертвенном камне под ножом жреца, когда тень смерти уже простерлась над нами. Много бывало на свете необычных любовных сцен, но о такой я не слыхивал никогда.
— Теперь я вознаграждена, — повторила Отоми. — Ради этого мига я готова умереть десять раз и молю бога, чтобы смерть пришла прежде, чем ты успеешь взять назад свои слова. Ибо я знаю, теуль, другая тебе дороже. Просто преданность индейской девушки смягчила сейчас твое сердце, и ты решил, что любишь. Но, прошу тебя, дай мне умереть, думая, что слова твои не были сном.
— Не говори так! — возразил я с трудом, ибо даже в этот миг вспомнил о Лили. — Ты отдала за меня свою жизнь, и я тебя люблю.
— Моя жизнь не значит ничего, а твоя любовь для меня — все, — с улыбкой проговорила Отоми — Ах, теуль, какая тайная сила заключена в тебе? Чем ты заставил меня, дочь Монтесумы, по собственной воле лечь рядом с тобой на алтарь наших богов? Что до меня, то иного ложа я не желаю. Пусть будет так. Наверное, мы скоро оба узнаем ответ на эти и на все другие вопросы.
Глава XXII
ГИБЕЛЬ БОГОВ
— Отоми, — заговорил я после короткого молчания. — Когда нас убьют?
— Когда луч света упадет на круг, начертанный над твоим сердцем, — ответила Отоми.
Я взглянул на солнечный луч, падавший сквозь нависшую над нами тень, как золотая стрела. Сейчас он находился дюймах в шести от моего бока. Я высчитал, что он коснется багряного круга, намалеванного на моей груди, примерно через четверть часа.
Тем временем шум сражения, приближаясь, становился все громче. Вытянувшись, насколько позволяли веревки, я приподнял голову и увидел, что испанцы уже достигли вершины пирамиды. Битва кипела теперь на самом ее краю.
Никогда еще я не видел такой жестокой схватки! Ацтеки сражались с яростью обреченных, уже не думая о спасении и стараясь только погубить как можно больше испанцев хотя бы ценой своей собственной жизни. Их грубое оружие зачастую оказывалось бессильным перед стальными доспехами, но у них оставался еще один выход — столкнуть врага с верхней площадки, чтобы он разбился о мостовую, как яичная скорлупа. И они так и делали.
Сражающиеся разделились на изолированные группы. Враги наступали и отступали, сшибаясь над самой пропастью, куда время от времени скатывались целые отряды по десять — двадцать человек. Некоторые жрецы, забыв об опасности, тоже устремлялись на осквернителей святыни. Я видел, как один из них, человек огромного роста, обхватил испанского солдата поперек туловища и вместе с ним ринулся вниз. Но понемногу, шаг за шагом, испанцы и тласкаланцы оттесняли ацтеков к центру верхней платформы. Здесь угроза столь ужасной смерти была уже не так велика, ибо теперь ацтекам нужно было сначала дотащить врага до края площадки. И наконец битва приблизилась к жертвенному камню.
Все оставшиеся в живых ацтекские воины — их было человек двести пятьдесят, не считая жрецов, — окружили нас непроницаемой стеной. К этому времени неумолимый солнечный луч, падавший сквозь золотую воронку, уже коснулся моего разрисованного тела, и это прикосновение обожгло меня, как раскаленным железом. Но я не мог заставить солнце остановиться, пока не кончится битва, как это сделал некогда Иисус Навин в долине Аиалонской.
[253]
Едва луч солнца коснулся моей груди, пять жрецов уцепились за мои руки, ноги и голову, а верховный жрец, тот самый, что привел меня из дворца, двумя руками поднял свой обсидиановый нож. Смертельная слабость охватила меня, и я закрыл глаза, думая, что уже все кончено. Но в этот миг верховный звездочет, человек с безумным, диким взглядом, который, как я успел заметить, стоял чуть поодаль, остановил убийцу:
— Жрец Тескатлипоки, еще не время! Если ты ударишь раньше, чем солнце засияет на сердце жертвы, боги Анауака погибнут и Анауак погибнет.
Заскрежетав зубами от ярости, верховный жрец посмотрел на неторопливо ползущее пятно света, потом оглянулся через плечо на сражающихся. Кольцо воинов вокруг нас медленно сжималось, и так же медленно золотой луч передвигался по моей груди. Вот его внешний край достиг багряного круга над моим сердцем. Снова жрец поднял свой ужасный нож, я опять закрыл глаза и снова услышал предостерегающий вопль звездочета:
— Еще не время! Остановись, или боги твои погибли!
И тут я услышал другой голос — это Отоми звала на помощь.
— Спасите нас, теули! — закричала она так пронзительно, что ее призыв долетел до ушей испанцев. — Спасите, нас убивают!
— Ко мне, друзья! — послышалась в ответ кастильская речь. — Вперед! Эти псы убивают кого-то на алтаре!
Последовал могучий натиск, отбросивший ацтекских воинов и опрокинувший верховного жреца, так что он свалился поперек моего тела.
Этот натиск повторялся трижды, подобно натиску морского прибоя, и с каждым разом кольцо защитников алтаря редело. Затем оно распалось, и мечи испанцев засверкали со всех сторон. Но золотой луч уже достиг середины круга над моим сердцем.
— Рази, жрец Тескатлипоки! — завопил звездочет. — Рази во славу твоих богов!
С жутким воем жрец взмахнул ножом. Я увидел, как сверкнул на его клинке солнечный луч, остановившийся прямо над моим сердцем, и нож устремился вниз. Но тут наперерез ему, просияв в том же луче, мелькнул стальной клинок и вонзился в грудь палача. Огромный обсидиановый нож вылетел из его рук. Он достиг цели, но уже не смог поразить свою жертву. Ударившись об алтарь между мной и Отоми, нож разлетелся на куски и только поранил обоих. Наша кровь смешалась на жертвенном камне, соединив нас в одно целое, а сверху поперек наших тел рухнул, корчась в агонии, тот, кто пытался принести меня в жертву. Но на сей раз он уже больше не встал.
Словно во сне, я услышал жалобный голос звездочета, оплакивавшего гибель богов Анауака:
— Пал жрец, и все его боги пали! Тескатлипока отверг свою жертву и теперь обречен! Погибли боги Анауака, победили кресты пришельцев!
Удар меча оборвал его горестный вопль, и я понял, что провидец тоже мертв.
Чья-то сильная рука сбросила с нас умирающего жреца. Он покатился в сторону алтаря, где горел вечный огонь, и своей кровью и тяжестью тела погасил священное пламя, пылавшее на протяжении многих поколений. Затем кто-то перерезал ножом наши путы. Дико озираясь, я приподнялся на жертвенном камне и в этот миг услышал, как один ив испанцев проговорил, обращаясь к своим товарищам:
— Еще немного, беднягам пришел бы конец. Опоздай я на секунду, этот дикарь проделал бы в парне дыру величиной с мою голову. А девочка, право, недурна, если, конечно, ее отмыть хорошенько. Клянусь всеми святыми, я выпрошу ее у Кортеса! Это моя добыча!
Я услышал голос и узнал его. Только один человек на свете обладал таким холодным и ясным тембром. Я узнал его даже сейчас, на жертвенном камне. И когда, соскользнув на землю, я поднял глаза, то увидел именно того, кого ожидал увидеть. Передо мной стоял закованный в латы мой старый враг Хуан де Гарсиа. Это его меч волей судьбы поразил жреца. Это он меня спас. Но если бы де Гарсиа знал, кого он спасает, он бы скорее направил клинок в собственное сердце, чем в сердце моего палача.
«Уж не сон ли все это?» — подумал я, и с губ моих невольно сорвалось восклицание:
— ДЕ ГАРСИА!
Услышав мой голос, он вздрогнул, как подстреленный, оглянулся и протер глаза. Теперь он меня узнал, несмотря на разрисовку.
— Матерь божья! — прохрипел де Гарсиа. — Проклятый Томас Вингфилд! И Я САМ СПАС ЕМУ ЖИЗНЬ!
Только тут я пришел в себя и, понимая, какую страшную ошибку совершил, бросился бежать. Но де Гарсиа не собирался упускать свою жертву. Выхватив меч, он бросился за мной, рыча от ярости, словно дикий зверь. Быстрее мысли бежал я вокруг жертвенного камня, спасаясь от его обнаженного меча. Но де Гарсиа не пришлось бы долго за мной гоняться, потому что я ослаб от пережитого ужаса, а ноги мои затекли от веревок. По счастью, какой-то офицер (судя по доспехам и повелительному тону, это был не кто иной, как сам Кортес) в последнее мгновение успел отбить меч де Гарсиа.
— Что с вами, Сарседа? — проговорил он. — Вы что, совсем обезумели от крови и хотите заняться жертвоприношениями, как индейский жрец? Оставьте беднягу в покое!
— Он не индеец, а английский шпион! — крикнул де Гарсиа, пытаясь ударить меня мечом.
— Ну ясно, он просто обезумел, — проговорил Кортес, взглянув на меня.
— Придумать только — это несчастное создание и вдруг англичанин! Эй, вы! Проваливайте отсюда оба, не то еще кто-нибудь так же ошибется! Ступайте! — приказал он нам и сделал знак мечом, думая, что я его не понимаю.

Де Гарсиа, онемев от бешенства, снова попытался на меня наброситься, но Кортес сердито крикнул:
— Стой, во имя господа бога! Я этого не потерплю! Мы пришли спасать жертвы, как христиане, а не убивать их. Ко мне, друзья! Держите этого дурака, чтобы он не загубил свою душу убийством!
Несколько испанцев схватили де Гарсиа, который только проклинал их и обливал гнусной бранью, ибо, как я уже сказал, в ярости он больше походил на дикого зверя, чем на человека. А я в это время стоял перед ним, не зная, куда бежать. К счастью, рядом оказалась Отоми; она хоть и не понимала испанского языка, зато соображала гораздо быстрее.
— Бежим, скорее бежим! — шепнула она и, схватив меня за руку, потащила прочь от жертвенного камня.
— Куда нам бежать? — спросил я. — Не лучше ли положиться на милость испанцев?
— На милость этого дьявола с мечом? — воскликнула Отоми. — Ну нет! Молчи, теуль, и не отставай!
Она повела меня за собой. Испанцы пропускали нас беспрепятственно и даже выказывали нам сочувствие, зная, что мы едва спаслись от жертвоприношения, а когда какой-то тласкаланец бросился вперед, чтобы прикончить нас палицей, испанский солдат проткнул ему плечо, и мерзавец, обливаясь кровью, покатился по мощеной платформе.
У самого края теокалли мы оглянулись, и я увидел, что де Гарсиа уже нет возле жертвенного алтаря: он вырвался из рук своих друзей или просто объяснил им в чем дело, обретя наконец дар речи, и теперь был от нас ярдах в пятидесяти. С мечом в руке испанец гнался за нами. Подстегиваемые страхом, мы понеслись от него быстрее ветра. Бок о бок мчались мы вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки, через убитых и умирающих, и лишь время от времени останавливаясь, чтобы нас не сшибли тела жрецов, которых испанцы сбрасывали с вершины теокалли. Один раз, оглянувшись, я заметил де Гарсиа далеко позади, но потом он совсем отстал. Может быть, его утомила погоня, но скорее де Гарсиа просто боялся попасть в руки ацтекских воинов, все еще толпившихся у подножия пирамиды.
В тот день мы с принцессой Отоми избежали многих опасностей, однако прежде чем хотя бы на время обрести покой, нам пришлось пережить еще одну. Когда мы достигли подножия теокалли и уже хотели смешаться с обезумевшей от страха толпой, которая перекатывалась по площади, унося убитых и раненых, словно волны морского отлива, смывающие обломки и мусор, сверху послышался вдруг какой-то шум, похожий на раскаты грома. Я поднял глаза и увидел огромную глыбу, несущуюся вниз, подпрыгивающую на уступах теокалли. Это было изваяние бога Тескатлипоки, свергнутое испанцами с его пьедестала. Даже тогда я узнал его. Подобно демону мести, оно катилось прямо на меня! Через мгновение мраморный идол должен был нас раздавить, Бежать поздно! Смерть казалась неминуемой. Мы избавились от жертвоприношения духу бога лишь для того, чтобы обратиться в прах под тяжестью его изваяния.
Идол приближался под торжествующие крики испанцев. Вот он ударился основанием о каменный выступ пирамиды футах в пятидесяти над нами и теперь, вращаясь в воздухе, описывал дугу, чтобы опуститься в трех шагах от вас. Я почувствовал, как вздрогнул от удара массивный склон теокалли, и в тот же миг воздух потемнел от ливня осколков. Огромные камни жужжали со всех сторон. Казалось, под нашими ногами взорвали пороховую мину, оторвавшую от земли скалу. Идол Тескатлипоки разлетелся на сотни кусков! Они просвистели над нами и вокруг нас, как стрелы, но ни один даже не оцарапал ни меня, ни Отоми. Голова изваяния почти коснулась моей головы, одна нога упала на волосок от моих ног, и все-таки я остался невредим. Ложный бог оказался бессильным перед ускользнувшими от него жертвами!
Что было потом — не помню. Я пришел в себя уже в своих покоях во дворце Монтесумы, который я больше не надеялся увидеть. Отоми была рядом со мной. Она принесла воды, чтобы смыть с моего тела краску и кровь, обильно струившуюся из глубокого прореза, оставленного жреческим ножом. Не думая о себе, Отоми прежде всего искусно перевязала мою рану. После этого она переоделась в чистое белое одеяние, мне тоже раздобыла одежду, а заодно — еду и питье. Я заставил ее поесть вместе со мной и, когда она насытилась, постарался собраться с мыслями.
— Как быть дальше? — спросил я Отоми. — Придут жрецы и слова потащат нас на заклание. Здесь нам надеяться не на что. Нужно довериться милосердию испанцев и бежать к ним.
— Ты веришь в милосердие того человека с мечем? Ты его знаешь, теуль? Скажи мне, кто он?
— Тот самый испанец, о котором я тебе рассказывал. Он мой смертельный враг, Отоми. Это за ним я последовал через океан.
— А теперь ты хочешь отдаться ему на милость? Ты поистине неразумен, теуль!
— Лучше попасть в руки христиан, чем в руки ваших жрецов!
— Не бойся, — успокоила меня Отоми, — теперь жрецы не страшны. Если ты однажды ускользнул от них — они тебя не тронут. Только до сих пор почти никому не удавалось вырваться живым из их когтей — для этого нужно быть настоящим волшебником! Наверное, твой бог и вправду сильнее наших богов, раз он сумел укрыть нас, когда мы лежали на алтаре. Ах, теуль, что ты со мной сделал? Я дошла до того, что стала сомневаться в наших богах и позвала на помощь врагов своей страны! Верь мне, ради себя я никогда бы этого не сделала. Я бы скорей умерла с твоим поцелуем на губах, пока эхо твоих слов еще не замерло в душе. А теперь мне придется жить, зная, что это счастье уже не вернется!
— Но почему? — спросил я. — Ведь я сказал тогда правду, Отоми. Ты хотела умереть со мной, и ты спасла мне жизнь, когда позвала на помощь испанцев. Отныне моя жизнь принадлежит тебе, ибо ты самая нежная и самая смелая женщина на свете. Я люблю тебя, Отоми, жена моя! Наша кровь смешалась, и наши губы слились на жертвенном камне, пусть же это будет нашим свадебным обрядом. Может быть, я проживу недолго, но покуда я жив — я твой!
Так я говорил от полноты души, ибо силы мои были подорваны, мужество ослабело, страх и одиночество измучили меня, и единственное, что еще оставалось во мне, — это вера в провидение и любовь Отоми, сделавшей для меня так много. И вот, забыв свои клятвы, я прильнул к ней, как ребенок к матери. Конечно, не следовало мне этого делать, но хотел бы я видеть мужчину, который на моем месте поступил бы иначе! К тому же я не мог взять назад роковых слов, произнесенных на жертвенном камне. Тогда я думал, что это мои последние слова, и отказаться от них теперь, когда смерть уже не грозила мне, значило признаться в собственной трусости. К добру или к худу — я отдал себя дочери Монтесумы, и мне оставалось только хранить ей верность или покрыть себя несмываемым позором.
Однако благородство этой индейской девушки было так велико, что даже сейчас она не захотела поймать меня на слове. Некоторое время Отоми стояла с печальной улыбкой, поглаживая ладонью свои волосы. Потом она заговорила:
— Ты сейчас сам не свой, теуль, и я была бы глупа, если бы заключила такой торжественный союз с человеком, который сам не знает, что говорит. Там, на алтаре, в свой смертный час ты сказал, что любишь меня, и в тот миг ты сказал правду. Но сейчас, когда ты вернулся к жизни, скажи мне, мой господин, кто надел тебе на руку вот это золотое колечко и что на нем написано? Даже если ты не лжешь мне, даже если ты немножко любишь меня, там, за морями, есть другая, и ее ты любишь сильнее. Но с этим я могу примириться. Из всех мужчин сердце мое выбрало одного тебя, и если ты будешь хотя бы добр ко мне, я согреюсь в лучах твоей доброты. Но однажды увидев свет, я уже не смогу блуждать в темноте. Ты не понял меня? Хорошо, я скажу, чего я боюсь. Я боюсь, что когда… когда мы станем мужем и женой, ты скоро пресытишься мною, как это бывает с мужчинами, и воспоминания о былом постепенно опять овладеют тобой. И тогда, рано или поздно, ты уплывешь за море и вернешься в свою страну, к своей любимой. Тогда ты покинешь меня, теуль, а этого я не перенесу, лучше нам остаться просто друзьями. Помни: со мной, дочерью императора Монтесумы, нельзя играть, как с какой-нибудь танцовщицей, подругой одной ночи! Если ты женишься на мне, это будет на всю жизнь. Ты ведь не думал о таком долгом сроке? Да, не думал… Ты просто поцеловал меня на алтаре, хотя кровь и соединила нас.
Отоми взглянула на багряное пятно, выступившее сквозь ее одежды в том месте, где была рана, и продолжала:
— А теперь, теуль, я покину тебя. Нужно найти Куаутемока, если он еще жив, и других близких мне людей; теперь, когда власть жрецов пала, они сумеют тебя защитить и возвысить. Подумай пока о моих словах и не торопись решать. Или, может быть, ты хочешь сразу покончить с этим делом и бежать к белым людям? Я постараюсь тебе помочь!
— Мне надоело убегать, — ответил я. — К тому же не забывай: среди испанцев мой враг, которого я поклялся убить. Его друзья — мои враги, а враги моих врагов — мои друзья. Я никуда не побегу, Отоми.
— Вот теперь ты говоришь мудро, — отозвалась она. Если бы ты вернулся к теулям, этот человек убил бы тебя. Он убил бы тебя, открыто или исподтишка, но убил — это я поняла по его глазам. А теперь отдохни, пока я позабочусь о твоей безопасности, если только еще можно говорить о безопасности в этой залитой кровью стране.
Глава XXIII
ТОМАС ЖЕНАТ
Отоми повернулась и вышла. Златотканый занавес опустился за ней. Я откинулся на свое ложе и мгновенно уснул.
В тот день я был так слаб и чувствовал себя настолько измученным и больным, что почти ничего не видел и не понимал. Лишь позднее мне удалось вспомнить все, о чем рассказано выше.
Должно быть, я проспал много часов подряд, потому что снова открыл глаза уже глубокой ночью. Настала ночь, но в комнате по-прежнему было светло. Сквозь зарешеченные оконные проемы снаружи проникали кровавые отблески пожарищ и беспорядочный гул сражения.
Одно из окон заходилось как раз над моим ложем. Встав на него ногами, я ухватился за деревянные прутья и с большим трудом, преодолевая боль от резаной раны в боку, подтянулся на руках. Сквозь решетку я увидел, что испанцы не удовлетворились захватом большого теокалли и предприняли ночную вылазку. Они подожгли сотни домов. Зарево полыхало над городом, словно зарницы. При свете его я увидел, как белые люди отходят к своим укреплениям, теснимые со всех сторон тысячами ацтеков, осыпающих врага стрелами и камнями.
Оторвавшись от окна, я опустился на ложе я принялся размышлять. Мной снова овладели сомнения. Что делать? Покинуть Отоми и при первой возможности бежать к испанцам? Но там меня ждет верная смерть от руки де Гарсиа. Остаться среди ацтеков, если они дадут мне убежище? Но тогда придется стать мужем Отоми. Был еще третий выход — остаться с ацтеками и не жениться, пожертвовав всем, даже честью. Одно было ясно: если я возьму Отоми в жены, мне придется самому превратиться в индейца и позабыть об Англии и о своей невесте. Надежды на возвращение на родину у меня почти не оставалось, но, пока я жив и свободен, еще можно на что-то рассчитывать. Другое дело, если мои руки будут связаны женитьбой. Тогда, пока Отоми жива, я ни о чем не смогу даже думать, а что касается Лили Бозард, то для нее я умру навсегда. Я ведь и так уже изменил ее памяти и своему слову! Но мог ли я оттолкнуть Отоми, которая отдала мне все и, по совести говоря, стала мне почти так же дорога? Ангел или герой нашли бы выход из этого положения, но — увы! — я не был ни ангелом, ни героем, а самым обыкновенным человеком со всеми человеческими слабостями. Отоми казалась мне самой прекрасной и самой нежной, и она была со мной рядом.
И тем не менее я решил воспользоваться ее благородством. Я решил взять свои слова обратно, попросить ее оставить меня и никогда со мной не встречаться, чтобы я не нарушил своего обещания, данного на дитчингемском берегу, потому что иначе мне пришлось бы поклясться Отоми в верности до гроба, а этой клятвы я страшился больше всего.
Так я раздумывал, находясь в самом жалком состоянии духа я даже не подозревая, что выбора у меня уже нет, что для меня открыт лишь один путь и мне остается только вступить на него или умереть. Но пусть эти размышления послужат доказательством моей честности. Если бы я хотел скрыть правду, я бы не стал писать о своих колебаниях, о своей слабости и об угрызениях совести. Достаточно было сказать, что независимо от Отоми мне предоставили на выбор либо жениться на ней, либо погибнуть, и никто не стал бы меня хулить за то, что я избрал первое, а не второе.
На самом деле так оно и случилось. Должен признаться, что, хотя я и женился на Отоми, в этом деле я был только игрушкой судьбы, не оставившей мне иного выхода. Однако сказать только это — значит сказать половину правды. Душа моя разрывалась на части, и если бы все не было решено за меня, не знаю, чем закончилась бы моя внутренняя борьба.
Сегодня, оглядываясь на далекое прошлое, оценивая, как беспристрастный судья, свой характер и свои поступки, я могу сказать, что, будь у меня больше времени на размышления, я нашел бы еще один довод в пользу Отоми. Де Гарсиа находился среди испанцев, а ненависть к нему определяла тогда всю мою жизнь. Она была даже сильнее любви к обеим женщинам, составлявшим мое счастье. По сей день, несмотря на то, что после смерти де Гарсиа прошло уже много лет, я по-прежнему его ненавижу, и каким бы греховным ни казалось это желание, я до сих пор, даже в мои годы, сожалею, что больше ничем не могу ему отомстить. А тогда… В те дни, оставаясь среди ацтеков, врагов испанцев и де Гарсиа, я мог встретиться с ним в бою и убить его. И, наоборот, в испанском лагере, если бы мне даже удалось до него добраться, меня самого ждала верная и скорая смерть. Де Гарсиа, конечно, уже сплел обо мне такую историю, что меня бы там сразу повесили как английского шпиона или прикончили каким-нибудь иным способом.
Но довольно этих бесполезных рассуждений! Единственная их цель — показать, как мучительно долго я не мог сделать выбор между далекой и близкой любовью. Пора вернуться к событиям, которые сразу положили конец всем моим колебаниям.
Так я сидел на своем ложе и размышлял, когда занавес на двери раздвинулся и в комнату вошел мужчина с факелом в руках. Это был Куаутемок. Ночная схватка закончилась, оставив после себя только пылающие руины, и он пришел ко мне прямо с поля боя. Перья с его шлема были сорваны, золотой панцирь изрублен испанскими мечами, стреляная рана на шее кровоточила.
— Привет тебе, теуль, — проговорил он. — Вот уж не думал увидеть тебя этой ночью живым! Я сам едва уцелел. Впрочем, настали странные времена, и сейчас во всем Теночтитлане творится такое, о чем раньше никто даже не помышлял. Но не будем терять времени. Я пришел, чтобы отвести тебя на совет.
— Что со мной сделают? — спросил я. — Неужели снова потащат на жертвенный камень?
— Нет, этого не бойся. А что там решат, я и сам не знаю. Через час ты либо умрешь, либо возвысишься, если только еще можно возвыситься в эти дни унижения и позора. Отоми хорошо поработала. Она говорит, что уже замолвила за тебя словечко вождям и советникам. Если у тебя есть сердце, ты должен быть ей благодарен. Редкие женщины умеют так любить. Что до меня, то я был занят другим делом, — принц покосился на свои помятые доспехи, — но и я скажу свое слово. А теперь идем, друг, факел уже догорает! Мы с тобой сегодня пережили десять смертей: одной меньше, одной больше — какая разница?
Я встал и последовал за Куаутемоком в тот самый большой зал, обшитый кедровыми панелями, где еще утром все поклонялись мне, как богу. Сейчас я уже был не богом, а просто пленником, участь которого пока что не решена.
На возвышении, где я недавно стоял в своем божественном обличии, собрались полукругом вожди и советники, еще оставшиеся в живых. Некоторые, подобно Куаутемоку, были в доспехах и окровавленных панцирях, другие — в своих обычных одеждах, а один — в облачении жреца. Но всех объединяли две общие черты — знатный род и угрюмые лица. Они собрались этой ночью вовсе не для того, чтобы решить мою судьбу — для них это было третьестепенное дело, — а для того, чтобы держать совет, как изгнать испанцев, пока они полностью не разрушили Теночтитлан.
На возвышении в центре полукруга сидел человек в доспехах. Я узнал Куитлауака, который после смерти Монтесумы должен был стать императором. Когда я вошел, он коротко взглянул на меня и проговорил:
— Кого это ты привел, Куаутемок? А, вспомнил: это теуль, который был богом Тескатлипокой и сегодня спасся от жертвоприношения. Слушайте, вожди! Что делать с этим человеком? Законно ли будет снова положить его на алтарь?
— Нет, — отозвался жрец. — К сожалению, это против обычая, высокородный принц! Он уже лежал на жертвенном камне, он даже был ранен священным ножом, но бог отверг его в роковой час. Убейте его, если хотите, но только не на алтаре.
— Как мы решим? — снова спросил Куитлауак. — Он теуль по крови, а значит — наш враг! Главное, чтобы он не мог пробраться к этим белым дьяволам и рассказать им о наших потерях. Не лучше ли покончить с ним разом?
Многие закивали головами, но другие члены совета остались безмолвными и недвижимыми.
— Решайте! — проговорил Куитлауак. У нас нет времени для этого человека, когда речь идет о тысячах жизней. Я спрашиваю еще раз должен ли он умереть?
Тогда поднялся Куаутемок и заговорил:
— Прости меня, благородный отец, но я думаю, что полезнее будет сохранить жизнь этому пленнику. Я его хорошо знаю. Он храбр и честен, а кроме того, он теуль только наполовину. В нем течет кровь другого белого племени, которое ненавидит теулей так же, как и мы. Наконец, он знает их обычаи, знает, как они сражаются, а нам этих знаний не хватает, и я уверен, он сможет добрым советом помочь нам в беде.
— Советовал волк оленю — остались одни рога, — холодно отозвался Куитлауак. — Его советы заведут нас прямо в пасть теулей! Кто поручится, что этот чужестранец не предаст нас, если мы ему доверимся?
— Я поручусь своей жизнью, — ответил Куаутемок.
— Твоя жизнь, племянник, слишком большой заклад по такой игре. Все люди белого племени — лжецы. Даже если он сам даст слово, оно немного будет стоить. Я думаю, лучше его прикончить и сразу разделаться со всеми сомнениями.
— Этот человек, — снова заговорил Куаутемок, — муж Отоми, принцессы народа отоми, дочери Монтесумы и твоей племянницы. Она любит его так сильно, что решилась умереть вместе с ним на жертвенном камне. И я уверен, она тоже поручится за него. Дозволь ее позвать, пусть скажет сама. — Как хочешь, племянник. Влюбленная женщина слепа, и он, конечно, уже успел ее обмануть. Кроме того, она стала его женой только для священного обряда. Но пусть решает совет. Будем ли мы слушать принцессу Отоми?
Теперь кое-кто сказал «нет», но большинство — это были те, кого Отоми успела склонить на свою сторону, — ответило утвердительно, и один из членов совета отправился за Отоми.
Она вошла в вал в своем царственном наряде, очень бледная, но внешне спокойная, и склонилась перед советом.
— Мы хотим спросить тебя, принцесса, — обратился к ней Куитлауак, — что делать с этим теулем? Убить его или сделать одним из наших, если только он принесет клятву? Здесь принц Куаутемок ручался за него и говорил, что ты тоже поручишься. Но женщина может это сделать лишь одним способом — если возьмет в мужья того, за кого ручается. Ты уже связана с этим чужестранцем священным обрядом. Согласна ли ты стать его женой по обычаю нашей страны и связать свою жизнь с его жизнью?
— Согласна, — спокойно ответила Отоми, — если он согласится.
— Не велика ли честь для этой белой собаки? — вспылил Куитлауак. — Одумайся, племянница! Ты принцесса народа отоми и одна из дочерей нашего императора. Мы надеялись, что ты приведешь к нам горные племена отоми, связанные сейчас союзом с проклятыми тласкаланцами, рабами теулей. Твоя жизнь слишком драгоценна, чтобы доверять ее чужеземцу. Ибо знай, Отоми, если он нас предаст, даже твой знатный род не спасет тебя от смерти!
— Я это знаю, — все так же спокойно проговорила Отоми. — Чужеземец он или нет, я люблю этого человека и отвечаю за него своей кровью. Вместе с ним я хотела отправиться к своему племени и напомнить народу отоми о его истинном долге. Но пусть он скажет сам за себя. Может быть, он не захочет взять меня в жены.
Куитлауак мрачно усмехнулся и проговорил:
— Когда приходится выбирать между объятиями смерти и объятиями твоих прекрасных рук, племянница, ответ угадать нетрудно. Ну что ж, говори, теуль, только быстрее!
— Я не задержу тебя, господин, — ответил я. — Если принцесса согласна быть моей женой, я согласен стать ее мужем.
Так сразу разрешились все мои сомнения и тревоги. Как справедливо заметил Куитлауак, сделать выбор между Отоми и смертью было нетрудно.
Услышав мой ответ, Отоми пристально посмотрела на меня и тихо спросила:
— Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили, теуль? Этой женитьбой ты отрекаешься от своего прошлого и вручаешь мне свое будущее.
— Помню, — ответил я, и в это мгновение передо мной возникло лицо Лили, каким я видел его в последний раз, в день разлуки. Так я нарушил свое обещание.
Куитлауак посмотрел на меня, словно пытаясь заглянуть в мою душу, и сказал:
— Я тебя выслушал, теуль. Ты, белый пришелец, милостиво согласился взять в жены принцессу Отоми и благодаря ей сделаться одним из знатнейших вождей нашей страны. Но скажи, можно ли тебе верить? Если ты нас обманешь — твоя жена умрет! Или это для тебя тоже ничего не значит?
— Я готов поклясться в верности, — ответил я. — Испанцев я ненавижу, ибо с ними мой злейший враг — вчера он пытался меня заколоть, Чтобы убить его, я переплыл океан. Больше мне сказать нечего, и если вы мне не верите, лучше покончим сразу. Я уже столько натерпелся от вашего народа, что теперь мне все равно — жить или умереть.
— Смело сказано, теуль! А теперь, вожди, решайте: отдать ей в мужья Отоми, чтобы он принес клятву и стал одним из наших, или убить на месте? Вы знаете все. Если ему можно довериться, как говорят Куаутемок и Отоми, он один будет стоить целого войска, потому что знает язык, обычаи, оружие и военные хитрости этих белых дьяволов, которых боги наслали на нас. Но если нет — а доверять людям этого племени трудно, — он сможет принести нам неисчислимые беды! Рано или поздно он сбежит к теулям и выдаст им все — тайны наших советов, наши силы и наши слабости. Решайте, вожди, его участь!
Члены совета начали спорить и переговариваться. Одни думали одно, другие — другое, и по всему было видно, что между ними нет единодушия. Наконец, наскучив ожиданием, Куитлауак призвал их решить дело большинством голосов. Сначала подняли руки те, кто осуждал меня на смерть, потом те, кто считал, что лучше оставить меня в живых. Всего их было двадцать шесть человек, не считая Куитлауака, и голоса разделились поровну — тринадцать за казнь и тринадцать против.
— Видно, мой голос будет решающим, — сказал Куитлауак, когда все стало ясно. Кровь застыла у меня в жилах при этих словах: я знал, что Куитлауак меня не пощадит. Но тут снова заговорила Отоми:
— Прости меня, дядя, — сказала она. — Прежде чем выносить решение, выслушай меня! Я вам нужна, не правда ли? Народ отоми поверит только мне, и только я смогу привлечь его на нашу сторону. Моя мать была последней из древнего рода вождей отоми, я — ее единственная дочь, а мой отец — император. Пусть моя жизнь ничего не значит, зато мое имя кое-чего да стоит в эти смутные времена, ибо только я могу привести под ваши знамена тридцать тысяч воинов. Жрецы на большом теокалли тоже знали об этом. Больше всего на свете они жаждали царственной крови, но когда я захотела по данному мне праву лечь рядом с теулем на жертвенный камень, они противились до тех пор, пока я не призвала на них проклятие богов. А теперь слушай меня, повелитель! Слушайте и вы, вожди! Если хотите, убейте этого человека, но тогда я завершу начатое вчера и последую за ним в могилу, а вам придется поискать кого-нибудь другого, чтобы привести мятежные племена отоми к верности.
Отоми умолкла. Собравшиеся в зале удивленно перешептывались: никто из них не подозревал, что в женском сердце может быть столько любви и мужества. Только Куитлауак пришел в ярость.
— Изменница! — вскричал он. — Ты предпочла любовника своей родине? Как ты осмелилась? Позор тебе, бесстыдная дочь императора! Видно, это у вас в крови — каков отец, такова и дочка! Разве Монтесума не бросил свой народ и не предпочел остаться среди теулей, ложных детей Кецалькоатля? А теперь и дочь идет по той же дорожке. Признайся, женщина, как тебе с любовником удалось спастись от смерти на теокалли, когда все остальные погибли? Может быть, ты уже в заговоре с теулями? Если бы дела шли по-другому, клянусь тебе, племянница, ты умерла бы рядом с этим человеком. Ты ведь этого хочешь? Этого?
Куитлауак задохнулся от гнева, и только глаза его продолжали метать молнии. Но Отоми не дрогнула. Бледная и спокойная, она стояла перед ним, крепко сжав руки и не поднимая глав.
— Не упрекай меня за силу моей любви, — ответила она. — Впрочем, упрекай, если хочешь, я сказала свое последнее слово. Можешь осудить этого человека на смерть, но тогда, повелитель, ищи другого посла, чтобы заставить отоми сражаться за Анауак. Куитлауак задумался, тяжело глядя в пространство перед собой и пощипывая бородку. Воцарилась мертвая тишина. Никто не знал, каким будет его решение.
Но вот он заговорил:
— Да будет так! Нам нужна моя племянница Отоми. Бороться с женской любовью неразумно. Теуль, мы дарим тебе жизнь, а вместе с ней богатство, честь, знатнейшую женщину нашей земли и место на нашем совете. Прими все это, но подумайте — я говорю вам обоим! — подумайте, как этим воспользоваться. Если ты нас предашь, если ты только задумаешь нам изменить, клянусь, ты умрешь самой медленной и такой страшной смертью, что при одной лишь мысли о ней сердце твое оледенеет! И с тобой умрут все — жена, дети, слуги. Ты понял? Покончим на этом. Пусть он принесет клятву.
Я слушал его, а сердце мое едва билось и глаза застилало туманом. Еще раз мне удалось спастись от неминуемой гибели!
Но вот туман рассеялся, и мои глаза встретились с главами женщины, которая меня спасла. Отоми, жена моя, смотрела на меня с грустной улыбкой.
Ко мне приблизился жрец. В руках у него была деревянная чаша, покрытая причудливой резьбой, и кремневый нож. Он заставил меня обнажить руку, сделал на ней надрез, так что кров брызнула в чашу, затем вылил из нее несколько капель на землю, бормоча какие-то заклинания. После этого жрец вопросительно посмотрел на Куитлауака, и тот, горько усмехнувшись, ответил ему:
— Освяти его кровью принцессы Отоми. Ведь она за него ручалась!
— Нет, повелитель! — возразил Куаутемок. — Они уже смешали свою кровь на жертвенном камне, а кроме того, они муж и жена. Но я тоже за него поручился, и я дам свою кровь, как залог моей жизни.
— У этого теуля хорошие друзья, — сказал Куитлауак. — Ты ему оказываешь слишком много чести, принц. Но пусть будет по-твоему!
Куаутемок вышел вперед. Жрец хотел надрезать ему руку ножом, но принц удержал его и со смехом проговорил, показывая на стреляную рану у себя на шее:
— Убери нож! Вот рана, нанесенная теулями. Словно нарочно для такого случая!
Сдвинув повязку, жрец собрал немного крови Куаутемока в другую маленькую чашу, затем обмакнул в нее палец и начертил у меня на лбу крест, словно христианский священник на лбу новорожденного.
— Перед ликом нашего бога, — медленно заговорил жрец, — именем бога всевидящего и вездесущего отмечаю тебя этой кровью, и да будет она твоей! Перед ликом нашего бога, именем бога всевидящего и вездесущего проливаю твою кровь на землю!
Тут он пролил часть моей крови и продолжал:
— Как эта кровь исчезла в земле, пусть исчезнет и будет забыта твоя прошлая жизнь, ибо ты вновь родился среди народа Анауака. Перед ликом нашего бога, именем бога всевидящего и вездесущего я смешиваю кровь с кровью, — жрец смешал кровь из обеих чаш, — и касаюсь этой кровью твоего языка, — обмакнув палец в чашу, он коснулся им кончика моего языка, — дабы ты мог повторить слова клятвы: «Пусть все страдания и болезни поразят меня, пусть проживу я всю жизнь в нищете и умру в мучениях страшной смертью, пусть душа моя будет изгнана из Обители Солнца, пусть она странствует вечно во мраке, лежащем за звездами, если преступлю эту клятву.
Я, теуль, клянусь в верности народу Анауака и его законным правителям. Клянусь сражаться со всеми его врагами, вплоть до их истребления, а особенно с теулями, покуда не будут они сброшены в море. Клянусь не гневить богов Анауака. Клянусь быть верным супругом Отоми, принцессы народа отоми, дочери Монтесумы, до конца ее дней. Клянусь не пытаться бежать из этой страны. Клянусь позабыть об отце и матери и о земле, на которой родился, ради этой земли, что стала мне новой родиной. И да будет клятва моя нерушима, пока из жерла Попокатепетля извергается дым и пламя, пока наши вожди царствуют в Теночтитлане, пока наши жрецы приносят жертвы на алтарях богов и пока существует народ Анауака».
— Клянешься ли ты во всем этому? — возгласил жрец.
И мне пришлось ответить:
— Клянусь во всем.
Многое в этой клятве мне совсем не нравилось, однако делать было нечего. Но вот что примечательно! С той ночи не прошло и пятнадцати лет, как Попокатепетль перестал извергать дым и пламя, в Теночтитлане не осталось ни одного ацтекского вождя, жрецы перестали приносить жертвы на алтарях богов, народ Анауака перестал быть народом, и, следовательно, клятва моя утратила всякую силу и смысл. А ведь жрец перечислял все это как нечто самое незыблемое, нерушимое!
Когда я принес клятву, Куаутемок приблизился и обнял меня:
— Приветствую тебя, теуль, брат мой по крови и духу! — сказал он. — Теперь ты один из наших, и мы ждем от тебя совета и помощи. Садись со мной рядом.
Я недоверчиво взглянул на Куитлауака, но тот ответил мне с ласковой улыбкой:
— Теуль, судьба твоя решена. Мы тебя приняли, и ты принес великую клятву братства и верности. Нарушить ее — значит умереть страшной смертью и обречь себя на мучения на том свете. Забудь же обо всем, что было сказано, когда весы колебались, ибо чаша склонилась на твою сторону. Пока ты не дашь нам повода усомниться в тебе, в нас ты можешь не сомневаться. Отныне, как муж Отоми, — ты вождь среди вождей, наделенный богатством и властью, и можешь по праву сидеть на нашем совете рядом со своим братом Куаутемоком.
Я занял указанное мне место, и Отоми удалилась. Со мной было все решено. Куитлауак вернулся к насущным государственным делам.
Он говорил медленно, с трудом, и голос его не раз прерывался от горя. Он говорил о страшных бедствиях, обрушившихся на страну, о гибели сотен храбрейших ацтеков, об избиении жрецов и воинов на большом теокалли, о надругательстве над богами Анауака. Положение было отчаянное.
— Что делать? — спрашивал Куитлауак. — Монтесума умирает пленником в лагере теулей, а тем временем огонь, который он сам раздул, пожирает страну. Все усилия наши разбиваются о железную мощь этих белых дьяволов, вооруженных непонятным и страшным оружием. Каждый день приносит новые поражения. На что надеяться, когда боги свергнуты, когда их алтари залиты кровью жрецов, когда оракулы безмолвствуют или пророчат гибель?
Один за другим поднимались вожди и военачальники, высказывая свое мнение. Наконец, Куитлауак проговорил, глядя на меня:
— Среди нас находится новый член совета, опытный в военных делах и обычаях белых людей. Час назад он сам был одним из них. Может быть, он скажет что-нибудь утешительное? Говори, брат мой!
И тогда я заговорил:
— Высокородный Куитлауак, вожди я принцы! Вы оказали мне честь, спрашивая у меня совета. Я отвечу вам коротко. Вы зря тратите силы, бросая свои отряды против каменных стен и оружия теулей. Так вы их не одолеете. Чтобы добиться победы, нужно действовать по-другому. Испанцы не боги, как думают невежды, они обыкновенные люди, и ездят они не на демонах, а на обыкновенных вьючных животных. В стране, где я родился, эти животные служат для всевозможных целей. Испанцы, как я сказал, обыкновенные люди. А разве люди не испытывают жажды и голода? Разве они могут обходиться без сна? Разве их нельзя убить сотнями способов? И разве вы сами не видите, что они уже смертельно измучены? Пусть это будет моим словом утешения. Прекратите атаки и окружите лагерь теулей так плотно, чтобы ни к ним, ни к их союзникам тласкаланцам не проникало ни крошки пищи. Не пройдет и десяти дней, как они либо сдадутся, либо попытаются прорваться к
побережью. Но для этого им придется сначала выйти из города. Если мы пересечем все дамбы рвами, теулям придется нелегко! И вот тогда, когда они попытаются вырваться, нагруженные золотом, которого они жаждали и ради которого сюда явились, тогда, повторяю, настанет час обрушиться на них и уничтожить всех до единого!
Ропот одобрения встретил мои слова.
— Похоже, что мы не ошиблись, сохранив жизнь этому человеку, — сказал Куитлауак. — Он говорит мудро, и я жалею только о том, что мы не действовали так с самого начала. Я готов последовать его совету. А что скажете вы, вожди?
— Мы скажем вместе с тобой: его слова мудры! — ответил Куаутемок. — Надо, чтобы они стали делом.
Вскоре после этого совет закончился, и на исходе ночи я отправился в свою комнату, полуживой от усталости и волнения, пережитого за эти сутки, полные всевозможных событий. На востоке уже разгоралась заря. Сумеречный свет ее помог мне отыскать дорогу среди безлюдных переходов дворца, и, наконец, я добрел до знакомого занавеса. Я откинул его и вошел. Там в дальнем конце комнаты стояла женщина, Призрачный свет мерцал на ее белоснежном одеянии, на ее распущенных иссиня-черных волосах и золотых украшениях. Это была Отоми, моя жена.
Я приблизился к ней. Она скользнула мне навстречу с простертыми вперед руками. Они обвились вокруг моей шеи, а губы ее запечатлели поцелуй на моем лбу.
— Свершилось, — прошептала она. — О, любовь моя, господин мой! К добру или к худу, но теперь мы одно до самой смерти, ибо наши клятвы нельзя нарушить.
— Поистине свершилось, Отоми, — ответил я, — и клятвы наши нерушимы на всю жизнь, хотя ради них я нарушил другую клятву.
Так я, Томас Вингфилд, стал супругом Отоми, принцессы народа отоми, дочери Монтесумы.
Глава XXIV
«НОЧЬ ПЕЧАЛИ»
Наутро, когда я проснулся, решение совета уже было исполнено: все мосты, соединявшие дамбы, разрушены, а сами дамбы, пересекающие озеро, подобно широким приподнятым над водой дорогам, перекопаны глубокими рвами.
К вечеру, облаченный в наряд индейского воина, я вместе с Куаутемоком и военачальниками отправился на переговоры с Кортесом. Кортес говорил с той самой башни, на которой стрела Куаутемока поразила Монтесуму. Переговоры ничего не дали, и я вспоминаю о них лишь потому, что впервые после того, как оставил Табаско, увидел вблизи Марину и услышал ее певучий и нежный голос. Она стояла, как обычно, рядом с Кортесом и переводила ацтекам его условия перемирия. Одно ив них показало мне, что де Гарсиа не потратил времени зря. Кортес обещал отпустить несколько знатных ацтеков в обмен на белого человека, сбежавшего с жертвенного алтаря, которого испанцы хотели повесить как шпиона и дезертира, изменившего королю Испании.
«Интересно, — подумал я, — знает ли Марина, что „белый человек“ — это ее старый друг из Табаско?»
— Как видишь, тебе повезло, теуль, — со смехом обратился ко мне Куаутемок. — Если бы ты не стал одним из наших, твои собратья встретили бы тебя веревочной петлей!
Затем он ответил Кортесу, ни словом не упоминая обо мне. Он советовал испанцам готовиться к смерти.
— Многие из нас погибли, — говорил Куаутемок, — но и вы погибнете тоже. Теули, вы умрете от голода и жажды или на алтарях наших богов. Вам нет спасения, теули, ибо мосты разрушены!
И вся многотысячная толпа подхватила его слова:
— Вам не спастись, теули! Мосты разрушены!
Затем засвистели стрелы, и я вернулся во дворец, чтобы рассказать Отоми все, что мне удалось узнать о ее двух сестрах-заложницах и о ее отце. По словам испанцев, Монтесума лежал при смерти.
Я также поведал Отоми о происках своего врага. Она поцеловала меня и, улыбаясь, сказала, что, хотя отныне моя жизнь и связана с вей, это все-таки лучше, чем если бы я попал в руки испанцев.
Два дня спустя по городу разнесся слух о смерти Монтесумы, а вскоре после этого испанцы передали ацтекам для погребения его труп, облаченный в великолепные царственные одежды. Монтесуму перенесли в приемный зал дворца а оттуда ночью переправили в Чапультепек и похоронили без всяких церемоний, опасаясь, как бы разъяренная толпа не растерзала на клочки даже его останки.
Стоя рядом с плачущей Отоми, я в последний раз видел лицо этого несчастнейшего из монархов, чье царствование началось так блистательно и кончилось так плачевно.
«Чьи горести могут сравниться с его страданиями? — думал я, глядя на мертвого императора. — Он умирал, лишенный власти и окруженный ненавистью своего народа, которому сам изменил. Он умирал пленником чужеземных хищников, терзающих сердце его родины. Понятно, почему Монтесума срывал повязки со своих ран и не давал себя перевязывать. Самая глубокая рана была у него в душе, и исцелить ее могло только одно лекарство — смерть. А ведь он был не так уж виноват! Трусливым и суеверным его сделали идолы, почитаемые им за богов, идолы, ныне низвергнутые вместе со своими жрецами. Если бы они не внушили Монтесуме тот непреодолимый ужас, который заставил его впустить испанцев в Теночтитлан, ацтеки оставались бы свободными еще долгие годы. Но, видно, судьба решила иначе: обесчещенный и ныне мертвый император был только ее орудием!»
Так размышлял я над телом великого Монтесумы, когда Отоми, сдерживая слезы, поцеловала покойного и воскликнула:
— Хорошо, что ты умер, отец мой, ибо все, кто тебя любил, не хотели тебя видеть в рабстве и унижении! Да пошлют мне твои боги силу отомстить за тебя! А если они не боги — я найду эту силу в себе. Клянусь тебе, отец, пока у меня останется хоть один воин, я буду мстить!
Не прибавив больше ни слова, Отоми взяла меня за руку, и мы удалились.
Этой своей клятве она была верна до конца.
В тот день и на следующий испанцы предприняли несколько вылазок, чтобы завалить сделанные нами разрывы в дамбах. Им удалось это сделать, правда, не без потерь, но едва они отступили, мы снова перекопали дамбы еще более глубокими рвами, так что усилия противника не привели ни к чему.
В эти дни я впервые принял участие в схватках. Мой английский лук сослужил мне добрую службу, и случилось так, что первая выпущенная ив него стрела полетела в моего заклятого врага де Гарсиа. Но мне снова не повезло, хотя цель была превосходной. То ли от чрезмерного волнения, то ли с отвычки я взял слишком высоко, и наконечник стрелы пронзил самую верхушку его железного шлема, не причинив испанцу никакого вреда: он только покачнулся в седле — и все. Но и этот весьма скромный успех необычайно возвысил меня в глазах ацтеков. Лучники они были прескверные, и к тому же ни разу не видели, чтобы стрела пробивала испанские доспехи. Я бы тоже не смог этого сделать, если бы не подобрал тяжелые стрелы от испанских арбалетов и не приделал их железные наконечники к своим стрелам. Когда расстояние не слишком велико и цель хорошо видна, против такой стрелы не мог защитить ни один панцирь.
После первого боевого дня меня назначили военачальником отряда в три тысячи лучников. Теперь впереди меня носили мой боевой значок, сам я ходил в пышном облачении военного вождя. Но мне лично гораздо больше пришлась по душе кольчуга, снятая с убитого испанского всадника. В течение многих лет я всегда носил ее под стеганым хлопковым панцирем, и это не раз спасало мне жизнь, потому что даже пули не пробивали такую двойную броню.
Мне довелось командовать своими лучниками всего двое суток — срок слишком ничтожный, чтобы научить их дисциплине, о которой они имели весьма слабое представление, хотя каждый из них в отдельности был достаточно храбр. А затем пришло время бросить их в бой. Это случилось в ту самую роковую ночь, которую испанцы до сих пор называют «nochе triste» — «Ночь печали».
[254]
Вечером накануне во дворце собрался совет. Я выступил на нем и сказал, что теули наверняка попытаются вырваться из города и сделают это скорее всего под покровом темноты, потому что иначе они не пытались бы засыпать рвы в дамбах. Куитлауак, ставший после смерти Монтесумы императором, хотя еще и не коронованным, ответил мне, что теули, конечно, помышляют о бегстве, но никогда не осмелятся выступить ночью, ибо тогда они запутаются в лабиринте улиц и дамб.
Я возразил ему:
— Ацтеки не привыкли к ночным сражениям и переходам, но для белых людей они обычное дело. Вы уже могли в этом убедиться. Испанцы знают, что ночью ацтеки не воюют, и именно потому скорее всего постараются ускользнуть под прикрытием темноты, надеясь, что их враги будут в это время спать. Я советую поставить часовых в начале каждой дамбы.
Куитлауак согласился. Охрану дамбы, ведущей на Тлакопан, он поручил Куаутемоку и мне.
Ночью мы с Куаутемоком и несколькими воинами отправились в обход постов, установленных нами на дамбе. Время приближалось к полуночи. В кромешном мраке моросил мелкий дождь, и вокруг ничего не было видно, словно у нас в Норфолке осенью, когда землю по ночам окутывает туманная мгла. С трудом отыскали мы и сменили часовых, которые сказали, что все было спокойно. Лишь на обратном пути к большой площади я вдруг услышал неясный шум, похожий на звук сотен шагающих ног.
— Слушай! — проговорил я.
— Это теули, — шепотом ответил Куаутемок. — Они уходят?
Мы бросились бегом к улице, выходившей с большой площади на дамбу, и здесь даже сквозь темноту и дождь увидели тусклый блеск панцирей.
— К оружию! — закричал я страшным голосом. — К оружию! Теули уходят по дамбе на Тлакопан!
Часовые мгновенно подхватили мой призыв, и, переходя от поста к посту, он вскоре зазвучал по всему городу. Его выкрикивали на улицах и на каналах, он гремел с кровель домов и верхних площадок сотен храмов. Город с ропотом пробуждался. Воды озера забурлили под ударом десятков тысяч весел, словно бесчисленные стаи водяных птиц разом сорвались со своих тростниковых гнездовий. Повсюду, то здесь, то там, падающими звездами вспыхивали и угасали факелы, со всех сторон слышались дикий вой труб и хриплые звуки раковин, а над всем этим, надрываясь, гудел на теокалли барабан из змеиной кожи, в который неистово колотили жрецы. Скоро глухой ропот превратился в рев, и многочисленные отряды вооруженных ацтеков устремились к тлакопанской дамбе. Некоторые бежали по суше, однако большинство прибывало на челнах, сплошь покрывших все озеро, насколько хватал глаз.
Но вот появились испанцы. Их было тысячи полторы, да еще тысяч шесть-восемь тласкаланцев. Они вступили на дамбу, вытягиваясь в тонкую линию.
Куаутемок и я, собирая по пути воинов, бросились навстречу врагу, к первому каналу, пересекающему дамбу, где уже теснились десятки наших челнов. Авангард испанской колонны достиг тем временем противоположного берега канала, и сражение закипело.
Ацтеки дрались беспорядочно, без всякого плана. Военачальники в темноте не видели своих воинов, а те не слышали их приказов. Но ацтеков было бесчисленное множество, и в груди у каждого горело только одно желание — уничтожить теулей!
Загрохотала пушка, осыпав нас градом картечи, и при вспышке выстрела мы увидели, что испанцы перекидывают через канал заранее приготовленный переносный мост. Мы бросились на врага. Все смешалось. Каждый сражался теперь сам за себя.
Первый натиск испанцев расшвырял нас с Куаутемоком, как вихрь осенние листья, и хотя оба мы уцелели, в эту ночь нам больше не удалось встретиться. Вместе с нами и следом за нами по дамбе катился растянувшийся поток испанцев и тласкаланцев, в то время как ацтеки вгрызались во фланги продвигающейся с боем колонны, словно муравьи в раненого червя.
Как рассказать обо всем, что произошло в ту ночь? Я этого сделать не могу, потому что сам видел немного. Знаю только, что в течение двух часов я дрался как одержимый.
Врагам удалось пройти через первый канал, но переносный мост под их тяжестью осел и так увяз в грязи, что его уже невозможно было сдвинуть с места. А впереди через шестьсот ярдов дамбу пересекал второй канал, еще шире и глубже первого. Перебраться через него испанцы смогли бы, только завалив его трупами.
Казалось, все дьяволы сорвались с цепи и разбушевались на этой узенькой полоске земли. Гром пушек, мушкетов в аркебуз, предсмертные стоны и вопли ужаса, призывы испанских солдат и боевые кличи ацтеков, ржание раненых лошадей, плач женщин, свист дротиков, жужжание стрел и глухой шум ударов — все смещалось в дикую, отвратительную, потрясающую небеса какофонию. Словно обезумевшее стадо, длинная колонна испанцев с ревом металась из стороны в сторону. Многие скатывались с дамбы в озеро, и здесь в воде их либо убивали, либо втаскивали в челны и увозили, чтобы принести в жертву, другие тонули сами, но больше всего испанцев было затоптано в грязь и погибло при переходе каналов.
Сотни ацтеков тоже пали в этом бою, и большей частью от руки своих соплеменников, которые рассыпали в темноте удары, не зная, кому они достанутся, и стреляли из луков, не ведая, в чью грудь вонзятся их стрелы.
Я сражался вместе с небольшим отрядом собравшихся вокруг меня воинов до самого рассвета, когда первые лучи, наконец, озарили ужасающую картину боя. Оставшиеся в живых испанцы и их союзники перебрались через второй канал, заваленный трупами их соратников, пушками, остатками снаряжения и грузом сокровищ. Теперь сражение на дамбе кипело уже по ту сторону канала. Но часть испанцев и тласкаланцев еще пробивалась тесной толпой через второй страшный мост; на них-то я и напал со всеми своими воинами.
Я устремился в гущу врагов. Внезапно передо мной мелькнуло лицо де Гарсиа. Закричав, я бросился на него, и он узнал меня, оглянувшись на мой голос. С проклятием обрушил он свой тяжелый меч мне на голову, но клинок отколол только часть моего деревянного раскрашенного шлема и лишь ранил меня. Но, падая, я нанес де Гарсиа удар прямо в грудь своей боевой палицей и тоже сбил его с ног. Наполовину оглушенный и ослепленный ударом, я ползком пробирался к нему сквозь давку. Я ничего не видел, кроме его сверкающего в грязи панциря. Вцепившись в горло испанца, я подтащил его к краю дамбы, и мы вместе скатились в озеро. Здесь у самой дамбы было неглубоко. Оседлав своего врага, я с жестокой радостью отер кровь с лица, чтобы теперь-то разделаться с ним наверняка.
Все тело его было под водой, но голова лежала на выступе дамбы. Палицу свою я потерял, и единственное, что мне оставалось, — ото окунуть его с головой и держать в воде, пока он не захлебнется.
— Попался, де Гарсиа! — крикнул я по-испански, стискивая пальцы на его шее.
— Отпусти меня, ради бога! — прохрипел снизу грубый голос. — Болван, ты принял меня за индейского пса!
С удивлением уставился я на своего врага. Я схватил де Гарсиа, но голос был не его и лицо не его. Передо мной был обыкновенный огрубевший в походах испанский солдат.
— Кто ты? — спросил я, ослабляя хватку. — Куда делся де Гарсиа, — вы его называете Сарседой?
— Сарседа? Откуда я знаю! Минуту назад он валялся носом вверх на дамбе. Этот дурак подкатился мне под ноги, и я упал. Отпусти, говорят тебе! Я не Сарседа, но даже будь я им, разве сейчас время сводить личные счеты? Я твой товарищ Берналь Диас. Матерь божья! А ты кто? Ацтек, говорящий по-испански?
— Я не ацтек, — ответил я. — Я англичанин и сражаюсь за ацтеков только для того, чтобы убить этого Сарседу, как вы его зовете. Но к тебе у меня нет вражды. Вставай, Берналь Диас, и спасайся, если можешь. Нет, твой меч я оставлю себе.
— Англичанин, испанец, ацтек или сам черт, — проворчал Диас, выбираясь из тины, — кто бы ты ни был, ты добрый малый, и, клянусь, если я сегодня уцелею и когда-нибудь потом случайно схвачу за глотку тебя, я вспомню о твоей услуге. Прощай!
Не прибавив больше ни слова, он вскарабкался по откосу дамбы и нырнул в поток отступающих, оставив свой добрый меч у меня в руках. Я хотел последовать за ним, чтобы отыскать де Гарсиа, который снова ушел от расплаты, но силы меня оставили. Рана была слишком глубока. Истекая кровью, я сидел в воде до тех пор, пока не подошел челн и меня не отвезли к Отоми. Ей пришлось ухаживать за мной целых десять дней, прежде чем я снова смог встать на ноги.
Таково было мое участие в «Ночи печали». Увы, наша победа ничего не дала, несмотря на то, что в ту ночь пало более пятисот испанцев и тысячи их союзников. Ацтеки не имели никакого понятия ни о военном искусстве, ни о дисциплине и не сумели воспользоваться своим преимуществом. Вместо того, чтобы преследовать испанцев и уничтожить их всех до последнего, они бросились грабить мертвых и вылавливать из озера живых для своих жертвоприношений.
Отоми эта ночь отмщения тоже принесла много горя. Два ее брата, сыновья Монтесумы, которых испанцы захватили в качестве заложников, погибли во время отступления.
Что касается де Гарсиа, то я так и не узнал, уцелел он тогда или нет.
Глава XXV
СОКРОВИЩА МОНТЕСУМЫ
Пока я лежал не поднимаясь, Куитлауак был коронован императором вместо своего умершего брата Монтесумы. Меня приковали к ложу две раны: одна от меча де Гарсиа, а вторая от жертвенного ножа жреца. Эта рана не успела зажить: во время яростного боя в «Ночь печали» она снова открылась и начала сильно кровоточить. Долгие годы она доставляла мне немало беспокойства, и даже сейчас я ее чувствую с приближением осени.
Отоми заботливо ухаживала за мной. Странная вещь — сердце женщины! Из-за того, что я не погиб и даже прославился в бою, она словно позабыла о постигшем ее горе, о смерти отца и братьев, и с увлечением рассказывала мне о пышной церемонии коронации.
Ацтеки поистине обезумели от радости. Наконец-то теули ушли! Все забыли или делали вид, что забыли о гибели тысяч воинов и знатнейших людей, цвета нации, и, казалось, совсем не думали о будущем. От дома к дому, из улицы в улицу носились группы юношей а девушек в венках из цветов, громко выкрикивая:
— Теулей нет! Радуйтесь вместе с нами! Теули бежали, веселитесь!
И горе тем, кто не смеялся вместе с ними, несмотря на то, что многие семьи посетила смерть.
На большой пирамиде снова отстроили храмы я поставили изваяния богов, а с воздвигнутым испанцами распятием ацтеки поступили так же, как в свое время испанцы с идолами Уицилопочтли и Тескатлипоки, то есть сбросили его вниз с теокалли, предварительно принеся перед ним в жертву несколько испанских пленников. Об этом святотатстве мне рассказал Куаутемок, впрочем, без особого восторга. Я ему уже кое-что говорил о нашей вере, и хотя Куаутемок был слишком закоренелым язычником, чтобы отречься от своих идолов, в глубине души он считал, что бог христиан — это бог истинный и всемогущий. К тому же Куаутемок, как и Отоми, никогда не был сторонником человеческих жертвоприношений, однако ему приходилось это скрывать, опасаясь жрецов, ибо власть их была велика.
Выслушав его рассказ, я пришел в такую ярость, что утратил всякую осторожность и воскликнул:
— Слушай, Куаутемок, брат мой! Я поклялся в верности вашему делу и породнился с вашим народом. Но сегодня я говорю тебе: дело ваше отныне проклято! Ваши кровавые идолы и жрецы сами обрекли его на погибель. Те, кто поклоняется истинному богу, скоро вернутся с новыми силами. Поруганный крест будет снова стоять на месте ваших идолов, и уже никто его никогда не свергнет!
Так я сказал ему, и мои слова, хотя никто мне их не внушал и я говорил просто в порыве гнева, оказались пророческими. На месте жертвенников в Мехико сегодня возвышается церковь.
— Ты слишком неосторожен, брат мой, — проговорил в ответ Куаутемок. Он казался довольно спокойным, но было видно, что мое мрачное пророчество его встревожило. — Повторяю, ты слишком неосторожен. Если кто-нибудь услышит твои слова, ты снова встретишься со жрецами, которых поносишь, и тогда ничто тебя не спасет — ни твое положение, ни твои заслуги в бою и перед советом, ни твое бегство с жертвенного алтаря. И потом, что мы такого сделали христианскому богу? Ведь твои белые единоверцы точно так же осквернили и оскверняют наших богов! Но не будем об этом говорить! И прошу тебя, брат, если ты дорожишь моей любовью, больше не повторяй таких пророчеств, чтобы не накликать беду. Скажи лучше, ты вправду думаешь, что теули вернутся?
— Ах, Куаутемок, это так же ясно, как солнце светит. Вы держали Кортеса в своих руках и упустили его. После этого он ухитрился выиграть битву при Отумбе.
[255] Неужели ты думаешь, что такой человек сложит оружие и безропотно канет во мрак бесчестья и неизвестности? Не пройдет и года, как испанцы снова будут стоять у ворот Теночтитлана.
— Видно, сегодня ночью ты меня вряд ли чем-нибудь утешишь, — проговорил Куаутемок. — Но боюсь, что ты прав. Ладно, если придется сражаться, постараемся победить. По крайней мере — у нас теперь нет Монтесумы, и никто не станет согревать змею у себя на груди и ждать, пока она укусит.
Куаутемок поднялся и вышел, не проронив больше ни слова. Я видел, что на сердце у него было тяжело.
На следующее утро после этого разговора я смог покинуть свое ложе, а еще через неделю я был уже совершенно здоров. Куаутемок снова навестил меня и сказал, что император Куитлауак повелел ему и мне завершить одно важное дело, требующее абсолютной тайны. Только узнав о чем идет речь, я понял, насколько мне доверяют вожди ацтеков, ибо дело это касалось ценностей, отнятых у испанцев в «Ночь печали», и прочих неисчислимых богатств, извлеченных из тайных хранилищ империи. Мне и Куаутемоку было поручено надежно спрятать все эти сокровища.
С наступлением темноты мы с Куаутемоком и другими знатнейшими ацтеками отправились к пристани, где нас ожидало десять больших лодок, тяжело нагруженных какими-то предметами, укрытыми хлопковыми тканями. Всего под предводительством Куаутемока было тридцать человек. Надеясь, что нас никто не видел, мы сели в лодки — по трое в каждую — и два с лишним часа гребли поперек озера Тескоко, пока не пристали к противоположному берегу в том месте, где у Куаутемока были обширные владения. Здесь мы сошли на землю и сняли покровы с нашего таинственного груза.
В лодках оказались большие глиняные вазы и мешки с золотом, драгоценными камнями и ювелирными украшениями, а кроме того, всевозможные ценные предметы и среди них — отлитая из массивного золота голова Монтесумы, настолько тяжелая, что мы с Куаутемоком едва-едва ее подняли. Что же касается глиняных ваз — насколько помню, их было семнадцать штук, — то каждую с трудом перетаскивали на носилках из весел шесть человек.
Весь этот бесценный груз мы постепенно перенесли на вершину холма, расположенного футах в шестистах от озера, и уложили возле входа в отвесную шахту на куче выброшенной земли. Когда в лодках ничего не осталось, Куаутемок тронул за плечо меня и еще одного высокородного ацтека, чья мать была тласкаланкой. Он спросил, не хотим ли мы спуститься вместе с ним в шахту, чтобы помочь ему уложить сокровища.
— Охотно, — ответил я, потому что мне хотелось увидеть подземелье. Однако ацтек замешкался и, только преодолев нерешительность, согласился пойти вместе с нами себе на горе.
Куаутемок взял факелы, и его спустили вниз. Затем настала моя очередь. Словно паук на паутине, висел я на веревке, опускаясь все ниже: шахта оказалась очень глубокой. Наконец я достиг дна и очутился рядом с Куаутемоком. При свете факела, который он держал в руке, я увидел выложенный по стенам шахты на высоту человеческого роста карниз из сухих глиняных кирпичей. На нем стояла прислоненная к стене огромная каменная плита с высеченными ацтекскими письмами-рисунками, которые теперь я разбирал без труда. В надписи говорилось о том, что в первый год правления Куитлауака, императора Анауака, здесь погребены сокровища его страны; далее следовало ужасающее проклятие, грозившее тому, кто на них посягнет. Позади нас в правом углу шахты открывался горизонтальный ход длиной шагов в десять и довольно высокий — по нему можно было идти, не сгибаясь. Он оканчивался пещерой примерно такой же величины, как эта комната, где я сегодня пишу. У самого входа в пещеру был приготовлен известковый раствор и штабеля адобов, напомнившие мне штабеля обтесанных камней в севильском подземелье, где была замурована заживо Изабелла де Сигуенса.
— Кто вырыл эту пещеру? — спросил я.
— Те, кто не знали, что они роют, — ответил Куаутемок. — А, вот и наш помощник! Прошу тебя, брат, ничему не удивляйся и помни, — если я так поступаю, значит, у меня есть на то причины…
Прежде чем я успел что-либо спросить, знатный ацтек оказался рядом с нами. Затем оставшиеся наверху начали спускать вниз мешки и глиняные сосуды. Куаутемок отвязывал веревки, и мы с ацтеком перекатывали груз по проходу в пещеру точно так же, как у нас в Англии перекатывают бочки с элем. Так мы трудились часа два с лишним, пока не разместили все сокровища. Последний мешок разорвался, когда его спускали, и на нас хлынул белый дождь драгоценных камней. Большое ожерелье из поразительных по красоте и величине изумрудов упало мне прямо на голову и повисло, зацепившись за мое плечо.
— Возьми его себе, брат, на память об этой ночи! — рассмеялся Куаутемок, и я с радостью спрятал бесценный дар на груди. Это ожерелье до сих пор у меня. С него-то я и снял тот изумруд, один из самых маленьких, который подарил нашей милостивой королеве Елизавете. Долгие годы его носила Отоми, и потому я хочу, чтобы ожерелье похоронили вместе со мной. Знающие люди говорили, что ему нет цены, но какое мне до этого дело! Сколько бы оно ни стоило, ожерелье будет погребено в моей могиле на дитчингемском кладбище, и горе тому, кто задумает отнять у мертвеца эту драгоценность! Пусть поразит его проклятие, начертанное на камне, скрывающем под собой сокровища ацтеков.
Закончив работу, мы вышли на пещеры в подземный ход и начали закладывать пещеру стеной из адобов. Когда кладка достигла высоты двух-трех футов, Куаутемок разогнулся и попросил меня поднять факел повыше. Я повиновался, недоумевая, что он еще хочет тут разглядеть. Тогда принц отступил шага на три по проходу и окликнул нашего спутника-ацтека.
— Знаешь ли ты, друг, какая судьба ожидает разоблаченного предателя? — заговорил Куаутемок, высвобождая из ременной петли свою боевую палицу, усаженную обсидиановыми остриями. Голос его звучал очень спокойно, и от этого казался еще страшнее.
Ацтек посерел, несмотря на смуглую кожу, и задрожал от страха.
— Что ты хочешь сказать, господин? — прохрипел он.
— Ты сам знаешь, что, — ответил Куаутемок тем же ужасающе спокойным тоном и поднял палицу.
Обреченный рухнул на колени, моля о пощаде. Вопль его прозвучал так жутко в глубине безмолвного подземелья, что я от страха едва не выронил факел.
— Врага я мог бы еще пощадить, но предателя никогда! — ответил Куаутемок и, бросившись на ацтека, сразил его одним ударом палицы. Затем он поднял труп могучими руками и швырнул в пещеру с сокровищами. Там он и лежит до сих пор среди золота я драгоценных камней, жуткий страж, раскинувший руки, словно пытаясь прижать к себе два больших глиняных сосуда.
Я взглянул на Куаутемока, полагая, что теперь настал мой черед. Когда принцы тайно прячут свои сокровища, они стараются избавиться от лишних свидетелей, — это я знал достаточно хорошо. Но Куаутемок сказал:
— Не бойся, брат. Этот человек был изменником, трусом и вором, Мы узнали, что он дважды пытался предать нас теулям. Мало того! Он хотел найти этот тайник, чтобы рассказать о нем нашим врагам, если они вернутся, и поживиться добычей вместе с ними. Все это мы узнали от одной женщины, которую он считал своей возлюбленной, но в действительности она была нашей шпионкой, подосланной, чтобы проникнуть в тайные замыслы его черной души. Вот он и получил свою долю сокровищ! Смотри, как он их обнимает! Даже белый человек не смог бы крепче вцепиться в золото. Ах, теуль, если бы земля Анауака не приносила ничего, кроме маиса для еды да кремней и меди для стрел, никто бы не посягал на нашу свободу. Будь прокляты все эти сокровища! Ведь из-за них заморские акулы хотят перегрызть нам горло. Проклятие на них, говорю я! Пусть они никогда больше не засверкают при свете солнца, пусть исчезнут навечно!
И Куаутемок снова яростно принялся за работу, стремясь поскорее замуровать пещеру.
Скоро стена была почти готова. Когда осталось положить всего несколько квадратных адобов, похожих на те кирпичи, какие у нас в Норфолке идут на постройку амбаров и батрацких хижин, я просунул в отверстие факел и последний раз заглянул в сокровищницу, ставшую одновременно могильным склепом. Она была вся завалена мерцающими драгоценностями. Поверх одного из сосудов лежала, сверкая, золотая голова Монтесумы с инкрустированными изумрудными глазами. Казалось, они смотрели прямо на меня. А внизу, привалившись спиной к этому же сосуду и обнимая руками два других, полулежал сраженный предатель. Но, казалось, он не был мертв. Может быть, это мне почудилось, только я увидел, как его глава открылись и уставились на меня так же, как изумрудные глаза золотого изваяния, только взгляд их был еще ужаснее.
Я поспешно выдернул факел из отверстия, и мы в полном молчании продолжали работу, Когда все было кончено, мы вернулись по ходу к шахте. Здесь я с облегчением снова увидел высоко над головой сияющие звезды.
Сделав на конце веревки двойную петлю, мы дали сигнал, и нас подняли на высоту верхнего края черной мраморной глыбы, которой суждено было стать надгробной плитой над сокровищами Монтесумы и над тем, кто с ними остался.
Огромный камень едва держался. Мы начали его раскачивать руками и ногами, пока он не обрушился вниз прямо на специально приготовленный кирпичный уступ, наглухо закрыв отверстие шахты; теперь проникнуть внутрь можно было, только взорвав каменную плиту порохом.
Веревку снова потянули, и скоро мы благополучно достигли поверхности.
Кто-то спросил, что случилось со знатным ацтеком, который спустился вняв вместе с нами и не вернулся.
— Как достойный и преданный слуга, он предпочел остаться, чтобы охранять сокровища, пока они не понадобятся его повелителю, — мрачно ответил Куаутемок.
Объяснений не потребовалось; все понимающе склонили головы. Затем ацтеки начали заваливать узкую шахту лежавшей тут же землей. Они работали без передышки и закончили свое дело с первыми лучами рассвета. Когда от шахты не осталось никаких следов, один из ацтеков взял мешочек с семенами и засеял взрыхленную землю. Кроме того, он посадил над шахтой два привезенных с собой молодых деревца, очевидно, для того, чтобы отметить это место. Наконец, собрав веревки и лопаты, все сели в лодки и к утру вернулись в Теночтитлан. Оставив челны у верхних причалов, мы пробирались в город поодиночке или по двое, надеясь, что нас никто не заметит.
Так мне довелось похоронить в тайнике сокровища Монтесумы, из-за которых позднее меня подвергли жестоким пыткам. Вряд ли кто-нибудь сможет их теперь отыскать! К тому времени, когда я покидал землю Анауака, никому еще не удалось проникнуть в тайник; я думаю, что из всех принимавших участие в том деле уже тогда не оставалось в живых никого, кроме меня. Я видел то самое место, когда в последний раз ехал в Мехико в сопровождении испанских солдат. Саженцы превратились в высокие могучие деревья. Я узнал их и поклялся в душе, что с моей помощью испанцы никогда не получат зарытых под ними сокровищ. Я и сейчас не указываю точные места, где они покоятся вместе с прахом изменника, опасаясь, как бы эти строки не попались на глаза кому-нибудь из испанцев.
А теперь, прежде чем говорить об осаде Теночтитлана, я должен рассказать о том, как мы с моей женой Отоми отправились к народу отоми и многих из них снова привели к верности и союзу с ацтеками.
Следует сказать, если только я не говорил этого раньше, что держава ацтеков объединяла самые разные народы. Кругом обитало множество племен. Одни были подданными ацтеков, другие — их союзниками, а третьи — их смертельными врагами. К числу последних относились, например, тласкаланцы, с помощью которых Кортес одолел Монтесуму и Куаутемока, небольшое, но воинственное племя, жившее между Теночтитланом и морским побережьем. К западу от тласкаланцев в горах жил, а может быть и сейчас живет, многочисленный народ отоми, разделенный на несколько племен. Горцы-отоми гораздо мужественнее ацтеков и отличаются от них по языку и происхождению. Временами они входили в могучую державу ацтеков, временами были их союзниками, но иногда вступали с ними в открытую борьбу на стороне тласкаланцев. В общем, для обитателей Анауака племена отоми были примерно тем же, что для нас, англичан, шотландские кланы.
Для того чтобы укрепить связи между ацтеками и отоми, Монтесума женился на единственной законной наследнице их великих вождей. Она умерла во время родов, а ее дочь Отоми, наследственная принцесса народа отоми, стала моей женой. Несмотря на свое высокое положение среди соплеменников, Отоми до сих пор только два раза посещала свой народ, да и то в детстве. Однако язык отоми и их обычаи она знала превосходно — всему этому ее научили кормилицы и наставники из племени отоми. От своих подданных, которые подчинялись ей гораздо охотнее, чем самому Монтесуме, Отоми получала огромную дань и пользовалась среди них большой властью.
Как уже было сказано, некоторые мятежные племена отоми, соединились с тласкаланцами и вместе с ними принимали участие в войне на стороне испанцев. Поэтому большой совет решил направить Отоми и меня, ее мужа, в Город Сосен, служивший столицей для всего народа отоми. Нам было поручено важное дело — вернуть горцев под знамена ацтеков.
По обычаю, первыми отправились гонцы, а затем и мы двинулись в путь, который мог для нас окончиться чем угодно. Путешествовали мы с большой пышностью. С каждым днем наш почетный эскорт увеличивался, потому что едва племена отоми узнавали о приближении их принцессы и ее мужа-теуля, принявшего сторону ацтеков, толпы народа спешили присоединиться к ее свите, и когда на восьмой день мы достигли, наконец, Города Сосен, за нами двигалась, оглушая нас дикой музыкой, целая армия — по крайней мере тысяч десять рослых свирепых горцев. Однако по дороге Отоми не вступала в разговоры ни с воинами, ни с их вождями, ограничиваясь обычными приветствиями, хотя горцы каждое утро, когда мы отправлялись в путь — я верхом на отбитом у испанцев коне, а моя жена в паланкине, — встречали нас громкими криками и невероятным шумом.
По мере нашего продвижения страна, как и ее обитатели, становилась все более дикой и прекрасной. Теперь мы двигались сквозь сосновые леса с островками дубовых рощ, зарослей красивого кустарника и папоротника. То и дело нам приходилось пересекать полноводные бурные реки или пробираться по ущельям и горным проходам, с каждым часом поднимаясь все выше и выше. Здесь в горах природа напоминала мне Англию, только солнца было гораздо больше.
Наконец, на восьмой день пути, мы углубились в ущелье среди красных скал. Оно тянулось на протяжении почти мили и было местами таким узким, что по нему не смогли бы проехать рядом три всадника. Отвесные утесы вздымались по обеим его сторонам на высоту до двух тысяч футов. Это была единственная дорога, ведущая к Городу Сосен, если не считать нескольких тайных горных троп.
— Смотри, — сказал я Отоми, — здесь одна сотня воинов сможет задержать целую армию!
Тогда я не думал, что в будущем мне придется это сделать самому.
Но вот ущелье повернуло, и я от удивления остановил коня: передо мной во всей своей красе раскинулся Город Сосен. Он лежал в круглой долине диаметром миль в двенадцать, окруженной кольцом гор, склоны которых были сплошь покрыты дубовыми и кедровыми лесами. Только одна вершина позади города в самом центре этого горного кольца была не зеленой, а черной от лавы. Над ее снежной шапкой днем вздымался столб дыма, озаряемый ночью бушующим пламенем. Это был вулкан Хака, или «Королева». Он не так высок, как его собратья, вулканы Орисаба, Попокатепетль и Истаксиуатль, но мне кажется, Хака превосходит их всех совершенством формы и красотой то синего, то пурпурного огня, который вздымается над ним по ночам или когда его недра потревожены. Племена отоми поклоняются вулкану, как богу, принося ему человеческие жертвы, и в этом нет ничего удивительного, ибо однажды потоки лавы вырвались из кратера и проложили себе дорогу через весь Город Сосен. Они считают, что на священной вершине живут духи, а потому никто не осмеливается переступить границу снегов. И тем не менее мне суждено было это сделать — мне и еще одному человеку.
В самом центре горного кольца, у подножия могучего вулкана Хака с его снежной вершиной, увенчанной дымным султаном, лежит Город Сосен. Вернее — не лежит, а лежал, потому что, когда я его покинул, там остались одни развалины. Но в те времена это был настоящий город, хотя и не столь обширный, как другие города Анауака, которые мне довелось повидать. В нем жило всего тысяч тридцать пять человек, ибо горцы-отоми не любят селиться в городах. Но хотя Город Сосен и невелик, зато он был красивее всех других индейских городов. Прямые улицы сходились к центральной площади. Вдоль них стояли утопающие в зелени садов дома из лавы с кровлями, выбеленными известкой. Посреди площади возвышался текапли, священная пирамида, с храмами, украшенными рядами черепов, а напротив стоял дворец предков Отоми — длинное, низкое и очень старое здание со множеством дворов и бесчисленными изваяниями змей и ухмыляющихся богов. Дворец и теокалли были облицованы великолепным белым камнем, сверкавшим при солнечном свете, как серебро, благодаря чему оба здания резко выделялись на фоне темных домов, выстроенных из лавы.
Таким я увидал Город Сосен впервые. Когда я его видел в последний раз, он представлял собой груду дымящихся развалин, а сегодня его руины, наверное, служат убежищем лишь для летучих мышей да шакалов, сегодня там «царство сов», сегодня «хаос простерся над городом сим и камни пустоты заполнили его улицы».
Выбравшись из ущелья, мы ехали еще около мили по долине, где каждый клочок был возделан и засажен маисом, агавой и другими растениями, пока не очутились перед одними из четырех ворот города. На улице я увидел, что все кровли домов по обеим сторонам заполнены сотнями детей и женщин. Они осыпали нас цветами и кричали:
— Привет тебе, Отоми, принцесса отоми!
Наконец, мы достигли центральной площади. Казалось, здесь собралось все мужское население гор. Воины встретили Отоми такими оглушительными криками, что, казалось, от них обрушатся скалы. Меня тоже приветствовали, прикасаясь правой рукой к земле, а затем поднимая ее ко лбу, но я полагаю, что эти почести относились не столько ко мне, сколько к моему коню. Почти никто ив отоми никогда не видал лошадей, которых они принимали за каких-то чудовищ или дьяволов.
Так мы продвигались сквозь кричащую толпу, окруженные сотнями воинов. Многие из них были разодеты в сверкающие наряды из перьев и несли расшитые боевые значки. Воины расчищали нам путь и следовали за нами, пока мы не пересекли всю площадь и, пройдя перед теокалли, где жрецы совершали свое кровавое дело, не очутились во дворце. Только здесь, в странной комнате с высеченными на стенах изображениями смеющихся демонов, мы смогли, наконец, отдохнуть.
На следующий день в большой зал дворца на совет вождей и старейшин племен отоми сошлось человек сто с лишним. Когда все были в сборе, я появился перед ними в одеянии знатного ацтека из само высокого рода. Вместе со мной вошла Отоми. В своем царственном платье она была в тот день особенно хороша.
Члены совета поднялись, приветствуя нас. Отоми попросила всех сесть я заговорила:
— Слушайте меня, вожди и военачальники народа моей матери? С вами говорю я, ваша принцесса по праву рождения, последняя из рода ваших великих правителей, дочь Монтесумы, императора Анауака, ныне мертвого, но вечно живого в Обиталище Солнца. Вот мой муж, теуль! Я была дана ему в жены, когда в нем обитал дух бога Тескатлипоки, и снова вышла за него замуж по нашим земным обычаям, когда он невредимым сошел с алтаря и присоединился к нашему народу, чтобы помогать нам в битвах с врагом. Такова была воля небес и моих царственных братьев. Знайте, вожди и военачальники, — муж мой не из наших людей и не совсем из племени теулей, с которыми мы воюем. Он из рода настоящих детей Кецалькоатля, обитающих на берегах северных морей. Дети Кецалькоатля — враги теулей, а потому и мой повелитель враждует с ними. Вы уже, конечно, слышали, что он первый узнал о бегстве незваных пришельцев и был первым воином в ночь отмщения.
Вождя и военачальники великого и древнего народа отоми! Я, ваша принцесса, прибыла к вам вместе с моим супругом по воле Куитлауака, моего и вашего императора. Он поручил мне говорить с вами о деле. Наш император слышал, и я тоже со стыдом узнала, что многие воины нашего племени примкнули к тласкаланцам, связанным подлым сговором с теулями, врагами ацтеков. Сейчас белые люди разбиты и изгнаны, но они уже почувствовали вкус золота, они снова вернутся, как возвращаются пчелы к недопитому цветку. Одним теулям никогда не одолеть могущественный Теночтитлан. Но что будет, если вместе с ними пойдут тысячи и десятки тысяч воинов нашей земли? Я знаю, в это смутное время, когда государства колеблются, когда небо полно знамениями и сами боги кажутся бессильными, многие хотят воспользоваться смутой для своей выгоды. Многие люди и целые племена вспоминают старые войны и обиды и начинают кричать: «Пришел час отмщения! Теперь мы припомним ацтекам все — слезы вдов, пленников, принесенных в жертву, дань, собранную с бедняков!»
Разве это не так? Это так, я знаю и не удивляюсь. Но прошу вас подумать о другом. Если вы поможете теулям надеть ярмо на шею Теночтитлана, владыки всех городов, это же ярмо ляжет и на вашу шею. Безумцы! Неужели вы думаете, что если теули разрушат Теночтитлан и уничтожат ацтеков, то вас они пощадят? Нет, не пощадят! Это говорю вам я. Они сломают по одной те самые стрелы, которые направляли в грудь Теночтитлана, и обломки сожгут на своих кострах. Если падут ацтеки, все племена на нашей земле рано или поздно падут одно за другим. Жители Анауака будут перебиты, города сравнены с землей, богатства разграблены, а дети их будут есть хлеб рабства и пить воду унижения. Выбирай же, народ отоми! За кого ты будешь стоять: за своих бывших врагов, но людей близких тебе по крови и по обычаям, или за проклятых чужеземцев? Выбирайте, люди отоми, но помните: от вашего выбора и от выбора других племен Анауака зависит судьба всей нашей земли. Я ваша принцесса, и вы должны мне повиноваться, однако сегодня я не хочу приказывать. Я даю вам право выбрать между
союзом с ацтеками и рабством у теулей. Выбирайте сами, говорю вам, и пусть бог богов, всемогущий незримый владыка, поможет вам решить правильно!
Отоми умолкла. Одобрительный шепот пробежал по залу. Увы, я бессилен передать весь пыл ее речи и тем более не могу описать ее благородство и красоту. Скажу только, что слова Отоми проникли в суровые души вождей. Многие из них презирали ацтеков, считая их торгашами и бабами, способными лишь копаться в тине своих озер; многие в течение поколений сводили с ними счеты кровной мести, но все они понимали, что их принцесса была права. Победа теулей над Теночтитланом означала бы победу над всеми городами Анауака. И, зная это, они не стали колебаться в выборе, хотя потом многие и отступились от своего слова в дни поражения, как это свойственно делать людям.
— Отоми! — воскликнул глашатай совета, когда все высказали свое решение. — Отоми, мы выбрали! Твои слова убедили нас, принцесса! Мы пойдем против теулей вместе с ацтеками и будем сражаться до последнего за нашу свободу!
— Теперь я вижу, что вы воистину мой народ и я воистину ваша правительница, — ответила Отоми. — Так сказали бы вам великие вожди былых времен, мои предки, ваши правители. Так говорю вам я! Надеюсь, вы никогда не раскаетесь в своем выборе, братья мои, люди отоми!
Таким образом, мы увезли из Города Сосен обещание выставить по первому слову Куитлауака армию в двадцать тысяч воинов, готовых в борьбе с испанцами стоять за него насмерть.
Глава XXVI
ИМПЕРАТОР КУАУТЕМОК
Окончив переговоры с народом отоми, мы двинулись в обратный путь и благополучно прибыли в Теночтитлан. Это дело заняло у нас всего один месяц, однако даже такого короткого промежутка оказалось достаточно, чтобы на многострадальный город в дополнение к прежним бедам обрушилось новое несчастье. Если раньше здесь сеяли гибель мечи белых людей, то теперь сюда явилась сама смерть. Испанцы привезли из Европы страшные неведомые болезни. Страну опустошала оспа.
Изо дня в день гибли тысячи людей. Не знакомые с ужасной болезнью, индейцы лечили ее, поливая тела больных холодной водой, но этим они только загоняли заразу внутрь, к важным жизненным центрам, и на второй день почти все несчастные умирали.
[256] Жутко было смотреть, как обезумевшие от страданий больные мечутся по улицам, разнося заразу повсюду. Ацтеки умирали в каждом доме, сотни трупов лежали на торговых площадях, ожидая погребения, смерть собирала жатву во всех семьях. Даже в храмах жрецы падали перед алтарями, на которых приносили в жертвы детей, пытаясь умилостивить богов. Однако самое страшное заключалось в том, что оспа поразила императора Куитлауака. Когда мы прибыли в город, он умирал, но, узнав о нашем приезде, пожелал нас видеть. Тщетно я умолял Отоми не ходить к больному; она не — знала страха.
— Что ты говоришь, муж мой? — со смехом воскликнула она. — Неужели я должна бояться того, чего ты не боишься? Пойдем вместе и дадим отчет о нашей поездке. Если я заболею и умру, значит, просто пришел мой час.
И мы отправились вдвоем.
Нас впустили в комнату, где лежал Куитлауак, уже покрытый погребальной пеленой, словно покойник. Вокруг него в золотых чашах курились благовония. Когда мы вошли, больной находился в забытьи, но скоро очнулся, и ему о нас доложили.
— Здравствуй, племянница, — хрипло проговорил Куитлауак из-под покрова. — Видишь, дело плохо. Дни мои сочтены. Зараза теулей добивает тех, кого пощадил их меч. Скоро мое место займет другой владыка, так же как я занял место твоего отца, но я об этом не жалею, ибо ему придется вынести всю славу и всю тяжесть последней битвы ацтеков. Говори, племянница! Не трать времени. Что тебе ответили твои отоми?
— Повелитель, — скромно сказала Отоми, не поднимая головы, — да пощадит тебя эта болезнь, чтобы ты правил нами долгие годы! Мы с моим мужем теулем привлекли на нашу сторону и вернули под твои знамена большую часть племен отоми. Армия из двадцати тысяч горцев ожидает твоего приказа, и если они падут, на их место встанут другие.
— Добрую весть принесла ты, дочь Монтесумы, и ты, белый человек! — прохрипел умирающий властелин. — Боги мудры, они не приняли вас в жертву, когда вы лежали на алтаре, а я был глупцом, когда хотел убить тебя, теуль. Но говорю вам всем: укрепите ваши сердца, и если придется умереть, умрите с честью. Битва надвигается… Мне уже не придется в ней сразиться… Кто знает, чем она кончится?..
Некоторое время Куитлауак лежал молча, потом вдруг сел на ложе, отбросив смертную пелену, и заговорил, словно на него снизошел пророческий дар. На императора страшно было смотреть: так изуродовала его болезнь.
— Увы, я вижу улицы Теночтитлана в огне и в крови! — стонал Куитлауак. — Я вижу, как лошади теулей ступают по сотням трупов! Я вижу душу моего народа: голос ее прерывается и на шее у нее цепи. Дети расплачиваются за грехи отцов. Народ мой, который я вскармливал, как орел своего птенца, обречен на гибель. Земля разверзнется под ним, и бездна поглотит его за все наши злодеяния, а те, кто останутся, будут рабами из поколения в поколение, пока возмездие не свершится!
Прокричав последние слова, Куитлауак упал на подушки, и прежде чем испуганный знахарь, ухаживавший за ним, успел приподнять его голову, император Анауака уже избавился от всех земных страданий. До последние его слова глубоко запали в сердца тех, кто их слышал. Впрочем, помимо нас, о них узнал только один человек — Куаутемок.
Так на наших с Отоми глазах умер император Куитлауак, правивший ацтеками всего четыре месяца.
[257] Народ снова оплакивал своего вождя, духовного отца многих тысяч детей, которого мор унес в Обиталище Солнца, а может быть, и в Зазвездный Мрак.
Но траур не мог длиться долго. Время не ждало. Необходимо было как можно скорее избрать нового императора, чтобы он встал во главе армии и всего народа. Поэтому на другой же день после похорон Куитлауака четыре главных выборщика созвали большой совет принцев и прочих знатных людей общим числом более трехсот.
Я тоже принял в нем участие как военачальник и как муж принцессы Отоми.
Собственно говоря, спорить нам было не о чем. Сколько бы ни называлось разных имен, все знали, что трон императора Анауака по праву рождения, по праву благородного ума и мужественного сердца мог занять только один человек, способный справиться со всеми трудностями. И этим человеком был мой друг и кровный брат Куаутемок, племянник двух последних императоров, муж Течуишпо, дочери Монтесумы, сестры Отоми. Повторяю: все это прекрасно знали — все, кроме самого Куаутемока. Когда мы шли на совет, он назвал двух других принцев и сказал, что выбор, несомненно, падет на одного из них.
Этот совет был торжественным и великолепным зрелищем. Четыре великих вождя собрались в центре зала, а вокруг них на некотором отдалении, но так, чтобы все слышать и видеть, расположились триста вождей и принцев, которые должны были подтвердить решение выборщиков. Верховный жрец, чьи мрачные одеяния выделялись, как кусок угля среди россыпи золота, вознес торжественную молитву.
— О божество, всевидящее и вездесущее! — взывал он. — Наш повелитель Куитлауак отошел к тебе. Ныне он прах у подножия твоего трона, и да покоится он там с миром. Он прошел тот путь, который нам всем предстоит пройти, он достиг царства мертвых, обители бессмертных теней. Он погрузился в сон, который никто уже не потревожит. Недолгий труд его завершен, и ныне он отошел к тебе со всеми своими страданиями и грехами. Ты дал ему вкусить радость, но не дал испить ее до конца; величие власти мелькнуло перед его глазами, как видение бреда. С мольбой, обращенной к тебе, и со слезами поднял он это бремя и с радостью и надеждой сбросил его с себя. Он ушел к своим предкам и уже не вернется. Пламя стало золой, светоч стал мраком. Те, кто носил до него пурпурную мантию, вместе с ней передали ему всю тяжесть власти, и сейчас он оставил ее другому. Воистину он должен благодарить тебя, вождя над вождями, владыку звезд, стоящего выше всех, ибо ты снял с его плеч непосильное бремя, ты избавил его от венца забот, ты дал ему вместо войны мир, а вместо трудов — отдохновение.
О бог, с надеждой молим тебя! Избери того, кто заменит ушедшего! Избери его по воле своей, чтобы он не ведал ни страха, ни колебаний, чтобы он трудился и не уставал, чтобы он вел за собой народ наш, как ведет своих детей мать. О вождь вождей! Будь милостив к сыну своему Куаутемоку, нашему избраннику. Благослови его на этот подвиг и дозволь ему по нашей мольбе оставаться на троне земном до конца его дней. Пусть враги станут прахом у него под ногами, да возвысится его слава, да укрепит он веру в богов и могущество своего царства! Молю тебя об этом от лица всего нашего народа. Да свершится твоя божественная воля!
Когда верховный жрец закончил молитву, поднялся один из четырех великих выборщиков я сказал:
— Именем бога и волей народа Анауака мы возводим тебя, Куаутемок, на трон Анауака. Живи долго, правь справедливо, и пусть тебе достанется слава победы над врагами, которые хотели нас уничтожить. Сбрось их в море, Куаутемок! Слава тебе, Куаутемок, император ацтеков и всех других подвластных ацтекам племен!
И все триста человек большого совета откликнулись громовым раскатом, подтверждая избрание:
— Слава тебе, император Куаутемок!
Тогда принц выступил вперед и заговорил:
— Слушайте меня, великие выборщики, и вы, принцы, военачальники, вожди и командиры, члены большого совета! Видят боги, по пути сюда я не думал и не знал, что вы облечете меня столь высоким доверием. И видят боги, если бы моя жизнь принадлежала только мне, а не всему народу, я бы ответил вам: «Найдите кого-нибудь более достойного для трона!» Но я над собой не властен. Анауак призывает своего сына, и я повинуюсь. Родине угрожает война не на жизнь, а на смерть. Неужели же я отступлю, когда моя рука полна силы для удара, а разум полон замыслами сражений? Нет, ни за что! Отныне и навечно я отдаю себя служению родине и борьбе с теулями. Я не примирюсь с ними и не успокоюсь до тех пор, пока не сброшу их в море, из-за которого они явились, или сам не паду от вражеского меча. Никто не знает, что готовят нам боги — победу или разгром. Но что бы нас ни ожидало, смерть или слава, поклянемся великой клятвой! Братья мои, народ мой! Поклянемся сражаться с теулями и примкнувшими к ним изменниками за наши города, за наши очаги и алтари до тех пор, пока сердца наши не остановит смерть, пока города не превратятся в дымящиеся руины и пока алтари не обагрятся кровью тех, кто им поклоняется. Если нам суждено победить, мы победим, а если нам суждено погибнуть, о нас сохранится память! Клянетесь ли вы, народ мой и братья мои?
— Клянемся! — ответили все как один.
— Хорошо, — проговорил Куаутемок — Пусть вечный позор падет на того, кто нарушит эту великую клятву!
Так Куаутемок, последний и величайший из императоров Анауака, был возведен на трон своих предков. К счастью для себя, он не мог знать, какой постыдной смертью ему придется умереть в один страшный день от рук этих самых теулей. Но отныне участь его была связана с участью обреченной страны. Чем выше стоял человек, тем неизбежнее была его гибель.
Когда церемония окончилась, я поспешил во дворец, чтобы рассказать обо всем Отоми. Я нашел ее в комнате, где мы обычно спали. Она не поднималась с ложа.
— Что с тобой, Отоми? — спросил я.
— Увы, муж мой, — ответила она, — болезнь поразила меня. Не подходи близко. Прошу тебя, не подходи! Пусть за мной ухаживают женщины. Ты не должен ив-за меня рисковать жизнью, любимый.
— Успокойся, — печально сказал я, приближаясь к ней. Да, к несчастью, она не ошиблась. Как врач, я сразу распознал знакомые симптомы.
Чтобы спасти Отоми, мне пришлось собрать все свои знания. Три бесконечных недели я не отходил от ее ложа, сражаясь со смертью, пока, наконец, не победил. Жар спал, и благодаря моим заботам на прекрасном лице Отоми не осталось следов оспы. Восемь дней она беспрестанно бредила. За эти дни я узнал, как глубока и возвышенна была ее любовь. Все время она говорила только обо мне, высказывая в забытьи свои тайные страхи и опасения. Отоми боялась, что наскучит мне, что ее красота и любовь утомят меня и я брошу ее, что заморская «девушка-цветок» — так она называла Лили — увлечет меня колдовскими чарами. Вот что заполняло помутившийся разум моей жены.
Наконец Отоми пришла в себя и заговорила со мной:
— Я долго была больна? — спросила она.
Я ответил.
— И ты не отходил от меня все это время?
— Да, Отоми, я лечил тебя.
— За что ты так добр ко мне? — прошептала Отоми.
Затем у нее мелькнула какая-то ужасная мысль. Она мучительно застонала и воскликнула:
— Зеркало! Скорей дай мне зеркало!
Я принес ей зеркало. Выхватив его из моих рук, Отоми впилась взглядом в отражение своего лица, стараясь получше его разглядеть в полумраке затененной комнаты. Потом, выронив полированную золотую пластинку, она откинулась на ложе со счастливым возгласом:
— Ах, я так боялась, так боялась стать такой же уродливой, как все другие, кого поразила эта зараза! Я боялась, что ты разлюбишь меня. Тогда лучше бы мне умереть!
— Стыдись! — упрекнул я Отоми. — Неужели ты думаешь, что какие-то оспины убили бы мою любовь?
— Да, — ответила Отоми. — Такова любовь мужчин. Я люблю тебя по-другому, муж мой, но если бы со мной случилось такое — о, я дрожу при одной этой мысли! — ты бы через год возненавидел меня. Не знаю, переменился бы ты к другой, к той, далекой девушке, но меня бы ты возненавидел. Да, да, я знаю это так же верно, как то, что я бы не пережила твоей ненависти. О, как я тебе благодарна!
Я оставил ее на некоторое время одну, удивляясь в глубине души силе ее любви. «Неужели она права, и сердце мужчины настолько подло и неблагодарно — думал я. — Что, если бы Отоми действительно превратилась в одну из тех несчастных женщин, которые бродят сейчас по улицам Теночтитлана, покрытые страшными язвами, лысые, слепые, с бельмами на глазах? Неужели я отвернулся бы от нее?»
На этот вопрос я не могу ответить и благодарю бога, что мне не пришлось на него отвечать, ибо я знаю наверное, что Отоми не оставила бы меня, будь я хоть прокаженным.
Вскоре Отоми совершенно оправилась от тяжкой болезни, а еще через некоторое время оспа покинула Теночтитлан.
Теперь у меня было много дел. Избрание моего друга и кровного брата Куаутемока императором сразу возвысило меня. Я стал одним из высших военачальников, главным его советником, и не щадил себя, стараясь всемерно помочь Куаутемоку в подготовке города к обороне. Работа шла день и ночь. Я обучал войска, особенно отряды отоми, которые, как было обещано, явились в количестве двадцати тысяч воинов. Это был поистине адский труд. Горцы не имели ни малейшего понятия о дисциплине и духе единства, без чего все их многотысячные толпы немного стоили в войне с белыми людьми. Соперничество и зависть разъединяли вождей разных племен, и мне приходилось с этим ежечасно бороться, не говоря уже о зависти, которую они все питали ко мне. Кроме того, многие союзные или подвластные ацтекам племена, пользуясь смутой, изменили нам и либо перекинулись к испанцам, либо решили остаться в стороне, выжидая исхода борьбы.
Несмотря на все это, мы продолжали делать свое дело. Войска были разделены на полки по европейскому образцу, и каждому отведен свой лагерь. Мы заставили воинов упражняться в обращении с оружием, мы завозили в город запасы продовольствия на случай осады и старались по возможности сократить число бесполезных едоков. Только один человек во всем Теночтитлане трудился больше меня, и это был император Куаутемок, не знавший отдыха ни днем и ночью. Я даже попытался изготовить порох, использовав для этого серу, которую мне принесли из кратера вулкана Попекатепетль, но, не зная его состава, потерпел неудачу. К тому же порох немногим бы нам помог, потому что у нас не было ни пушек, ни аркебуз, ни умения их делать. Мы могли бы использовать порох только для закладки мин на дорогах и дамбах да еще, может быть, в виде ручных гранат с фитилем.
Так проходил месяц за месяцем. Но вот, наконец, лазутчики донесли нам о приближении большой армии испанцев, с которыми шли бесчисленные отряды их союзников.
Я хотел отослать жену к ее народу, где она была бы в безопасности, но Отоми только презрительно рассмеялась и сказала:
— Я буду там, где будешь ты, мой муж. Ты встретишься со смертью и, может быть, погибнешь. Я должна быть рядом, чтобы умереть с тобой вместе. Если белые женщины поступают иначе, это их дело, а я останусь с моим любимым.
Глава XXVII
ПАДЕНИЕ ТЕНОЧТИТЛАНА
Вскоре после рождества Кортес с большой армией расположился лагерем у города Тескоко в долине Мехико. Многие авантюристы, приплывшие из-за океана, встали под его знамена, а кроме того, к нему присоединились десятки тысяч союзников-туземцев.
Город Тескоко лежит недалеко от берега одноименного озера, милях в двадцати к северо-востоку от Теночтитлана. Расположенный на земле тласкаланцев, он был особенно удобен для Кортеса как опорная база. Отсюда и началась самая ужасная из всех войн, какую только видел свет. Она продолжалась восемь месяцев, и к концу ее от Теночтитлана и других цветущих многолюдных городов остались одни почерневшие развалины. Большинство ацтеков погибло от меча или голода, и как народ они перестали существовать.
Я не собираюсь описывать все подробности этой войны, ибо тогда не успею довести мою книгу до конца, а мне еще нужно рассказать свою собственную повесть. К тому же дело это не мое, и я всецело предоставляю его историкам. Скажу только, что план Кортеса заключался в том, чтобы сначала уничтожить один за другим все союзные и подвластные ацтекам города, а уж потом обрушиться на Теночтитлан, жемчужину долины. И он выполнял свой план с настойчивостью и решительностью, проявляя такое искусство, каким со времен Цезаря могли похвастаться лишь немногие полководцы.
Первым пал город Истапалапан. Десять тысяч его жителей, мужчин, женщин и детей, погибли от меча или были сожжены заживо. Затем наступил черед других городов. Кортес захватывал их один за другим, пока все они не оказались у него в руках. Теперь оставался свободным один Теночтитлан. Многие города сдались без боя, ибо империя ацтеков, состоявшая из различных племен, скорее напоминала сноп, а не единое дерево; когда испанцы, ослабив власть императора, разрубили перевязь, все колосья рассыпались в разные стороны. Таким образом, по мере того как убывали силы Куаутемока, могущество Кортеса возрастало, ибо рассыпавшиеся колосья он собирал в свою корзину. Едва другие племена увидели, что Теночтитлан в беде, сразу возгорелась старая ненависть, всплыли на поверхность скрытая зависть и соперничество, и они бросились на своего властелина, чтобы растерзать его на куски точно так же, как наполовину прирученные волки бросаются на укротителя, сломавшего свой бич. Это и привело к гибели Анауака. Если бы все племена сохранили единство и, забыв о старой вражде и соперничестве, дружно обрушились на испанцев, Теночтитлан никогда бы не пал, а Кортес вместе со своими теулями очутился бы на жертвенном алтаре.
В самом начале моей книги я написал, что зло не остается неотомщенным, кто бы его ни творил, один человек или целый народ. Так оно и случилось тогда. Теночтитлан был разрушен из-за страшных жертвоприношений своим богам. Отвратительный обычай приносить людей в жертву породил ненависть между племенами. Совсем недавно ацтеки везли пленников из всех покоренных городов, чтобы возложить их на алтари Теночтитлана, убить во славу своих богов, а трупы отдать на растерзание фанатикам-людоедам. Теперь все эти зверства припомнились. Теперь, когда мощь владыки городов ослабла, дети тех, кого он приносил в жертву, ринулись на него, чтобы стереть Теночтитлан с лица земли и возложить его детей на свои алтари.
В мае, несмотря на все усилия и чудеса храбрости, последние наши союзники были разгромлены или изменили, и осада города началась.
Она началась одновременно с суши и с озера, ибо неистощимый в своей изобретательности Кортес ухитрился построить в Тласкале тринадцать боевых бригантин.
[258] Их доставили по частям за двадцать лиг
[259] через горы, собрали в его лагере и спустили на воду по каналу, вырытому в течение двух месяцев десятками тысяч индейцев. Во время переноски бригантины охраняла целая армия из двадцати тысяч тласкаланцев. Если бы мне дали волю, я бы напал на них в горных проходах. Такого же мнения держался и Куаутемок, однако в нашем распоряжении было тогда мало войск — большую часть своих сил мы были вынуждены бросить против города Чалько, жители которого позорно изменили нам, хотя и принадлежали к родственному ацтекам племени. Несмотря на это, я предложил повести против тласкаланцев двадцать тысяч моих героев-отоми. В военном совете разгорелись жаркие споры, но в, конце концов, большинство высказалось против, опасаясь вступать в бой с испанцами или их союзниками на таком большом расстоянии от города. Так была упущена неповторимая возможность, и это стало одной из многих причин падения Теночтитлана, потому что впоследствии бригантины сыграли роковую роль: с их помощью испанцы лишили нас подвоза продовольствия, которое доставлялось по озеру на челнах. Увы, даже самые храбрые люди отступают перед голодом! Как говорят индейцы, голод — большой человек!
Итак, ацтеки остались один на один со своими врагами, и битва началась. Прежде всего испанцы разрушили акведук, по которому в город шла вода из источников того самого императорского парка в Чапультепеке, куда меня привели, когда я впервые попал в Теночтитлан. С этого дня и до конца осады нам приходилось довольствоваться солоноватой грязной водой из озера и вырытых наспех колодцев. Ее можно было пить, предварительно перекипятив, чтобы избавиться от соли, однако она оставалась нездоровой, отвратительной на вкус и вызывала мучительные расстройства и лихорадку.
В тот день, когда акведук был перерезан, Отоми родила нашего первенца. Тяготы осады были уже так велики, а пища так скудна, что будь она послабее или окажись я менее опытным врачом, вряд ли она пережила бы эти роды. Однако, к моему великому облегчению и радости, Отоми поправилась, и я сам окрестил новорожденного по правилам нашей христианской церкви, хотя я вовсе не священник. Я дал ему свое имя — Томас.
Ожесточенная битва не прекращалась изо дня в день, из недели в неделю и с переменным успехом кипела то на подступах к городу, то на озере, а то и прямо на улицах. Иногда испанцы откатывались с большими потерями, но затем снова бросались на штурм со всех сторон. Однажды мы захватили в плен шестьдесят испанских солдат и тысячу с лишним их союзников. Все они были принесены в жертву на алтаре Уицилопочтли, а тела их отданы на растерзание фанатикам. Ацтеки придерживались этого зверского обычая и пожирали тела принесенных в жертву богам вовсе не потому, что им нравилось человечье мясо, а потому, что так предписывал какой-то тайный религиозный обряд.
[260]
Тщетно я умолял Куаутемока прекратить эти ужасы.
— Сейчас не время церемониться! — злобно ответил он. — Я не могу их спасти от алтаря и не стал бы спасать, даже если бы мог. Пусть эти псы умирают по обычаям нашей страны. А тебе, теуль, брат мой, я советую — не заходи слишком далеко.
Увы, сердце Куаутемока ожесточалось с каждым днем сражения, и удивляться тут было нечему.
Кортес выработал страшный план полного разрушения города по мере продвижения к центру и выполнял его беспощадно. Как только испанцы захватывали какой-нибудь квартал, тысячи тласкаланцев принимались за работу, сжигая подряд все дома вместе с их обитателями. Прежде чем осада закончилась, Теночтитлан, жемчужина всех городов, был превращен в груду почерневших развалин, и Кортес мог только оплакивать его руины, подобно пророку Исайе:
«В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем многозвучием лютен твоих; ныне черви — ложе твое, и черви — покров твой.
Как упал ты с неба, денница, сын зари? Как разбился о землю, попиравший народы?»
Я принимал участие во всех схватках, хотя гордиться тут, собственно, нечем. Во всяком случае испанцы меня знали, и не без основания. Едва завидев меня, они начинали выкрикивать проклятия, называя меня «предателем», «изменником», «белой собакой Куаутемока» и прочими именами. Узнав через своих шпионов, что многие наиболее удачные атаки и передвижения Куаутемок производил по моему совету, Кортес даже назначил награду за мою голову. Я старался не обращать на это внимания, хотя оскорбления врагов ранили меня, точно стрелы. Несмотря на всю мою ненависть к испанцам, несмотря на то, что среди ацтеков у меня было много друзей, мне, христианину, все-таки было зазорно сражаться на стороне язычников, приносивших человеческие жертвы.
Я не прятался еще и потому, что хотел отыскать де Гарсиа, своего врага. Мне было известно, что он здесь, я видел его несколько раз, но никак не мог до него добраться. Если я выслеживал его, он тоже следил за мной, только с иной целью — чтобы вовремя скрыться, ибо и теперь де Гарсиа страшился меня, как прежде. Он верил, что встреча со мной будет для него роковой.
Согласно обычаю, воины обеих армий посылали друг другу вызовы на единоборство. Подобные дуэли не раз происходили на виду у всех, причем обе стороны не нападали на сражающихся и тех, кто был с ними в роли секундантов. Однажды, отчаявшись встретиться с де Гарсиа в бою, я послал к испанцам глашатая, вызывая на единоборство того, кто носил ложное имя Сарседа. Через час глашатай вернулся с запиской на испанском языке, и я прочел:
«Христианин не станет сражаться на дуэли с презренным изменником, белым идолопоклонником и людоедом. Для таких уготовано лишь одно оружие — веревка. Она давно по тебе плачет, Томас Вингфилд!»
В бешенстве я изорвал записку на клочки и затоптал их ногами. Отныне ко всем совершенным против меня злодеяниям де Гарсиа прибавил еще гнусную клевету. Но ярость моя была бессильна, потому что мне ни разу не удалое к нему приблизиться. Однажды с десятью воинами отоми я устремился за ним в самую гущу испанцев. Мне удалось вырваться живым, но десять отоми погибли из-за моей ненависти к негодяю.
Как описать все новые ужасы, которые каждый день обрушивались на обреченный город? Кончилось продовольствие, и теперь не только мужчинам, но даже слабым женщинам и детям приходилось, чтобы протянуть хоть еще немного, пить солоноватую озерную воду и есть то, от чего отказалась бы и свинья. Самой желанной пищей для них стали трава, древесная кора, улитки и насекомые да еще мясо пленников, принесенных в жертву.
Люди гибли сотнями и тысячами. Мертвецов было столько, что их не успевали хоронить. Они валялись всюду, где их настигла смерть, разлагаясь и распространяя страшную болезнь, черную смертоносную горячку, от которой гибли новые тысячи ацтеков, становясь в свою очередь источником заразы. На каждого убитого испанцами или их союзниками приходилось два защитника города, умерших от голода или мора. Попробуйте теперь представить, сколько всего погибло ацтеков, если испанцы уничтожили не менее семидесяти тысяч только огнем и мечом! Говорят, что за одну лишь ночь они перебили сорок тысяч человек. Это было в ночь накануне падения Теночтитлана.
Как-то на закате я вернулся в жилище, где теперь ютилась Отоми со своей царственной сестрой Течуишпо, женой Куаутемока, — все дворцы были уже сожжены. Я умирал от голода, потому что не ел почти сорок часов. Отоми дала мне три маленьких тортильи, три лепешки из маиса с толченой корой, — это было все, что она могла найти. Она поцеловала меня и попросила их съесть, но, узнав, что она сама ничего не ела в тот день, я заставил ее разделить со мной скудную пищу. Отоми с трудом глотала горькие кусочки лепешки и старалась скрыть слезы, которые лились по ее лицу.
— Что случилось, жена? — спросил я.
Отоми безудержно разрыдалась.
— Любимый, — проговорила она, — вот уже два дня, как в моей груди нет ни капли молока. Голод иссушил меня… и наш сынок умер! Взгляни, он умер!
И, откинув в сторону покрывало, она показала мне крохотное тельце.
— Не плачь, — сказал я, — он свое отстрадал. Неужели ты хотела, чтобы он вырос и дожил до таких дней, как сейчас?
— Но ведь это был наш сын, наш первенец! — рыдала Отоми. — О, за что нам такие муки?
— Мы должны терпеть, ибо рождены для страданий. Будь счастлива тем, что мы еще не сошли с ума, и не требуй большего. Не спрашивай меня ни о чем — я не могу тебе ответить. На такое не найти ответа ни у моего бога, ни у твоего.
И, взглянув на мертвого младенца, я сам разрыдался.
На протяжении всех этих страшных месяцев мне ежечасно приходилось видеть тысячи самых ужасных вещей, но вид маленького жалкого трупика потряс меня больше всего. Это был мой ребенок, мой сын, мой первенец! Его мать плакала рядом со мной, и мне казалось, что окоченевшие тоненькие пальчики младенца разрывают мое сердце. Один бог всеведущий знает, откуда берутся у людей силы пережить подобную муку и за что она нам ниспослана, но деяния его выше нашего разумения!
Я взял мотыгу и начал рыть возле дома могилу, пока не дошел до воды; в Теночтитлане она стоит в каких-нибудь двух футах от поверхности. Прошептав молитву над телом нашего ребенка, я опустил его прямо в воду и забросал землей. По крайней мере, он не достанется коршунам, как другие.
Вернувшись в дом, мы плакали друг у друга в объятиях, пока не заснули, но даже сквозь сон Отоми шептала:
— О, муж мой, хорошо бы вот так уснуть и не просыпаться, уснуть навсегда вместе с нашим малюткой…
— Подожди немного, — ответил я, — смерть уже недалеко.
Наступило утро, а вместе с ним началась смертельная схватка, еще более жестокая, чем раньше. За этим днем пришел второй, третий, четвертый. Ежедневно смерть собирала богатую жатву, но мы все еще были живы, потому что Куаутемок делился с нами своей пищей. Кортес послал глашатаев, требуя, чтобы мы сдались. Три четверти города уже были превращены в развалины, а три четверти его защитников — в трупы. Мертвецы громоздились во всех домах, как пчелы, убитые в своих ульях; на улицах тела лежали так густо, что нам приходилось шагать прямо по ним.
Чтобы обсудить предложение Кортеса, собрался совет — кучка ожесточенных людей, измученных голодом и ранами. Все молчали.
— Что скажешь ты, Куаутемок? — спросил наконец один на них.
— Разве я Монтесума, что ты меня спрашиваешь? — гневно ответил император. — Я поклялся защищать город до конца, и я буду его защищать! Лучше всем умереть, чем попасть живьем в руки теулей!
— Мы согласны, — проговорили советники, и битва возобновилась.
Но вот наступил день, когда испанцы снова пошли на приступ и захватили еще одну часть города. Теперь люди теснились в последних кварталах, как овцы в загоне. Мы старались их защитить, но руки наши ослабели от голода. Испанцы расстреливали ацтеков в упор, и те валились, как трава под косой. Потом на нас выпустили тласкаланцев, словно разъяренных псов на беззащитного оленя. Именно тогда, как говорят, и было убито сорок тысяч человек, ибо тласкаланцы не щадили никого.
Следующий день был последним днем осады Теночтитлана.
[261] От Кортеса прибыло новое посольство: он хотел встретиться с Куаутемоком. Но ответ был прежним: ничто не могло сломить это благородное сердце.
— Передайте ему, — сказал Куаутемок, — я умру там, где стою, но не стану с ним разговаривать. Мы беззащитны. Пусть Кортес делает с нами что хочет.
Весь город уже был разрушен, и те, кто еще оставался в живых, собрались на дамбе или под прикрытием обвалившихся стен все вместе — мужчины, дети и женщины. Здесь нас атаковали снова.
В последний раз загрохотал большой барабан на теокалли, в последний раз дикие крики ацтекских воинов понеслись к небесам. Мы защищались, как могли. Я поразил четырех врагов своими стрелами; мне подавала их Отоми, не отходившая от меня ни на шаг. Но остальные в большинстве своем были слабы, как малые дети. Что могли мы сделать? Испанцы носились среди беспомощных людей, словно зверобои среди тюленей, избивая ацтеков сотнями. Нас загнали в воду и начали топить, пока не завалили все каналы мертвыми телами. Как мы уцелели, я до сих пор не знаю.
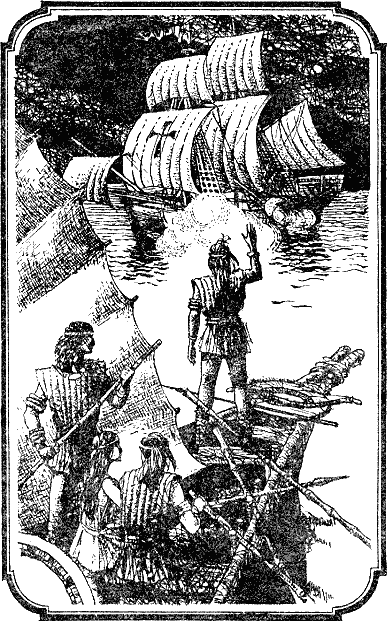
Наконец небольшая группа, в которой вместе с нами были Куаутемок и его жена Течуишпо, очутилась на берегу озера, где стояли челны. Мы сели в них, еще не зная, куда плыть. Весь город был захвачен, и мы надеялись только спастись бегством. Однако испанцы заметили челны с бригантин и пустились в погоню. Ветер был попутный — в этой битве даже ветер помогал нашим врагам! Как мы ни налегали на весла, вскоре одна из бригантин поравнялась с нами и открыла огонь. Тогда Куаутемок поднялся в челне во весь рост.
— Я Куаутемок! — крикнул он. — Ведите меня к Малинцину.
Пощадите только моих людей, еще оставшихся в живых.
— Ну вот, жена, мой час пробил, — обратился я к Отоми, которая сидела со мной рядом. — Испанцы меня наверняка повесят. Лучше умереть самому, чтобы избежать этой позорной смерти.
— Нет, муж мой, — печально ответила она. — Я уже говорила тебе однажды: пока ты жив, остается надежда, только мертвым надеяться не на что. Может быть, нам еще удастся спастись! Но, если ты думаешь иначе, я готова умереть.
— Ты должна жить, Отоми!
— Тогда не убивай себя. Я последую за тобой всюду, куда бы ты ни пошел.
— Слушай, Отоми! — прошептал я. — Не говори никому, что ты моя жена. Выдай себя за одну из приближенных своей сестры Течуишпо. Если нас разлучат и если мне удастся бежать, я проберусь в Город Сосен. Там, среди твоего народа, мы найдем убежище.
— Хорошо, любимый, — проговорила она, печально улыбаясь. — Только не знаю, как встретят меня отоми после гибели двадцати тысяч своих лучших воинов.
В этот момент мы уже поднялись на палубу бригантины, и ответить я не успел.
Испанцы о чем-то поспорили, но потом высадили нас на берег и повели к чудом уцелевшему дому, где Кортес поспешно готовился к приему своего царственного пленника.
Окруженный свитой, испанский военачальник встретил нас, держа шляпу в руке. Рядом с ним стояла Марина. С тех пор, как я видел ее в Табаско, она стала еще прелестнее. Наши глаза встретились, и она вздрогнула, узнав меня, хотя распознать старого друга теуля в измученном, забрызганном кровью оборванце, у которого едва хватило сил взойти на плоскую кровлю дома, было далеко не просто. Но мы не обменялись ни словом. Все взоры в этот миг были устремлены на Кортеса и Куаутемока, на победителя и побежденного.
Куаутемок, похожий на живой скелет, но по-прежнему преисполненный гордости и благородства, приблизился к испанцу и заговорил. Марина переводила его слова:
— Я император Куаутемок, Малинцин. Все, что может сделать человек для защиты своего народа, я сделал. Взгляни, что тебе досталось!
И Куаутемок указал на черные руины Теночтитлана, вздымавшиеся повсюду, насколько хватал глаз.
— Но ты взял верх, — продолжал он, — ибо сами боги были против меня. Делай со мной что хочешь, но лучше всего — убей! Вот это, — Куаутемок прикоснулся к кинжалу Кортеса, — сразу избавит меня от всех страданий.
— Не бойся Куаутемок, — ответил Кортес. — Ты сражался, как подобает сражаться храброму воину. Таких людей я уважаю. Со мной ты в безопасности, потому что испанцы ценят честных противников. Вот поешь!
Кортес указал на стол, где лежало мясо, которого мы не видели уже много недель, и продолжал:
— Пусть твои товарищи тоже подкрепятся, вам это необходимо. А потом поговорим.
Мы с жадностью набросились на еду. Про себя я подумал, что совсем не худо будет умереть с полным желудком после того, как я столько раз смотрел в лицо смерти натощак. Пока мы расправлялись с едой, испанцы стояли напротив и смотрели на нас почти с жалостью.
Затем к Кортесу подвели Течуишпо, а с нею Отоми и еще шестерых знатных женщин. Кортес вежливо приветствовал их и приказал тоже накормить.
Но вот один из испанцев, присмотревшись ко мне, что-то шепнул Кортесу. Тот сразу помрачнел.
— Скажи-ка, — обратился он ко мне по-испански, — ты и есть тот самый изменник и предатель, что помогал ацтекам воевать против нас?
— Я не изменник и не предатель, генерал, — смело ответил я; вино и пища вдохнули в меня силы. — Я англичанин, и я сражался вместе с ацтеками потому, что у меня есть немало причин ненавидеть вас, испанцев.
— Сейчас у тебя их будет еще больше, предатель! — в бешенстве прохрипел Кортес. — Эй, вздернуть его на мачте вон той бригантины!
Я понял, что все кончено, и приготовился к смерти, как вдруг Марина что-то сказала на ухо Кортесу. Всего я не смог разобрать и расслышал только два слова: «спрятанное золото». Мгновение Кортес поколебался, затем громко приказал:
— Подождите! Повесить его мы всегда успеем. Стерегите этого человека хорошенько! Завтра я с ним сам разберусь.
Глава XXVIII
ТОМАС ОБРЕЧЕН
По приказу Кортеса два испанца приблизились ко мне, схватили меня за руки и так повели к лестнице, спускавшейся с кровли дома.
Отоми все слышала. Испанского языка она не знала, но ей достаточно было взглянуть на лицо Кортеса, чтобы понять, что он приказал увести меня в темницу или на казнь. Когда я поравнялся с ней, она сделала шаг вперед. Страх за меня светился в ее главах. Я увидел, что Отоми готова броситься мне на шею, и, боясь, что этим она выдаст себя и подвергнется той же участи, остановил ее предостерегающим взглядом. Затем, сделав вид, что споткнулся от страха и истощения, я упал прямо к ее ногам.
Солдаты, которые вели меня, грубо расхохотались, и один из них пнул меня своим сапожищем. Но тут Отоми наклонилась и протянула руку, чтобы помочь мне подняться. Пока я вставал, мы успели обменяться несколькими быстрыми чуть слышными словами.
— Прощай, жена! — шепнул я. — Что бы ни случилось, молчи!
— Прощай, — отозвалась Отоми. — Если тебе придется умереть, жди меня у врат смерти — я приду к тебе.
— Нет, ты должна жить. Время залечит раны.
— Любимый, моя жизнь — это ты! Без тебя жить незачем.
В это время я уже поднялся на ноги. По-видимому, никто не приметил нашего тихого разговора, потому что все смотрели на Кортеса и слушали, как он разносит ударившего меня солдата.
— Что я тебе приказал? — шипел Кортес. — Я приказал стеречь пленника, а не пинать его сапогами! Ты что меня перед дикарями позоришь? Если что-нибудь похожее повторится, ты мне за это дорого заплатишь! Поучись вежливости хотя бы у этой женщины. Смотри, она сама умирает от голода, а все-таки бросила еду, чтобы помочь ему встать. А ты?.. Ведите его в лагерь да смотрите, чтобы с ним ничего не случилось! Он мне еще понадобится.
Недовольно ворча, солдаты повели меня вниз, и последнее, что я увидел, оглянувшись, было лицо моей жены Отоми, полное затаенной муки.
Когда я уже начал спускаться, стоявший возле самой лестницы Куаутемок поймал мою руку и пожал.
— Прощай, брат, — проговорил он, скорбно улыбаясь. — Мы сыграли нашу игру до конца, теперь можно и отдохнуть. Благодарю тебя за помощь и за твое мужество.
— Прощай, Куаутемок, — ответил я. — Ты проиграл, но утешься! Это поражение сделает твое имя бессмертным навеки.
— Ступай, ступай! — подгоняли меня солдаты, и я расстался с Куаутемоком, даже не подозревая, при каких обстоятельствах нам вскоре придется встретиться.
Солдаты посадили меня в лодку, тласкаланцы взялись за весла и переправили через озеро в испанский лагерь. Страшась гнева Кортеса, мои стражи больше не давали воли рукам, но зато издевались и насмехались надо мной всю дорогу. Они спрашивали, хорошо ли быть идолопоклонником, как я ел человечье мясо, сырым или жареным, и тому подобное. В своих грубых шутках они были неистощимы. Сначала я все переносил молча, потому что индейцы научили меня терпению, и лишь под конец дал им короткий, но достойный ответ.
— Молчите, трусы! — сказал я. — Если бы я был силен и вооружен, как раньше, мне бы не пришлось слушать, а вам повторять подобные слова — кто-нибудь из нас уже был бы мертв! А сейчас вы пользуетесь моей беспомощностью.
После этого я умолк, и солдаты тоже замолчали.
Когда мы достигли лагеря, мне пришлось пройти сквозь толпу разъяренных тласкаланцев, которые разорвали бы меня на куски, если бы их не удерживал страх. Нам навстречу попалось также несколько испанце, но те ничего и никого не замечали — настолько все были пьяны от мескаля и от радости, что наконец-то Теночтитлан взят и сражение кончилось! Я еще никогда не видел людей в таком состоянии. Ими овладело настоящее безумие. Несчастные воображали, что отныне будут есть свою солдатскую похлебку на золотых блюдах! Ради золота они последовали за Кортесом, ради золота они участвовали в сотнях схваток, рискуя попасть на жертвенный алтарь, и вот теперь это золото, как они полагали, было у них в руках.
Меня заперли в одной из комнат каменного дома, окна которого были забраны деревянной решеткой. Пока продолжалось мое заключение, сквозь эту решетку я видел и слышал все, что делали солдаты. Целыми днями и большую часть ночей, если только они не были заняты службой, испанцы пьянствовали и играли, ставя за раз по нескольку десятков песо, которые проигравший обязывался уплатить из своей доли неисчислимых ацтекских сокровищ. Они были настолько уверены в своей добыче, что никакие проигрыши их не огорчали. Игра прекращалась лишь тогда, когда опьянение брало верх и все игроки либо валились без чувств на землю, либо вскакивали из-за стола и пускались в дикую пляску под палящим солнцем, выкрикивая как одержимые:
— Золото! Золото! Золото!
Иногда мне удавалось услышать через свое окно лагерные новости. Так я узнал, что Кортес вернулся в лагерь, а вместе с ним — Куаутемок и еще несколько знатных индейцев индианок. Я сам видел и слышал, как солдаты, которым надоело играть на деньги, начали разыгрывать этих женщин в карты, записав их приметы на отдельных листках бумаги. Одна ив женщин, судя по этим приметам, весьма походила на мою жену Отоми. Ее выиграл какой-то мерзавец и тут же продал другому солдату за сто песо. Эти люди не сомневались, что теперь им достанется все — и золото, и женщины.
Так я сидел в своей тюрьме в течение многих дней, и никто меня не беспокоил, за исключением индеанки,
прибиравшей комнату и приносившей пищу. В эти дни я только и делал, что ел за троих да спал, потому что никакие несчастья не могли у меня отбить аппетит или сон. Мне самому не верилось, но к концу недели я поправился ровно вдвое, от слабости моей не осталось и следа, и я снова стал силен, как прежде.
В перерывах между сном и едой я не отходил от окна, надеясь хотя бы издали увидеть Отоми или Куаутемока. Но все было тщетно. Зато вместо своих друзей я увидел, наконец, своего врага. Однажды вечером перед моей тюрьмой остановился де Гарсиа, Меня он не мог разглядеть, но мне-то хорошо была видна на его лице дьявольская, волчья усмешка, от которой мороз пробирал по коже. Де Гарсиа простоял так минут десять, поглядывая на мое окно, словно голодный кот на клетку с птицей. Я почувствовал, что он ждет, когда перед ним откроется дверь, и понял, что она откроется скоро.
Это случилось под вечер того самого дня, когда меня подвергли пытке.
Между тем я подмечал, что настроение солдат постепенно меняется. Они перестали ставить на кон неисчислимые сокровища, перестали даже напиваться до умопомрачения, и буйное веселье прекратилось. Вместо этого испанцы все время сходились теперь небольшими кучками, яростно о чем-то споря. В тот день, когда де Гарсиа пришел взглянуть на мою тюрьму, на большой площади напротив моего окна, собралась целая толпа солдат. Сам Кортес, облаченный в парадное платье, выехал к ним на белом коне. Площадь была слишком далеко, чтобы слышать, что там говорилось, но я видел, как некоторые офицеры злобно упрекали своего начальника и солдаты поддерживали их дружными криками. Кортес что-то долго говорил им в ответ, и, наконец, все молча разошлись.
На следующее утро едва я успел закусить, как в мою тюрьму вошли четыре солдата и приказали мне следовать за ними.
— Куда? — спросил я.
— К нашему капитану, предатель! — ответил старший из них.
«Вот оно!» — подумал я, но вслух сказал:
— Ладно. Любая перемена лучше сидения в этой дыре.
— Охотно верю! — отозвался солдат. — Только для тебя это последняя перемена.
Я понял: испанец думает, что ведет меня на казнь.
Через пять минут я уже стоял перед Кортесом в его доме. Рядом с ним сидела Марина, а вокруг — несколько ближайших соратников. Предводитель испанцев некоторое время смотрел на меня молча, потом заговорил:
— Твое имя Вингфилд; ты полукровка, наполовину испанец, наполовину англичанин. Ты высадился в устье реки Табаско, а оттуда попал в Мехико. Здесь тебя заставили изображать ацтекского бога Тескатлипоку. Тебе удалось спастись от смерти, когда мы захватили большой теокалли. Затем ты примкнул к ацтекам и принял участие в нападении и кровопролитии «Ночи печали». Впоследствии ты стал другом и советником Куаутемока, которому помогал защищать город. Отвечай пленник, это правда?
— Правда, генерал, — ответил я.
— Хорошо. Теперь ты попал к нам в плен и, будь у тебя хоть тысяча жизней, тебе не спастись, потому что ты предал свою веру и свою расу. Я не желаю рассматривать причины, побудившие тебя совершить это предательство. Мне важны факты! Ты убил многих испанцев и наших союзников, Вингфилд, убил подло, изменническим путем, и для меня ты — просто убийца! Тебя ждет смерть. Как изменника и святотатца, я приговариваю тебя к повешению.
— Если так, говорить больше не о чем, — спокойно ответил я, хотя кровь застыла в моих жилах.
— Нет, есть, — возразил Кортес. — Несмотря на все твои преступления, я готов подарить тебе жизнь и свободу. Я готов сделать больше — при первой же возможности отправить тебя в Европу, а там, если бог дозволит, ты, может быть, сумеешь скрыть совершенные тобой злодеяния. Но для этого ты должен выполнить одно условие. У нас есть основания полагать, что ты принимал участие в сокрытии золота Монтесумы, незаконно украденного у нас в «Ночь печали». Не отрицай, мы знаем, что это так, потому что тебя видели, когда ты садился в лодку с сокровищами. А теперь выбирай — либо ты умрешь позорной смертью, как предатель, либо откроешь нам тайну сокровищ.
Мгновение я колебался. Поступившись честью, я сохранял жизнь, свободу и надежду вернуться на родину, в противном же случае меня ждала ужасная смерть. Но тут же я вспомнил свою клятву; я подумал о том, что будет говорить обо мне, живом или мертвом, Отоми, если я ее нарушу, и мои колебания кончились.
— Я ничего не знаю об этих сокровищах, генерал, — холодно проговорил я. — Можете меня убить.
— То есть ты ничего не хочешь нам говорить, предатель? Подумай! Если ты дал какую-нибудь клятву, бог освобождает тебя от нее. Царства ацтеков больше нет, их император — мой пленник, их столица — куча развалин. Истинный бог дал мне победу над проклятыми идолами! Золото врага — моя законная добыча, и я должен ее получить, чтобы расплатиться с моими доблестными товарищами, которым нечем поживиться среди руин. Подумай еще раз.
— Я ничего не знаю об этих сокровищах, генерал.
— Память иногда изменяет людям. Если она изменит тебе, ты умрешь, предатель, можешь в этом не сомневаться. Но смерть не всегда приходит быстро. Есть много способов, о которых ты, конечно, слышал, поскольку жил в Испании.
Кортес поднял брови, многозначительно посмотрел на меня и продолжал:
— Человек умирает и все-таки продолжает жить в течение долгих недель. Как это ни печально, мне придется прибегнуть к таким способам, чтобы пробудить твою память — если она еще спит, прежде, чем ты умрешь.
— Я в вашей власти, генерал, — ответил я. — Вы все время называете меня предателем, но я не предатель. Я подданный английского короля, а не короля Испании. Сюда я прибыл вслед за одним негодяем, который по отношению ко мне и моей семье совершил страшное злодеяние, — это один из ваших соратников, некий де Гарсиа, или, как вы его называете, Сарседа. К ацтекам я присоединился, чтобы найти его, и еще по некоторым причинам. Ацтеки потерпели поражение, и теперь я ваш пленник. Но, по крайней мере, обходитесь со мной, как честные воины обходятся с побежденным противником. Я ничего не знаю о сокровищах. Убейте меня, и покончим на этом.
— Как человек, я, может быть, так и сделал бы, но я не просто человек. Здесь, в Анауаке, я представляю церковь! Ты примкнул к идолопоклонникам, ты спокойно смотрел, как твои дикие друзья приносят в жертву и пожирают христиан, твоих братьев. За одно это тебя надо обречь на вечные пытки, и так оно, несомненно, и будет, когда мы с тобой разделаемся. Что касается идальго дона Сарседы, я его знаю только как храброго товарища по оружию и не стану слушать про него всякие россказни, выдуманные подлым вероотступником. Но если между вами и вправду была какая-то старая вражда, я тебе не завидую, — тут в глазах Кортеса мелькнул злобный огонек, — потому что я намереваюсь поручить тебя его заботам. В последний раз повторяю: выбирай! Либо ты укажешь, где спрятаны сокровища, и получишь свободу, либо будешь передан дону Сарседе. А уж он-то найдет способ развязать тебе язык?
Странная слабость овладела мной, когда я понял, что обречен на пытки и что пытать меня будет де Гарсиа. Зная его жестокое сердце, мог ли я рассчитывать на снисхождение. Еще бы! Наконец-то смертельный враг попал к нему в руки, и теперь он натешится вволю! Но все же чувство чести и воля заглушили мой страх, и я ответил:
— Генерал, я уже сказал, что ничего не знаю об этих сокровищах. Теперь можете меня замучить, и да простит господь вашу жестокость!
— Ах ты, святотатец! Как смеешь ты произносить имя божье, несчастный идолопоклонник и людоед? Позвать сюда Сарседу!
Когда посланный ушел, воцарилось молчание. Я встретился взглядом с Мариной и увидел жалость в ее добрых глазах. Но она ничем не могла мне помочь. Кортес был разъярен. До сих пор золото не удалое найти, солдаты требовали вознаграждения, и страх перед бунтом заставил его прибегнуть к столь постыдному средству, хотя по натуре он не отличался жестокостью.
Несмотря на это, Марина попыталась вступиться за меня. Некоторое время Кортес прислушивался к ее горячему шепоту, но затем грубо оттолкнул индеанку.
— Молчи, Марина! — сказал он. — Неужели ты думаешь, я пощажу эту английскую собаку, когда моя власть, а может быть, и сама жизнь зависят от того, найдут сокровища или нет? Он знает, где они спрятаны! Ты сама это сказала, когда я хотел его сразу повесить за измену. Да и шпион, конечно, не ошибся. Ведь он его видел тогда на озере! С ними был еще один наш друг, но он не вернулся: должно быть, они его убили. Наконец, какое тебе дело до этого человека? Почему ты за него заступаешься? Оставь меня в покое, Марина, у меня и без того хватает забот.
Кортес закрыл лицо руками и погрузился в безрадостные размышления. Марина печально посмотрела на меня, словно говоря: «Я сделала, что могла». Я поблагодарил ее взглядом.
Но вот послышались шаги, и когда я снова поднял глава, передо мной стоял де Гарсиа. Время и лишения почти не изменили его; серебряные нити в остроконечной бородке и вьющихся волосах только придали достоинства гордому облику моего недруга. Когда мот смуглый испанский красавец в пышном одеянии, украшенном золотыми цепочками, обнажив голову, поклонился Кортесу, я вынужден был признаться, что еще ни разу не встречал столь блестящего кавалера, чья привлекательная внешность так ловко скрывала самое черное сердце. Но я-то знал, что он собой представляет, и при виде его вся кровь закипела во мне от ярости. А когда я подумал о своем бессилии и о том, какое поручение он сейчас получит, я заскрежетал зубами и проклял день своего рождения. Что касается де Гарсиа, то он приветствовал меня быстрой жестокой улыбкой и обратился к Кортесу:
— Вы меня звали, генерал?
— Здравствуйте, друг, — откликнулся Кортес. — Вы знаете этого изменника?
— Даже слишком хорошо, генерал. Он трижды пытался меня убить.
— Ну что ж, это ему не удалось, а теперь пришел ваш час, Сарседа. Кстати, он говорит, что у вас с ним вражда. В чем там дело?
Де Гарсиа заколебался, теребя свою остроконечную бородку, потом ответил:
— Мне не хотелось говорить, потому что эта история вызывает во мне боль и раскаяние, но все-таки я ее расскажу, чтобы вы не думали обо мне хуже, чем я того заслуживаю. У этого человека есть причины относиться ко мне с недоброжелательством. Буду откровенен. Когда я был много моложе и предавался всем безумствам юности, я встретился в Англии с его матерью, красавицей-испанкой, по несчастной случайности вышедшей замуж за отца этого человека, деревенского дурня, злого шута, который ее истязал. Короче говоря, дама полюбила меня, и я убил ее мужа на дуэли. Вот почему этот предатель меня так ненавидит.
Пока он говорил, я думал, мое сердце испепелится от ярости. Ко всем своим злодеяниям и оскорблениям де Гарсиа прибавил еще одно: он запятнал чести моей покойной матери!
— Ты лжешь, убийца! — крикнул я, тщетно пытаясь разорвать веревки, которыми был связан. — Ты лжешь!
— Генерал, прошу защитить меня от подобных оскорблений, — спокойно проговорил де Гарсиа. — Будь пленник достоин дуэли, я попросил бы вас развязать его на некоторое время, но о таких, как он, я не желаю пачкать свой меч. Мне дорога моя честь.
— Если ты посмеешь еще раз оскорбить испанского дворянина, — холодно сказал Кортес, — у тебя вырвут раскаленными клещами твой подлый язык, проклятый еретик! А вас, Сарседа, я благодарю за откровенность. Если у вас на душе нет иных грехов, кроме этой любовной истории, я думаю, наш добрый капеллан Ольмедо избавит вас от пламени чистилища. Но мы зря тратим слова и время. Этот человек знает тайну сокровищ Куаутемока и Монтесумы. Если Куаутемок и его приближенные ничего не скажут, то этого белого язычника можно заставить заговорить. Только индейцы способны перенести все пытки без единого стона, а ему они быстро развяжут язык! Займитесь им, Сарседа. Поручаю его вашим особым заботам. Сначала пусть помучается вместе с другими, а если он окажется несговорчивым, отделите упрямца от остальных. Выбор способов предоставляю вам. Когда он признается, сообщите.
— Извините меня, генерал, но это занятие не для испанского дворянина. Я привык пронзать своих врагов мечом, а не рвать их клещами, — возразил де Гарсиа, но я заметил, как торжествующе блеснули его черные глаза, и уловил в деланно оскорбленном голосе испанца злорадную нотку.
— Знаю, друг, ответил Кортес. — Но что делать? Мне самому это не нравится, однако иного выхода нет. Золото! Золото! Матерь божья, солдаты уже кричат, что я его украл. Проклятые индейцы вряд ли проронят хоть слово даже под пыткой. А этот человек знает все, и я нарочно отдаю его вам, потому что вы знаете, какие злодеяния он совершил, и это избавит вас от ложной жалости. Не давайте ему пощады! Помните — он должен заговорить!
— Вы приказывайте, Кортес, и, хотя это дело не по мне, я подчиняюсь. Но с одним условием: отдайте приказ в письменном виде.
— Приказ вам вручат немедленно, — ответил Кортес. — А пока отправьте пленника!
— Куда?
— В тюрьму, где он сидел. Все уже готово. Там он встретит своих друзей…
Появились солдаты и повели меня обратно в мою темницу. Когда мы выходили из комнаты, де Гарсиа крикнул, что сейчас нас догонит.
Глава XXIX
ДЕ ГАРСИА ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ НАЧИСТОТУ
Меня поместили не в мою комнату, а в расположенную при входе в дом маленькую караульную, где отдыхала стража. Здесь, задыхаясь от страха и ярости, я лежал некоторое время, связанный по рукам и ногам. Два солдата с обнаженными мечами не спускали с меня глаз. Из-за стены доносились глухие звуки ударов, сопровождаемые стонами.
Но вот дверь распахнулась, в караульню вошли два тласкаланца свирепого вида и, схватив меня за волосы и за уши, грубо поволокли в комнату. Я услышал, как один испанец сказал, обращаясь к другому:
— Бедняга! Святотатец он или нет, мне его жаль. Проклятая служба!
Затем дверь за нами закрылась, и я очутился в камере пыток. Комната была затемнена; на оконной решетке висел какой-то лоскут, и только огонь жаровен освещал стены призрачными отблесками. При свете этих отблесков я старался разглядеть обстановку.
Посреди комнаты стояли три грубо сколоченных деревянных кресла. Одно было пусто, а в двух других сидели император ацтеков Куаутемок и мой старый знакомый, касик Такубы. Они были привязаны к креслам, а под ногами у них стояли жаровни с пылающими углями. Позади кресел примостился писец с бумагой и чернильницей. Вокруг пленников суетились занятые своим страшным делом тласкаланцы, которыми руководили два испанских солдата.
Перед третьим пустым креслом стоял еще один испанец, — казалось, не принимавший участия во всем происходящем. Это был де Гарсиа.
Но вот один из тласкаланцев схватил босую ногу правителя Такубы и прижал ее к пылающим угольям жаровни. Несколько мгновений стояла мертвая тишина, затем касик Такубы глухо застонал. Куаутемок повернулся к нему — только тогда я заметил, что его нога тоже стоит на горящих угольях.
— На что ты жалуешься, друг? — заговорил он твердым голосом. — Я тоже не отдыхаю на своем ложе, однако молчу! Смотри на меня, друг, и не выдавай своих страданий.
Я услышал, как заскрипело перо по бумаге: писец записал его слова. В этот миг Куаутемок повернул голову и увидел меня. Его лицо было свинцовым от боли, но когда он обратился ко мне, я услышал все тот же неторопливый, ясный голос, который столько раз звучал на большом совете.
— Увы, ты тоже здесь, друг мой теуль? — сказал Куаутемок. — Я надеялся, что тебя они пощадят. Теперь ты видишь, что значит верить испанцам. Малинцин поклялся обходиться со мной с уважением, вот он и воздает мне честь горящими углями и раскаленными клещами. Они думают, что мы спрятали сокровища, и пытаются вырвать у нас эту тайну. Но ведь ты знаешь, теуль, что это неправда. Если бы у нас были сокровища, разве бы мы не отдали их сами нашим победителям, божественным сыновьям Кецалькоатля? Ты знаешь, что у нас не осталось ничего, кроме развалин наших городов и праха наших близких.
— Молчи, собака! — оборвал его один из палачей и ударил по лицу. Но я уже понял и в глубине души поклялся, что скорее умру, чем выдам тайну своего собрата. Скрыв от алчных испанцев сокровища, Куаутемок хоть в этом мог одержать над ними победу. Нет, я не предам его в последнем бою!
Так я дал клятву, которой тут же было суждено подвергнуться испытанию. По знаку де Гарсиа тласкаланцы схватили меня и привязали к третьему креслу. Затем он склонился к моему уху и заговорил по-испански:
— Пути господни неисповедимы, кузен Вингфилд. Ты охотился за мной по всему свету, мы не раз встречались, и каждый раз было тебе на горе. Я думал, что разделаюсь с тобой на рабском корабле, я надеялся, что акулы прикончат тебя в море, но ты каким-то образом всегда ускользал от меня, мой преследователь, и я каждый раз сожалел об этом, узнавая правду. Но теперь я ни о чем не жалею. Теперь я знаю, что тебе был уготован сегодняшний день. На сей раз ты от меня не уйдешь, кузен Вингфилд, и я надеюсь, что мы проведем с тобой несколько приятных дней, прежде чем расстаться навсегда. Я буду с тобой обходителен. Выбирай сам, с чего нам начать. К сожалению, выбор не так богат, как бы мне хотелось; святая инквизиция еще не прибыла сюда со своими милосердными орудиями, но я собрал все, что мог. Эти дикари ничего не понимают в своем деле: у них хватило воображения только на горящие угли. У меня, как видишь, больше фантазии, — де Гарсиа показал на различные орудия пыток. — Итак, что тебе больше нравятся?
Я не ответил, решив не издавать ни звука, что бы со мной ни делали.
— Сейчас подумаем, подумаем, — продолжал де Гарсиа, теребя свою бородку. — Ага, есть! Эй, рабы, сюда!
Я не хочу описывать пережитые мной страдания, чтобы не возбудить ужас в душе того, кому доведется прочесть мою историю. Достаточно будет сказать, что этот дьявол с помощью тласкаланцев истязал меня в течение двух с лишним часов, подвергая самым ужасным мучениям. Он перепробовал на мне все пытки, какие только мог придумать, проявив в этом деле незаурядные способности и неистощимую изобретательность. Когда я временами терял сознание, меня тотчас приводили в себя ведрами холодной воды и водкой, которую вливали мне в рот. Но, несмотря на все это, я с гордостью могу сказать, что за два с лишним часа невыносимых страданий не издал ни единого стона и не произнес ни слова. А ведь я испытывал не только телесные муки. Мой враг, не переставая, осыпал меня издевками и насмешками, терзавшими мою душу сильнее, чем орудия пыток и горящие угли терзали мою плоть. Наконец де Гарсиа выбился из сил и, обозвав меня упрямой английской свиньей, приостановил пытку. В этот момент в залитую кровью комнату вошел Кортес, а за ним — Марина.
— Как дела? — спокойно спросил Кортес, хотя лицо его побелело при виде всех ужасов.
— Касик Такубы признался, что золото спрятано у него в саду, — ответил писец, заглянув в свои бумаги. — Двое других молчат, генерал.
Я услышал, как Кортес пробормотал про себя:
— Какие люди! Поистине железные…
Затем громко приказал:
— Завтра отнесите касика в сад, о котором он говорил; пусть покажет, где лежит золото. А этих двух оставьте на сегодня в покое. Может быть, за ночь они образумятся. Надеюсь на это, надеюсь ради их же блага!
Кортес отошел в дальний угол и начал совещаться с Сарседой я другими палачами. Передо мной и Куаутемоком осталась одна Марина. Некоторое время она смотрела на принца почти с ужасом, затем странный огонь промелькнул в ее прекрасных главах и она тихо обратилась к нему по-ацтекски:
— Помнишь, Куаутемок, как ты однажды оттолкнул меня там, в Табаско, и что я тебе тогда сказала? Я говорила, что возвышусь без твоей помощи и вопреки тебе. Видишь, все сбылось, и даже больше того, ибо смотри, до чего ты дошел! Скажи, ты не жалеешь о том далеком дне, Куаутемок? Я жалею, хотя многие женщины на моем месте только радовались бы, увидев тебя в беде.
— Женщина, — ответил принц хриплым голосом, — ты предала свою родину, унизила меня и довела до пыток. Да, если бы не ты, пожалуй, все было бы по-другому. Да, я сожалею — сожалею о том, что не убил тебя сразу. Но да будет впредь имя твое постыдной бранью в устах каждого честного человека, да будет душа твоя проклята навеки и да испытаешь ты еще при жизни самую страшную измену и унижение! Твое предсказание сбылось, женщина. Но и мое исполнится!
Марина, трепеща, отвернулась и некоторое время не могла произнести ни слова. Но вот взгляд индеанки упал на меня, и слезы полились из ее глаз.
— Увы, друг мой, — пробормотала она, — бедный, бедный…
— Не плачь надо мной, Марина, — отозвался я по-ацтекски. — Какой толк от твоих слез? Лучше помоги мне, если можешь!
— О, если бы я могла! — воскликнула она, рыдая, повернулась и выбежала из комнаты пыток. Кортес последовал за ней.
К нам снова приблизились испанцы. Они подняли Куаутемока и касика Такубы и понесли на руках, потому что те не могли идти, а касик вообще был без сознания.
— Прощай, теуль! — сказал мне Куаутемок, когда его проносили мимо. — Ты поистине благородный человек, настоящий сын Кецалькоатля. Да вознаградят тебя боги за все, что ты выстрадал ради меня и моего народа, ибо я наградить тебя не могу.
Это были последние слова Куаутемока, которые мне довелось услышать, ибо в следующее мгновение его вынесли из комнаты.
Я остался один лицом к лицу с тласкаланцами и де Гарсиа. Он не переставал надо мной насмехаться:
— Что, друг мой Вингфилд, устал немножко? Ничего, все дело в привычке! Игра трудна только поначалу. За ночь сон освежит тебя, а утром ты проснешься новым человеком. Ты, наверное, думаешь, что худшее уже позади, что на большее я не способен? Глупец, это только цветики. Ты, конечно, воображаешь, что твое упрямство злит меня? Опять ошибка! Я молюсь о том, чтобы ты не вздумал заговорить, дружок! Я готов отказаться от своей доли спрятанного золота, лишь бы провести с тобой еще пару подобных деньков! Я могу расплатиться с тобой сполна — мне посчастливилось найти такой способ. Ведь можно терзать не только плоть, не правда ли? Когда я хотел отомстить твоему отцу, я поразил ту, которую он любил. А теперь я добрался и до тебя. Ты, конечно, не понимаешь, о чем идет речь? Хорошо, я скажу. Может быть, ты знаешь некую знатную индеанку царского рода по имени Отоми?
— Отоми? Что с ней? — воскликнул я, впервые разжав уста, ибо страх за нее поразил меня сильнее, чем перенесенные пытки.
— О, какая удача! Наконец-таки я нашел способ заставить тебя говорить. Завтра ты у меня будешь соловьем разливаться! А способ простой: Отоми, дочь Монтесумы, и, кстати, весьма приятная дама, согласно обычаям индейцев, стала твоей женой, кузен Вингфилд. Я знаю всю вашу историю. Так вот, твоя жена в моей власти, и я тебе это докажу. Сейчас ее приведут сюда; можете утешить друг друга. Но завтра она сядет на твое место, и на твоих глазах ей придется испытать все, что испытал здесь ты. Слышишь, собака? О, тогда ты заговоришь! Ты скажешь все, только боюсь, будет слишком поздно!
Первый раз за все время я почувствовал, что силы мои сломлены, и начал молить своего злейшего врага о милосердии.
— Пощади ее! — стонал я. — Делай со мной, что хочешь, но ее пощади! Ведь есть же у тебя сердце, даже у тебя, ибо и ты человек. Ты никогда этого не сделаешь, и Кортес этого не допустит.
— Кортес? — рассмеялся де Гарсиа. — Кортес ничего не узнает, пока все не будет кончено. У меня есть его письменный приказ — использовать все способы, чтобы вырвать у тебя признание. Пытки не помогли — значит, остается только этот способ. А что касается остального, то, по-видимому, ты меня плохо знаешь. Тебе известно, что такое ненависть, потому что ты меня ненавидишь. Так вот, увеличь это чувство в десять раз и тогда ты поймешь, как я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя за твою семью, за то, что у тебя глаза твоей матери, но больше всего — за тебя самого! Меня, испанского дворянина, ты избил палкой, как собаку! Разве может хоть что-нибудь остановить меня теперь, когда я могу, наконец, удовлетворить свою ненависть? Ты смелый человек, но сейчас ты дрожишь, сейчас и ты узнал муки ужаса. Какое счастье! Теперь я могу сказать все начистоту: я боюсь тебя, Томас Вингфилд. Я испугался, когда встретился с тобой впервые — у меня были на то причины, — и только поэтому пытался тебя убить. По временам я не мог спать от необъяснимого ужаса, который ты мне внушал. Из-за тебя я бежал из Испании, из-за тебя я вел себя, как трус, во многих схватках. В этой странной дуэли мне всегда везло, но все равно я боялся тебя по-прежнему. Я боюсь тебя и сейчас. Если бы мог, я бы убил тебя сразу, но тогда твой призрак начал бы преследовать меня вместе с призраком твоей матери, а главное — мне пришлось бы ответить за тебя Кортесу. Страх кузен Вингфилд, — отец жестокости. Страх перед тобой заставляет меня быть беспощадным. Я знаю, что в конечном счете ты меня победишь, живой или мертвый, но сейчас моя очередь торжествовать. Пока в тебе или в тех, кто тебе дорог, теплится жизнь, я буду делать все, чтобы довести тебя или твоих близких до позора, унижения и гибели. А почему бы и нет? Ведь я уже погубил твою мать, кузен, хотя мне и пришлось это сделать, чтобы спасти свою жизнь. Мне все равно нет прощения — сделанного не переделать! Ты гнался за мной, чтобы отомстить, и рано или поздно твоей рукой или с твоей помощью эта месть свершится. Но сегодня мой час, и я им воспользуюсь, хотя бы для этого мне пришлось превратиться в мясника!
Внезапно де Гарсиа повернулся и вышел из комнаты, а я от слабости и боли потерял сознание.
Очнулся я на чем-то вроде ложа и почувствовал, что путы мои сняты. Надо мной склонилась какая-то женщина. Шепча слова жалости и любви, она перевязывала мои раны.
Была уже ночь, но в комнате горел светильник, и в его мерцании я разглядел, что женщина эта была не кто иная, как Отоми, но уже не измученная и истощенная, а почти столь же прекрасная, как задолго до дней голодной осады.
— Отоми, ты здесь! — прошептал я израненными губами и застонал, потому что вместе с сознанием в моей памяти всплыли угрозы де Гарсиа.
— Да, любимый, это я, — тихо отозвалась Отоми. — Мне позволили ухаживать за тобой. Проклятые, что они с тобой сделали? Если бы я могла отомстить!..
Отоми разрыдалась.
— Тш-ш-ш! — проговорил я. — Тише. У нас есть еда?
— Сколько угодно. Принесла женщина от Марины.
— Дай мне поесть, Отоми.
Она принялась меня кормить, и постепенно смертельная слабость прошла. Осталась только боль, раздиравшая на части мое бедное тело.
— Слушай, Отоми, ты видела де Гарсиа?
— Нет, муж мой. Два дня назад меня разлучили с моей сестрой Течуишпо и другими женщинами, но обращались со мной хорошо, и я не видела ни одного испанца, если не считать солдат, с которыми сюда пришла. Они сказали, что ты болен. О, теперь-то я знаю, что это за болезни…
И она снова заплакала.
— Однако кто-то тебя увидел и донес, что ты моя жена.
— Это понятно, — ответила Отоми. — Все ацтеки знали о нашей женитьбе, сохранить подобную тайну невозможно. Но за что они тебя так мучили? За то, что ты сражался против них?
— Мы одни? — спросил я.
— Снаружи стоит стража, но в комнате мы одни.
— Тогда наклонись поближе, и я тебе скажу.
Когда я объяснил Отоми все, она вскочила на ноги с горящими главами и заговорила, прижимая руки к сердцу:
— О, я любила тебя и раньше, но теперь люблю еще сильнее, если только это возможно! Кто вынес бы подобные страдания, сохранив верность клятве и побежденным друзьям? Да будет благословен день, когда я впервые увидела твое лицо, о муж мой, самый верный из всех людей! Но те, кто посмел это сделать с тобой, где они? Теперь они не придут, правда? Теперь все кончено, и я буду ухаживать за тобой, пока ты не поправишься. Ведь иначе они не пустили бы меня к тебе!
— Увы, Отоми, я должен тебе сказать правду: ничто еще не кончено!
И прерывающимся голосом я рассказал ей все, да, все, потому что не имел права ничего скрывать. Я объяснил ей, для чего ее привели сюда. Она выслушала меня молча, и только губы ее побелели.
— Поистине теули превзошли наших жрецов, — заговорила она, когда я кончил. — Жрецы нашего народа пытают и приносят жертвы во славу богов, а не во имя золота и тайной злобы. Но что нам теперь делать? Скажи мне, муж мой, ты должен сказать!
— Я не смею, — простонал я.
— Ты словно девочка, которая не решается признаться в сжигающей ее любви, — проговорила Отоми с печальной и гордой усмешкой. — Хорошо, я скажу за тебя. Ты думал о том, что этой ночью мы должны умереть.
— Да, — ответил я. — Умереть сейчас или умереть завтра, испытав все муки и унижения, — иного выбора у нас нет. Если бог нам не поможет, мы должны помочь себе сами, а способ у нас только один.
— Бог? Нет никакого бога! Было время, когда я усомнилась в богах своего народа и обратилась к твоему божеству. Но сейчас я отвергаю и проклинаю его! Если бы был милосердный бог, о котором ты говорил мне, разве бы он допустил подобное? Ты единственный мой бог, и только тебе я поклоняюсь, Нечего взывать к тому, чего нет! А если что-то и есть, то все равно никто не услышит наши жалобы и не увидит наши страдания. Поэтому будем надеяться только на себя. Вон лежат веревки. На окне есть решетка. Одно мгновение — и мы улетим за пределы солнца, прочь от жестокости теулей или просто уснем навеки. Но пока еще у нас есть время. Давай поговорим немного! Вряд ли они приступят к пыткам до рассвета, а к рассвету мы будем уже далеко.
И мы повели беседу, насколько мне позволяла боль. Мы вспоминали о нашей первой встрече, о том, как Отоми была отдана мне, богу Тескатлипоке, Душе Мира, о дне, когда мы лежали бок о бок на жертвенном алтаре, о нашей настоящей свадьбе, об осаде Теночтитлана и о смерти нашего первенца. Так мы проговорили далеко за полночь и умолкли лишь часа в два утра. Гнетущая тишина воцарилась в темнице. Наконец Отоми обратилась ко мне, и голос ее зазвучал торжественно и глухо:
— Муж мой, ты измучен болью, а я усталостью. Время совершить неизбежное. Печальна наша судьба, но впереди нас ждет, наконец, покой. Благодарю тебя, муж мой, за твою доброту, но еще больше благодарю тебя за верность моей семье и моему народу. Прикажи приготовить все для нашего последнего странствия.
— Приготовь, — ответил я.
Отоми встала и занялась веревками. Вскоре все было сделано. Час смерти пробил.
— Помоги мне, Отоми, — попросил я. — Я сам не могу ходить.
Она подняла меня своими сильными нежными руками, и поставила на табурет под зарешеченным окном. Потом она накинула мне на шею петлю, встала со мной рядом и затянула вторую петлю у себя на горле. В торжественной тишине мы обменялись последним поцелуем. Все уже было сказано.
Но вдруг Отоми спросила меня:
— О чем ты думаешь в этот миг, муж мой? Обо мне и нашем мертвом ребенке или о той девушке, что живет далеко за морем? Нет, не отвечай! Я была счастлива в моей любви — этого достаточно. Сейчас любовь моя оборвется вместе с жизнью. Я ни о чем не жалею; мне жалко тебя. Прикажи, я оттолкну табурет. Скажи — да!
— Да, Отоми. Нам не на что надеяться, кроме смерти. Я не могу изменить Куаутемоку, и я не вынесу твоего позора и мучений.
— Тогда поцелуй меня в последний раз!
Я снова поцеловал ее, и Отоми толкнула табурет, пытаясь его опрокинуть. В тот же миг двери распахнулись и снова быстро захлопнулись. Перед нами стояла закутанная женщина с факелом в одной руке и каким-то узлом в другой. Увидев эту ужасную сцену, она бросилась к нам с криком:
— Что вы делаете? Ты сошел с ума, теуль!
Я сразу узнал голос Марины.
— Кто эта женщина, муж мой? — спросила Отоми. — Откуда она тебя знает, и почему она мешает нам умереть спокойно?
— Я Марина, — ответила закутанная гостья. — Я пришла вас спасти, если только смогу.
Глава XXX
ПОБЕГ
Отоми сбросила петлю с шеи и, спустившись на пол, встала перед Мариной.
— Так это ты, Марина? — заговорила она гордо и холодно. — И ты пришла нас спасти, ты, погубившая свою родину, отдавшая тысячи ее детей на поругание, смерть и пытки? Если бы я была одна, я предпочла бы обойтись без твоей помощи и умереть, как я этого хотела.
Никогда еще Отоми не выглядела так царственно, как в тот миг, когда отказалась от последней возможности на спасение ради того, чтобы высказать все свое презрение той, кого она называла предательницей. Впрочем, Марина и была предательницей. Если бы не она, Кортес вряд ли покорил бы Анауак.
Я задрожал, услышав гневные слова Отоми. Несмотря на все перенесенные страдания, жизнь все еще была мне дорога, хотя десять секунд назад я был готов переступить порог смерти. Неужели Марина сейчас уйдет, и мы погибнем? Но этого не случилось. Марина только отпрянула и задрожала под взглядом Отоми.
Удивительный контраст являла столь несхожая красота этих двух женщин, стоявших лицом к лицу в камере пыток, но еще разительнее было превосходство царственного духа обреченной на позорную смерть или на еще более постыдную жизнь принцессы над этой индеанкой, которую судьба на миг вознесла до звезд.
— Скажи, принцесса, — заговорила Марина своим нежным голосом, — если мне не солгали, ты сама легла на жертвенный камень рядом с этим человеком? Почему ты это сделала?
— Потому что я его люблю.
— По той же причине и я, Марина, бросила свою честь на другой алтарь, по той же причине я пошла против детей своего народа — я люблю другого человека. Только из любви к Кортесу я помогала ему, поэтому не презирай меня. Твоя любовь поможет тебе оправдать мою, ибо для нас, женщин, любовь — это все, Если я виновата, за эту вину я готова нести самое тяжкое наказание.
— Поистине ты его заслужила, — подхватила Отоми. — Моя любовь никому не причинила зла, а что сделала твоя? Смотри — вот лишь одно зерно твоего посева! На этом кресле твой хозяин Кортес пытал императора Куаутемока, нарушив все свои клятвы! А на этом рядом с ним сидел мой муж и твой друг теуль, которого Кортес отдал в руки его злейшему врагу де Гарсиа, или Сарседе. Смотри, что он с ним сделал! О нет, не отворачивайся, добрая женщина, смотри на его раны! Подумай, до какого ужаса нас довели, если мы оба готовы умереть здесь, как собаки: мой муж — потому, что он не может пережить, чтобы меня тоже пытали, я — потому, что дочь Монтесумы, принцесса народа отоми, не дойдет до подобного позора. Лучше смерть! А ведь это только один колосок твоей жатвы, отверженная изменница! На развалинах Теночтитлана ты соберешь богатый урожай позора и смерти. Если бы на то была моя воля, я бы скорей умерла десять раз, чем приняла спасение из рук, залитых кровью моего народа! Когда-то он был и твоим…
— О, замолчи, замолчи, умоляю! — простонала Марина, закрывая лицо руками, словно устрашенная видом Отоми. — Что сделано, то сделано — зачем ты меня терзаешь? Но неужели тебя, принцессу Отоми, привели сюда, чтобы пытать?
— Да, пытать, и на глазах моего мужа! А чем дочь Монтесумы, принцесса народа отоми, лучше императора Анауака? Если их не останавливает то, что я женщина, разве их удержит мой недавно еще высокий сан?
— Кортес ничего об этом не знает, клянусь! — воскликнула Марина. — А все остальное его заставили сделать солдаты. Они бунтуют и кричат, что он украл сокровища, которых Кортес сам никогда не видел. Но в этом злодеянии он не повинен! Он не знает…
— Тогда пусть спросит у Сарседы, своего подручного.
— Обещаю, я сделаю все, что могу, чтобы отплатить за это Сарседе. Но время идет, принцесса. Я пришла сюда с ведома Кортеса, чтобы попытаться выведать у твоего мужа теуля тайну сокровищ Монтесумы. Но ради нашей с ним дружбы я готова обмануть Кортеса и помочь вам обоим бежать. Ты отказываешься от моей помощи?
Отоми промолчала. Тогда впервые заговорил я:
— Нет, Марина, мне вовсе не хочется умереть в петле, как какому-нибудь вору. Но как этого избежать?
— Надежды, по правде говоря, мало, но я подумала, что если вы выберетесь из тюрьмы переодетыми, может быть, вам удастся скрыться. До рассвета в лагере вряд ли кто проснется, а если и найдутся такие, то лишь немногие из них сумеют отличить человека от дерева. Все перепились. Смотри, теуль, я принесла тебе одежду испанского солдата. Кожа у тебя смуглая, и в полумраке ты сойдешь за испанца. Для принцессы, твоей жены, я достала другое платье. Мне стыдно его предлагать, но это единственное, в чем женщина может свободно ходить по лагерю ночью. Кроме того, я принесла тебе меч, который у тебя отобрали, хотя и знаю, что когда-то им владел другой человек.
Не переставая говорить, Марина развязала свой узел и вынула из него одежду я меч, тот самый, что я отнял у испанца Диаса в кровавую «Ночь печаля». Но сначала Марина вытащила женское платье и подала его Отоми. Я увидел желто-красный наряд, какой у индейцев носят только определенные женщины, сопровождающие войска. Отоми тоже увидела его и отпрянула.
— Женщина, ты принесла мне свое собственное платье, — проговорила она спокойно, но с таким презрением, с такой дикарской гордостью, что даже я, привыкший к людям ее племени, был поражен. — Наверное, ты ошиблась. Во всяком случае, я его не надену.
— О, это уже слишком! — пробормотала Марина, теряя терпение и тщетно пытаясь скрыть злые слезы, выступившие у нее на глазах. — Я не могу больше этого выносить. Прощайте, я ухожу.
Марина начала завязывать увел, но я поспешил вмешаться:
— Прости ее, Марина! Это горе заставило Отоми так говорить!
Желание бежать росло во мне с каждой минутой. Повернувшись к Отоми, я сказал:
— Прошу тебя, будь добрее, жена, хотя бы ради меня. Марина — наша последняя надежда.
— Лучше бы она дала лам умереть спокойно, муж мой! Хорошо, ради тебя я надену наряд шлюхи. Но как мы выберемся отсюда, а потом из лагеря? Кто откроет нам дверь, кто удалит стражу? И даже если нас не заметят, сможешь ли ты идти?
— Дверь не откроется, принцесса, — ответила Марина, — тот кто меня впустил, ждет снаружи, чтобы запереть ее, когда я выйду. Но стражи нечего опасаться, верьте мне. Смотри, теуль, решетка на окне деревянная, твой меч быстро с ней справится. А если вас потом заметят, притворись пьяным солдатом, которого женщина ведет к его отряду. Что будет после — я сама не знаю. Знаю только, что ради вас обоих я рискую жизнью. Если откроется, что я вам помогла бежать, мне будет нелегко смягчить гнев Кортеса. Война кончилась, слава богу, но — увы! — теперь я ему уже не так нужна, как раньше.
— Я кое-как могу прыгать на правой ноге, — сказал я. — В остальном придется положиться на волю случая. Хуже, чем сейчас, нам все равно не будет.
— Прощай, теуль, больше мне нельзя задерживаться. Я сделала все, что могла. Пусть твоя счастливая звезда поможет тебе уйти невредимым. Бели мы никогда больше не встретимся, прошу тебя, теуль, не думай хоть ты обо мне плохо, потому что в мире и без того найдется много людей, которые будут меня проклинать.
— Прощай, Марина, — ответил я, и она ушла.
Мы слышали, как дверь закрылась за ней, и голоса людей, уносивших ее паланкин, постепенно замерли в отдалении. Потом все стихло. Отоми еще некоторое время прислушивалась, стоя у окна, но казалось, вся стража ушла, почему и куда — я до сих пор не знаю. Издалека доносились только хмельные голоса солдат.
— Теперь за дело! — сказал я Отоми.
— Как хочешь, муж мой, но, боюсь, все это бессмысленно. Я не верю этой женщине. Изменница предаст и нас. На худой конец теперь у тебя есть меч, и ты сумеешь им воспользоваться.
— О чем тут говорить? — возразил я. — В жизни нет ничего страшней пыток и смерти, а нас ждет и то и другое. Чего же нам еще спасаться?
Я сел на табурет и, пользуясь тем, что руки мои остались сильны и невредимы, принялся вырубать острым мечом деревянные прутья решетки один за другим, пока не проделал отверстие, через которое можно было протиснуться. За все это время никто поблизости не появлялся. Затем Отоми помогла мне одеться в принесенный Мариной костюм испанского солдата — сам я не смог бы с ним справиться. Трудно представить, какие муки испытывал я, надевая проклятое платье, а особенно натягивая длинные испанские сапоги на свои обожженные ноги. Несколько раз я останавливался и спрашивал себя: не лучше ли просто умереть, чем терпеть такую ужасную боль? Наконец с этим было покончено, и теперь пришла очередь Отоми облачиться в позорный наряд, который для большинства индианок был страшнее смерти. Мне кажется, что, надевая его, она испытывала еще большие страдания, чем я, хотя и другого рода, ибо для гордой Отоми это платье было ужаснее тернового венца.
Но вот переодевание закончилось. Отоми жеманно прошлась передо мной и спросила с дикой насмешливой улыбкой:
— Ну как, солдатик, хороша ли я? Ах, душка!..
— Перестань дурачиться! — оборвал я ее. — Какая разница, во что мы переодеты, если речь идет о жизни?
— Большая, муж мой. Но тебе, мужчине и чужестранцу, этого не понять! Я пролезу в окно первой и буду ждать тебя. Если ты не сможешь последовать за мной, я вернусь, и мы покончим с этим маскарадом.
Отоми быстро проскользнула в отверстие — она была сильна и гибка, словно оцелот.
[262] Поднявшись на табурет, я постарался сделать то же самое, насколько позволяли мои раны. Мне удалось наполовину высунуться из окна, но тут я застрял и повис, как дохлая кошка. Наконец Отоми буквально выдернула меня наружу, и мы оба свалились на землю. Я не смог удержать стона. Отоми поставила меня на ноги, вернее на ногу, потому что я мог ступать только на одну из них, и мы огляделись. Вокруг не было ни души; даже пьяные вопли в лагере стихли. Вершина Попокатепетля уже розовела под первыми лучами солнца. В долину спускался рассвет.
— Куда теперь? — спросил я.
Хорошо еще, что Отоми с ее сестрой, женой Куаутемока, и другим женщинам разрешили свободно ходить по лагерю, и она, подобно большинству индейцев, прекрасно запоминала дорогу, по которой прошла хоть раз, так что теперь Отоми могла вести меня хоть в кромешной тьме.
— Пойдем к южным воротам, — прошептала она, — может быть, теперь, когда бои кончились, их не охраняют. По крайней мере эту дорогу я знаю.
Мы двинулись вперед. Я прыгал на одной ноге, опираясь на плечо Отоми. С большим трудом мы одолели ярдов триста, никого не встретив, но тут счастье нам изменило. Завернув за угол какого-то дома, мы лицом к лицу столкнулись с тремя солдатами, возвращавшимися к себе в сопровождении нескольких слуг после ночной попойки.
— Это еще кто здесь? — заорал один из них. — Как тебя зовут, друг?
— Доброй ночи, братец, бай-бай! — ответил я по-испански хриплым голосом пьяницы.
— Ты хочешь сказать, доброе утром — рассмеялся солдат, потому что уже светало. — Но как твое имя? Я что-то тебя не знаю, хотя
рожа твоя мне знакома. Уж не встречались ли мы в бою?
— Не имеешь права спрашивать мое имя! — важно ответил я, раскачиваясь взад и вперед. — Не дай бог, узнает мой капитан, — тогда всем не поздоровится. Он у нас непьющий. Дай руку, девка, пора спать, бай-бай. Видишь, солнце уже садится!
Солдаты расхохотались. Один из них обратился к Отоми:
— Брось этого пьяного дурня, красотка, пойдем с нами!
Он потянул ее за руку, но тут Отоми повернулась к нему с таким свирепым видом, что испанец от удивления отступил, и мы, шатаясь, побрели дальше.
Когда угол дома скрыл нас от солдат, силы меня оставили, и я рухнул на землю от невыносимой боли: пока солдаты могли нас видеть, мне приходилось ступать на раненую ногу, чтобы не возбудить их подозрения. Отоми попыталась меня поднять.
— Вставай, любимый! — умоляла она. — Надо идти или мы погибнем.
С мучительным стоном я поднялся на ноги. Ценой каких страданий добрались мы до южных ворот — невозможно сказать. Мне казалось, я десять раз умру, прежде чем их достигну. Но вот, наконец, ворота и возле них, по счастью, ни одного солдата: все испанцы спали в караульне. Только три тласкаланца дремали у маленького костра, завернувшись с головой в свои плащи-одеяла. На рассвете посвежело.
— Открывайте ворота, собаки! — гордо потребовал я.
Увидев перед собой испанского солдата, один ив тласкаланцев встал на ноги, затем, помедлив, спросил:
— Зачем? Кто приказал?
Я не видел его лица, скрытого одеялом, но голос показался мне знакомым, и страх охватил меня. Однако нужно было отвечать.
— Зачем? А затем, что я пьян и хочу проспаться на травке, пока протрезвлюсь. Кто приказал? Я приказал, дежурный офицер! Живей, не то я прикажу тебя сечь до тех пор, пока ты не отучишься навсегда задавать дурацкие вопросы. Слышишь?
Тласкаланец заколебался.
— Может, разбудить теулей? — обратился он к своему товарищу.
— Не надо, — ответил тот. — Господин Сарседа устал и приказал его зря не беспокоить. Пропусти их или не выпускай, только его не буди.
Я задрожал с головы до ног: в караульне был де Гарсиа! Что, если он уже проснулся? Что, если он сейчас выйдет и увидит меня? И в довершение всего я узнал, наконец, голос тласкаланца, — это был один из пытавших меня мучителей. Только бы он не увидел моего лица! Палач наверняка узнает свою жертву.
Оцепенев от ужаса, я не мог произнести ни слова, и если бы не Отоми, моя история на этом бы окончилась. Но тут она вступила в свою роль и сыграла ее превосходно. Солеными солдатскими шуточками Отоми заставила тласкаланца рассмеяться, и он открыл перед нами ворота. Мы уже миновали их, когда от внезапного приступа слабости я споткнулся, упал и покатился по земле.
— Вставай, дружок, вставай! — тянула меня Отоми с грубым смехом. — Если хочешь спать, подожди, пока мы доберемся до какого-нибудь укромного местечка под кустом!
Она нагнулась, чтобы поднять меня. Тласкаланец со смехом поспешил ей на помощь, и, опираясь на них, мне удалось встать на ноги. Но когда я встал, шляпа, и без того едва прикрывавшая мое лицо, упала на землю. Тласкаланец подобрал ее, протянул мне, и в этот миг наши глава встретились. Хорошо еще, что свет падал сзади, так что мое лицо оказалось в тени.
В следующее мгновение я, подпрыгивая, двинулся дальше, но, оглянувшись, увидел, что тласкаланец с растерянным видом смотрит нам вслед, словно не веря своим глазам.
— Он узнал меня, — шепнул я Отоми. — Сейчас он опомнится и побежит за нами.
— Скорей, скорей, — умоляла она. — Вон за тем поворотом заросли агав. Там мы спрячемся.
— Не могу! Сил нет, — прохрипел я и начал снова валиться.
Отоми едва успела меня подхватить. И вдруг, напрягая все силы, она подняла меня на руки и понесла, словно мать ребенка, прижимая к своей груди. Любовь и отчаяние помогли ей пронести меня так шагов пятьдесят до края насаждений агавы, но здесь мы оба рухнули наземь.
Я скосил глаза на тропинку, по которой мы шли. Там из-за угла появился тласкаланец с утыканной обсидиановыми остриями палицей. Как видно, он решил избавиться от всех сомнений.
— Конец, — прохрипел я. — Он идет сюда.
Вместо ответа Отоми выхватила мой меч из ножен и сунула его рядом в траву.
— А теперь закрой глаза, — шепнула она. — Сделай вид, что спишь. Это наша последняя надежда.
Я закрыл лицо локтем и притворился спящим. Мне было слышно, как тласкаланец шел через заросли. Еще мгновение — и он уже стоял надо мной.
— Чего тебе надо? — спросила Отоми. — Ты что, не видишь — он спит? Не буди его!
— Сначала я должен взглянуть на этого человека, женщина, — ответил тласкаланец, отстраняя мою руку. — О, боги, я так и думал! Это тот самый теуль, с которым мы вчера возились. Он сбежал!
— Ты с ума сошел! — рассмеялась Отоми. — Если он и сбежал, то только от пьяной драки и выпивки.
— Ты лжешь, женщина, или просто ничего не слышала. Этот человек знает тайну сокровищ Монтесумы. За него дадут царскую награду!
И тласкаланец взмахнул палицей.
— Стой, зачем же тогда его убивать? Я, конечно, ничего не знаю. Бери его, если хочешь. Мне этот пьяный дурень давно надоел.
— А ведь верно! Убивать его глупо. Лучше я приведу его живым к господину Сарседе, за это он меня и похвалит и наградит. Эй, помоги мне!
— Управляйся сам, — сердито ответила Отоми. — Только сначала пошарь у него в карманах: может, там найдется, чем поживиться нам обоим?
— Тоже верно, — проговорил тласкаланец, опустился передо мной на колени и начал выворачивать мои карманы.
Отоми стояла над ним. Внезапно я увидел, как исказилось ее лицо и в глазах сверкнуло жуткое пламя, такое же, как в глазах жрецов, приносящих жертву. Быстрее мысли она схватила меч из травы и со всего размаху обрушила его на затылок тласкаланца.
Он упал, не издав ни звука. Отоми тоже упала, но уже через мгновение она снова стояла на ногах, сжимая обнаженный меч и не сводя с убитого страшного взгляда.
— Вставай, пока другие его не хватились! Ты должен встать!
И вот мы снова двинулись вперед, продираясь сквозь заросли. Сознание мое мутилось, проваливаясь в черную бездну. Иногда мне чудилось, что все это страшный сон, и во сне я шел по раскаленному докрасна железу. Как сквозь туман, увидел я каких-то людей с поднятыми копьями, Отоми, бегущую им навстречу с простертыми руками, и больше я ничего не помню.
Глава XXXI
ОТОМИ ГОВОРИТ СО СВОИМ НАРОДОМ
Я очнулся в тускло освещенной пещере. Надо мной склонилась Отоми, а чуть поодаль — какой-то человек подбрасывал сухие стебли агавы в огонь под кипящим горшком.
— Где мы? — спросил я. — Что произошло?
— Мы спасены, любимый, — ответила Отоми. — Во всяком случае на время ты в безопасности. Поешь, потом я все расскажу.
Она принесла мне похлебки, лепешек, и я с жадностью набросился на еду. Когда голод был утолен, Отоми заговорила:
— Ты помнишь, как тласкаланец бросился за нами и как я… как я от него избавилась?
— Помню, хотя и не понимаю, откуда у тебя взялись силы убить его.
— Мне дали их любовь и отчаяние, но не хотела бы я это повторять. Не вспоминай, муж мой. Страшно подумать… Я только тем и утешаюсь, что, наверное, не убила его: меч повернулся у меня в руке и, пожалуй, только оглушить тласкаланца. Потом мы бросились бежать. Через некоторое время я оглянулась и увидела его двух товарищей: они шли по нашим следам. Около бесчувственного тласкаланца они остановились, а затем со всех ног бросились за нами в погоню. Ты едва двигался, твой разум мутился, а у меня уже не было сил нести тебя. Они нас настигали, но мы все шли вперед, пока между нами не осталось всего шагов пятьдесят. И тут я увидела, как из зарослей на нас бросилось человек восемь вооруженных воинов. Это были люди моего племени, отоми, твои солдаты. Они следили за испанским лагерем и, увидев испанца, хотели его убить. И они едва не убили тебя, потому что я так задыхалась, что не могла говорить. Наконец мне удалось в двух словах сказать им, кто я, и объяснить, в каком ты положении. И тут подоспели тласкаланцы. Я позвала своих отоми на помощь, и они бросились на врагов, прежде чем те успели опомниться. Одного убили на месте, другого взяли в плен. Потом воины сделали носилки и без отдыха несли тебя двадцать лиг, все дальше в горы, пока мы не добрались до этого тайного убежища. Здесь ты пролежал три дня и три ночи. Теули искали тебя везде и всюду, но не нашли. Только вчера двое из них с десятком тласкаланцев прошли в ста шагах от пещеры, и мне стоило немалого труда удержать моих воинов: они хотели на них напасть. Сейчас все ушли, и, я думаю, мы на время в безопасности. Когда тебе станет лучше, тронемся отсюда.
— Но куда идти? Мы теперь как птицы без гнезда, Отоми.
— Нам остается только просить убежища в Городе Сосен или бежать за море. Выбор невелик, муж мой.
— О море нечего и думать; сюда приходят только испанские корабли. А как нас встретят в Городе Сосен — не знаю. Ведь мы разгромлены, и тысячи воинов отоми погибли.
— Придется рискнуть, муж мой. В Анауаке есть еще верные сердца, которые сумеют постоять за себя и за нас в эту годину скорби. Мы ведь с тобой пережили и не такие опасности! А теперь дай я перевяжу твои раны. Отдохни.
В этой горной пещере я пролежал еще три дня. Отоми ухаживала за мной. На четвертую ночь, когда меня уже можно было нести на носилках — ходить самостоятельно я начал только через несколько недель, — мы тронулись в путь. Воины донесли меня на своих плечах до самого ущелья, за которым лежал Город Сосен.
Здесь нас остановили часовые. Отоми рассказала им нашу историю и попросила кого-нибудь отправиться вперед и предупредить старейшин города. Следом за вестниками двинулись и мы. Утомленные дальней дорогой воины шли медленно, и к воротам прекрасного города мы подошли как раз в тот миг, когда вечерняя варя осветила возвышающуюся над ним снежную вершину вулкана Хака, окрасив его дымный султан в багровые цвета расплавленного железа.
Слух о нашем прибытии разнесся по всему городу. Всюду собирались кучки народа, молча провожая нас взглядами, и лишь изредка какая-нибудь женщина, чей муж или сын погибли во время осады, посылала нам вслед проклятия.
Увы, нас встречали совсем иначе, чем год назад, когда мы прибыли в Город Сосен впервые. Тогда за нами следовала целая армия, верных десять тысяч воинов, музыканты, певцы, и путь наш был усыпав цветами, а теперь? Теперь мы были двумя жалкими беглецами, спасающимися от мести теулей. Четыре воина несли меня на носилках. Отоми шла рядом, потому что ее нести было некому, и женщины насмехались над ее нарядом продажной девки, — иного достать она не смогла. Жители города проклинали нас, как виновников своих бед, и хорошо еще, что они ограничивались только проклятиями!
Наконец мы пересекли площадь, на которую уже пала тень от теокалли, а когда приблизились к древнему, украшенному изваяниями дворцу, сразу наступили сумерки, и столб дыма над священной горой Хака осветился изнутри, словно раскаленный пламенем.
Во дворце почти ничего не было приготовлено, и в тот день мы поужинали при свете факела сухими тортильями, или пресными лепешками, запивая их водой, как самые последние из бедняков. Потом мы легли. Боль от ран мешала мне уснуть, и вскоре я услышал рядом плач Отоми. Думая, что я сплю, она тихо рыдала. Даже ее гордый дух был сломлен. До сих пор она так горько не плакала никогда, разве что над телом нашего первенца, умершего во время осады.
— О чем ты скорбишь, Отоми? — спросил я наконец.
— Я думала, ты спишь, — проговорила она в ответ прерывающимся голосом. — Иначе я бы не выдала своей боли. О муж мой, я скорблю обо всем, что выпало на долю нам и моему народу, но больше всего о тебе. До чего тебя довели! На тебя смотрят, как на последнего человека! А как нас встретили?!
— Ты ведь знаешь причину, жена, — ответил я. — Скажи лучше, что с нами сделают твои отоми? Убьют? Выдадут теулям?
— Завтра мы все узнаем. Но живой они меня не возьмут.
— И меня тоже. Лучше смерть, чем великодушные милости Кортеса и его подручного де Гарсиа. Но есть ли хотя бы надежда?
— Да, любимый, надежда есть. Сейчас отоми удручены и помнят только о том, что мы увели на смерть их лучших воинов. Однако у них добрые мужественные сердца, и если я сумею их тронуть, все может обойтись к лучшему. Мы с тобой ослабели от лишений, усталости и перенесенных страданий, а нам, пережившим столько опасностей, нужно быть сильными и смелыми. Спи, муж мой, дай мне подумать! Все будет хорошо. Ведь должны же наши несчастья когда-нибудь кончиться?
Я уснул и наутро проснулся с новыми силами — телесными и душевными, как всякий человек, освеженный отдыхом и ободренный сиянием дня.
Я открыл глаза, когда солнце уже стояло высоко, но Отоми встала на рассвете и не потратила эти три часа даром. Прежде всего она добилась, чтобы нам доставили приличную пищу и другую одежду, более подобающую нашему достоинству, чем старые лохмотья. Затем она созвала немногих знатных людей, которые даже в беде остались ей верными, и разослала их по городу, чтобы они известили всех о том, что в полдень принцесса Отоми будет говорить с народом со ступеней дворца. Она прекрасно знала, что душу толпы растрогать гораздо легче, чем холодные сердца старейшин.
— Ты думаешь, народ соберется? — спросил я.
— Не бойся, — ответила Отоми. — Их приведет желание увидеть тех, кто пережил осаду, и узнать от них правду. Конечно, придут и те, кто жаждет нам отомстить.
Отоми оказалась права. Ближе к полудню жители Города Сосен начали тысячами собираться на площади, и вскоре все пространство между ступенями дворца и подножием теокалли было черно от несметных толп.
Отоми расчесала свои волнистые волосы, украсив их цветами, накинула поверх белого одеяния с золотым поясом сверкающий плащ из перьев, а шею украсила великолепным изумрудным ожерельем, тем самым, что мне дал в сокровищнице Куаутемок; моя жена пронесла его через все опасности. Из украшений и символов власти, хранившихся во дворце, Отоми выбрала маленький жезл из черного дерева с золотым орнаментом. Несмотря на усталость и пережитые страдания, сейчас она выглядела самой царственной женщиной, какую я когда-либо видел.
Затем Отоми помогла мне лечь на мои грубые носилки и, когда настал полдень, приказала воинам, которые доставили меня через горы, нести носилки рядом с ней. Так мы появились в дверях дворца и заняли свое место на верхней площадке широкой лестницы.
Многотысячная толпа встретила нас громкими криками, подобными реву диких зверей, почуявших добычу. Этот рев, способный вселить ужас в любого храбреца, становился все громче и громче, и вскоре для меня не осталось сомнений, что он означает.
— Смерть им! — вопила толпа. — Выдать этих трусов теулям!
Отоми вышла вперед к краю площадки и молча подняла вверх свой черный скипетр. Солнце озаряло ее прекрасное лицо и величественную фигуру. Люди внизу бесновались. Тысячи голосов ревели и вопили, волнение все возрастало, и вот толпа ринулась к Отоми, чтобы растерзать ее на куски, но на самой последней ступени замерла и отхлынула, как волна от утеса. Потом снизу взвилось чье-то копье и просвистело мимо шеи Отоми над самым плечом.
Видя, что нам грозит верная смерть, и не желая погибать вместе с нами, воины поставили мои носилки на каменную площадку и укрылись во дворце. Но Отоми не дрогнула даже тогда, когда копье едва ее не пронзило. Презрительно и непоколебимо стояла она перед беснующейся толпой, как истинная королева среди сварливых женщин, и мало-помалу ее величие и мужество заставили всех умолкнуть. Когда, наконец, воцарилась тишина, Отоми заговорила звонким голосом, слышным всем собравшимся. Горькими были ее слова:
— Где я? Неужели это мой народ отоми? Может быть, мы сбились с дороги и попали к диким тласкаланцам? Слушай, народ отоми! Я одна, и голос у меня один — я не могу говорить с толпой. Изберите того, кто будет вашими устами, и пусть он выскажет все, что у вас на сердце.
Люди снова заволновались. Одни выкрикивали одно имя, другие — другое; в конце концов из толпы вышел жрец и знатный старейшина по имени Махтла. Этот Махтла пользовался среди отоми большой властью. В свое время он склонял соплеменников к союзу с испанцами и всеми силами противился посылке армии Куитлауаку для зашиты Теночтитлана.
Махтла был не один. Вместе с ним из толпы вышли еще четыре вождя. Взглянув на их одеяния, я узнал тласкаланцев, посланников Кортеса, и сердце мое упало. Догадаться о цели их появления было нетрудно.
— Говори, Махтла! — сказала Отоми. — Говори, мы дадим ответ. А вы, люди отоми, храните молчание и слушайте, чтобы рассудить нас, когда все будет сказано.
Воцарилась мертвая тишина. Все сгрудились поближе, как овцы в загоне, и затаили дыхание, чтобы не проронить ни единого слова.
— С тобой, принцесса, и с твоим незаконным мужем теулем разговор будет коротким, — нагло заговорил Махтла. — Совсем недавно ты явилась сюда за войском для Куитлауака, императора ацтеков, чтобы помочь ему в войне против теулей, детей бога Кецалькоатля. Тебе дали это войско против желания многих, ты убедила совет своими медовыми речами, и никто не стал слушать нас, стоявших за дружбу и союз с белыми людьми, сыновьями бога. Ты удалилась — и двадцать тысяч воинов, цвет нашего народа, последовали за тобой в Теночтитлан. Где теперь эти люди? Я скажу вам. Сотни две из них притащились домой, а все остальные носятся сейчас в воздухе в зобах у коршунов или ползают по земле в животах у шакалов. Ты увела их на смерть, и они все погибли. Две ваших жизни за жизнь двадцати тысяч наших отцов, сыновей и братьев — недорогая плата! Но мы не требуем даже этого. Здесь, рядом со мной, стоят посланцы Малинцина, вождя теулей, прибывшие к нам час назад. Вот что говорит Малинцин, слушайте его слова:
«Выдайте мне Отоми, дочь Монтесумы, вместе с ее любовником, предателем теулем, сбежавшим от справедливой кары за свои преступления, и я буду великодушен к вам, люди отоми. Но если вы спрячете их или откажетесь выдать, Город Сосен постигнет судьба Теночтитлана, владыки всех городов. Выбирайте между моей милостью и моим гневом, люди отоми! Если вы подчинитесь, прошлое будет забыто, и моя власть будет для вас легка. Если же вы отвергнете мою милость, я разрушу ваш город и даже имя ваше сотру со скрижалей земли».
— Скажите, посланники Малинцина, — обратился Махтла к тласкаланцам, — так ли сказал Малинцин?
— Это его слова, Махтла, — ответил глашатай послов.
Снова в толпе началось волнение. Послышались возгласы:
— Выдать их! Выдайте их Малинцину как залог мира!
Отоми шагнула вперед, и снова воцарилась тишина. Все хотели услышать ее ответ.
— Народ отоми! — заговорила она. — Я вижу, что мои подданные сегодня судят меня и моего мужа. Хорошо, я женщина, но я буду говорить в свою защиту, как умею, и вы, народ мой, рассудите нас с Махтлой и его друзьями, Малинцином и тласкаланцами.
Чем мы вас обидели? Да, мы приходили к вам по приказу Куитлауака просить у вас помощи в войне с теулями. Но что я тогда говорила? Я говорила, что если народы Анауака не выступят все вместе против белых людей, их сломают поодиночке, как стрелы, выдернутые из общей связки, и бросят в огонь. Разве я вам солгала? Нет, я сказала правду, потому что из-за предательства отдельных племен, а главное — из-за предательства тласкаланцев Анауак пал и Теночтитлан обратился в руины, усеянные мертвецами, как поле маисом.
— Верно! Это правда! — послышались крики.
— Да, люди отоми, это правда. Но если бы воины всех племен Анауака сражались так же, как сражались сыны моего народа, все было бы иначе. Но они погибли, и теперь вы хотите из-за этого выдать нас нашим врагам, которые их убили. Я не оплакиваю павших, хотя среди них немало людей моей крови. Сдержите свой гнев и слушайте! Я не оплакиваю их потому, что лучше со славою пасть в бою и обрести бессмертие в Обиталище Солнца, чем жить рабами, как вы этого, кажется, хотите, люди отоми. Я не сказала вам ни слова неправды. Малинцин уже сломал те стрелы, которые направлял в грудь Куаутемока, бросил их в огонь, и теперь теули варят на них похлебку. Изменники, друзья теулей, уже превратились в их рабов. Разве вы не слышали приказа Малинцина? Он повелел всем союзным племенам работать в каменоломнях и на улицах Теночтитлана, пока разрушенный им город снова не поднимется над водой во всем своем великолепии. Может быть, вы, люди отоми, тоже хотите там проливать пот, не зная отдыха и получая в награду только плети надсмотрщиков и проклятия теулей? Тогда торопитесь, храбрые горцы! Конечно! Ведь ваши руки привыкли к заступам и лопатам, а не к лукам и копьям. Вам, видно, милее исполнять все желания и повеления Малинцина, умножая его богатства под палящим солнцем долин или в сырости каменоломен, чем свободно жить среди этих гор, где до сих пор еще не ступала вражеская нога.
Отоми на мгновение умолкла. Рокот смущения и беспокойства пробежал по многотысячной толпе. Махтла вышел вперед и хотел что-то сказать, но его не стали слушать. Народ кричал:
— Отоми! Отоми! Пусть говорит Отоми!
— Благодарю тебя, мой народ! — продолжала она. — Мне еще многое надо сказать. Итак, наше преступление заключается в том, что мы повели за собой войско на бой с теулями, Но как мы это сделали? Разве я приказала вам встать в строй и идти? Нет, я объяснила вам все и сказала: «Решайте сами!» Вы сами сделали выбор и сами послали отряды этих славных воинов, которые погибли. Значит, мое преступление состоит в том, что вы сделали неверный выбор, хотя я думаю, что он был правильным. Значит, за это вы хотите сейчас выдать меня и моего мужа как залог миролюбия теулям? Слушайте! Прежде чем вы нас предадите и наши уста умолкнут навеки, я хочу рассказать вам правду об этой войне. С чего начать? Я не знаю. Я родила сына. Если бы он остался жив, он стал бы вашим принцем. Мой мальчик умер в дни осады, он умирал у меня на глазах от голода день за днем, час за часом… Но кто я такая, чтобы жаловаться, чтобы оплакивать своего сына, когда тысячи ваших сыновей погибли и вы кричите, что мои руки запятнаны их кровью? Я расскажу вам о другом. Слушайте!..
И Отоми продолжала свой страшный рассказ. Жгучими словами описывала она ужасы осады, зверства испанцев и славные подвиги воинов отоми, которыми я командовал. Она говорила целый час, и вся огромная толпа жадно ловила каждое ее слово. Отоми рассказала также о моем участии в схватках, и то один, то другой из воинов, сражавшийся вместе со мной и чудом избежавший смерти от голода или в бою, выкрикивал из толпы:
— Правда, все правда! Я это видел сам!
— И, наконец, — продолжала Отоми, — все было кончено: Теночтитлан обращен в развалины, мой брат император, славный Куаутемок, стал пленником Малинцина, а вместе с ним мой муж теуль, моя сестра, я сама и еще многие другие. Малинцин поклялся обходиться с Куаутемоком и всеми его ближними как подобает их высокому званию. Знаете, как он сдержал свою клятву? Через несколько дней нашего императора Куаутемока посадили на кресло пыток. Рабы жгли его горящими углями, чтобы он сказал, где спрятаны сокровища Монтесумы! О, вы можете сколько угодно кричать теперь: «Позор! Позор!» Вы закричите еще громче, когда узнаете, что пытали не только Куаутемока. Здесь перед вами лежит один из тех, кто страдал рядом с ним и тоже не проронил ни слова. Даже я, женщина и ваша принцесса, была приговорена к пыткам! Но узнайте все до конца. Мы бежали, когда смерть уже стояла на пороге, ибо я сказала моему мужу, что у людей отоми верные сердца и они не предадут нас в беде. Я верила! Только потому я, Отоми, переоделась в наряд продажной девки и бежала вместе с ним. Но если бы я знала, что мне доведется увидеть здесь и услышать, если бы я только думала, как вы нас встретите, я бы скорей умерла сто раз, только бы не стоять вот так перед вами и не молить вас о жалости!
О народ мой, народ мой, взываю к тебе! Отвергни лживых теулей! Оставайся всегда свободным и гордым! Твои плечи не для рабского ярма, твои сыновья и дочери слишком благородны, чтобы сделаться слугами и забавой для чужестранцев. Бойтесь Малинцина! Не верьте ему! Многие ваши воины погибли, но тысячи и тысячи живы. Здесь, в вашем горном гнезде, вы можете разгромить всех теулей Анауака, как в прошлом лживые тласкаланцы громили здесь ацтеков. Но тогда тласкаланцы были свободны, а теперь это племя рабов. Может быть, вы завидуете их рабской доле? О народ мой, народ мой! Не думайте, что я защищаю себя или своего мужа, который мне дороже всего, кроме чести. Неужели вы надеялись, что сможете отдать нас живыми этим псам-тласкаланцам, которых Малинцин послал к вам, чтобы вас унизить? Смотрите!
Отоми подобрала с каменной платформы брошенное в нее копье и подняла его высоко над головой.
— Вот оружие, которое нам послал какой-то милосердный друг, и если вы откажете нам в защите, мы умрем у вас на глазах. Тогда отошлите, если желаете, наши тела Малинцину как залог своего миролюбия. Но ради вашего блага заклинаю, послушайте меня! Не верьте Малинцину, и если даже вам придется потом умереть, умрите свободными людьми, а не рабами теулей. Взгляните на его милосердные дела — такая же награда ждет и вас, если вы послушаетесь Махтлу!
Приблизившись к моим носилкам, Отоми быстро сдернула с меня одежду, сняла повязки и полуобнаженного поставила на здоровую ногу.
— Смотрите! — закричала она исступленно, указывая на мои шрамы и открытые раны на лице и ногах. — Смотрите, вот что делают теуля и тласкаланцы! Вот что ожидает того, кто сдается им на милость. Покоряйтесь, если хотите, выдавайте нас, если хотите, но говорю вам: тогда ваши тела будут истерзаны точно так же! Тогда ненасытные праздные теули будут пытать вас, пока не отнимут последнюю крупицу золота и не обратят в рабство последнего мужчину и последнюю женщину.
Умолкнув, Отоми осторожно опустила меня на землю, потому что сам я не держался на ногах, и встала надо мной с копьем в руке, готовая вонзить его в мое сердце, если народ все же решит выдать нас посланцам Кортеса.
Мгновение стояла тишина, затем вся площадь сразу огласилась воплями и криками, в десять раз более громкими, чем прежде. Но теперь в них не было угрозы для нас. Отоми победила. Ее благородные слова, ее красота, рассказ о наших злоключениях и вид моих ран сделали свое дело. Теперь народ был полон ярости к теулям и их помощникам тласкаланцам, в борьбе с которыми погибли воины отоми, Никогда еще разум и красноречие женщины не производили столь разительной перемены. Люди стонали, раздирали на себе одежды и потрясали оружием. Махтла несколько раз пытался заговорить, но его стащили вниз, и он бросился бежать, спасая свою жизнь. Теперь гнев толпы обрушился на послов тласкаланцев.
— Вот вам наш ответ Малинцину! — кричали отоми, избивая их палками. — Вон отсюда, собаки! Бегите к своему хозяину!
Так их выгнали из Города Сосен, и толпа на площади постепенно успокоилась. Тогда один из знатнейших вождей приблизился к Отоми, поцеловал ей руку и проговорил:
— Принцесса, мы твои дети и мы будем стоять за тебя насмерть, ибо ты вдохнула в наши тела новую душу. Ты справедливо сказала: лучше умереть свободными, чем жить рабами!
— Вот видишь, муж мой, — обратилась ко мне Отоми, — я не ошиблась, когда говорила тебе, что мой народ верен и справедлив. Но теперь нам придется готовиться к войне. Дело зашло слишком далеко, отступать уже поздно. Когда весть обо всем этом дойдет до ушей Малинцина, он разъярится, как пума, у которой отняли детеныша. А сейчас пойдем отдохнем, я очень устала.
— Отоми, — сказал я, — ты самая великая женщина, какая когда-либо жила на свете.
— Не знаю, муж мой, не знаю, — ответила она, улыбаясь, — но раз мне удалось спасти твою жизнь и заслужить твою похвалу — я довольна.
Глава XXXII
ГИБЕЛЬ КУАУТЕМОКА
Некоторое время мы жили в Городе Сосен спокойно. Раны, нанесенные мне жестокой рукой де Гарсиа, заживали медленно, причиняя немало страданий, но в конце концов я поправился. Однако мы с Отоми и все наши подданные понимали, что мир продлится недолго: ведь мы выгнали за городские ворота послов Малинцина! Многие горцы сейчас жалели об этом, но дело было сделано: что посеешь, то и пожнешь!
Итак, мы начали готовиться к войне. Отоми возглавила совет племен, в котором я тоже участвовал. А вскоре пришли вести о том, что пятьдесят испанцев и пять тысяч их союзников — тласкаланцев приближаются к городу, намереваясь стереть нас с лица земли. Я встал во главе воинов отоми — их было десять с лишним тысяч, и по-своему все они были неплохо вооружены. Покинув город, мы двинулись навстречу врагу по ущелью, но, пройдя две трети его, я остановил свою армию. Однако оставаться здесь я не собирался — в ущелье было слишком тесно, и все воины не смогли бы тут развернуться для боя. У меня был другой план. Семь тысяч воинов я послал в обход через горы по известным только отоми тайным тропинкам, приказав им укрыться на гребнях скал, возвышавшихся более чем на тысячу футов по обеим сторонам ущелья, и заготовить побольше камней.
Остальных воинов, вооруженных луками и дротиками, за исключением отряда в пятьсот человек, который остался со мной, я расположил в засаде в тех местах, где нависшие над ущельем скалы могли прикрыть от падающих сверху глыб. Затем я отправил самых надежных людей на разведку: одни должны были следить за продвижением испанцев, а другим было поручено сделаться их проводниками.
Мне казалось, что мой план безупречен. Все шло превосходно. И тем не менее мы едва избежали беды.
В лагере вместе с нами был Махтла. Я нарочно взял его с собой, чтобы присматривать за ним, но и он, как оказалось, тоже не дремал.
Когда испанцам оставалось всего полдня пути до входа в ущелье, ко мне явился один из разведчиков, которому я приказал следить за их продвижением. Он признался, что Махтла подкупил его и уговорил предупредить командира испанского отряда о засаде. Разведчик согласился, взял то, что ему предложили за измену, и отправился в путь, но тут совесть заговорила в нем, и он поспешил вернуться, чтобы все рассказать мне. Я приказал тотчас схватить Махтлу, и еще до наступления вечера он понес заслуженную кару за свое предательство: изменника казнили.
На следующее утро строй испанцев углубился в ущелье. Я встретил их на полпути от лагеря со своими пятьюстами воинами. Мы вступили в бой, но вскоре начали отступать, неся незначительные потери. Испанцы становились все напористее, а мы отходили все быстрее, пока не обратились в бегство, спасаясь от преследующих нас всадников.
Примерно в полумиле от конца прохода, за которым лежит Город Сосен, ущелье делает крутой поворот и резко сужается. Здесь скалы так высоки и отвесны, что у подножия их царит вечный полумрак. К этому повороту мы и бежали, делая вид, что охвачены неудержимой паникой, а испанцы, воодушевленные победой, гнались за нами, выкрикивая имена своих святых. Но, едва завернув за угол, они сразу запели другую песню. Те, кто следил за нами с высоты тысячи футов, подали знак, и на врага обрушился такой ливень глыб и камней, что небо потемнело, и большая часть испанцев была раздавлена на месте. Остальные бросились вперед, туда, где проход в скалах расширялся. Многим удалось пробиться, но здесь их встретили мои лучники, и теперь вместо камней на испанцев посыпались стрелы. Наконец противник в полном беспорядке обратился в бегство, не помышляя даже о сопротивлении.
На этом и закончился бой. В ущелье мы напали на врага со всех сторон, сверху снова обрушился град камней, и лишь немногим испанцам и их союзникам удалось выбраться живьем обратно на равнину за грядой скал, защищающих Город Сосен.

После этой битвы испанцы не беспокоили нас в течение многих лет, ограничиваясь угрозами, а мое имя прославилось среди всех племен отоми.
Одного захваченного испанца я спас от смерти и позднее отпустил на свободу. От него я узнал кое-что о де Гарсиа, или Сарседе. Он все еще служил у Кортеса. Марина сдержала свое слово и навлекла на него немилость за то, что он хотел пытать Отоми, а кроме того, Кортес был вол на де Гарсиа еще и потому, что Марина свалила на него всю вину за наш побег. Она сказала, что де Гарсиа, наверное, выпустил нас из ворот лагеря не иначе, как за хорошую взятку.
О четырнадцати годах моей жизни, последовавших за разгромом испанцев, я расскажу коротко, потому что, по сравнению с предыдущими, то были мирные годы. За это время у нас с Отоми родилось трое сыновей, ставших утехой моей жизни. Я любил их, и дети тоже были привязаны ко мне всем сердцем. Если бы не примесь материнской крови, они были бы настоящими маленькими англичанами, ибо я окрестил их, научил своему языку и своей вере; у них были мои глаза, и всем своим видом, если не считать слишком смуглой кожи, они куда больше походили на англичан, чем на индейцев.
Но этих дорогих моему сердцу детей постигла горькая участь: смерть взяла их так же, как несчастного младенца, родившегося много лет спустя от Лили. Двое из них умерли — один от лихорадки, которую не могло излечить все мое искусство, а второй разбился, упав с высокого кедра, куда влез, разыскивая гнездо коршуна. Из трех сыновей — я уже не говорю о нашем первенце, погибшем во время осады, — остался в живых только старший, мой любимец, но о нем речь еще впереди.
Что сказать об остальном? После победы над испанцами и их союзниками я был избран на большом совете правителем Города Сосен наравне с Отоми, и таким образом мы получили огромную, хотя и не абсолютную, власть. Пользуясь ею, мне в конце концов удалось уничтожить страшный обряд человеческих жертвоприношений, хотя это и вызвало лютую ненависть жрецов и привело к отпадению от нашего союза многих горных племен. Последнее жертвоприношение, если не считать еще одного и самого ужасного, о котором мне придется рассказать ниже, было отпраздновано на теокалли перед дворцом после разгрома испанцев в ущелье.
На третий год пребывания в Городе Сосен — к тому времени Отоми уже родила двух сыновей — ко мне тайно прибыли вестники от друзей Куаутемока. Он пережил все пытки и по-прежнему был пленником Кортеса. Вестники рассказали, что Кортес скоро выступит в поход к Гондурасскому заливу через страну, которую сейчас называют Юкатаном, и что он решил взять с собой Куаутемока и других знатных ацтеков, опасаясь оставлять их без присмотра. От них же мы узнали о растущем среди покоренных племен Анауака недовольстве, вызванном жестокостью и поборами испанцев. Многие считали, что близится час всеобщего восстания и что это восстание может увенчаться успехом.
Те, кто послал ко мне вестников, просили собрать отряд отоми и выступить с ними в Юкатан. Там меня будут ждать. Когда все отряды соединятся, мы окружим испанцев среди лесов и болот, нападем на них в подходящий момент и, уничтожив всех, освободим Куаутемока. Это должно было стать только первым шагом в борьбе против испанцев; об остальных я не стану говорить, потому что им не суждено было осуществиться.
Выслушав вестников, я печально покачал головой, потому что их план казался мне безнадежным. Но тогда встал старший из вестников и отвел меня в сторону, чтобы передать мне слова, предназначенные только для моих ушей.
— Куаутемок просил сказать тебе, — заговорил вестник. — «Я слышал, что ты, мой брат, вместе с моей сестрой Отоми живешь на свободе в горах отоми. А я — увы! — погибаю в темнице теулей, как израненный орел в клетке. Брат мой, заклинаю тебя, если это в твоей власти, помоги мне во имя нашей старой дружбы и всего, что мы выстрадали вместе. Может быть, придет время, когда я снова буду править Анауаком, и тогда ты займешь место рядом со мной».
Я слушал, и сердце мое обливалось кровью, потому что я любил своего брата Куаутемока так же, как люблю его до сих пор.
— Возвращайся и постарайся передать Куаутемоку мой ответ, — сказал я вестнику. — Надежды мало, но я сделаю все, что могу. Пусть ждет меня в лесах Юкатана.
Узнав о моем обещании, Отоми очень огорчилась: она считала это дело безумным и говорила, что оно приведет лишь к моей гибели. Но, поскольку обещание было уже дано, его нужно было исполнить, и Отоми не стала меня удерживать. Я собрал отряд из пятисот воинов, и мы двинулись в дальний, трудный путь, рассчитав его так, чтобы встретиться с испанцами в теснинах Юкатана. В последний момент Отоми хотела последовать за мной, однако я запретил ей это делать, потому что она не имела права оставлять свой народ и своих детей, и мы расстались, впервые ощутив горечь разлуки.
Я не стану описывать все тяготы нашего пути. Два с половиной месяца пробирались мы через горы и реки, через леса и болота, пока, наконец, не достигли огромного мертвого города, покинутого его обитателями много поколений тому назад. Местные индейцы называли его Паленке.
[263] Этот город — одно из самых удивительных мест, какое мне довелось посетить за время своих странствований. Он наполовину зарос кустарником, среди которого всюду, куда ли взглянешь, возвышаются полуразрушенные мраморные дворцы, покрытые резьбой внутри и снаружи, теокалли, украшенные скульптурными изображениями, и уродливые изваяния ухмыляющихся богов. Я часто спрашивал себя: какой народ сумел воздвигнуть эту столицу, какие цари здесь правили? Но прошлое ревниво хранит свои тайны. Ответить на эти вопросы, может быть, удастся лишь тогда, когда какой-нибудь ученый человек разгадает смысл каменных символов и надписей, покрывающих здесь сверху донизу стены многих зданий.
Мы укрылись в этом мертвом городе, хотя мне стоило немало трудов убедить своих людей последовать за мной. Они боялись потревожить души бесчисленных горожан, некогда обитавших в этих жилищах, боялись пагубной лихорадки, не говоря уже о змеях и хищниках, бродивших среди развалин. Однако я получил сведения, что испанцы должны пройти через болота, между рекой и мертвым городом, и решил устроить засаду именно здесь.
На восьмой день разведчики донесли мне, что Кортес пересек большую реку выше по течению и теперь пробивается через леса — болотами он был сыт по горло. Мы спешно двинулись к реке, чтобы переправиться за ним следом, но тут хлынул такой ливень, каких не бывает больше нигде на земле. Он продолжался без перерыва целый день и всю ночь, так что под конец нам пришлось брести по колени в воде, а когда мы достигли реки, то увидели перед собой безбрежный ревущий поток. Для переправы через него потребовалась бы по крайней мере добрая ярмутская рыбацкая барка.
Три дня пришлось прождать из берегу, страдая от лихорадки, отсутствия пищи и чрезмерного изобилия воды, пока река, наконец, не вернулась в свои берега. Наутро четвертого дня нам удалось ее пересечь, потеряв на переправе четырех воинов.
Очутившись на другом берегу, я приказал своим людям укрыться в зарослях кустарника и тростника, а сам с шестью воинами двинулся вперед, чтобы попытаться найти следы испанцев. Примерно через час мы наткнулись на прорубленный ими сквозь чащу проход и осторожно пошли по нему. Вскоре лес поредел, и мы очутились на поляне, где, по-видимому, совсем недавно стоял лагерь Кортеса. Тут лежал труп индейца, погибшего от болезни. Угли на кострищах еще не успели остыть.
Ярдах в пятидесяти от лагеря стояло могучее дерево сейба, похожее на наш английский дуб, только с более мягкой древесиной и белой корой. Сейба достигает в обхвате размеров столетнего дуба всего за двадцать лет, а таких деревьев, как это, я, по совести, вообще никогда не видел: с ней мог бы сравниться по высоте и толщине только «Дуб Керби» да еще, может быть, «Король Шотландии», который растет в Бруме, ближайшем от Дитчингема приходе графства Норфолк.
На сербе сидело множество коршунов, и, подойдя поближе, я понял, что их сюда привлекло. На нижних ветвях, покачиваясь от легкого ветра, висели тела трех мужчин.
— Вот они, следы испанцев! — проговорил я. — Посмотрим, кто это.
И мы вошли под сень огромного дерева.
Потревоженный нами коршун взлетел с головы ближайшего к нам мертвеца. То ли от толчка, то ли от взмаха его крыльев повешенный повернулся на веревке ко мне лицом. Я взглянул на него, отшатнулся, снова взглянул и со стоном упал на землю. Это был тот, кого я искал и хотел спасти, мой друг и брат, последний император Анауака Куаутемок. Он был повешен, как вор, в безлюдном мрачном лесу, и только коршуны кричали здесь над его головой. Оцепенев от страха и неожиданности, я смотрел на него с земли, и невольно на память мне пришел гордый символ державной власти ацтеков — хищная птица, сжимающая в когтях змею. Передо мной раскачивался последний ацтекский император, и — о ужас! — на моих глазах коршун вдруг впился когтями в его волосы как жуткая аллегория падения Анауака и его царственных владык.
С проклятием вскочил я на ноги и, схватив лук, пронзил коршуна стрелой, С резким криком он упал, трепеща, к моим ногам. Затем я приказал перерезать веревки. Мы опустили на землю тела Куаутемока, касика Такубы и третьего знатного ацтека, выкопали под деревом глубокую могилу и положили в нее всех троих. В последний раз я простился с Куаутемоком под сенью печальной сербы; там он и покоится вечным сном. Я прошел долгий путь, чтобы спасти моего брата, но, когда мы встретились, испанцы уже сделали свое дело, и мне осталось только его похоронить.
Анауак потерял своего вождя, спасать было некого и нужно было возвращаться. Но, прежде чем тронуться в обратный путь, нам удалось случайно захватить одного тласкаланца, который говорил по-испански. Он сбежал из отряда Кортеса, измученный лишениями и трудностями похода. Этот тласкаланец видел позорное убийство Куаутемока и его товарищей и слышал последние слова императора Анауака.
По-видимому, какой-то негодяй донес Кортесу о том, что готовится попытка спасти Куаутемока. Тогда Кортес приказал повесить пленников. Куаутемок встретил смерть гордо я мужественно, так же, как встречал все прочие испытания своей трагической жизни. Перед смертью он сказал:
— Я жалею, Малинцин, что не убил себя, прежде чем сдаться тебе на милость. Сердце говорило мне, что все твои клятвы лживы, и оно меня не обмануло. Смерть для меня желанна, ибо я испытал поражение, позор и пытки и дожил до того, что мой народ на моих глазах превратился в рабов теулей. Но говорю тебе: за все совершенное тебя ждет отмщение!
После этого его казнили в мертвой тишине.
Прощай, Куаутемок, самый храбрый, мудрый и благородный из всех индейцев! Пусть черная тень твоей мучительной постыдной смерти неизгладимым пятном лежит на славе Кортеса до тех пор, пока люди не позабудут ваши имена!
Обратный путь отнял у нас еще два месяца, но, наконец,
совершенно измученные, мы достигли Города Сосен, потеряв в различных дорожных превратностях только сорок человек. Отоми была здорова и обрадовалась необычайно, потому что уже не чаяла увидеть меня в живых. Но, когда я рассказал ей о гибели Куаутемока, она долго не могла успокоиться, скорбя о своем брате и о том, что вместе с ним погибла последняя надежда ацтеков.
Глава XXXIII
ИЗАБЕЛЛА ДЕ СИГУЕНСА ОТОМЩЕНА
После смерти Куаутемока мы с Отоми мирно жили в Городе Сосен еще много лет. Страна наша была суровой и бедной, и несмотря на то, что мы не подчинялись испанцам и не платили ям дани, они после возвращения Кортеса в Испанию не пытались нас покорить. Под их властью был уже весь Анауак, за исключением немногих племен, живших в таких же труднодоступных местах, как наше, и, поскольку покорение остатков народа отоми не судило испанцам ничего, кроме жестоких схваток, они оставили нас в покое до лучших времен.
Я сказал «остатков народа отоми» потому, что постепенно многие племена отоми сами склонились перед испанцами, и под конец у нас остались только Город Сосен да его окрестности на протяжении нескольких десятков миль в окружности. По правде говоря, только любовь к Отоми, уважение к ее древнему роду и имени да еще, может быть, слава непобедимого белого вождя и мое воинское искусство удерживали вокруг нас немногочисленных подданных.
Меня могут спросить: был ли я счастлив? Для счастья мне было дано многое, и вряд ли небо благословило кого-нибудь более красивой и любящей женой, столько раз подтверждавшей свое чувство подвигами самопожертвования. Эта женщина по доброй воле легла со мной рядом на алтарь смерти; ради меня она обагрила свои руки кровью; ее мудрость помогала мне во многих затруднениях, а ее любовь утешала меня во всех печалях. Если бы благодарность могла покорять сердца мужчин, я бы навеки положил свое к ногам Отоми; в какой-то мере так оно и было и так остается до сих пор. Но разве может благодарность, любое другое чувство или даже сама любовь, поработившая душу, заставить человека забыть родной дом? Я, вождь индейцев, сражающийся вместе с обреченным народом против неотвратимой судьбы, разве мог я забыть свою юность со всеми ее надеждами и страхами, забыть долину Уэйвни, цветок, который там цвел, и свою клятву, пусть даже нарушенную? Ведь все было против меня, обстоятельства оказались сильнее, и тот, кто прочтет эту историю, вряд ли осудит мои поступки. Поистине немного найдется людей, кто на моем месте, осаждаемый со всех сторон сомнениями, трудностями и опасностями, поступил бы иначе.
Но память не давала мне покоя. Сколько раз я пробуждался среди ночи и даже рядом с Отоми лежал, томимый воспоминаниями и раскаянием, если только человек вообще может раскаиваться в том, что от него не зависит. Ибо я оставался чужеземцем в чужой стране, и, хотя мой дом был здесь и мои дети — рядом со мной, я не мог позабыть о другом своем доме и о Лили, которую потерял. По-прежнему я носил ее кольцо на руке, но это было единственное, что у меня от нее осталось. Я не знал, замужем Лили или нет, жива ода или умерла. С каждым годом пропасть между нами становилась все глубже, но мысли о ней преследовали меня неотступно, как тень; они пробивались даже сквозь бурную любовь Отоми, я чувствовал их даже в поцелуях моих детей. Страшнее всего было то, что я сам презирал себя за подобные сожаления. Однако еще больше я боялся, что Отоми, которая никогда со мной об этом не говорила, читает в моей душе:
Пускай мы врозь,
Зато душою вместе.
Так было написано на колечке Лили, и так оно было в действительности. Да, мы были врозь, так далеко друг от друга, что невозможно даже представить мост, который бы нас соединил, но все равно душой я оставался вместе с нею. Может быть, в ее душе все уже охладело, но моя по-прежнему стремилась к ней через горы, через моря, через бездну смерти, — если она умерла и смерть разделила нас. Я по-прежнему втайне мечтал о любви, которой сам изменил.
Тот, кто прочел историю моих юных лет, наверное, помнит рассказ о смерти некой Изабеллы де Сигуенса, о том, как в последний час она прокляла священника, прибавившего оскорбления и брань к ее мукам, и пожелала ему умереть еще более ужасной смертью от рук таких же фанатиков. Если память мне не изменяет, я уже говорил, что все это исполнилось, причем самым удивительным образом.
После того как Кортес завоевал Анауак, этот ретивый священник в числе прочих приплыл из Испании, чтобы пытками и мечом внушить индейцам любовь к истинному богу. Среди своих собратьев, занятых тем же милосердным делом, он был самым рьяным.
Индейские жрецы творили немала жестокостей, вырывая сердца своих жертв и принося их в дар Уицилопочтли или Кецалькоатлю, но они, по крайней мере, отправляли души несчастных в Обиталище Солнца. Христианские же священники не только заменили жертвенный камень изощренными орудиями пытки и кострами, на которых сжигали людей живьем, но в довершение всего души, освобождаемые таким способом от земных уз, они отсылали теперь в Обиталище Сатаны.
Так вот, среди всех изуверов самым дерзким и самым жестоким был наш отец Педро. Он появлялся то тут, то там, отмечая — свой путь трупами идолопоклонников, и в конце концов заслужил прозвище «Дьявола Христова». Но однажды он в своем святом рвении забрался слишком далеко и был захвачен одним из племен отоми. Это племя откололось от нас из-за своей приверженности к человеческим жертвоприношениям, но испанцам тоже еще не подчинилось. И вот как-то раз мне донесли, что жрецы племени хотят принести в жертву Тескатлипоке захваченного в плен христианского миссионера. Это произошло на четырнадцатом году нашего правления в Городе Сосен.
Я тотчас собрался и с небольшим отрядом направился к касику племени, надеясь, что мне удастся убедить его отпустить священника. Хотя племя и вышло из нашего союза, мы с касиком сохраняли видимость дружбы.
Однако, как я ни торопился, месть жрецов опередила меня. Когда мы прибыли в деревню, «Дьявола Христова» уже вели к жертвенному камню перед установленным на столбе отвратительным идолом, вокруг которого торчали колья с черепами. Обнаженный до пояса, со связанными за спиной руками и свисающими на грудь полуседыми космами, отец Педро шел к месту казни, яростно мотая время от времени головой, чтобы избавиться от укусов жужжавших над ним москитов. Тонкие губы его бормотали слова молитв, а пронзительные глазки впивались в лица его заклятых врагов скорее с угрозой, чем с мольбой о пощаде.
Я взглянул на него и удивился. Я вгляделся пристальнее и только тогда узнал этого человека. Внезапно в памяти у меня возникло мрачное подземелье в Севилье, прелестная молодая женщина в саване и тонколицый, облаченный в черное, священник, который разбивает ей губы распятием слоновой кости и проклинает за богохульство. Этот самый священник был сейчас передо мной! Изабелла де Сигуенса пожелала ему такой же участи, как ее собственная. Желание ее сбылось. Теперь я не остановил бы руку судьбы, даже если бы это было в моей власти. Я остался в стороне, но когда «дьявол Христов» проходил мимо, заговорил с ним по-испански:
— Вспомни, святой отец, может быть, ты уже позабыл, но вспомни сейчас предсмертную мольбу Изабеллы де Сигуенса, которую ты обрек на смерть в Севилье много лет назад!
Священник услышал меня и, побледнев как смерть, несмотря на загар, так затрясся, что я думал, он вот-вот свалится. С ужасом уставился он на меня, но увидел перед собой только обыкновенного индейского вождя, радующегося гибели одного из своих угнетателей.
— Сатана! — прохрипел он. — Ты пришел из ада терзать меня в мой последний час?
— Вспомни предсмертную мольбу Изабеллы де Сигуенса, которую ты ударил и проклял, — ответил я насмешливо. — Не пытайся узнать, кто я, вспомни только ее слова и не забывай их до конца!
Мгновение он стоял, оцепенев и не обращая внимания на толчки своих мучителей, но затем смелость вернулась к нему, и он завопил пронзительным голосом:
— Прочь от меня, сатана, не боюсь тебя! Я помню эту погибшую грешницу, да успокоится ее душа! Ее проклятие настигло меня, но я радуюсь, да, радуюсь этому, ибо по ту сторону жертвенного камня передо мной отверзнутся небесные врата. Прочь, сатана, не боюсь тебя, не боюсь!
Его потащили дальше, а он все еще продолжал вопить:
— О господи, прими мою душу! Прими!
Да успокоится и его душа! Он был жесток, но, по крайней мере, не труслив и, как подобает, принял все муки, на которые сам обрекал стольких людей.
Случай этот, сам по себе незначительный, привел к неожиданно важным последствиям. Если бы я вырвал тогда отца Педро из рук жрецов, мне бы, наверное, не пришлось сейчас дописывать эту историю в своем доме в долине Уэйвни. Не знаю, сумел бы я его спасти или нет, знаю только, что даже не пытался это сделать и что смерть отца Педро навлекла на меня большое несчастье. Может быть, я был прав, а может быть, виноват — кому об этом судить? Тот, кто лишь прочитает мою историю, наверное, скажет, что я виноват, как и во многих других случаях, но тот, кто увидел бы сам Изабеллу де Сигуенса, заживо замурованную в могилу, сказал бы наверняка, что я прав. Однако — к добру или худу — все произошло именно так, как я это описал.
К тому времени из Испании прибыл новый вице-король. Узнав об убийстве миссионера, он пришел в ярость и решил отомстить непокорным язычникам отоми.
Вскоре до меня дошли слухи, что против нас, намереваясь уничтожить поголовно всех отоми, выступило большое войско тласкаланцев и других индейских племен. Вместе с ними в поход отправилось более сотни испанских солдат. Возглавлял экспедицию не кто иной, как капитан Берналь Диас, тот самый солдат, которого я пощадил во время резни в «Ночь печали» и чей меч все еще висел у меня на поясе.
Нужно было подготовиться к обороне заранее, потому что единственная наша надежда заключалась во внезапности отпора. Однажды испанцы уже пытались на нас напасть с тысячами своих союзников, но из них лишь немногие добрались живыми до лагеря Кортеса. То, что сделано один раз, можно повторить — так говорила Отоми с гордой уверенностью непокорной души. Но увы! За четырнадцать лет многое изменилось.
Четырнадцать лет назад мы властвовали над всей обширной горной страной. Суровые племена по первому зову посылали нам сотни воинов. Теперь же эти племена не подчинялись нам, и мы могли рассчитывать только на жителей Города Сосен, да еще нескольких окрестных селений. Когда испанцы шли на нас первый раз, я мог выставить против них армию в десять тысяч воинов. Теперь же с большим трудом мне удалось собрать всего тысячи две-три, да и то, когда опасность приблизилась, часть из них разбежалась.
Несмотря на трудности, мне нельзя было падать духом. Я должен был как можно лучше использовать все силы, оставшиеся в моем распоряжении, но, честно говоря, весьма опасался за исход сражения. Однако свои опасения я тщательно скрывал от Отоми, и она, в свою очередь, если и беспокоилась, то прятала тревогу в глубине души. Впрочем, ее вера в меня была слишком велика: Отоми не сомневалась, что одной моей мудрости вполне достаточно для разгрома всех испанских армий.
Но вот враг приблизился, и мы приготовились к бою. План мой остался точно таким же, как четырнадцать лет назад. С небольшим отрядом я должен был выступить навстречу противнику по ущелью — единственной дороге к Городу Сосен; основные силы, разделенные на две равные части, располагались на вершинах скал по обеим сторонам этого прохода, чтобы забросать испанцев сверху камнями, когда я обращусь перед ними в бегство, — это должно было послужить условным сигналом.
Кроме того, я принял дополнительные меры. Несмотря ни на что, нас могли оттеснить к городу, поэтому я приказал укрепить его ворота и стены и оставил там гарнизон. На крайний случай на вершину теокалли, где, после того как жертвоприношения прекратились, находился наш арсенал, были перенесены большие запасы воды и продовольствия. Склоны пирамиды мы укрепили стенами, утыканными осколками вулканического стекла, и другими сооружениями, превратив ее в неприступную крепость, захватить которую теперь не смог бы никто, пока в ней остается хотя бы десяток живых защитников.
Наконец, в одну из ночей в самом начале лета я простился с Отоми и, приказав основным силам укрыться в засаде на скалах над ущельем, сам двинулся с несколькими сотнями воинов по темному проходу. Со мной был мой сын. Он уже достиг того возраста, когда, по обычаям индейцев, юноша должен испытать все опасности сражения.
Разведчики донесли мне, что испанцы расположились лагерем по ту сторону ущелья и собираются пройти через него за час до рассвета, надеясь захватить нас врасплох. Сведения оказались точными. Наутро, едва первые лучи зари окрасили заоблачные снега вулкана Хака, возвышавшегося за нашей спиной, глухой шум, усиленный горным эхом, известил нас о том, что враг двинулся вперед. Я повел воинов по ущелью ему навстречу. Мы скользили неслышно: здесь нам был знаком каждый камень. Зато испанцам приходилось туго. Многие из них ехали верхом, а кроме того, у них были с собой две пушки. Время от времени тяжелые орудия застревали среди камней, потому что рабы, которые их тащили, не видели в темноте дорогу. Наконец, командир отряда, не желая вступать в бой в таких невыгодных для него условиях, приказал остановиться и ждать дня.
Но вот занялось утро, и тусклый свет проник на дно глубокого ущелья. Из темноты показалась длинная колонна испанцев, закованных в блестящие латы, а за ними — тысячные толпы их союзников — индейцев, в еще более пышных нарядах, в раскрашенных шлемах и разноцветных накидках из перьев.
Противники заметили нас тоже и начали насмехаться над бедностью нашего убранства. Извиваясь среди скал, словно какая-то чудовищная змея, вражеская колонна поползла вперед по ущелью. Когда между нами осталось не более сотня шагов, испанцы с боевым кличем опустили пики и, призывая на помощь святого Петра, бросились в конную атаку.
Мы встретили врагов ливнем стрел. Это остановило их, но ненадолго. Вскоре испанцы приблизились и начали нас теснить остриями своих длинных пик. Многие мои воины были убиты, потому что мы с нашим индейским оружием почти ничего не могли поделать против закованных в броню коней и всадников. Нам пришлось обратиться в бегство, но это как раз и входило в мой план. Я рассчитывал увлечь за собой врагов к тому месту, где ущелье сужалось, а утесы над ним были особенно круты, чтобы там мои воины сразу раздавили их каменными глыбами.
Все шло хорошо. Мы бежали, испанцы, воодушевленные победой, сами мчались за нами прямо в ловушку. Вот уже первый камень обрушился с высоты, убил одного коня и, отскочив, сбил с ног и ранил другого. За первым последовал второй, третий; и я уже торжествовал в душе, думая, что опасность миновала и мой план еще раз принес нам победу.
Но вдруг сверху послышался шум, совсем не похожий на шум скатывающихся камней. Это были звуки сражения, которые все нарастали и нарастали, пока не слились в сплошной рев. Потом в воздухе снова что-то мелькнуло. Я увидел, что это не камень, а человек, один из моих отоми. Но он был только первой каплей последовавшегося затем ливня.
Увы, все сразу стало понятно: нас обошли! Испанцы были слишком опытными солдатами, чтобы дважды попасться в одну и ту же ловушку. Они двинулись с пушками через ущелье, потому что иначе орудия немыслимо было протащить, но сначала под прикрытием темноты послали большую часть своих войск в горы. По тайным тропам, которые им показали предатели, испанцы поднялись на плато и теперь расправлялись с теми, кто должен был защищать проход, обрушивая сверху камни на врагов.
Поистине это был не бой, а расправа! Затаившись на краю пропасти среди агав и колючего кустарника, мои отоми следили за продвижением врага по ущелью, даже не подозревая, что он может быть у них за спиной. Их захватили врасплох. Многие даже не успели взяться за оружие, отложенное в сторону, чтобы удобнее было скатывать вниз тяжелые глыбы, когда намного превосходивший их числом противник с дикими воплями ринулся в атаку. Схватка была решительной и короткой.
Все это я понял слишком поздно и проклял себя за то, что не предусмотрел такой возможности. По правде говоря, я никогда не думал, что испанцы сумеют отыскать тайные тропы, по которым ложно подняться на гору с той стороны. Глупец! Я забыл, что предательство делает возможным все.
Глава XXXIV
ОСАДА ГОРОДА СОСЕН
Бой был проигран. С высоты тысячи футов над нами слышались победные крики врагов. Бой был проигран, но я должен был сражаться до конца.
Как можно быстрее я отвел своих воинов к самому узкому повороту ущелья, где горсточка отчаявшихся людей могла задержать на время продвижение целого войска. Здесь я вызвал желающих остаться со мной, и почти все откликнулись на призыв. Я отобрал человек пятьдесят с небольшим, а остальным приказал бежать со всех ног в Город Сосен и предупредить оставленный там гарнизон об опасности. В случае моей гибели я просил мою жену Отоми воспользоваться всей своей властью и стойко защищать город, стараясь, если это будет возможно, выговорить у испанцев жизнь себе, своему сыну и своему народу. Сам я решил держаться в ущелье до тех пор, пока в городе не запрут все ворота и защитники его не выйдут на стены.
Вместе с воинами я отослал своего сына. Он умолял меня позволить ему остаться, но, зная, что здесь нас ждет только смерть, я отправил его в город.
Наконец мы остались одни. Опасаясь засады, испанцы продвигались медленно и осторожно. Увидев за поворотом жалкую горсточку людей, преградивших им путь, они окончательно остановились. Теперь испанцы были уверены, что их ждет еще какая-то ловушка. Никому даже в голову не приходило, что такой маленький отряд осмелится вступить в бой с целой армией!
В этом месте ущелье суживалось настолько, что одновременно против нас могло двинуться лишь несколько человек. Установить здесь пушки тоже было невозможно, и даже мушкеты почти ничем не помогали испанцам. К тому же крайняя неровность почвы заставила их слезть с коней — здесь можно было атаковать только в пешем строю.
В конце концов испанцы так и сделали. Схватка была кровопролитной дли обеих сторон, и, хотя сам я остался невредим, мы отступили. Дюйм за дюймом враги заставляли нас пятиться — вернее, тех из нас, кто был еще жив. Остриями своих длинных пик они постепенно вытеснили моих воинов из ущелья, за которым в каких-нибудь трех четвертях мили возвышались стены Города Сосен.
Продолжать бой на открытом месте было бессмысленно. Мы могли выбирать только между гибелью и бегством и ради спасения наших детей и жен выбрали последнее.
Как затравленные олени, мчались мы через долину, а испанцы и их союзники гнались за нами, словно свора собак. К счастью, дорога была неровная, и кони испанцев не могли скакать во весь опор, поэтому человек двадцать успели благополучно добежать до городских ворот. Из всей моей армии после боя вернулось человек пятьсот, и еще примерно столько же воинов оставалось в самом городе.
Тяжелые ворота захлопнулись вовремя: едва мы успели их заложить массивными дубовыми брусьями, как к ним приблизились испанцы. Мой лук все еще был со мной, в колчане у меня оставалась одна стрела. Я наложил ее на тетиву и, натянув до предела, выпустил стрелу сквозь брусья ворот в молодого красивого всадника, который мчался впереди всех. Стрела попала точно в шею между шлемом и панцирем. Испанец широко взмахнул руками, откинулся на круп своего коня и остался недвижим.
Это заставило всадников отступить, но затем один из них снова подскакал к воротам, размахивая белым лоскутом. Он выглядел настоящим рыцарем в своих блестящих доспехах. Что-то знакомое мелькнуло в его облике к в той небрежной ловкости, с какой он правил конем. Остановившись перед воротами, испанец поднял забрало и заговорил.
Я узнал его сразу! Передо мной был мой старый враг де Гарсиа, о которой я ничего не слышал целых двенадцать лет. Время изменило его, и в этом не было ничего удивительного, ибо теперь ему должно было быть лет шестьдесят, если не больше. В остроконечной каштановой бородке обильно проглядывала седина, щеки ввалились, а губы на расстоянии казались двумя тонкими красными нитками; только глаза остались такими же блестящими и проницательными, да рот кривила все та же холодная усмешка. Это был де Гарсиа собственной персоной. Как всегда, он появился на моем пути в один из самых критических моментов, и снова угроза мучительной смерти нависла надо мной. Глядя на него, я почувствовал, что это наша последняя и решающая встреча. Пройдет несколько дней, и тогда накопленная годами ненависть одного из нас или обоих канет навсегда в безмолвие смерти. И, как прежде, судьба была против меня. Всего несколько минут назад, наложив последнюю стрелу на тетиву, я на мгновение заколебался, не зная, в кого стрелять — в юношу или в ехавшего за ним рыцаря? И вот человек, который не причинил мне зла, лежал мертвым, а мой заклятый враг стоял передо мной живой и невредимый.
— Эй, вы! — закричал де Гарсиа по-испански. — Я хочу говорить с вождем мятежников отоми от имени капитана Берналя Диаса, нашего военачальника!
Я поднялся на стену по ближайшей лестнице и ответил:
— Говори, я тот, кто тебе нужен.
— Ты неплохо говоришь по-испански, друг, — заметил де Гарсиа, подъезжая и вглядываясь в меня из-под насупленных бровей. — Скажи, где ты выучил этот язык? Откуда ты родом и как твое имя?
— Я научился ему от некой доньи Луисы, которую ты знавал в юности, Хуан де Гарсиа. А мое имя — Томас Вингфилд. Де Гарсиа пошатнулся в седле. Страшное проклятие сорвалось с его уст.
— Матерь божья! — воскликнул он. — Я слышал, что ты спрятался у какого-то дикого племени, но я был далеко отсюда, в Испании, а когда вернулся, то решил, что ты уже сдох, Томас Вингфилд. Ведь прошло столько лет! Но поистине мне везет! До сих пор ты всегда убегал от меня, предатель, и это было самым большим огорчением моей жизни. Зато на сей раз тебе не уйти, можешь быть в этом уверен.
— Знаю, Хуан де Гарсиа, на сей раз одному из нас не уйти, — ответил я. — Осталось сыграть последний кон. Однако не хвались заранее, потому что еще неизвестно, кто из нас выиграет. Тебе долго везло, но, может быть, уже близок день, когда твое везение кончится, а вместе с ним — твоя жизнь. Говори, что тебе поручено, Хуан де Гарсиа!
Мгновение он медлил, теребя свою остроконечную бородку, и мне показалось, что тень полузабытого ужаса снова мелькнула в его глазах. Но, если это и было так, де Гарсиа быстро с собой справился. Подняв голову, он заговорил смело и ясно:
— Слушай, Томас Вингфилд! Мне поручено передать тебе и твоим еще недобитых собакам-отоми предложение нашего капитана Берналя Диаса, который обращается к вам от имени его величества вице-короля.
— Что за предложение? — спросил я.
— Достаточно великодушное для таких поганых язычников и мятежников, как вы, — ответил он, ухмыляясь. — Сдавайтесь без всяких условий, и вице-король в своем милосердии будет к вам справедлив. Однако, чтобы вы потом не говорили, будто мы нарушили свое слово, знайте заранее, что вам придется ответить за совершенные вами преступления. Наказание будет милостивым. Все те, кто прямо или косвенно принимал участие в гнусном убийстве блаженной памяти святого отца Педро, будут сожжены живьем на костре, а те, кто смотрел, как его убивают, будут ослеплены. В назидание другим по выбору судей будет публично повешено несколько вождей отоми, среди коих будешь и ты, кузен Вингфилд, но главное — женщина по имени Отоми, дочь покойного императора Монтесумы. Что касается остальных жителей Города Сосен, то они должны передать без остатка все свои богатства в казну вице-короля. Затем их всех, мужчин, детей и женщин, уведут из города, расселят, согласно воле вице-короля, по владениям испанских поселенцев, дабы они научились полезному искусству ведения хозяйства и работе на рудниках. Таковы условия сдачи. Мне приказано передать, что по истечении часа вы должны принять их или отклонить.
— А если мы не примем ваших условий?
— На этот случай капитан Берналь Диас получил приказ разграбить и разрушить весь город, отдав его из двенадцать часов тласкаланцам и другим своим верным индейским союзникам, а затем собрать всех, кто останется в живых, и продать их в рабство в городе Мехико.
— Хорошо, — сказал я, — ответ будет через час.
Установив у ворот охрану, я приказал гонцам немедленно созвать оставшихся в живых членов совета Города Сосен, а сам поспешил во дворец. Отоми встретила меня на пороге. Зная о постигшем нас несчастье, она уже не надеялась меня увидеть, и сейчас несказанно обрадовалась.
— Пойдем в Зал Собрания, — сказал я. — Я буду говорить.
Мы вошли в зал, где уже собиралось большинство советников (к тому времени в живых осталось всего восемь старейшин), и я без всяких комментариев передал им слова де Гарсиа. Затем, как самая первая в совете, заговорила Отоми.
Я уже дважды слышал, как она обращалась к народу, призывая его на борьбу с испанцами. Первый раз это было, когда преемник Монтесумы император Куитлауак послал вас просить у горцев помощи против Кортеса и теулей. Второй раз это случилось четырнадцать лет назад, когда мы вернулись в Город Сосен после падения Теночтитлана, и народ, разъяренный гибелью двадцати тысяч своих воинов, хотел передать нас, как залог своего миролюбия, в руки испанцев. И оба раза Отоми одерживала победу благодаря своему славному имени, величественному благородству и красноречию.
Теперь дело обстояло по-другому. Даже если бы Отоми сейчас воспользовалась всем своим искусством, это ничего бы нам не дало. От былого ее величия осталась только тень, одна из многих теней поверженной империи, слава которой ушла навсегда, так же как юность Отоми и первый расцвет ее красоты. Теперь она уже не взывала к великим традициям и гордости обреченного народа. И, несмотря на все, когда она встала рядом со своим сыном и обратилась к растерянным, потерявшим всякую надежду и обезумевшим от страха советникам, которые склонились перед ней, закрыв лица руками, я подумал, что никогда еще Отоми не была так прекрасна и никогда еще ее простые слова не были столь красноречивы.
— Друзья мои! — сказала она. — Вы знаете о постигшем нас несчастье: мой муж рассказал вам о послании теулей. Надеяться не на что. Для защиты города, священного дома наших предков, осталось, самое большее, тысяча человек, и мы единственный народ Анауака, который еще осмеливается с оружием в руках бороться против белых людей. Много лет назад я сказала вам: выбирайте между почетной смертью и бесславной жизнью! Сегодня я снова говорю: выбирайте! Для меня и моих близких выбора нет, ибо, как бы вы ни решили, нас ждет только смерть. Вы — другое дело. Вы может умереть, сражаясь, или дожить остаток дней вместе с вашими детьми в рабстве. Выбирайте!
Семь старейшин посоветовались между собой, затем один из них ответил:
— Отоми и ты, теуль, мы следовали вашим советам много лет, но это не принесло нам счастья. Мы вас не виним, ибо сами боги Анауака отвернулись от нас, когда мы отвернулись от них, а участь людей — в руках богов. Долгие годы вы делили с нами радость и горе, и сейчас, когда близок конец, мы хотим разделить вашу участь. В последний час народ отоми не отступится от своего слова. Мы сделали выбор: с вами мы жили свободными и с вами умрем свободными. Ибо так же, как вы, мы считаем, что лучше нам всем погибнуть вольными людьми, чем прозябать всю жизнь под игом теулей.
— Хорошо! — сказала Отоми. — Нам осталось только умереть такой смертью, о которой люди будут слагать песни в веках. Муж мой, ты слышал ответ совета? Передай его испанцам.
Я вернулся на городскую стену с белым флагом в руках. Один из испанцев, но уже не де Гарсиа, прискакал за ответом, и я в немногих словах передал ему, что оставшиеся в живых отоми будут сражаться до тех пор, пока у них останется хоть одно копье и хоть одна рука, способная его метнуть, и что мы скорее погибнем все под развалинами своего города, как погибли жители Теночтитлана, но не сдадимся на милость испанцев, великодушие которых известно нам слишком хорошо.
Всадник вернулся в испанский лагерь, и не прошло и часа, как сражение началось. Подкатив осадные пушки, испанцы установили их в ста с небольшим шагах — на таком расстоянии наши дротики и стрелы не могли причинить им почти никакого вреда — и начали беспрепятственно бомбардировать ворота железными ядрами. Однако мы тоже не сидели сложа руки. Видя, что деревянные створки скоро рухнут, мы разломали прилегающие дома и заполнили весь проход ворот камнями и щебнем. Позади насыпанного нами вала я приказал вырыть глубокий ров, через который не смогли бы перебраться ни кони, ни тем более пушки. Подобные баррикады, защищенные рвами спереди и с тыла, мы воздвигли поперек всей главной улицы, ведущей к большой, или торговой, площади, где возвышался теокалли, а на тот случай, если испанцы попытаются обойти нас с флангов по узким извилистым проходам между домами, я приказал также забаррикадировать все четыре выхода на эту площадь.
Испанцы до самого вечера продолжали обстреливать остатки разбитых ворот и воздвигнутую за ними насыпь, не причиняя нам, впрочем, особого вреда: за весь день пушечными ядрами и мушкетными пулями было убито не более десяти человек. Но пойти на приступ в тот день они так и не решились.
С наступлением темноты обстрел прекратился, однако в городе никто не спал. Большинство мужчин охраняло ворота и наиболее уязвимые места на городских стенах, а постройкой баррикад теперь занялись главным образом женщины. Я и мои военачальники руководили ими. Пример подала Отоми, за ней на работу вышли другие знатные женщины и, наконец, все простые жительницы города, а их было немало. У отоми женщин вообще больше, чем мужчин, а после утреннего сражения, оставившего многих жен вдовами, эта разница стала еще заметнее.
Странно было видеть, как при свете сотен факелов из смолистой сосны, от которой произошло название города, женщины вереницами двигались по улицам, сгибаясь под грузом тяжелых камней и корзин с землей, долбили деревянными заступами жесткую почву или разрушали стены домов. Ни на что не жалуясь, они работали угрюмо и ожесточенно, без стонов и без слез. Крепились даже те, чьи мужья и сыновья были утром сброшены со скал в пропасть. Они знали, что сопротивление безнадежно, что все мы обречены, но ни одна из них даже не заговаривала о сдаче. Если об этом и заходила речь, они только повторяли вслед за Отоми, что лучше умереть свободными, чем жить рабынями, но большинство просто молчало. Старые и молодые, матери и жены, девушки и вдовы работали, стиснув зубы, и рядом с ними трудились их дети.
Глядя на них, я подумал, что всех этих безмолвных женщин воодушевляет какое-то общее страшное решение, о котором все они знают, но предпочитают не говорить.
— Вы и для теулей будете так же стараться? — крикнул с горькой усмешкой один из воинов, когда мимо него проходила вереница женщин, сгибаясь под бременем камней. — Ведь они ваши будущие хозяева!
— Глупец, разве мертвые стараются? — ответила ему возглавлявшая эту группу молодая красивая женщина из знатного рода.
— Мертвые нет, — отозвался несчастный шутник, — но таких красавиц, как ты, теули не убивают. Ты молода, и проживешь в рабстве еще много лет. Как же ты этого избежишь?
— Глупец! — повторила женщина. — Неужели ты думаешь, что огонь угасает только от недостатка масла в светильнике и человек умирает только от старости? Огонь можно погасить и вот так!
С этими словами она бросила на землю факел, который держала в руке, затоптала его сандалией и пошла со своим грузом дальше.
Теперь я был уверен, что женщины приняли какое-то отчаянное решение, но тогда я даже не представлял себе, насколько оно было ужасно, и Отоми ни словом не обмолвилась об этой женской тайне.
Когда мы случайно встретились в ту ночь, я сказал ей:
— Отоми, у меня скверная новость.
— Если ты так говоришь даже в этот час, она должна быть поистине страшной.
— Среди наших врагов де Гарсиа.
— Это я знаю, муж мой!
— Откуда?
— По твоим глазам, — ответила она. — В них — ненависть.
— Похоже, что час его торжества близок, — сказал я.
— Не его, а твоего торжества, любимый. Ты расплатишься с ним за все, но победа достанется тебе дорогой ценой. Не спрашивай ни о чем, я чувствую это сердцем. Смотри! — она указала на снежную вершину вулкана Хака, розовеющую в лучах рассвета. — Смотри, «Королева» уже надевает свою корону. Тебе надо идти к воротам — испанцы скоро пойдут на штурм.
Отоми еще не успела договорить, когда я услышал за городскими стенами зов боевой трубы и бросился к воротам.
В предрассветной мгле я различил со стены испанское войско, построенное для приступа. Но испанцы не торопились. Штурм начался только с восходом солнца.
Сначала испанцы открыли бешеную канонаду, которая разнесла в щепки брусья ворот и сбила верхушку сооруженной за ними насыпи. Внезапно обстрел прекратился. Снова прозвучала труба, и ударная колонна из тысячи с лишним тласкаланцев, за которыми следовали испанские солдаты, пошла на приступ. С тремя сотнями воинов отоми я ждал их, затаившись за насыпью. Не прошло и двух минут, как головы тласкаланцев появились над гребнем, и сражение началось.
Мы трижды отбрасывали врага нашими копьями и стрелами, но четвертая волна наступающих перехлестнула через насыпь и хлынула в ров. Сражаться с таким множеством врагов на открытой улице было безнадежно, и мы поспешили отступить к следующему валу.
Здесь битва возобновилась. Вторая баррикада была построена на совесть, и за ней нам удалось продержаться около двух часов, нанося испанцам жестокие удары. Но потери отоми были тоже велики, и нам опять пришлось отступить. Последовал новый штурм, новая отчаянная схватка, ожесточенное сопротивление и новый отход. Так продолжалось без передышки весь день! С каждым часом нас становилось все меньше, руки от усталости уже не держали оружия, но мы продолжали сражаться как исступленные. На двух последних баррикадах бок о бок со своими мужьями и братьями дрались сотни женщин отоми.
Испанцам удалось ворваться на последнюю насыпь лишь на заходе солнца. Под покровом быстро надвигавшейся темноты немногие уцелевшие воины успели добежать до храмового двора перед теокалли и укрыться под защитой его стен.
Ночь прошла спокойно.
Глава XXXV
ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН ОТОМИ
При свете пожарищ, зажженных испанцами во время штурма по всему городу, я произвел на огороженном стеной дворе перед теокалли смотр своих сил. Здесь собралось тысячи две женщин, множество детей, но боеспособных воинов у меня осталось не более четырехсот.
Наша пирамида была ниже большого теокалли Теночтитлана, зато ее склоны, облицованные полированным камнем, были круче, а верхняя, вымощенная мраморными плитами площадка почти так же обширна — каждая сторона имела в длину более ста шагов. В середине площадки стояли жертвенный камень, алтарь для священного огня, дом жрецов и храм бога войны, где все еще находилось его изваяние, хотя никто ему не поклонялся уже много лет. Между храмом и жертвенным камнем в площадке была сделана глубокая зацементированная выемка величиной с большую комнату, некогда служившая для хранения зерна в голодные годы. Перед осадой я приказал наполнить этот бассейн водой, которую с немалым трудом доставили сюда, на вершину теокалли, а в самом храме устроил большой склад продовольствия, так что в ближайшее время смерть от голода или жажды нам не грозила.
Но теперь мы столкнулись с новой трудностью. Как ни велика площадка пирамиды, на ней могло укрыться менее половины собравшихся перед теокалли людей. Для того чтобы продолжать борьбу, остальные должны были найти себе убежище в другом месте. Созвав старейшин племени, я коротко объяснил им положение и спросил, как быть дальше. Посовещавшись, они решили, что все раненые и престарелые вместе с большей частью детей, а также те, кто захочет к ним присоединиться, этой же ночью постараются выбраться из города, а если их остановят, отдадутся на милость испанцев. Я не стал возражать. Смерть грозила несчастным всюду, и где они ее встретят — это уже не имело значения.
Из толпы было отобрано полторы с лишним тысячи человек. В полночь мы открыли перед ними ворота храмового двора. Какое это было ужасное расставание! Здесь дочь обнимала престарелого отца, там муж навсегда прощался с женой, тут мать в последний раз целовала свое дитя, и отовсюду слышались полные страданий прощальные слова тех, кто разлучался навеки. Закрыв руками лицо, я спрашивал себя, как вопрошал уже не раз: «Если бог милосерд, почему же он терпит злодеяния, при виде которых разрывается даже сердце грешного человека? Почему?»
Затем, обратившись к Отоми, стоявшей со мной рядом, я спросил ее, не отослать ли вместе с другими и нашего сына, выдав его за ребенка из простой семьи.
— Нет, — ответила она. — Пусть лучше умрет вместе с нами, но не будет рабом испанцев.
Наконец все ушли, и ворота закрылись. Вскоре мы услышали тревогу, поднятую испанскими часовыми, затем до нас донеслись звуки нескольких выстрелов и крики.
— Тласкаланцы наверняка убьют их, — сказал я.
Однако я ошибся. Перебив несколько человек, командиры испанцев наконец разобрали, что сражаются с безоружной толпой женщин, детей и стариков. Их военачальник Берналь Диас, человек хоть и грубый, но милосердный, приказал немедленно прекратить побоище. Отобрав для продажи в рабство более или менее трудоспособных мужчин, а также детей, которые могли перенести тяготы дальнего пути, он отпустил остальных на все четыре стороны. Куда разбрелись эти убитые горем люди и что с ними стало дальше — я не знаю.
Эту ночь мы провели на храмовом дворе, но перед рассветом, опасаясь, что испанцы с зарею пойдут на приступ, я приказал всем подросткам и женщинам подняться на теокалли. Всего их осталось с нами около шестисот. Почти все девушки и замужние женщины, которые были еще молоды и красивы, отказались покинуть наше убежище. Зато вместе с беженцами ушло сто с лишним мужчин, решивших сдаться на милость испанцев.
С тремя сотнями оставшихся воинов я укрылся за стенами храмового двора, ожидая нападения испанцев. Оно началось с рассветом. К полудню, несмотря на все наши усилия, враг взял стену приступом. Потеряв почти сто человек убитыми и ранеными, мы были вынуждены отступить на дорогу, которая, огибая спиралями всю пирамиду, вела к верхней площадке.
Враги снова бросились в атаку, но здесь, на узкой крутой дороге, численное превосходство не давало им почти никакого преимущества. В конце концов мы сбросили их вниз, нанеся потери, и больше они в этот день уже не нападали.
На ночь мы укрепились на вершине теокалли. И так измучился, что уснул беспробудным сном, едва успев перекусить. А наутро снова начался штурм, на сей раз более успешный для испанцев. Под прикрытием смертоносного огня из мушкетов они теснили нас шаг за шагом, заставляя пятиться назад и вверх, к вершине теокалли, Весь день продолжалось это сражение на узких крутых подъемах с одной ступени пирамиды на другую. Наконец, уже на закате, передовой отряд врагов с победоносными криками ворвался на верхнюю площадку и устремился к храму, стоявшему в середине.
До сих пор женщины только наблюдали за боем, но в этот миг одна из них вдруг вскочила на ноги и громко закричала:
— Хватайте проклятых! Их совсем мало!
С ужасающим яростным визгом толпа женщин бросилась на усталых испанцев я тласкаланцев и захлестнула их. Многие женщины были убиты, но победа осталась за ними. Они хватали врагов, связывали веревками и тут же прикручивали к медным кольцам, оставшимся в мраморных плитах еще с тех времен, когда жрецы привязывали к ним свои многочисленные жертвы, чтобы те не сбежали.
Несколько мгновений мы стояли в стороне, пораженные этим зрелищем, но потом я крикнул своим воинам:
— Неужели женщины отоми смелее мужчин? Вперед!
И, не прибавив больше ни слова, я вместе с сотней моих людей ринулся вниз по узкому, крутому спуску.
За первым же поворотом мы столкнулись с основным отрядом испанцев и их союзников; уверенные в своей победе, они поднимались не торопясь. Наш удар был настолько силен и внезапен, что многие из них были мгновенно сбиты с ног и полетели вниз по крутым склонам пирамиды. Устрашенные участью своих товарищей, враги остановились, затем стали пятиться. Под нашим натиском они валились друг на друга, сбивая тех, кто шел позади, и вскоре паника распространилась по всей длинной колонне, спиралью поднимавшейся к вершине теокалли. С воплями ужаса противник обратился в бегство, но многим так и не удалось уйти. Волна падающих людей нарастала, подобно лавине, опрокидывая все новых и новых врагов и сталкивая их с дороги в пропасть. Достаточно было человеку оступиться, и уже ничто не могло задержать его падения; он летел вниз, ударяясь о крутой склон пирамиды, и расшибался у ее подножия насмерть.
За какие-нибудь пятнадцать минут испанцы потеряли все, что с огромным трудом захватили за день. На теокалли не осталось ни одного живого врага, если не считать пленных на верхней площадке. Охваченные неудержимым ужасом, испанцы покинули даже храмовый двор и вернулись в свой лагерь в городе, унося с собой убитых и раненых.
Усталые, но торжествующие, мы уже возвращались на вершину теокалли, когда на втором повороте, расположенном примерно футов на сто выше уровня почвы, мне в голову внезапно пришла одна мысль. С помощью тех, кто был со мной, я тут же принялся за ее осуществление. Расшатав камни, из которых было сложено основание дороги, мы начали скатывать их вниз по склону пирамиды. Снимая слой за слоем каменную облицовку и выкидывая землю, на которой она лежала, мы трудились так до тех пор, пока под нами вместо спирального спуска не засиял обрыв высотой в тридцать с лишним футов. Дорога была разрушена.
— Теперь, — сказал я с удовлетворением, взирая при свете луны на дело своих рук, — для того, чтобы захватить наше гнездо, испанцам понадобятся крылья.
— Ах, теуль! — возразил мне один из воинов. — А на каких крыльях мы улетим отсюда?
— На крыльях смерти, — мрачно ответил я, и мы начали подниматься наверх.
Разрушение дороги отняло немало часов, еду нам приносили сверху, так что я вернулся на площадку теокалли лишь около полуночи. Приблизившись к храму, я с удивлением услышал доносившееся
оттуда торжественное песнопение, но я удивился еще больше, когда увидел, что двери храма Уицилопочтли открыты, а перед ним на алтаре снова яростно пылает священный огонь, который не зажигали уже долгие годы. Я прислушался. Что это, обман слуха или я действительно слышу страшную песнь жертвоприношения? Нет, не обман. Дикий припев опять зазвучал, в тишине:
Тебе мы приносим жертву!
Спаси нас, Уицилопочтли,
Уицилопочтли, великий бог!
Я бросился вперед и, завернув за угол, лицом к лицу столкнулся с далеким прошлым. Как в давно забытые времена, здесь снова толпились жрецы в черных одеяниях, с распущенными по плечам волосами и ужасными ножами из обсидиана на поясе. Справа от жертвенного камня лежали в ряд связанные пленники, посвященные богу, и люди в одеждах жрецов уже держали за руки первую жертву — тласкаланца. Над ним в багряном жертвенном облачении склонился один из моих военачальников — я вспомнил, что когда-то, пока я не запретил идолопоклонство в Городе Сосен, он был жрецом бога Тескатлипоки, — а вокруг, глядя на него, стояли широким кольцом женщины и пели свой жуткий гимн.
Я понял все. В час безысходного отчаяния, перед лицом неизбежной смерти огонь древней веры снова вспыхнул в диких сердцах этих обезумевших от горя женщин, потерявших своих отцов, мужей и детей. Здесь был жертвенный камень, здесь был храм, где сохранилось все необходимое для ритуала, и под рукой оказались пленники, захваченные в бою. Они хотели насладиться последней местью, они хотели совершить последнее жертвоприношение богам своих предков, как это делали их отцы, и в жертву они избрали своих победоносных врагов. Пусть они сами умрут, но зато их души отправятся в Обиталище Солнца, умилостивленное кровью проклятых теулей!
Я сказал, что гимн пели женщины, глядя на своих пленников свирепыми глазами, но не сказал самого страшного. Как раз напротив меня, в середине круга, отмечая такт зловещего гимна взмахами маленького жезла, стояла принцесса Отоми, дочь Монтесумы, моя жена.
В белом одеянии, со сверкающим изумрудным ожерельем на шее и царственными зелеными перьями в волосах, впервые была она так прекрасна и так страшна. Такой я ее никогда еще не видел. Куда делись нежная улыбка и добрые глаза? Передо иной в образе женщины явилось живое воплощение Мести. Этот миг объяснил мне многое, хотя и не все. Отоми, которая всегда склонялась к нашей вере, не будучи сама христианкой, Отоми, которая все эти годы с отвращением вспоминала ужасные обряды, Отоми, каждое слово, каждое дело которой было преисполнено милосердия и доброты, моя Отоми в глубине души по-прежнему оставаясь язычницей и дикаркой. Она тщательно скрывала от меня эту сторону своего существа и едва ли сама знала все потаенные уголки своего сердца. За все время я лишь дважды видел, как яростное пламя ее дикой крови прорывалось наружу: когда Отоми отказалась надеть платье гулящей девки, принесенное Мариной в день побега из лагеря Кортеса, и когда в тот же день Отоми своими руками поразила склонившегося надо мной тласкаланца.
Все это пронеслось у меня в голове мгновенно, пока жрецы тащили тласкаланца к алтарю, а Отоми управляла хором, распевавшим песнь смерти.
В следующее мгновение я уже был рядом с нею.
— Что здесь происходит? — спросил я сурово.
Отоми с холодным недоумением подняла на меня пустые глаза, словно не узнавая.
— Уходи отсюда, белый человек, — проговорила она. — Чужеземцам не дозволено вмешиваться в наши обряды.
Пораженный, я стоял, не зная, что делать, в оцепенении глядя на пламя, пылавшее перед изваянием грозного бога Уицилопочтли, пробудившегося после долгих лет сна.
Снова и снова звучал торжественный гимн; Отоми отмечала такт маленьким жезлом из черного дерева. Снова и снова торжествующие вопли взлетали к безмолвным звездам. Мне казалось, что я вижу страшный сон.
Но вот я очнулся от этого кошмара и, выхватив меч, бросился на жреца, чтобы зарубить его тут же перед алтарем. Никто из мужчин не успел опомниться, однако женщины оказались вдвое быстрее меня. Прежде чем я успел взмахнуть мечом, прежде чем я смог произнести хоть слово, они вцепились в меня, точно пумы из их диких лесов, шипя и визжа, как настоящие пумы.
— Уходи, теуль! — вопили они мне прямо в уши. — Уходи, не то мы заколем тебя на алтаре вместе с твоими братьями!
И все с тем же визгом они вытолкали меня из круга.
Я отошел в сторону и укрылся в тени храма, стараясь что-нибудь придумать. Мой взгляд упал на длинный ряд связанных между собой жертв, ожидающих своей очереди. Тридцать один человек еще был жив, и среди них — пять испанцев. Я отметил про себя, что испанцы лежали самыми последними. Похоже было, что их приберегли для завершения торжества, и в действительности, как я узнал позднее, жрецы решили принести теулей в жертву на восходе солнца. Я ломал себе голову — как их спасти? Моя власть уже ничего не значила. Удержать женщин от мести невозможно: они обезумели от страданий. Легче было отнять у пумы детенышей, чем вырвать пленников из их рук. Мужчины вели себя иначе. Правда, некоторые присоединились к оргии, однако большинство с боязливым торжеством наблюдало за этим зрелищем со стороны, не принимая в нем участия.
Неподалеку от меня стоял один ив вождей отоми, мой сверстник. Он всегда был моим другом и первым после меня военачальником племени. Я подошел к нему и сказал:
— Послушай, друг, во имя чести вашего народа помоги мне прекратить все это!
— Не могу, — ответил он. — И не вздумай сам вмешиваться, иначе тебя ничто не спасет. Теперь власть у женщин, и ты видишь, как они ей воспользовались. Мы все скоро погибнем, но перед смертью они хотят совершить то, что делали их отцы, и они это совершат, ибо им терять нечего. Старые обычаи, как их не изгоняй, забываются нелегко.
— Но, может быть, нам удастся спасти хотя бы теулей? — спросил я.
— А для чего? Разве они спасут нас через несколько дней, когда мы окажемся в их руках?
— Может быть, и не спасут, — ответил я, — но, если нам суждено умереть, лучше умереть с чистой совестью.
— Что ты от меня хочешь, теуль?
— Вот что: найди трех-четырех воинов, которые еще не поддались этому сумасшествию, и помоги мне вместе с ними освободить теулей, раз уж мы не можем спасти остальных. Если нам это удастся, мы спустим их на веревках с того места, где дорога обрывается, а дальше они сами доберутся до своих.
— Попробую, — ответил вождь, пожимая плечами. — Но я это сделаю только потому, что ты меня просишь и ради нашей старой дружбы, а вовсе не из любви к проклятым теулям. По мне было бы неплохо, если бы их всех положили на жертвенный камень!
Он отошел, и вскоре я увидел, как возле пленников начали собираться воины. Словно случайно, они останавливались как раз там, где за последним индейцем были привязаны испанцы, закрывая их от обезумевших женщин, увлеченных своей оргией.
Я осторожно подполз к испанцам. Привязанные за руки и за ноги к медным кольцам в мраморных плитах, они лежали молча в ожидании своего смертного часа, с посеревшими лицами и выпученными от страха глазами.
— Тш-ш-ш! Тихо! — прошептал я на ухо крайнему испанцу, старому солдату, которого я узнал, — он служил еще у Кортеса. — Хочешь спастись?
— Кто тут болтает о спасении? — прохрипел он, быстро оглянувшись. — Разве кто-нибудь может нас спасти от этих ведьм.
— Я теуль, белый человек и христианин, но в то же время я вождь этого народа. У меня еще осталось несколько преданных людей. Мы перережем ваши путы, а потом будет видно. Знай, испанец, я иду на большой риск, потому что если мы попадемся, мне, пожалуй, придется разделить с вами участь, от которой я хочу спасти вас.
— Если мы отсюда выберемся, — ответил испанец, — мы не забудем твою услугу, можешь не сомневаться. Спаси нам жизнь, и, когда придет время, мы тебе отплатим тем же. Но даже если вы нас отпустите, как мы пересечем открытую площадку при такой луне на глазах этих фурий?
— Все равно надо попробовать, — ответил я. — Другого выхода нет.
Но счастью, случай пришел нам на помощь. Пока мы говорили, в лагере испанцев, наконец, заметили, что происходит на вершине теокалли. Снизу послышались крики ужаса, а затем началась бешеная пальба из пушек и мушкетов, которая, впрочем, не причиняла нам почти никаких потерь, потому что весь ливень свинца, направленный вверх от подножия пирамиды, проносился над нашими головами. Одновременно большой отряд испанцев двинулся через храмовый двор на приступ — они еще не знали, что дорога наверх разрушена.
Но все это даже не приостановило ритуала жертвоприношения. Грохот пушек, испуганные и яростные крики испанских солдат, свист мушкетных пуль, треск пламени новых пожарищ, зажженных противником, чтобы осветить поле боя, смешались теперь с диким гимном смерти, усиливая всеобщее смятение и беспорядок и облегчая тем самым мою задачу.
Мой друг военачальник отоми с наиболее верными людьми уже были рядом со мной. Пригнувшись, я несколькими быстрыми ударами ножа перерезал веревки испанцев. Мы сбились в кучу из двенадцати с лишним человек, поместив пятерых испанцев в середине, затем я выхватил меч и закричал:
— Теули штурмуют теокалли! Теули пошли на приступ! Мы их отбросим!
Я не солгал, потому что длинная колонна испанцев уже начала подниматься по спиральной дороге. Воспользовавшись этим, мы перебежали открытое пространство и начали спускаться вниз. Нас никто не заметил и не задержал — все были поглощены жертвоприношением. К тому же наверху царила такая сумятица, что, как я узнал позднее, ни один человек даже не обратил на нас внимания.
Уже на спуске я вздохнул спокойнее: теперь мы по крайней мере скрылись от глаз женщин. Однако нужно было спешить. Мы бежали вниз по спиральному пути так быстро, как только испанцев несли затекшие ноги, пока, наконец, не достигли поворота, за которым начинался обрыв.
Отряд противника подошел к этому же повороту одновременно с нами. Испанские солдаты беспомощно толпились у подножия обрыва, вопя от бешенства и отчаяния, потому что теперь они были бессильны чем-либо помочь своим товарищам. Мы их не видели, зато слышали очень хорошо.
— Мы погибли, — пробормотал старый испанец, с которым я говорил. — Дорога разрушена, а спускаться по склону пирамиды — верная смерть.
— Вовсе вы не погибли, — ответил я. — Футах в пятидесяти внизу дорога сохранилась. Мы вас спустим на нее по одному на веревке.
Не теряя времени, мои воины принялись за дело. Обвязав первого солдата веревкой поперек тела под мышками, мы осторожно спустили его вниз прямо на руки испанцам, которые встретили своего товарища, словно воскресшего из мертвых. Последним оказался старый испанец.
— Прощай, — сказал он мне. — Хоть ты и предатель, бог не забудет твоего милосердия. Может быть, ты последуешь за мной? Тебя не тронут, ручаюсь своей жизнью и честью. Ты говорил, что остался христианином. Разве это место для христиан? — и он показал рукой наверх.
— Конечно, не место, — ответил я. — Но уйти с тобой я не могу. Здесь моя жена и мой сын, и, когда понадобится, я умру вместе с ними. Если хочешь меня отблагодарить, постарайся лучше спасти их жизни — о своей я не забочусь.
— Постараюсь, — сказал испанец, и мы благополучно спустили его вниз.
Возвратившись к храму, я объяснил, что испанцы не смогли преодолеть обрыв и отошли.
А в храме продолжалась страшная оргия. В живых осталось только два индейца. Жрецы изнемогали от усталости.
— Где теули? — пронзительно кричал кто-то. — Быстрее? Тащите их на алтарь!
Но теули исчезли: их искали повсюду, однако найти не могли.
Укрывшись в тени, я громко проговорил измененным голосом:
— Бог теулей взял их под свое крыло! Уицилопочтли не может одолеть бога теулей!
Затем я сразу отошел в сторону, чтобы никто не догадался, что это был я. Мои слова тут же подхватили и начали повторять на все лады.
— Бог креста укрыл теулей своими крылами! — кричали женщины. — Принесем же на алтарь тех, кого он отверг, и возрадуемся!
Вскоре последние пленники были зарезаны на жертвенном камне. Я думал, что этим все кончится, но я ошибался. Еще когда женщины возводили баррикады, в их глазах светилась какая-то затаенная решимость, и вскоре мне довелось увидеть, что она означала. Огонь безумия горел в сердцах этих несчастных. Жертвоприношение было завершено, однако настоящее празднество только еще начиналось.
Женщины собрались на краю верхней площадки и некоторое время к чему-то готовились там, хотя пули испанцев поражали то одну, то другую из них. Вместе с ними были только жрецы; остальные мужчины по-прежнему стояли кучками в стороне, угрюмо наблюдая за приготовлениями женщин. Никто не пытался остановить их или отговорить.
В храме возле жертвенного камня осталась только одна женщина — Отоми, моя жена.
Это было горестное зрелище. Возбуждение, или, вернее, безумие, покинуло ее, и она стала прежней Отоми, такой, как была всегда. Расширенными от ужаса глазами смотрела она то на останки растерзанных жертв, то на свои руки, словно они были залиты кровью, и содрогалась от одной этой мысли.
Я подошел к ней, тронул ее за плечо. Она обернулась, как от толчка.
— О муж мой, муж мой! — только и смогла она выговорить, задыхаясь.
— Да, это я, — ответил я, — но больше не называй меня своим мужем.
— Что я наделала! — простонала Отоми и упала без чувств мне на руки.
Здесь я должен рассказать о том, что узнал лишь многие годы спустя от настоятеля нашего прихода, человека, хоть и недалекого, но весьма ученого. Если бы я знал это раньше, я бы, конечно, не стал так говорить со своей женой даже в тот страшный час и не думал бы о ней так плохо, ибо, как уверял мой друг настоятель, с древнейших времен язычницы, поклоняющиеся своим демонам, таким же, как боги Анауака, становятся иногда одержимыми. Злой дух входит даже в тех, кто отрекся от идолопоклонства. В беспамятстве они могут тогда совершить самое ужасное преступление.
Среди прочих примеров настоятель привел мне идиллию некоего греческого поэта Феокрита.
[264] В ней рассказывается о том, как одна женщина по имени Агава во время тайного празднества в честь языческого бога Диониса заметила, что ее сын подглядывает за участницами мистерии. Злой дух бога Диониса вошел в нее, и тогда она вместе с другими женщинами набросилась на своего сына я растерзала его на куски. Поэт Феокрит, будучи сам почитателем Диониса, не осуждает ее за это, а восхваляет, ибо деяние то было совершено по внушению бога. «Богов же никто да не судит!»
Эта история меня совершенно не касается, и я привожу ее здесь лишь потому, что Отоми, наверное, была одержима духом Уицилопочтли точно так же, как Агава, совершившая противоестественное убийство, была одержима духом Диониса. Так мне говорила потом и сама Отоми. Чему же тут удивляться? Если демоны греков обладали подобной властью, то как же сильны были боги Анауака, самые ужасные среди демонов? Поэтому я полагаю теперь, что видел у алтаря не Отоми, а самого дьявола Уицилопочтли; прежде она ему поклонялась, и в ту ночь он сумел войти в нее, подавив ее настоящую душу.
Глава XXXVI
НА МИЛОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ
Я поднял Отоми на руки и отнес в одно из помещений, прилегающих к храму. Здесь были укрыты дети и среди них мой сын.
— Отец, что с нашей мамой? — спросил мальчик. — Почему она заперла меня с этими детьми, когда снаружи идет бой?
— У твоей матери обморок, — ответил я. — А сюда она тебя заперла потому, что здесь безопасно. Поухаживай за ней, пока я вернусь.
— Хорошо, — проговорил мальчик — Только я думаю, что мое место рядом с тобой, — ведь я почти взрослый! Я хочу драться с испанцами, а не нянчиться здесь с больными женщинами.
— Об этом и не думай! — сказал я. — Прошу тебя, сынок, сиди здесь, пока я за тобой не приду.
Я вышел из помещения, притворив за собой дверь. Но через минуту я уже пожалел, что сам не остался там, ибо зрелище, представшее перед моими глазами, было ужаснее всего, что я видел в жизни.
Женщины разделились на четыре большие группы я двинулись в нашу сторону, распевая и приплясывая на ходу. Многие несли на руках своих детей и почти все были полуобнажены. Те, кто руководил ими, вместе со жрецами бежали впереди. Они метались из стороны в сторону, скакали, прыгали, голосили, выкрикивая имена своих дьявольских богов и прославляя жестокость своих предков, а за ними, завывая, бежали толпы женщин.
Как фурии, носились они взад и вперед по теокалли, то простираясь перед Уицилопочтли и его отвратительной сестрой, богиней смерти, сидевшей рядом с ним в скульптурном ожерелье из черепов и человеческих рук, то склоняясь перед жертвенным камнем и протягивая ладони прямо над священным огнем. Час с лишним продолжался этот адский карнавал, смысл которого не мог понять даже я, несмотря на все мое знание индейских обычаев. Затем, словно по команде, все женщины собрались на открытом пространстве площадки, образовав два кольца. В центре этого двойного круга встали жрецы. Мгновение — и хор затянул песню, такую дикую и жуткую, что у меня кровь застыла в жилах.
До сих пор это зрелище и эта песня иногда возникают передо мной в ночных кошмарах, и поэтому я не хочу ее здесь приводить. Но попробуйте представить себе самое страшное, что таится в глубинах человеческого сердца, самую изощренную жестокость, на какую только способно человеческое воображение, прибавьте ж этому все ужасы кровавых сказок о привидениях, убийствах и страшной мести, и, если вам удастся передать все это словами, может быть, они отразят, как в черном зеркале, дух той древней песни женщин отоми со всеми их воплями, рыданиями, победными криками и стонами, полными предсмертной тоски.
Все громче звучал хор. Не сводя глаз со своих богов, женщины начали пятиться. Жрецы бесновались перед ними. Женщины отступали медленно и торжественно, расходясь во все стороны от храма. Вот внешнее кольцо разорвалось на части, но женщины из внутреннего круга тотчас заполнили промежутки, и теперь все они стояли сплошной подковой на самом краю площадки — лицом к храму, спиной к бездне. Их предводительницы и жрецы стали с ними в ряд, и на мгновение воцарилась тишина. Вдруг по какому-то знаку все разом отклонились назад, подняв лица к небу. Ветер развевал их длинные волосы, зарево пожарищ освещало обнаженные груди, отражаясь в обезумевших глазах.
Жутко прозвучал протяжный вопль:
— Спаси нас, Уицилопочтли! Прими нас в свое обиталище, бог богов!
Вопль повторился трижды, с каждым разом все исступленнее, и внезапно оборвался. Женщины отоми исчезли! Вершина теокалли была пуста.
Так завершилось последнее жертвоприношение в Городе Сосен. Дьявольские боги погибли, но в своем падении они увлекли за собой и тех, кто им поклонялся.
Тихий ропот пронесся среди мужчин. Затем один из них заговорил, и голос его странно прозвучал во внезапно наступившей тишине.
— Пусть наши жены покоятся с миром в Обиталище Солнца! — взывал он. — Женщины показали нам, как нужно умирать?
— Нет, только не так! — возразил я. — Пусть женщины кончают самоубийством, а для нас у врагов найдутся мечи.
Я обернулся и увидел перед собой Отоми.
— Что случилось? — спросила она. — Где мои сестры? О, наверное, я видела страшный сон! Мне снилось, что наши боги снова обрели могущество и снова пьют человеческую кровь…
— Да, страшный сон, — ответил я, — но пробуждение страшнее. Потому что дьявольские боги и вправду еще сильны в этой проклятой стране; они взяли к себе твоих сестер.
— Не знаю, сильны ли они, — печально возразила Отоми. — Но сне мне казалось, что это было последнее усилие наших богов, за которым уже не осталось ничего, лишь бесконечность смерти. Взгляни!
И она показала на снежную вершину вулкана Хака.
По совести, не могу сказать, действительно я это видел или зрелище, представшее передо мной, было порождено кошмарами ужасной ночи. Но скорее всего я его видел, потому что некоторые испанцы клялись, что видели то же самое.
Над вершиной Хаки, как всегда, стоял столб озаренного пламенем дыма, но в этот миг дым на моих глазах отделился от огня. Сверкающий, как молния, огненный крест вырос из пламени на вершине горы и раскинулся по всему небу. Дым заклубился у его подножия, принимая расплывчатую форму идолов, сидевших в храме за моей спиной. Увеличенные в сотни раз, они казались еще более ужасными и грозными в своем призрачном великолепии.
— Смотри! — проговорила Отоми. — Твой крест сияет над моими погибшими богами, которым я поклонялась этой ночью, хоть и не по своей воле.
С этими словами она повернулась и ушла.
Несколько мгновений я с ужасом смотрел на снега Хаки, затем внезапно их озарил первый луч восходящего солнца, и все исчезло.
Мы держались против испанцев еще три дня. Они не могли до нас добраться, а их пули пролетали над нашими головами, не причиняя никакого вреда. Все эти дни я не разговаривал с Отоми: мы избегали друг друга. Как живое воплощение скорби, она часами просиживала одна в хранилище возле храма. В глазах ее застыла неизъяснимая мука. Дважды я пытался с ней заговорить, побуждаемый жалостью, но она отворачивалась от меня и не отвечала.
Вскоре испанцы узнали, что на теокалли есть вода и значительные запасы продовольствия, с которым мы сможем продержаться больше месяца, и, не надеясь одолеть нас силой оружия, вступили в переговоры.
Я спустился к обрыву, где кончалась дорога; посол испанцев разговаривал со мной, стоя внизу. Сначала он предложил нам безоговорочную капитуляцию. На это я ответил, что мы лучше умрем, где стоим. Затем испанцы сказали, что если мы выдадим всех, кто принимал участие в жертвоприношении, остальные смогут уйти свободно. Я объяснил, что жертвы приносили одни женщины и жрецы, и что все они сами покончили с собой. Испанцы спросили, умерла ли с ними Отоми. «Нет, — ответил я, — но вы должны поклясться, что не причините ни ей, ни ее сыну никакого вреда, иначе я не сдамся». Кроме того, я потребовал письменного подтверждения, что оба они могут идти со мной куда захотят, В этом мне было отказано, однако в конце концов я своего добился, и на следующий день мне забросили на конце копья пергамент, подписанный капитаном Берналем Диасом. В нем говорилось, что, принимая во внимание ту роль, которую я вместе с некоторыми другими воинами сыграл в спасении испанцев от жертвоприношения, мне, моей жене, моему сыну, а также всем прочим отоми, оставшимся на теокалли, дается полное помилование и разрешается свободно уйти куда нам заблагорассудится, однако все наше достояние и наши земли переходят в казну вице-короля.
Лучших условий я и не мог ожидать. Честно говоря, я даже не надеялся, что нам всем сохранят жизнь и свободу.
Но что касается меня, то я бы предпочел умереть. Отоми воздвигла между нами непреодолимую стену. Я был связан с женщиной, которая вольно или невольно запятнала свои руки человеческой кровью. Хорошо еще, что у меня был сын, моя последняя утеха. К счастью, он ничего не знал о позоре своей матери.
«Если бы я мог, — думал я, поднимаясь на теокалли, — о, если бы я мог бежать из этой проклятой страны и взять его с собой в Англию, его и Отоми! Может быть, там она позабудет о том, что когда-то была дикаркой!»
Увы, этому не суждено было сбыться.
Когда все, кто были со мной, добрались до храма, мы поспешили сообщить добрую весть нашим товарищам. Нас выслушали молча. Люди белой расы были бы на седьмом небе от счастья, потому что, когда грозит смерть, все другие потери кажутся нам ничтожными. Другое дело — индейцы. Когда удача отворачивается от них, они перестают дорожить жизнью. Эти воины отоми потеряли свою родину, свои дома, своих жен, своих братьев и все свое достояние. Что им осталось? Жизнь да право идти на все четыре стороны. Зачем им теперь жизнь? Вот почему отоми встретили милость врага точно так же, как встретили бы их немилость, — угрюмым молчанием.
Я подошел к Отоми и поделился с ней новостью.
— Я надеялась умереть здесь, — ответила она. — Но пусть будет так; смерть можно встретить в любом месте.
Только мой сын обрадовался, когда узнал, что нам не грозит больше смерть от голода или от меча.
— Отец, — сказал он, — испанцы подарили вам жизнь, но они заберут себе всю нашу страну и прогонят нас прочь. Куда мы пойдем?
— Не знаю, сынок, — ответил я.
— Отец, — продолжал он, — давай уйдем из Анауака. Здесь ничего не осталось, кроме испанцев и горя. Давай найдем корабль и поплывем через море в нашу страну, в Англию!
Мальчик высказал мои сокровенные мысли, и сердце мое замерло при этих словах. Но как осуществить этот план? И как отнесется к нему Отоми? Я взглянул на нее в нерешительности.
— Он придумал неплохо, теуль, — ответила она на мой невысказанный вопрос. — Для тебя и для нашего сына это будет, пожалуй, самое лучшее. Что же до меня, то я отвечу тебе пословицей моего народа: «Только в родной земле мягко спится».
С этими словами она отвернулась и начала собираться, готовясь покинуть хранилище, где провела все дни осады. Больше мы об этом не говорили.
Вечером усталая вереница мужчин с несколькими женщинами я детьми преодолела обрыв по лестнице, сколоченной из бревен разрушенного храма, и начала спускаться по спиральной дороге с пирамиды. Перед закатом мы ступили на двор у ее подножия. Испанцы ожидали нас возле ворот.
Одни встретили нас проклятиями, другие — насмешками, но те, в ком была хоть капля благородства, молчали из сострадания к нашему горю и уважения к нашему мужеству, которое мы проявили в последней битве. Тут же, рыча, как голодные пумы, толпились их союзники индейцы. Они вопили и требовали нашей смерти до тех пор, пока испанцы не заставили их замолчать. Последний акт падения Анауака был подобен первому: собаки грызлись между собой, а львиная доля доставалась льву.
У ворот нас разделили: простых людей сразу же вывели под охраной ив разрушенного города и отпустили в горы, а остальных отправили в испанский лагерь, чтобы предварительно допросить. Меня, мою жену и сына повели во дворец, в наше прежнее жилище, чтобы там объявить нам волю капитана Диаса.
Нам нужно было пройти совсем немного, и все же на этом коротком пути меня подстерегала неожиданность. Я случайно поднял глаза: в стороне от всех, скрестив на груди руки, стоял Хуан де Гарсиа. За эти дни я успел о нем позабыть, потому что голова моя была занята другими вещами, но, едва увидев его лицо, я сразу вспомнил, что, пока этот человек жив, опасность и горе будут моими неизменными спутниками.
Де Гарсиа наблюдал за нами, подмечая все. Я шел последним. Когда мы поравнялись, он проговорил.
— До свидания, кузен Вингфилд! Ты уцелел и на сей раз и даже получил полное прощение вместе со своей женой и своим ублюдком. Однако если бы эта старая боевая кляча, которая нами командует, послушалась меня, вас сожгли бы живьем на костре всех троих! Но делать нечего. До скорого свидания, любезный! Я еду в Мехико сообщить обо всем вице-королю. Надеюсь, он это так не оставит.
Я не ответил и, только пройдя несколько шагов, спросил нашего провожатого, того самого испанца, которого спас от жертвоприношения:
— Что означают слова этого сеньора?
— А то, что дон Сарседа поругался из-за тебя с нашим капитаном. Не обещай им, говорит, ничего или, наоборот, обещай, что хочешь, а когда они вылезут ив своей крепости, мы их всех перебьем. С неверными, мол, клятву держать не обязательно. Только наш капитан рассудил по-другому. Даже с язычниками, говорит, нужно быть честным. Но тут и мы все, кого ты спас, начали кричать Сарседе: «Позор! Позор!» Дальше — больше, чуть не до драки. Сарседа у нас третий по званию. Заявил, что не станет участвовать в мирных переговорах, а поедет со своими слугами в Мехико жаловаться вице-королю. Тогда капитан Диас говорит ему: «Поезжай хоть к дьяволу, если хочешь, и жалуйся хоть сатане! Я всегда знал, что тебе только в аду и место!» Так и разошлись. Они еще с «Ночи печали» не в ладах. Сарседа через час уезжает в Мехико и уж там при дворе вице-короля постарается напакостить тебе, как только сможет. Но все равно хорошо, что ты от него избавился.
— Отец, — обратился ко мне мой сын, — почему тот испанец смотрел на нас так злобно?
— Об этом человеке я тебе рассказывал, сынок. Это де Гарсиа. Два поколения он был проклятием нашего рода. Он предал твоего деда инквизиции, он убил твою бабушку, он пытал меня, я неизвестно, сколько еще зла он нам причинит. Бойся его, сынок, не доверяй ему, заклинаю тебя!
Тем временем мы дошли до дворца, чуть ли не единственного строения, уцелевшего от всего Города Сосен. Нам отвели комнату в самом конце длинного здания, но вскоре капитан Диас пожелал видеть меня и мою жену.
Отоми хотела остаться с сыном в той комнате, куда ему принесли еду, но ей пришлось пойти вместе со мной. Помню, что перед уходом я поцеловал сына, хотя сделал это, наверное, только потому, что думал по возвращении застать его спящим.
Капитан Диас расположился на противоположном конце дворца, шагах в двухстах от нашей комнаты. Через несколько минут мы уже стояли перед ним. Он оказался суровым на вид, довольно пожилым человеком с ясными глазами на некрасивом, но честном лице крестьянина, привыкшего трудиться на своем поле в любую погоду. Только поле капитана Диаса было полем боя, и собирал он на нем жатву смерти.
Когда мы вошли, капитан обменивался с простыми солдатами такими шуточками, которые вряд ли предназначались для женских ушей. Поэтому, увидев нас, он сразу умолк и вышел вперед. Я приветствовал его по индейскому обычаю, коснувшись правой рукой земли. Ведь я был теперь просто пленный индеец!
— Сними меч, — коротко приказал он, ощупывая меня своими быстрыми глазами.
Я отстегнул меч и протянул ему, проговорив по-испански:
— Возьмите его, капитан, потому что вы победили и потому что он возвращается, наконец, к своему хозяину.
Это был тот самый меч, который я отнял у Берналя Диаса во время схватки в «Ночь печали».
Взглянув на него, Диас громко выругался и воскликнул:
— Проклятие! Я так и знал, что это мог быть только ты! Наконец-то мы встретились после стольких лет. Ну что ж, однажды ты спас мне жизнь, и я рад, что могу сейчас отплатить тебе тем же. Не будь я уверен, что это ты, мой друг, я бы не пошел на твои условия. Кстати, как тебя зовут? Нет, скажи мне свое настоящее имя, — как тебя называют индейцы, я знаю.
— Мену зовут Вингфилд.
— Значит, друг Вингфилд? Хорошо. Но, повторяю, если бы на твоем месте был кто-нибудь другой, я сидел бы у этого дома сатаны — тут он показал на теокалли, — пока вы все не передохли бы с голоду на его верхушке. Нет, возьми этот меч себе, друг Вингфилд. За столько лет я уже приспособился к другому, а ты им владеешь на славу: я еще никогда не видел, чтобы индейцы так рубились. А это Отоми, дочь Монтесумы, твоя жена? Я вижу, она по-прежнему царственна и прекрасна. О господи, господи! Сколько лет прошло, а кажется, я только вчера видел, как умер ее отец. Христианской души был человек, хоть и не христианин. Худо мы с ним обошлись, да простятся нам наши грехи! Но вот про вас, сеньора, если только мне говорили правду о том, что произошло три ночи назад, не скажешь, что у вас христианская душа. Однако довольно об этом — во всем виновата дикая кровь. Вы прощены ради вашего мужа, который спас моих товарищей от смерти на алтаре.
Отоми не ответила ни словом. Безмолвная и неподвижная, она стояла, как изваяние. С той ужасной ночи своего постыдного падения она вообще говорила очень редко.
— Что же ты будешь делать дальше, друг Вингфилд? — обратился ко мне капитан Диас. — Ты можешь идти куда хочешь. Ты свободен. Но куда ты пойдешь?
— Пока не знаю, — ответил я. — Много лет назад, когда император ацтеков подарил мне жизнь и дал в жены принцессу Отоми, я поклялся стоять за него и за его дело до тех пор, пока вулкан Попокатепетль не перестанет куриться, пока в Теночтитлане не останется больше владык и пока народ Анауака не перестанет быть народом.
— В таком случае, друг, ты свободен от своей клятвы, потому что ничего этого уже нет, и даже над Попокатепетлем вот уже два года не видно ни дымка. Если хочешь, я дам тебе добрый совет: возвращайся к христианам и поступай на службу к королю Испании. Но давай сначала поужинаем: обо всем этом мы еще успеем поговорить.
При свете факелов мы сели вместе с Берналем Диасом и еще несколькими испанцами за стол, накрытый в парадной зале дворца. Отоми не захотела остаться. Капитан упрашивал ее поужинать с нами, но она ничего не стала есть и вскоре ушла в свою комнату.
Глава XXXVII
ВОЗМЕЗДИЕ
За ужином Берналь Диас вспоминал о нашей первой встрече на дамбе и о том, как я по ошибке едва не убил его, приняв за Сарседу. Кстати, он спросил, что мы не поделили с доном Сарседой.
Как можно короче я поведал ему историю своей жизни. Узнав о том, что сделал Сарседа, или де Гарсиа, мне и моей семье и как я из-за него очутился в этой стране, Диас был поражен.
— Святая Мадонна! — воскликнул он наконец. — Я всегда считал его подлецом, но, если ты рассказал мне правду, я просто не знаю, что он за человек. Даю тебе слово, друг Вингфилд, услышь я об этом час назад, Сарседа не ушел бы отсюда, пока не ответил за все или не оправдался в бою с тобой. Но сейчас, боюсь, уже поздно: он собирался выехать в Мехико, как только взойдет луна. Торопится на меня нажаловаться за то, что я принял твои условия. Пусть жалуется — ему там не очень-то верят!
— Я рассказал только правду, — ответил я. — Многое я могу, если потребуется, доказать. Но, говоря начистоту, я отдал бы полжизни, чтобы встретиться с ним лицом к лицу в открытом бою. У нас с ним старые счеты, только он всегда от меня ускользал.
Вдруг мне показалось, что какое-то холодное страшное дуновение коснулось моего лица и рук. Тревожное чувство непоправимого несчастья сжало мне сердце, и я замер, не в силах ни шевельнуться, ни заговорить.
— Пойдем посмотрим, может быть, он еще не уехал, — сказал капитан Диас и, крикнув стражу, направился к выходу из комнаты. Я поднялся за ним и в это мгновение увидел в дверях женщину. Она стояла, вцепившись руками в косяки, запрокинув назад голову с распущенными длинными волосами, и лицо ее было искажено такой мукой, что я не сразу узнал Отоми. Но, когда узнал, я понял все: только одно могло наполнить такой болью и ужасом ее бездонные глаза.
— Что с нашим сыном? — спросил я.
— Умер, умер! — ответила она леденящим кровь шепотом.
Больше я не стал спрашивать: сердце досказало мне остальное. Но Диас не понял:
— Умер? Отчего он умер? Что его убило?
— Де Гарсиа! Я видела, как он выходил, — проговорила Отоми и, вскинув к небесам руки, беззвучно рухнула навзничь у порога. Я знаю: в тот миг сердце мое разбилось навеки. С тех пор ничто уже не в силах по-настоящему его взволновать, и только это воспоминание терзает меня день за днем, час за часом, и так будет до последнего моего вздоха, пока я не уйду туда, где меня ждет мой сын.
— Ну что, Берналь Диас?! — воскликнул я с хриплым хохотом. — Правду ли я тебе говорил о твоем товарище?
И, перепрыгнув через тело Отоми, я выскочил из комнаты. Капитан Диас с остальными испанцами бросились за мной.
Выбежав из дворца, я повернул налево к испанскому лагерю, но не успел сделать и ста шагов, как увидел при лунном свете небольшой отряд всадников, ехавших мне навстречу. Это был де Гарсиа со своими слугами; они спешили к ущелью, через которое лежал путь на Мехико. Я подоспел вовремя.
— Стой! — крикнул Берналь Диас.
— Кто смеет мне приказывать? — раздался голос де Гарсиа.
— Я, твой капитан! — загремел Диас. — Стой, сатана, убийца, или я тебя зарублю!
Я увидел, как де Гарсиа вздрогнул и побелел.
— У вас странные манеры выражаться, сеньор, — проговорил он. — Если вы соблаговолите…
Но в этот миг де Гарсиа, наконец, заметил меня. Я вырвался из рук Диаса, который меня удерживал, и пошел на де Гарсиа. Я не произнес ни слова, но по моему лицу он, наверное, понял что я знаю все и что ему нет спасения.
Де Гарсиа посмотрел вперед через мою голову — узкий проход за моей спиной был прегражден солдатами. Я подходил все ближе, однако он не стал меня ждать. Было мгновение, когда рука его потянулась к мечу, но вдруг он круто повернул коня и поскакал назад по улице, ведущей к вулкану Хака.
Де Гарсиа спасался бегством, а я его преследовал неторопливо и неотступно, как охотничий пес. Сначала он намного опередил меня, но вскоре дорога пошла хуже, и здесь он уже не мог мчаться галопом. Город, или, вернее, его развалины остались далеко позади. Мы двигались теперь по узкой тропе, по которой отоми приносили с вулкана снег в жаркое время года. Миль через пять у границы снегов тропа обрывалась: выше лежала священная земля, куда не осмеливался заходить ни один индеец.
Мы поднимались по этой тропе, и в сердце моем была злая радость, ибо я знал, что свернуть с нее некуда — по обеим сторонам чернели пропасти или отвесные скалы. С каждой пройденной милей де Гарсиа все чаще поглядывал то направо, то налево, то вперед, на возвышающийся перед ним снежный купол, увенчанный пламенем. И только назад он не оглянулся ни разу: он знал, что за ним по пятам идет в образе человека смерть.
Я преследовал его настойчиво и угрюмо, сберегая силы. Я был уверен, что рано или поздно настигну его, и не спешил.
Наконец де Гарсиа очутился у границы снегов, где тропа исчезала, и в первый раз оглянулся. Я был от него шагах в двухстах, Я, его смерть, приближался к нему сзади, а впереди перед ним сиял снег. Он колебался одно мгновение; в величественной тишине я слышал тяжелое дыхание его коня. Затем он вонзил шпоры в бока животного и погнал его вверх.
Снег затвердел от мороза, и некоторое время лошадь поднималась по нему даже быстрее, чем по тропинке, несмотря на крутизну. Но дорога по-прежнему была только одна — по самому гребню горного отрога, снежные склоны которого были так круты, что на них не удержался бы ни конь, ни человек. Часа два с лишним мы карабкались по этому гребню, затерянные среди безмолвия вечных снегов зачарованного вулкана. Порой мне казалось, что мой взор проникает в душу моего врага и я вижу все, что в ней происходит. Пусть я не прав, пусть это было только игрой воображения, но эта мысль была мне приятна, ибо там, в его сердце, я видел такое черное отчаяние, такие муки, таких жутких призраков прошлого и такой ужас перед надвигающейся смертью и тем, что за ней последует, что никакие ухищрения человеческой мести не смогли бы превзойти эту пытку. Так оно и было на самом деле, я знаю, ибо если в душе де Гарсиа не осталось совести, то остался страх и живое воображение, чтобы обострить его и усилить стократно.
Снежный гребень становился все круче, а конь уже выбился из сил. На такой высоте ему было трудно дышать. Напрасно де Гарсиа терзал шпорами бока благородного животного — оно не могло больше сделать ни шагу.
Внезапно конь повалился на снег. Я думал, что теперь-то де Гарсиа остановится, но даже я не представлял себе всей глубины его ужаса. Выбравшись из-под павшего коня, де Гарсиа оглянулся и, сбрасывая на ходу тяжелые латы, заковылял вперед.
К этому времени мы достигли того места, где снега кончались, переходя в ледяное поле. Очевидно, снег наверху подтаивал от внутреннего тепла вулкана или от лучей солнца в жаркое время года, а по холодным ночам и в зимние месяцы замерзал, превращаясь в лед. Так или иначе, вершина Хаки была окружена ледяной пелериной, достигавшей почти мили в ширину. Ниже ее лежали снега, а над ней выступали черные зубцы кратера.
Де Гарсиа карабкался по льду. Даже для совершенно спокойного человека это дело не из легких, потому что здесь приходится перепрыгивать от трещины к трещине, цепляясь за иглообразные выступы шершавого льда, торчащие над поверхностью, как щетина на спине у борова. Горе путнику, если такая игла обломится под ним или если он поскользнется! Тогда никто не задержит его падения, и, прежде чем он докатится до рыхлого снега, тысячи острых, как ножи, выступов обдерут с него мясо до костей. Больше всего я боялся, что это случится с де Гарсиа: тогда месть ускользнула бы от меня, а я был от него всего в двадцати шагах. Поэтому, замечая опасность, я кричал ему снизу, подсказывая, куда нужно ставить ногу, и он — самое удивительное! — беспрекословно повиновался мне, позабыв от ужаса обо всем на свете. О себе я не думал. Я знал, что не упаду, хотя в другое время ничто не заставило бы меня совершить подобный подъем.
Все это время мы карабкались к огненной вершине Хаки при ярком лунном свете, но внезапно первый луч солнца коснулся горы — и пламя, освещавшее изнутри гигантский столб дыма над кратером, сразу померкло. Зато вся ледяная шапка засияла и заискрилась в алых лучах; мы ползли по ней, как две черные мухи, а внизу под нами еще клубилась ночная мгла. Это было чудесное и жуткое зрелище.
— Эй, приятель — окликнул я де Гарсиа. — При таком свете подниматься легче. Смотри не оступись!
Странно прозвучали мои слова среди ледяных утесов, где еще никогда не раздавался человеческий голос. И в тот же миг гора под нами зашаталась и задрожала, как дерево, сотрясаемое ураганом, словно разгневанная нашим святотатством, нарушившим ее священное безмолвие. Вслед за толчком на нас опустилось облако серного пепла, на мгновение скрывшее от меня де Гарсиа. Я только слышал, как он закричал от страха, и сам испугался, думая, что он упал. Но, когда пепел рассеялся, де Гарсиа невредимый стоял уже на лаве у подошвы кратера.
«Ну, теперь-то он наверняка остановится, — подумал я. — У него есть меч, и ему нетрудно будет убить меня, когда я буду переползать со льда на горячую лаву».
Очевидно, де Гарсиа тоже подумал об этом, потому что он повернулся ко мне с сатанинской гримасой, но тут же снова начал карабкаться вверх. Я ничего не мог понять. Где же он надеется от меня укрыться? Шагах в трехстах от нас клокотал кратер, выбрасывая в небо клубы пара и дыма, а между его гребнем и кромкой льда громоздились застывшие потоки лавы, местами такой горячей, что по ней трудно было ступать. Де Гарсиа устал. Теперь уже медленно брел он по лаве, вздрагивающей под ногами, а я неторопливо шел за ним, переводя дыхание.
Но вот он приблизился к краю кратера, подался вперед и заглянул вниз. Я подумал, что сейчас де Гарсиа бросится в него и так покончит с собой. Но, если у него и была подобная мысль, он сразу же позабыл о ней, когда увидел, какое уютное ложе его ожидает. Круто повернувшись, де Гарсиа выхватил меч и пошел на меня. В дюжине шагов от кратера мы встретились.
Я сказал «мы встретились», но в
действительности это было не совсем так, потому что в четырех шагах от меня, там, где я не мог достать его мечом, де Гарсиа снова остановился. Не сводя с него глаз, я сел на обломок лавы. Казалось, я никогда не смогу наглядеться на его лицо. Но что это было за лицо! Лицо убийцы перед расплатой. Жаль, что я не художник, потому что словами невозможно описать эти полные ужаса, запавшие красные глаза, скрежет зубов и дрожащие губы. Я думаю, когда сам дьявол, враг рода человеческого, выкинет свой последний козырь и погубит последнюю душу, он перед смертью будет выглядеть точно так же.
— Ну вот мы и свиделись, де Гарсиа, — сказал я.
— Чего ты ждешь? — прохрипел он. — Убей меня и покончим с этим!
— Куда ты торопишься, кузен? Я искал тебя целых двадцать лет, зачем же нам сразу расставаться? Поболтаем немного! Прежде чем мы расстанемся навсегда, я надеюсь, ты будешь настолько любезен, что ответишь на мой вопрос. Меня мучит любопытство. За что ты причинил столько горя мне и моим родным? Ведь должно же быть какое-то объяснение даже твоей бессмысленной тупой жестокости?
Я говорил с ним спокойно и равнодушно, не испытывая ни малейшего волнения, не чувствуя
ничего. В тот странный час я был не Томасом Вингфилдом, я был не человеком, а бездушным орудием, слепой силой. Я мог просто без печали думать о моем убитом сыне; для меня он не был мертвым, ибо я сам был всего лишь частицей всеобъемлющей природы, куда входила и смерть. Даже о де Гарсиа я думал без ненависти, словно и он был только пешкой в чьей-то руке. Но в то же время я знал, что он теперь целиком в моей власти, что он мне ответит и скажет правду и что это так же истинно, как то, что он умрет, когда я того захочу.

Де Гарсиа пытался сжать губы — они разомкнулись сами собой, и он заговорил. Слово за словом он раскрывал передо мной всю глубину своего черного сердца, как будто уже стоял перед высшим судьей.
— С ранней юности я полюбил твою мать, кузен, — начал он медленно, с трудом выговаривая каждое слово. — Ее одну я любил всю жизнь, как люблю до сих пор, но она ненавидела меня за мои пороки и боялась за мою жестокость. Потом она встретила и полюбила твоего отца. Я донес на него инквизиции, надеясь, что его замучают там и сожгут, но она освободила его и бежала с ним в Англию. Меня мучила ревность, я мечтал о мести, однако твоя мать была далеко. Почти двадцать лет я жил своей темной жизнью, пока однажды не оказался в Англии по торговым делам. Здесь я случайно узнал, что твоя мать и отец живут близ Ярмута, и решил повидаться с ней, просто повидаться — убивать ее я не думал. Мне посчастливилось. Мы встретились в лесу, я увидел, что она по-прежнему прекрасна, и понял, что люблю ее больше, чем раньше. Я предложил ей на выбор: бежать со мной или умереть, и вот она умерла. Я настиг ее на лесистом склоне, уже поднял меч, но вдруг она остановилась и сказала:
«Сначала выслушай меня, Хуан! Мне открылось предсмертное видение. Так же, как я убегала от тебя, ты побежишь от одного из моих сыновей, и так же, как ты отправляешь меня на небо, он ввергнет тебя в бездну ада среди огня, скал и снега».
— Это место здесь, кузен, — сказал я.
— Это место здесь, — озираясь, прошептал де Гарсиа.
— Продолжай!
Он снова сделал попытку промолчать, но снова моя воля сломила его, и он продолжал:
— Отступать было поздно. Чтобы спастись самому, я убил ее и бежал. Но с того часа ужас вселился в мое сердце, ужас, который не покидает меня до сих пор. Всегда и всюду меня преследовало видение сына твоей матери, от которого я должен бежать, бежать всю жизнь, пока он не настигнет меня и не ввергнет в бездну ада.
— Это должно быть там, кузен, — проговорил я, показывая мечом на жерло кратера.
— Да, там, я видел.
— Но туда полетит только тело, кузен, а не душа.
— Только тело, а не душа, — повторил он за мной.
— Продолжай! — приказал я.
— Затем в тот же день я встретил тебя, Томас Вингфилд. Страх перед пророчеством твоей матери уже овладел мной, и, когда я увидел одного из ее сыновей, я решил убить его, чтобы он не убил меня.
— Как он это сделает сейчас, кузен.
— Как он это сделает сейчас, — повторил де Гарсиа, словно попугай, и, помолчав, заговорил снова: — О том, что случилось дальше и как мне удалось ускользнуть, ты знаешь. Я бежал в Испанию и постарался все забыть. Но я не мог. Однажды ночью в Севилье я увидел на улице человека, похожего на тебя. Я не думал, что это ты, но мой страх был так велик, что я решил бежать в далекую Индию. Ты встретил меня в ночь перед отплытием, когда я прощался с одной сеньорой.
— С Изабеллой де Сигуенса, кузен. Вскоре и я простился с ней навеки, чтобы передать тебе ее предсмертное слово. Сейчас она ждет тебя вместе со своим ребенком.
Де Гарсиа содрогнулся и продолжал:
— Мы снова встретились в океане. Ты появился из волн. Я не посмел убить тебя сразу, на глазах у всех, чтобы меня потом не обвинили в твоей смерти. Я подумал, что ты все равно умрешь в трюме среди рабов. Но ты не умер, и даже океан был к тебе милосерд, хотя я решил, что избавился от тебя навсегда. Вместе с Кортесом я пришел в Анауак и здесь снова с тобой встретился; на этот раз ты едва меня не убил. Но затем пришел час расплаты и я потешился над тобой вволю. На следующий день я решил убить тебя, но сначала продолжить пытку, ибо страх сделал меня жестоким. Однако ты сбежал. Прошло много лет. Я странствовал по свету, побывал в Испании, в других странах, потом опять вернулся в Мехико, но, где бы я ни был, все тот же страх, призраки мертвых и мои кошмары всюду преследовали меня, и не было мне ни удачи, ни счастья. Лишь недавно я присоединился к отряду Диаса. О тебе я не думал; мне говорили, что ты давно умер, и лишь когда мы добрались до Города Сосен, я узнал, что вождь отоми — это ты. Остальное ты знаешь.
— За что ты убил моего сына, кузен?
— А разве он не потомок твоей матери? Разве я не мог пасть от его руки? Но главное — я хотел отомстить тебе за все эти годы ужаса. К тому же глупо оставлять в живых сына, когда стараешься убить отца. Он умер, и я рад, что убил его, хотя его призрак будет теперь преследовать меня вместе с другими тенями.
— Он будет преследовать тебя вечно. Но хватит, пора кончать. У тебя есть меч — защищайся, если можешь. Умирать в бою легче.
— Не могу! — простонал де Гарсиа. — Я обречен…
— Как хочешь, — сказал я и поднял меч.
Де Гарсиа отшатнулся и начал пятиться, с ужасом глядя мне прямо в лицо, как крыса перед удавом, готовым ее проглотить. Так мы дошли до края кратера. Устрашающее зрелище открылось передо мной, когда я заглянул вниз. Там, на глубине тридцати с лишним футов, сквозь покров клубящегося дыма зловеще сияла докрасна раскаленная лава. Она переливалась и перекатывалась, как живое существо, Струи пара вырывались из нее с пронзительным шипением, ядовитые испарения разноцветными змейками поднимались над ее поверхностью, свиваясь и переплетаясь, и удушливое, жаркое зловоние отравляло нагретый воздух. Да, поистине для де Гарсиа это был самый подобающий вход в его последнее жилище! Лучшего даже я не смог бы придумать.
Я указал мечом вниз и расхохотался, но, когда де Гарсиа увидел дно кратера, его охватил такой непреодолимый страх перед смертью, что, утратив всякое человеческое подобие, он завыл, точно зверь. Да, да, этот гордый высокомерный испанец всхлипывал, визжал и молил меня о пощаде, он, совершивший столько злодеяний, которым нет прощения, умолял простить его и дать ему время хотя бы для покаяния. Я стоял, молча смотрел на него, и вид его был так ужасен, что даже в мое оледеневшее сердце начал закрадываться страх.
— Пора кончать, — проговорил я и снова поднял меч, но только для того, чтобы тут же его опустить. Внезапно разум покинул де Гарсиа, и он помешался у меня на главах.
Мне не хочется описывать всего, что за этим последовало. Вместе с безумием к де Гарсиа вернулось мужество, и он начал сражаться.
Но не со мной.
Казалось, он меня больше не видел, однако дрался отчаянно, пронзая пустое пространство. Страшно было смотреть, как он рубится с невидимыми врагами, и слышать его вопли и проклятия. Дюйм за дюймом де Гарсиа отступал к краю кратера. Здесь он задержался и вступил в последний бой с могучим незримым противником. Яростные выпады и удары следовали один за другим, дважды он чуть не падал, словно от смертельных ран, но снова собирал все силы и продолжал сражаться с
пустотой. Вдруг, испустив пронзительный вопль, как будто его поразили в сердце, де Гарсиа широко раскинул руки, выронил меч и навзничь рухнул в жерло вулкана.
Я отвел глаза, чтобы больше ничего не видеть. Но потом я частенько спрашивал себя: что же это было и кто нанес де Гарсиа последний, смертельный удар?
Глава XXXVIII
ПРОЩАНИЕ С ОТОМИ
Так я исполнил обещание, данное мной отцу, я отомстил де Гарсиа. Правильнее было бы сказать, что я видел, как свершилось возмездие, ибо, как ни страшна его смерть, он умер не от моей руки. Де Гарсиа умер от страха, И я сразу же пожалел, что он погиб именно так, ибо, когда ледяное неестественное спокойствие покинуло мою душу, я возненавидел его еще сильнее, чем прежде. Я пожалел, что не убил его своей собственной рукой, и жалею об этом до сих пор. Конечно, многие станут меня порицать, ибо нам завещано прощать своих врагов, но такое всепрощение я оставляю господу богу. Как могу я простить того, кто предал моего отца в руки инквизиции, кто убил мою мать и моего сына, кто заковал меня в цепи на рабском судне, кто своими руками пытал меня в течение нескончаемых часов? Нет! С каждым годом я ненавижу его все больше.
Я пишу обо всем этом лишь потому, что долгое время не мог обрести покоя. Я не способен простить все ни мертвому, ни живому, и из-за этого несколько лет назад достопочтенный и многоученый священник нашего прихода даже не допустил меня в церковь. Тогда я отправился к епископу и рассказал ему свою историю. Епископ немало подивился, но, будучи человеком широких взглядов, призвал священника и отменил его решение, полагая, так же, как и я, что господь не осудит слабого человека, если тот не может простить злодея, причинившего ему столько зла.
Однако довольно распространяться об этих вопросах совести!
Когда де Гарсиа исчез в бездне, я повернулся и пошел к дому. Вернее, не к дому, которого у меня больше не было, а к разрушенному городу, лежавшему далеко внизу.
Мне предстояло спуститься по ледяному склону, и это оказалось гораздо труднее, чем подняться. Теперь, когда месть свершилась, я стал словно другим человеком, таким же, как все, измученным и угнетенным. Мне было так горько, что, право же, если бы я оступился на льду, я не стал бы об этом жалеть.
Но я не оступился и в конце концов достиг снежного покрова, где идти было много легче. Итак, я сдержал свою клятву и отомстил. Но какой ценой! Я потерял свою невесту, любовь моей юности; двадцать лет я был вождем индейцев; я перенес все мыслимые лишения и невзгоды; я женился на женщине, которой нельзя было отказать в благородстве и возвышенной силе любви, как она это не раз доказывала, но которая при всем этом в глубине души оставалась дикаркой и во всяком случае — идолопоклонницей. И вот племя мое побеждено, прекрасный мой город разрушен, я нищ и бездомен, и великим счастьем будет, если в конце концов мне удастся избежать смерти или рабства. Но все это я мог бы перенести, ибо видывал еще и не то. Лишь с ужасной смертью своего последнего сына, единственной отрады моей одинокой жизни, я примириться не мог.
Любовь к детям стала единственной страстью моих зрелых лет. Я любил их, и они любили меня. Я воспитывал их сам с младенческих лет, и они были в душе англичанами, а не индейцами. Я научил их своему языку и своей вере, так что они стали не просто моими любимыми детьми, а моими соплеменниками. И вот несчастный случай, болезнь и меч отняли у меня всех троих, и я остался один.
Мы слишком много говорим о горестях нашей юности. Если наша любимая покидает нас, мы оглашаем весь свет рыданиями и клянемся, что жизнь нам теперь не в жизнь. Но только склоняясь в отчаянии над бездыханным телом своего ребенка, мы впервые познаем настоящее, страшное горе. Говорят, что время залечивает все раны. Это ложь.
Такое горе время не в силах изгладить. Я стар, и я это знаю.
И вот я упал на пустынный снежный склон вулкана, где до меня не ступала нога человеческая, и заплакал так, как мужчина плачет лишь однажды в жизни.
«Сын мой Авессалом! Сын мой, сын мой Авессалом! — взывал я вместе с библейским царем Давидом. — О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!».
[265]
Но скорбь моя была сильнее скорби того царя, ибо в течение нескольких лет я потерял не одного, а трех сыновей. Единственным моим утешением служила мысль, что этот царь уже много столетий назад встретился со своим сыном и я тоже когда-нибудь встречусь с моим. Слабое утешение, однако оно дало мне силы подняться и двинуться вниз к разоренному Городу Сосен.
Мне удалось до него добраться лишь на закате, потому что путь был неблизким, а я от слабости едва брел. У дворца меня встретил капитан Диас со своими товарищами. Когда я поравнялся с ними, солдаты молча сняли шляпы из уважения к моему горю, и только Диас спросил:
— Убийца умер?
Я кивнул и прошел мимо них в свою комнату, надеясь найти там Отоми.
Она сидела одна, холодная и прекрасная, словно статуя, высеченная из мрамора.
— Я похоронила сына рядом с прахом братьев и прадедов, — ответила Отоми на мой вопрошающий взгляд. — Твое сердце не выдержало бы, если бы ты его увидел.
— Да, да, — проговорил я, — но сердце мое уже разбито.
— Убийца умер? — спросила Отоми точно так же, как Диас.
— Умер.
— Как?
В нескольких словах я рассказал ей.
— Ты должен был убить его сам. Кровь нашего сына не отомщена.
— Да, я должен был убить его сам. Но в тот миг я не думал об отмщении, ибо видел, как оно поразило его свыше. Может быть, это и к лучшему. Я слишком дорого заплатил за свою месть и слишком поздно понял, что не должен был брать ее на себя. Есть высший судья.
— Неправда! — проговорила Отоми, и лицо у нее было при этом такое же, как в тот миг, когда она убивала тласкаланца, или презрительно отвечала Марине, или плясала на теокалли во главе жертвенного хоровода. — Я этому не верю. На твоем месте я бы изрезала его на куски и только потом отдала в лапы дьяволам — не раньше! Но что говорить об этом? Все кончено, все мертвы, и мое сердце тоже. Ты устал, поешь.
Я утолил голод, опустился на ложе и заснул.
В темноте я услышал голос Отоми:
— Проснись, я хочу с тобой поговорить!
В нем было нечто такое, что сразу пробудило меня от тяжкого сна.
— Говори, — отозвался я. — Где ты, Отоми?
— Рядом с тобой. Я не могла уснуть и сидела здесь. Слушай. Мы встретились много-много лет назад, когда Куаутемок привел тебя из Табаско, Ах, как хорошо я помню тот день! Впервые я увидела тебя при дворе моего отца Монтесумы в Чапультепеке, увидела и полюбила. Я любила тебя всегда. Меня-то не страшили чужие боги!
— Почему ты говоришь об этом, Отоми? — спросил я.
— Потому, что мне так хочется. Можешь ты подарить один час той, кто отдала тебе все? Тогда слушай. Помнишь, как ты оттолкнул меня? О, я думала, что умру от стыда, когда добилась, чтобы меня предназначили тебе в жены, в жены богу Тескатлипоке, а ты в ответ заговорил со мной о девушке за морем, об этой Лили, чье кольцо до сих пор у тебя на пальце. Но я это вынесла. Я полюбила тебя еще больше за твою честность, а остальное ты знаешь.
Ты стал моим, потому что я решилась лечь рядом с тобой на жертвенный камень. Тогда ты поцеловал меня и сказал, что любишь. Но ты никогда не любил меня до конца. Ты все время думал об этой Лили. Я знала это раньше, как знаю сейчас, хотя и старалась обмануть себя. В то время я была красива, а для мужчины это кое-что значит. Я была предана тебе, а это значит еще больше, и раз или два ты сам подумал, что любишь. Но сейчас я жалею, что теули подоспели вовремя и не дали нам умереть вместе на алтаре. Я жалею об этом только из-за себя. Мы спаслись, но для меня началась нескончаемая борьба.
Я уже сказала, что понимала и видела все. Ты поцеловал меня на жертвенном камне за какой-то миг до смерти. Но, когда ты вернулся к жизни, все снова изменилось. Лишь по воле судьбы ты женился на мне и принес клятву, которую сдержал до конца. Ты женился на мне, но ты не знал, кто твоя жена. Ты знал только, что я красива, нежна, верна тебе — все это так и было, — но ты не понимал, что я для тебя чужая, что я осталась такой же, какими были мои предки. Ты думал, я приняла твои обычаи, а может быть, даже и твою веру, потому что ради тебя я старалась это сделать. Но все это время я жила обычаями своего народа и никогда не могла позабыть своих богов. Они не дозволили мне, своей рабыне, уйти от них. Годами пыталась я их отринуть, но пришло время, и они отомстили мне. Сердце мое смирилось, вернее — боги смирили его, ибо я не помню и сама не знаю, что делала в ту ночь, когда ты увидел меня на теокалли во время жертвоприношения Уицилопочтли.
Все эти годы ты был верен мне, и я рожала тебе детей, которых ты любил. Но ты любил их только ради них самих, а не ради меня. В глубине души ты ненавидел мою кровь, которая смешалась с твоей в их жилах. Ведь ты и меня любил только наполовину. Эта жестокая половинчатая любовь едва не свела меня с ума. Но потом и она умерла, когда ты увидел, как я, охваченная безумием, свершала древний обряд моих предков на теокалли. Только тогда ты понял, кто я такая. Я дикарка!
И вот умерли наши дети, соединявшие нас. Они умерли по-разному — один за другим, ибо над ними тяготело проклятие моего рода. И вместе с ними умерла твоя любовь. Я одна осталась — живое напоминание о прошлом. Но теперь и я умираю.
Я пытался заговорить, но Отоми поспешно прервала меня:
— Нет, молчи и слушай! У меня слишком мало времени. Когда ты запретил мне называть тебя мужем, я поняла, что все кончено. Я повиновалась тебе, теуль. Я оторвала тебя от своего сердца, ты уже не муж мне, и скоро я перестану быть твоей женой. Но все же прошу тебя: выслушай! Сейчас ты удручен горем. Тебе кажется, что жизнь твоя кончена и что счастье уже невозможно. Но это не так. Ты в расцвете зрелых лет, и ты еще полол сил. Может быть, тебе удастся покинуть нашу разоренную землю, и, когда ты отряхнешь ее прах со своих ног, проклятие перестанет тяготеть над тобой. Ты вернешься в свою страну и встретишь ту, что ожидала тебя столько лет. И тогда далекая женщина, принцесса угасшего рода, превратится в смутное видение, и все эти годы, полные странных событий, будут казаться тебе только сном. Останется лишь любовь к умершим детям. Ты будешь любить их всегда, и мысль о них, тоска по мертвым, страшнее которой нет ничего на свете, будет преследовать тебя днем и ночью до конца твоей жизни, и я этому рада, ибо я была их матерью, и, думая о них, ты будешь иногда вспоминать обо мне. Это все, что оставила мне твоя Лили, и в этом я выше нее. Знай, теуль, она не родит тебе никого, кто бы мог затмить в твоем сердце любовь к моим детям!
О, я следила за тобой дни и ночи! Я видела, видела, как тоскуют твои глава по той, кого ты потерял, и по далекой земле твоей юности. Будь счастлив, ты увидишь родину и встретишь любимую! Борьба закончена: твоя Лили победила. Я слабею, мне трудно говорить, но осталось сказать немного. Мы расстаемся, наверное, навсегда. Что связывает нас, кроме душ наших мертвых сыновей? Ничто! Я не нужна тебе больше, и я довершу наш разрыв. В свой смертный час я отрекаюсь от твоего бога и возвращаюсь к богам моего народа, хоть и думала раньше, что ненавижу их. Мы расстаемся навеки, но, прошу тебя, не думай обо мне плохо, ибо я любила тебя и люблю. Я была матерью твоих сыновей; их ты сделал христианами и с ними, может быть, встретишься. Я люблю тебя по-прежнему. Я счастлива, потому что ты поцеловал меня на жертвенном камне и потому что я родила тебе сыновей. Они твои, моего в них немного. Мне кажется, я и любила их только потому, что они твои, а они любили одного тебя. Возьми же их, возьми их души, как ты взял у меня все остальное. Ты поклялся, что лишь смерть разлучит нас, и ты сдержал свою клятву на деле и в мыслях. Но теперь я ухожу в Обиталище Солнца, к моим предкам. Теуль! Я прожила с тобой много лет и видела много горя; я не могу сейчас назвать тебя мужем, потому что ты запретил мне это, но я говорю тебе, теуль, не насмехайся надо мной с твоей Лили! Не говори ей обо мне ничего, если сможешь… будь счастлив… и — прощай!
Последние слова Отоми звучали все слабее и слабее. Я слушал ее, застыв от удивления, а тем временем рассвет медленно разливался по комнате. Постепенно белая фигура Отоми выступила из темноты: она сидела в кресле, придвинутом вплотную к ложу, руки ее бессильно свисали, а голова была откинута на спинку кресла. Я вскочил на ноги и взглянул ей в лицо. Оно было холодным и бледным, и дыхание замерло у нее на устах. Я взял ее за руку — она была ледяной. Я громко окликнул Отоми, поцеловал ее в лоб, но она не шевельнулась и не ответила. Вскоре рассвело, и я увидел, что произошло. Отоми была мертва. Она ушла из жизни сама, приняв яд, тайна которого известна только индейцам. Он действует медленно и безболезненно, сохраняя до конца полную ясность мысли. Лишь когда жизнь уже покидала ее, Отоми заговорила со мной так печально и горько.
Я сел на ложе, не сводя с нее глаз. Плакать я не мог — у меня не осталось слез, и, как я уже говорил, ничто не могло нарушить моего странного спокойствия. Печаль и огромная нежность переполняли меня. В тот час я любил Отоми сильнее, чем когда бы то ни было, сильнее, чем живую, и этим уже сказано многое. Я словно вновь видел ее в расцвете юности, такой, какой она была при дворе своего царственного отца, я видел ее глаза, когда она встала рядом со мной на жертвенный камень, я вспоминал ее взгляд, который не дрогнул перед гневом императора Куитлауака, обрекавшего меня на смерть. Я снова слышал ее горестный вопль над телом нашего первенца, и я видел ее с мечом в руках над убитым тласкаланцем.
Многое воскресло в моей памяти в тот печальный рассветный час, когда я сидел и смотрел на мертвую Отоми. В ее словах была правда: я не мог забыть свою первую любовь и часто мечтал о том, чтобы увидеть Лилино лицо. Но Отоми была не права, когда говорила, что я ее не любил. Я любил ее от души и был верен своей клятве. Но только тогда, когда она умерла, я понял по-настоящему, как она мне была дорога. Да, между нами лежала пропасть, становившаяся с годами все шире. Нас разделяли раса и религия, ибо я знал, что Отоми никогда не могла до конца отказаться от своих старых суеверий. Да, когда я увидел, как Отоми запевает песнь смерти, меня объял ужас, и какое-то время она была мне отвратительна. Но я все простил бы ей, потому что это было у нее в крови, к тому же последний и самый худший проступок она совершила помимо своей воли. И если забыть все это, оставалась прекрасная, благородная женщина, достойная величайшей любви и уважения, женщина, которая долгие годы была моей верной женой.
Так размышлял я в тот час и так думаю сегодня. Отоми сказала, что мы расстаемся навсегда, но я верю и надеюсь, что это не так. Ибо знаю, что нам обоим простится многое, и те, кто были дороги и близки друг другу здесь, на земле, когда-нибудь встретятся в ином мире.
Наконец я поднялся, чтобы позвать на помощь, и только тогда почувствовал что-то тяжелое у себя на шее. Это было ожерелье из крупных изумрудов, которое Куаутемок дал мне, а я подарил Отоми. Она надела его на меня, пока я спал, — ожерелье и привязанную к нему прядь своих длинных волос. С этими двумя вещами я не расстанусь и в могиле.
Я схоронил Отоми в древней усыпальнице, рядом с прахом ее предков и телами наших детей. Через два дня после этого я выехал вместе с отрядом Берналя Диаса в Мехико. У входа в ущелье я оглянулся на развалины Города Сосен, где прожил столько лет и похоронил всех, кто был мне дорог. Я смотрел назад печально и долго, как смотрит умирающий, оглядываясь на свою прошедшую жизнь, пока, наконец, Диас не положил руку мне на плечо.
— Вы теперь одиноки, друг мой, — сказал он. — Что вы собираетесь делать?
— Ничего, — ответил я. — Мне остается лишь умереть.
— Никогда не говорите так! — возразил он. — Вам только сорок, а мне далеко за пятьдесят, и все-таки я не говорю о смерти. Послушайте, у вас есть друзья в Англии?
— Были.
— В мирных странах люди живут долго. Возвращайтесь к ним! Я постараюсь переправить вас в Испанию.
— Хорошо, подумаю, — ответил я.
В положенный срок мы добрались до Мехико, нового и чужого мне города, перестроенного Кортесом.
Там, где некогда возвышался теокалли, на котором меня должны были принести в жертву, возводили теперь собор, укладывая в его фундамент уродливых ацтекских идолов. Город был по-прежнему хорош, но уже не так прекрасен, как Теночтитлан Монтесумы, и таким он никогда не будет. Жители его тоже изменились: тогда это были свободные воины, а теперь — рабы.
В Мехико Диас нашел для меня пристанище. Уважая полученное мной помилование, никто меня не преследовал. Я был конченым человеком и никому не внушал опасений. О моем участии в «Ночи печали» и в защите города позабыли, а история пережитых мной злоключений вызывала сочувствие даже у испанцев. В Мехико я провел десять дней, грустно блуждая по улицам и по склонам холма Чапультепека, где прежде стоял загородный дворец Монтесумы, в котором я впервые встретил Отоми. От былого великолепия не осталось ничего, кроме нескольких древних кедров.
На восьмой день меня остановил на улице индеец. Он сказал, что со мной хочет повидаться один старый друг. Я последовал за ним, удивляясь про себя, кто бы это мог быть, потому что у меня друзей не осталось. Индеец привел меня в красивый каменный лом на одной из новых улиц. Здесь мне пришлось немного подождать, сидя в затемненной комнате. Неожиданно кто-то обратился ко мне на ацтекском языке:
— Здравствуй, теуль.
Голос, печальный и нежный, показался мне знакомым. Я поднял глаза. Передо мной стояла индеанка в испанской одежде, еще красивая, но слабая и словно измученная какой-то болезнью или горем.
— Ты не узнаешь Марину, теуль? — спросила она, и я вспомнил ее, прежде чем она договорила. — А вот я тебя с трудом, но узнала. Да, теуль, горе и время изменили нас обоих.
Я взял ее руку и поцеловал.
— Где Кортес? — спросил я. Дрожь пронизала все ее тело.
— Кортес в Испании, ведет свою тяжбу. Он женился там на другой, теуль. Много лет назад он прогнал меня и отдал в жены дону Хуану Харамильо, который женился на мне из-за денег. Кортес был щедр к своей оставленной любовнице!
И Марина заплакала.
Постепенно я узнал всю ее историю, но здесь я не стану о ней писать — она и так известна всему свету! Когда Марина сыграла свою роль и уже ничем не могла больше помочь конкистадору, он ее бросил. Марина рассказала мне, какие муки ей пришлось пережить и о том, как она прокричала в лицо Кортесу, что отныне ему ни в чем не будет удачи. Пророчество ее сбылось.
Мы проговорили часа два с лишним. Выслушав ее повесть, я начал рассказывать о себе, и она плакала от жалости. Несмотря ни на что, у Марины было доброе сердце.
Затем мы расстались, чтобы уже никогда не встретиться. Но прежде чем я ушел, Марина заставила меня взять в подарок немного денег, и я принял эту милостыню без стыда, ибо я был нищ и мне нечего было стыдиться.
Так сложилась судьба Марины. Ради любви она изменила родине, и что получила она в награду за свою любовь и измену? Но для меня ее память, память о добром друге, навсегда останется священной. Ведь Марина дважды спасла мне жизнь и не покинула меня даже тогда, когда Отоми оскорбила ее самыми жестокими словами.
Глава XXXIX
ТОМАС ВОСКРЕСАЕТ ИЗ МЕРТВЫХ
На следующий день после встречи с Мариной ко мне зашел капитан Диас. Он сказал, что один из его друзей командует каракой, которая через десять дней отплывает из Веракрус в Кадис, и что, если я хочу покинуть Мехико, этот друг охотно возьмет меня на свое судно. Немного подумав, я ответил, что отправлюсь в путь, и распрощался с капитаном Диасом — дай бог ему счастья! Он был одним из немногих хороших людей среди всех этих испанских мерзавцев.
В компании нескольких купцов я навсегда покинул Мехико и примерно через неделю благополучно добрался через горы до Веракрус. Это нездоровый город, с жарким климатом и ненадежной гаванью, открытой всем яростным северным ветрам. Здесь я вручил свои рекомендательные письма капитану караки, и тот без дальнейших расспросов предоставил мне место. Немедля я переправил на корабль запас провизии на время всего плавания.
К концу третьего дня мы отплыли с попутным ветром, а на рассвете вдали виднелась только снежная вершина вулкана Орисаба — последнее видение Анауака. Но вот и оно исчезло за облаками, и я простился с далекой землей, на которой со мной произошло так много событий и которую, по моим подсчетам, я впервые увидел ровно восемнадцать лет назад, в этот же самый день.
За время нашего плавания до Испании ничего примечательного не случилось. Протекало оно гораздо благополучнее многих подобных путешествий. Подняв якорь в гавани Веракрус, мы через два месяца и десять дней бросили его в кадисском порту — вот и все.
В Кадисе я провел всего два дня. Мне повезло! В порту стоял английский корабль, направлявшийся в Лондон, и я купил на нем место пассажира, хотя мне пришлось для этого предать самый маленький изумруд из ожерелья, потому что все деньги, врученные мне Мариной, к тому времени уже вышли. Я продал изумруд за немалую сумму, приоделся, как подобает знатному человеку, а остаток золота взял с собой. По правде говоря, мне было жаль расставаться с этим камнем, хоть это и был всего-навсего подвесок к кулону ожерелья, но нужда заставила. Сам кулон, прекрасный изумруд с небольшим изъяном, я подарил много лет спустя ее величеству всемилостивейшей королеве Елизавете.
На английском судне все меня принимали за испанского авантюриста, разбогатевшего в Вест-Индии, и я не старался опровергнуть это мнение. По крайней мере меня оставили в покое, так что я мог внутренне подготовиться к встрече с давно забытыми обычаями и условностями. Так я и сидел в одиночестве, словно какой-нибудь гордый идальго, стараясь поменьше говорить и побольше слушать, чтобы узнать обо всем, что произошло в Англии за двадцать лет моего отсутствия.
Наконец, и это плавание закончилось. Двенадцатого июня я высадился в славном городе Лондоне, где до этого дня еще не бывал, и, преклонив колени в комнате гостиницы, возблагодарил бога за то, что после бесчисленных превратностей и испытаний он дозволил мне вновь ступить на английскую землю. Поистине самым большим чудом мне казалось тогда мое слабое человеческое тело, пережившее столько боли, болезней, лишений и ран, столько смертоносных ударов и пыток и все-таки устоявшее перед яростью диких зверей и людской злобой, преследовавшей меня в течение долгих лет.
В Лондоне с помощью хозяина гостиницы я купил доброго коня и на рассвете следующего дня выехал из города. В то утро мне суждено было пережить последнее приключение. Когда я трусил по Ипсвичской дороге, любуясь английским пейзажем и жадно вдыхая сладкий воздух июня, какой-то трусливый грабитель, спрятавшийся за изгородью, выстрелил мне в спину из пистолета. Он надеялся убить меня и обобрать, но пуля пробила шляпу, лишь слегка оцарапав голову. Я не успел ничего сделать. Подлый вор, заметив, что промахнулся, исчез, а я поехал дальше, раздумывая над тем, что поистине было бы удивительно, если бы после стольких страшных опасностей я погиб от руки презренного оборванца в пяти милях от Лондона.
Я ехал быстро весь этот день и следующий. Конь мне попался ходкий и сильный, так что к половине восьмого вечера он уже вынес меня на тот самый холм, с которого я в последний раз оглянулся на Банги, когда уезжал в Ярмут вместе с отцом. Внизу раскинулись красные кровли городка, справа зеленели дитчингемские дубы и возвышалась красивая башенка церкви Святой Марии, вдалеке струился поток Уэйвни, а прямо передо мной простирались луга, покрытые золотисто-багряным ковром болотных цветов. Все осталось, как прежде, ничто не изменилось, кроме меня самого.
Я слез с седла, подошел к пруду у края дороги и склонился над ним, вглядываясь в отражение своего лица. Да, действительно, я изменился! Во мне почти ничего не сохранилось от того славного парня, что проехал по этой дороге двадцать лет назад. Глаза мои запали и погрустнели, черты лица заострились, а на голове и в бороде — увы! — черных волос осталось меньше, чем седых. Я и сам бы себя не узнал, так что вряд ли меня узнают другие. Да и есть ли кому меня узнавать? За двадцать лет одни, наверное, умерли, другие исчезли. Найду ли я вообще хоть одного живого друга? Ведь с тех пор, как я получил письма, доставленные капитаном «Авантюристки» Баллом перед моим отплытием на Эспаньолу, я не имел из дома никаких вестей. Что меня ожидает? И главное, что с Лили? Может быть, она уже умерла, уехала или вышла замуж?
Я вскочил на коня и пустил его легким галопом мимо Вингфордских Мельниц. Проехав через броды, а затем по улицам Пирнхоу, я оставил Банги левее и через десять минут очутился перед воротами, за которыми начиналась пешеходная тропинка. Она вела от нориджской дороги к подножию холма и там, на лесистом склоне, всего в полумиле от меня, виднелся мой дитчингемский дом.
У ворот парка, наслаждаясь последними лучами вечернего солнца, стоял какой-то человек. Вглядевшись попристальней, я узнал его. Это был Билли Миннс, тот самый дурачок, который выпустил де Гарсиа, когда я, оставив его связанным, поспешил к своей возлюбленной. Теперь он был уже стариком с седыми космами, свисающими вокруг морщинистого лица. Но, несмотря на его грязь и подозрительные лохмотья, я так обрадовался, что едва не бросился к нему на шею, чтобы расцеловать, — ведь он был одним из тех, кого я знавал в юности!
Заметив меня, Билли Миннс заковылял со своей палочкой к воротам, открыл их передо мной и стал заунывным голосом выклянчивать милостыню.
— Здесь живет мистер Вингфилд? — спросил я, указывая вдаль на тропинку, и сердце мое учащенно забилось в ожидании ответа.
— Мистер Вингфилд, сэр? Какого вам надо Вингфилда? Старый господин преставился почитай лет двадцать назад. Я сам помогал рыть его могилу, да, да! Там он и лежит рядом с женой, той, которую убили. Значит, вам надо мистера Джеффри?
— Он здесь? — спросил я.
— Он тоже умер вот уже лет двенадцать с лишком. Упился до смерти, да, да! И Мистер Томас тоже помер, говорят, утоп где-то в море. Много зим прошло с той поры, да, да! Все они умерли, все! Ох и парень был этот мистер Томас! Как сейчас помню, отпустил я одного человека, не из здешних, а он… — и тут Билли пустился в воспоминания о том, как он посадил избитого мной де Гарсиа на лошадь. Остановить его было невозможно. Я бросил ему монету, пришпорил своего усталого коня и поскакал по узкой тропинке.
Глухой стук копыт отдавался в моих ушах, как отзвук слов старика: «Все умерли, все умерли!» И Лили, наверное, тоже умерла. А если и не умерла, то, конечно, вышла за кого-нибудь замуж, когда услышала, что я утонул в море. На такую красавицу всегда найдутся охотники. Не губить же ей жизнь, оплакивая погибшую любовь своей юности!
Но вот передо мной наш старый дом. Он почти не изменился, только плющ и вьюнки на фасаде разрослись и дотянулись до самой крыши. Судя по дыму над трубами и отменному порядку во всем, в доме кто-то жил.
Ворота оказались на запоре, а за оградой не было видно ни души. Надвигалась ночь, и слуги, по-видимому, закончили уже свою работу.
Свернув налево, я подъехал к задней стороне дома, где под склоном холма стояли конюшни, но и здесь ворота были заперты. Не зная, что делать дальше, я слез с седла. Сомнения и страхи лишили меня последнего мужества. Я оставил коня пастись на траве у ворот, а сам побрел по тропинке к церкви, беспрестанно поглядывая на вершину холма впереди в надежде кого-нибудь встретить.
«Что, если умерли все? — думал я. — Что, если она умерла тоже?»
Я спрятал лицо в ладони и воззвал к небесам, хранившим меня все эти годы, умоляя избавить меня от последнего горького разочарования. Я был подавлен скорбью и чувствовал, что больше не в силах вынести. Если Лили тоже для меня потеряна, мне остается только одно — умереть, потому что жить уже незачем.
Так я молился некоторое время, дрожа, словно лист на ветру. Потом я открыл лицо и повернул к дому, чтобы расспросить его обитателей и узнать правду, какой бы она ни была. В это время закат догорел, и в наступившей темноте повсюду защелкали соловьи. Я остановился. Соловьиные трели пробудили во мне какое-то смутное воспоминание, но о чем — я не мог понять. И вдруг я вспомнил.
Я вновь увидел Теночтитлан, великолепные покои во дворце Монтесумы и себя самого, спящего на золотом ложе. Я знал, что я бог Тескатлипока и наутро меня принесут в жертву. Я спал, измученный я удрученный, и видел сон. Я видел во сне, будто стою на том самом месте, где стоял сейчас, и запах наших цветов щекочет мне ноздри, как в эту ночь, и сладкие соловьиные песни звучат точно так же, как звучали они в моих ушах. Мне снилось, что, пока я стоял и слушал соловьев, над зелеными кронами дубов и ясеней взошла луна, — вот, вот она уже сияет в небесах. Мне снилось, что чей-то голос запел за холмом, но тут я пробудился от давно забытых видений прошлого.
Не во сне, а наяву услышал я на холме нежный женский голос. Нет, я не сошел с ума. Я слышал его ясно, и с каждой минутой он приближался, словно певица спускалась вниз по крутому склону. Скоро она была уже так близко, что я разобрал слова той самой грустной песенки, которую помню до сих пор.
При лунном свете я увидел фигуру высокой, статной женщины в белом платье. Она подняла голову, провожая главами тень летучей мыши и свет луны упал на ее лицо. Это было лицо моей утраченной любимой, лицо Лили Бозард. Прекрасное, как прежде, оно постарело совсем немного, но глубокая грусть наложила на него свой отпечаток. При виде этого лица я был так потрясен, что едва удержался на ногах, вцепившись в низенький палисадник, а из груди моей вырвался глубокий стон.
Услышав мой стон, женщина оборвала песню и, разглядев мужскую фигуру, повернулась, собираясь бежать. Однако я не шевельнулся, и любопытство превозмогло ее страх. Она подошла поближе я негромким, нежным голосом, который я так хорошо знал, спросила:
— Кто это бродит здесь так поздно? Это ты, Джон?
При этих словах прежние опасения вновь проснулись во мне. Ну, конечно, она замужем, и мужа зовут Джон! Я нашел ее только для того, чтобы потерять безвозвратно.
И тут мне пришла мысль не открывать своего имени, пока не узнаю всю правду. Я шагнул вперед, стараясь оставаться в тени высоких кустов, и, держась спиной к лунному свету, отвесил низкий поклон на испанский манер. После этого я заговорил на ломаном английском языке с испанским акцентом, который здесь не стану воспроизводить.
— Сеньора! — сказал я. — Я имею честь говорить с той, кого некогда называли Лили Бозард, не правда ли?
— Да, меня так называли, — ответила она. — Что вам от меня угодно?
Я снова вздрогнул, но справился с собой и смело продолжал:
— Прежде чем ответить, разрешите, сеньора, задать вам один вопрос. Вы все еще носите это имя?
— Да, я не замужем, — проговорила она, и на мгновение небо закружилось над моей головой, а земля под ногами заколебалась, словно покрытый лавой склон вулкана Хака. Но я решил не открывать своего имени, пока не узнаю, любит ли она меня по-прежнему.
— Сеньора, — сказал я. — Я испанец, один ив тех, кто во время войны с индейцами служил у Кортеса, о котором вы, наверное, слышали.
Лили кивнула, и я продолжал:
— Во время этой войны я встретил одного человека, его называли «теуль». Но два года тому назад на смертном одре он сказал мне, что раньше у него было другое имя.
— Какое имя? — тихо спросила Лили.
— Томас Вингфилд.
Теперь она в свою очередь громко вскрикнула и уцепилась за палисадник, чтобы не упасть.
— Я считала его мертвым целых восемнадцать лет, — проговорила Лили, задыхаясь. — Я думала, он утонул в море во время кораблекрушения…
— Да, я слышал, что он попал в кораблекрушение, сеньора, но он избежал смерти и очутился среди индейцев. Они сделали из него бога я дали ему в жены дочь своего императора.
Здесь я остановился. Лили вздрогнула и сказала ледяным тоном:
— Продолжайте, сэр, я вас слушаю.
— Мой друг теуль участвовал в индейской войне. Как муж одной из принцесс, он долгие годы честно и храбро сражался на стороне индейцев. Наконец, город, который он защищал, был взят, его единственный оставшийся в живых сын убит, жена его, принцесса, покончила с собой от горя, а сам он попал в плен и через некоторое время тоже умер.
— Печальный рассказ, сэр, — проговорила Лили с коротким смешком, похожим на рыдание.
— Очень печальный, сеньора, но он еще не окончен. Перед смертью мой друг рассказал мне кое-что из своей прежней жизни. Он был обручен с одной англичанкой по имени…
— Я знаю это имя, продолжайте!
— Он сказал мне, что хотя и был женат на другой и любил свою жену принцессу, поистине царственную женщину, которая не раз рисковала для него своей жизнью и даже по собственной воле легла рядом с ним на жертвенный камень, но, несмотря на все это, он никогда не забывал ту, с кем был некогда обручен. Память о ней он пронес через всю жизнь и с новой силой вспомнил о ней в смертный час. Поэтому во имя нашей дружбы он попросил меня, когда я вернусь в Европу, найти его невесту, если она жива, и передать ей его последние слова и его последнюю просьбу.
— Какие слова и какую просьбу? — прошептала Лили.
— Он просил сказать, что на закате жизни любил ее так же сильно, как в юности, и что он умоляет ее простить его за то, что он нарушил клятву, которую оба они дали под старым дитчингемским буком.
— Сэр! — вскричала Лили. — Что вы об этом знаете?
— Только то, что мне рассказал мой друг, сеньора.
— Должно быть, вы были близкими друзьями, — пробормотала она. — И, по-видимому, у вас хорошая память.
— Мой друг нарушил свою клятву при необычных обстоятельствах, — продолжал я, — настолько необычных, что он даже в лучшем мире не надеялся вновь связать расторгнутые узы. И еще он просил, чтобы невеста сказала мне, его посланнику, прощает ли она и любит ли по-прежнему, как он любил ее до самой смерти.
— А какой толк мертвецу от моего прощения или признания? — спросила Лили, стараясь разглядеть меня в полумраке. — Разве у мертвых есть уши, чтоб слышать, и глаза, чтоб видеть?
— Откуда я знаю, сеньора?
Я только выполняю поручение.
— А откуда я знаю, что вы действительно выполняете поручение? Может быть, мне раньше говорили правду, и Томас Вингфилд утонул много лет назад! Вся эта повесть об индейцах и принцессах слишком необычна. Она скорее похожа на те волшебные истории, которые случаются только в романах, а не в нашей скучной действительности. Чем вы докажете истинность ваших слов? Есть у вас такое доказательство?
— Да, сеньора. Но здесь слишком темно, и вы не сможете его разглядеть.
— В таком случае следуйте за мной, в доме найдется свет. Подождите только немного.
Она повернулась к воротам конюшни и еще раз позвала:
— Джон! Джо-о-он!
Ей ответил какой-то старик, и я узнал голос одного из слуг моего отца. Лили что-то сказала ему тихонько, а затем повела меня по садовой дорожке к парадному входу в дом. Отворив дверь своим ключом, она сделала мне знак пройти первым. Я повиновался. По привычке, не думая ни о чем, я свернул в знакомую мне с детства гостиную, перешагнул, не запнувшись, через высокий порог и, добравшись в темноте до большого камина, остановился перед ним. Лили внимательно наблюдала за мной. Затем, раздув угли, еще теплившиеся в камине, она зажгла маленькую свечку и поставила ее на стол у окна. Мне пришлось снять шляпу, но лицо мое все равно оставалось в тени.
— А теперь, сэр, прошу вас представить ваше доказательство.
Я снял с пальца заветное колечко и подал Лили. Она присела к столу, внимательно разглядывая его возле свечи. И, пока она сидела так, я увидел, что она все еще очень красива: время почти не тронуло ее, хотя ей шел уже тридцать восьмой год, и только лицо стало печальнее. Я заметил также, что, хотя она и старалась не выдавать своих чувств, грудь ее при виде кольца задышала быстрее, а рука дрогнула.
— Я вам верю, — проговорила она наконец. — Мне знакомо это кольцо; его носила еще моя мать. Правда, когда я видела его в последний раз, оно не было таким стертым. Много лет назад я дала его как залог любви одному юноше. Я обещала стать его женой. Теперь я не сомневаюсь, сэр, в том, что вы мне рассказали. Благодарю вас за любезность — вам пришлось для этого проделать немалый путь. Да, печальная история, очень печальная! Но, прошу меня извинить, я не могу вас оставить в этом доме — я живу здесь одна. Поблизости нет гостиниц, поэтому я прикажу отвести вас к моему брату. Это недалеко, в какой-нибудь миле отсюда. Вас проводят… — и, чуть помедлив, закончила: — …если вы не знаете дороги. Там вас примут как следует, а кроме того, там вы увидите сестру своего покойного товарища, Мэри Бозард, которая, несомненно, захочет услышать рассказ о его странных приключениях из ваших уст.
Я склонил голову и сказал:
— Сначала, сеньора, я хотел бы услышать ответ на последние слова и последнюю просьбу моего покойного друга.
— Отвечать мертвым? Это ребячество, сэр!
— И все же, прошу вас ответить. Я только выполняю поручение. Что написано на этом кольце?
Пускай мы врозь, зато душою вместе, — ответил я, не задумываясь, и тут же едва не прикусил себе язык за такую оплошность.
— О, вы знаете даже это! По-видимому, вы носили кольцо много месяцев и выучили надпись. Хорошо, сэр, я отвечу. Мы были далеко друг от друга, однако память о том, кто носил это кольцо, я хранила в сердце и ради него осталась одинокой. Но он свое сердце отдал другой — какой-то дикарке, которая стала его женой и матерью его детей. Поэтому я отвечу так на просьбу вашего покойного друга: я прощаю его, но от клятвы, которую дала, отказываюсь отныне и навсегда, как это сделал он, а кроме того, постараюсь забыть свое чувство к нему, которое он отверг и унизил.
Лили поднялась, сделала руками движение, словно вырвала что-то из груди, и уронила кольцо на пол.
Сердце мое замерло. Вот, значит, чем все это кончилось! Конечно, она была права, но теперь я жалел о том, что сказал ей всю правду, ибо женщины зачастую охотнее прощают ложь, чем подобную искренность.
Я не мог говорить — язык у меня словно отнялся. Смертельная усталость овладела мной, усталость и горечь. Я нагнулся, отыскал кольцо и, надев его на палец, пошел к дверям, бросив последний взгляд на эту отвергнувшую меня женщину. У порога я на мгновение остановился, раздумывая, не сказать ли ей, кто я, но тут же решил, что если она не простила мертвого, то вряд ли она сжалится надо мной живым. Нет, для нее я мертвец, и я останусь мертвецом.
Я уже перешагнул порог, как вдруг позади послышался Лилин голос, нежный и добрый:
— Томас, — произнес этот голос, — Томас, может быть, перед уходом ты примешь у меня отчет за те деньги, имущество и землю, которые ты мне доверил?
Пораженный, я обернулся и замер. Лили медленно шла ко мне, раскрыв объятия.
— О, глупый, глупый! — прошептала она. — Неужели ты думал обмануть женское сердце? Ведь ты говорил о буке в нашем саду, ты так легко нашел дорогу в этой темной комнате, ты прочел надпись голосом того, кто давно уже умер. Слушай: я прощаю своему другу нарушенную клятву, потому что он честно признался во всем, потому что мужчине трудно прожить одному столько лет и потому, что в неведомых странах со всяким могут случиться необычайные дела. И еще скажу: я все еще люблю его так же, как он меня. Только я, пожалуй, стара для любви, которой ждала так долго и уже не надеялась дождаться на этом свете.
Так говорила Лили, всхлипывая у меня на груди, пока не затихла в моих объятиях. Наши губы встретились.
И в этот миг я увидел перед собой Отоми, вспомнил ее прощальные слова и то, как она покончила с собой ровно год назад в тот же самый день.
Хорошо, что мертвые не видят живых!
Глава XL
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осталось досказать немногое. Повесть моя подходит к концу, и я этому рад, ибо мне, дряхлому старику, писать очень трудно, так трудно, что прошлой зимой я думал не раз, что уже не сумею ее завершить.
Некоторое время мы с Лили сидели молча в той самой комнате, где я сейчас пишу. Огромная радость и другие нахлынувшие с нею чувства мешали нам говорить. А потом, словно движимые единым порывом, мы упали на колени и возблагодарили судьбу за то, что она дозволила нам обоим дожить до этой необычайной встречи.
Едва мы поднялись, как снаружи послышался какой-то шум, и в комнату вошла полная дама в сопровождении представительного джентльмена и двух детей, мальчика и девочки. Это были моя сестра Мэри, ее муж Уилфрид Бозард и их дети — Роджер и Джоанн. Узнав меня, Лили сразу послала к ним старого Джона, шепнув ему, что приехал один человек, которого они все будут рады видеть, и они поспешили явиться, даже не подозревая, кто их ждет.
Сначала они ничего не могли понять и в недоумении стояли посреди комнаты, соображая, кем бы мог быть этот чужестранец. Я действительно сильно изменился, да и свет был тусклый.
— Мэри! — заговорил я наконец. — Мэри, сестра, ты не узнаешь меня?
Громко вскрикнув, она бросилась мне в объятия и разрыдалась, как сделала бы на ее месте каждая женщина, если бы ее любимый брат, которого все считали погибшим, вдруг вернулся целым и невредимым, а Уилфрид Бозард тем временем держал меня за руку и отчаянно чертыхался от избытка чувств, как это делают в подобных случаях все мужчины. Только дети стояли в стороне и смотрели на меня, ничего не понимая. Я подозвал к себе девочку. Сейчас она очень походила на ту Мэри, которую я знавал когда-то. Я поцеловал маленькую Джоанн и сказал, что я ее дядя, о котором ей, наверное, говорили, будто он умер много лет назад.
Но вот моего позабытого всеми коня поймали и завели в конюшню, а затем мы уселись за стол. Странным показался мне этот ужин — все было так непривычно! А когда он кончился, я приступил к расспросам.
Только сейчас я узнал, что все состояние, завещанное мне моим старым другом Фонсекой, прибыло в полной сохранности и неизмеримо умножилось благодаря заботам Лили. Она почти ничего не тратила на себя, считая, что эти деньги ей отданы на хранение и не являются ее собственностью. Когда слух о моей гибели, казалось бы, подтвердился, Мэри унаследовала свою долю и с помощью этих средств прикупила соседние земли в Иршеме и Хиденгеме, а также лес и поместье Тиндэйл-Холл в Дитчингеме и Бруме. Я поспешил сказать, что дарю ей эти земли, потому что и без них у меня всякого добра более чем достаточно. Эти слова особенно понравились ее мужу Уилфриду Бозарду. Легко ли расставаться с тем, что в течение многих лет привык считать своей собственностью!
Затем мне рассказали обо всем остальном: о том, как умер мой отец; о том, как нежданное прибытие золота спасло Лили от замужества с моим братом Джеффри; о том, как после этого мой братец покатился вниз по недоброй дорожке и скончался тридцати одного года от роду; и о смерти Лилиного отца, моего старого недруга сквайра Бозарда, умершего от удара во время внезапного приступа ярости. Уже после его смерти Лилин брат женился на Мэри, а сама Лили, расплатившись с долгами моего брата и выкупив у Мэри ее права, перебралась в наш старый дом. Здесь она и жила все эти годы, жила одиноко и грустно, находя утешение в благотворительности. Как она сама мне призналась, если бы не состояние и не обширные земли, оставшиеся на ее попечении, она ушла бы в монастырь и прожила бы там остаток дней, чтобы не влачить безрадостное существование «вдовой невесты». Я для нее был потерян, и она считала меня мертвым с тех пор, как до Дитчингема дошли вести о гибели караки, а выходить замуж за кого-нибудь другого она не собиралась, хотя многие достойные люди добивались ее руки.
Если не считать еще кое-каких новостей, вроде рождения или смерти детей, да описания сильной бури и наводнения, затопившего Банги и долину Уэйвни, это было все, что могли рассказать мои близкие, дожившие до зрелых лет в полном покое. Политические дела, такие, как смерть или коронация королей, падение власти папы римского или продолжавшееся повсеместно разграбление монастырей, я оставляю в стороне, ибо им здесь не место.
Но вот пришла моя очередь, и я начал все с самого начала. Стоило поглядеть на лица моих слушателей! Всю ночь напролет, пока не смолкли соловьиные трели и на востоке не занялась заря, я сидел рядом с Лили, рассказывал свою историю, но так и не успел ее закончить. Мы улеглись спать в приготовленных для нас комнатах, а наутро я продолжил рассказ. В подтверждение моих слов я показал меч Берналя Диаса, большое изумрудное ожерелье, которое мне дал Куаутемок, и некоторые свои рубцы и шрамы. Никогда еще я не видел таких удивленных лиц! Когда я говорил о последней жертве женщин племени отоми, о том, как погиб де Гарсиа, сражаясь со своей тенью, или, вернее, с видениями, порожденными его жестокой душой, мои слушатели вскрикивали от ужаса, а когда я рассказывал о смерти Изабеллы де Сигуенса, Куаутемока и моих сыновей, они рыдали от жалости.
Но всего я не мог рассказать. О том, что у нас было с Отоми, я поведал только Лили, и с ней я был откровенен, как мужчина с мужчиной, потому что чувствовал: если я что-нибудь утаю от нее сейчас, между нами уже никогда не будет полного доверия. Я не стал от нее скрывать ни своих сомнений и колебаний, ни того, что я полюбил Отоми, чья красота и нежность поразили меня при первой встрече во дворце Монтесумы, ни того, что произошло между нами на жертвенном камне.
Когда я кончил, Лили поблагодарила меня за честность и сказала, что мужчины, как видно, отличаются в таких делах от женщин, ибо ей, например, не было нужды бороться с искушениями. Но раз уж мы такие от бога и от природы, упрекать нас не за что и ей хвастаться нечем. Что касается Отоми, то эта дикарка, если простить ей грех идолопоклонства, была, по-видимому, великодушной женщиной, хотя и кокеткой, умеющей завлекать сердца мужчин, и что, например, она, Лили, никогда бы не осмелилась ради любви сделать то, что сделала Отоми. Но в конце концов, насколько Лили понимает, мне пришлось выбирать между женитьбой и смертью, так что я вынужден был принести великую клятву, а потом, когда опасность миновала, с моей стороны было бы просто непорядочно оставить свою жену. Поэтому она, Лили, предпочитает больше не говорить об этих делах и даже обещает не ревновать, если я когда-нибудь помяну покойницу добрым словом.
Все это Лили высказала мне очень нежно, глядя на меня своими чистыми и ясными, поистине ангельскими глазами. Слезы блистали в них, когда я поведал ей о тягчайшем горе, которое принесла мне смерть моего первенца и других сыновей, Лишь несколько лет спустя, когда Лили потеряла надежду иметь своих детей, она начала меня ревновать к моим мертвым сыновьям.
Весть о моем возвращении и о моих необычайных приключениях среди индейцев распространилась по всей округе. Люди приезжали даже из Нориджа и Ярмута, и все заставляли меня повторять мой рассказ, так что под конец мне это надоело.
В церкви Святой Марии в Дитчингеме я заказал благодарственный молебен за свое спасение на суше и на море, отслужив его уже не по римским канонам, ибо за время моего отсутствия католические святые пали точно так же, как боги Анауака. Англия сбросила ярмо Рима, и я в отличие от некоторых был этому рад от души, потому что достаточно насмотрелся на жестокость попов.
По окончании службы, когда все разошлись, я вернулся в опустевшую церковь из дома Бозардов, где жил на правах гостя, пока мы с Лили не поженились. Был мирный июньский вечер. Я преклонил колени на плите, под которой покоился прах моего отца и матери, и душа моя устремилась к небесам, где они нашли вечное успокоение. Великая тишина снизошла на меня. Я понял, каким безумием была моя клятва отомстить де Гарсиа, ибо на этом древе, словно листья, выросли все мои злоключения. Но от этого моя ненависть к де Гарсиа не уменьшилась. Может быть, лучше было предоставить отмщение богу, но я не мог и до сих пор не могу простить убийцу моей матери.
У маленькой боковой двери я встретил Лили: она знала, что я в церкви.
— Лили, — заговорил я. — Я хочу тебя спросить, согласна ли ты выйти замуж за такого недостойного человека, как я?
— Я согласилась много лет назад, Томас, — ответила она очень тихо и зарделась, как роза, которую я в этот миг увидел за ее спиной на могиле. — С тех пор я не изменилась! Долгие годы я считала тебя своим мужем, только я думала, что ты умер.
— Это больше, чем я заслужил, — сказал я. — Но если ты согласна — когда мы поженимся? Ведь мы уже немолоды и времени у нас осталось немного.
— Когда хочешь, Томас, — проговорила Лили, подавая мне руку.
Неделю спустя после этого вечера мы стали мужем и женой.
Итак, рассказ мой окончен. У меня была бурная и печальная юность, я рано возмужал, зато счастье согрело мои зрелые годы и старость. События, описанные мной, произошли много лет назад: за это время маленький граб, посаженный под окном в день нашей свадьбы, успел превратиться в большое тенистое дерево, радующее мой взор. Здесь, в благословенной долине Уэйвни, над моей седой головой пролетали годы, исполненные счастья, тишины и покоя, омрачаемого лишь горькими воспоминаниями да тоской по умершим, которую никакое время не в силах притупить. С каждым годом я все глубже постигал радости истинной любви, ибо редко кому достается такая жена, как моя. Казалось, что страдания и тоска юности только возвысили ее благородную душу, достойную ангела. Лишь однажды, когда нас посетило тяжкое горе-смерть нашего младенца, — Лили, как я уже говорил, снова показала, что она всего только женщина. Но, видно, нам суждено было умереть бездетными. Мы смирились и больше между нами не легло ни единой тени. Рука об руку спускались мы по склону жизни, пока моя жена не покинула меня. Вечером под рождество она легла спать рядом со мной и утром не проснулась.
Я горевал искренне, но это горе не могло уже сравняться с болью юношеских лет, ибо годы и опыт его притупляют. К тому же я знал, что мы расстаемся ненадолго. Скоро я отправлюсь вслед за Лили, и дальний путь меня не страшит. Как все старики, которые прожили свой век и очистились от грехов, я не боюсь теперь смерти. Охотно и радостно я перейду последнюю черту, ибо верю, что за ней нас поддержит та же самая десница, которая спасла меня от жертвенного камня и провела невредимым сквозь все опасности бурной жизни.
И ныне я, Томас Вингфилд, возношу хвалу господу богу, который хранит меня вместе со всеми, кого я любил и люблю. Да славится имя его и ныне, и присно, я во веки веков!
Аминь!
1893
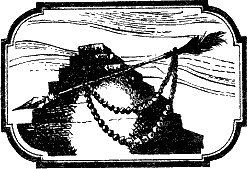
Генри Райдер Хаггард
Луна Израиля
От автора
В этой книге предполагается, что во время Исхода
[286] фараоном был в действительности не Мернептах, сын Рамсеса Великого, а таинственный узурпатор Аменмес, который после смерти Мернептаха и до вступления на престол его сына и законного наследника, добросердечного Сети Второго, на год или на два завладел троном.
О судьбе Аменмеса история хранит глубокое молчание; вполне возможно, что он утонул в Красном море, ибо в отличие от Мернептаха и Сети Второго тело его никогда не было обнаружено.
С трудом писца и сочинителя Ананы, или Аны, как он здесь назван, египтологи, очевидно, знакомы.
Автор надеялся посвятить эту книгу сэру Гастону Масперо, кавалеру орденов св. Михаила и св. Георгия и директору Каирского музея
[287], ведь именно с ним несколько лет назад он обсуждал некоторые детали ее сюжета. К несчастью, однако, этот великий египтолог, не вынеся одной из тяжелых утрат, причиненных войной
[288], умер, когда роман был уже написан, но еще не вышел из печати. Все же, поскольку дочь Масперо известила автора, что таково желание семьи, он приводит здесь то Посвящение, которое собирался адресовать выдающемуся писателю и исследователю прошлого.
Дорогой сэр Гастон Масперо!
Когда вы уверяли меня, говоря об одном из моих романов, связанных с историей Египта, что он весь проникнут «внутренним духом древних египтян» —
настолько, что, несмотря на ваши собственные попытки в этом же роде и многолетние исследования, вам трудно представить себе, что подобное произведение могло родиться в мозгу современного человека, —
я счел этот приговор, вынесенный таким судьей, величайшим из комплиментов, когда-либовыпадавших на мою долю. Признаюсь, что именно ваше мнение побудило меня предложить вам еще одну повесть аналогичного характера. Особенно меня поддерживает в этом желании определенный разговор, который произошел между нами в Каире в то время, как мы созерцали величественный лик фараона Мернептаха. Ибо именно тогда, если вы помните, вы сказали, что считаете план этой книги правдоподобным, и что он соответствует тому, что вы знаете о тех далеких, смутных для нас временах.
С благодарностью за вашу помощь и доброту и с глубочайшим благоговением перед собранным вами богатством материалов о самом загадочном из всех погибших народов земли, —
остаюсь, Ваш искренний почитатель
Г. Райдер Хаггард.
I. Писец Ана приходит в Танис
Это — рассказ обо мне, писце по имени Ана, сыне Мори, и об определенных днях, прожитых мной на земле. Все это я написал теперь, уже стариком, в царствование Рамсеса Третьего, когда Египет стал снова сильным — таким же, каким был в древние времена. Я старался записать все, что хотел, прежде чем смерть возьмет меня, так, чтобы мои писания были тоже погребены и остались со мной и в смерти; ибо так же, как мой дух возродится в час воскрешения, так и эти мои слова возродятся, когда наступит их час, и расскажут пришедшим на землю после меня то, что я знал в земной жизни. Пусть все будет так, как повелят боги, но по крайней мере я пишу, и то, что я пишу, — правда.
Я рассказываю о его божественном величестве Сети Мернептахе Втором, которого я любил и люблю, как собственную душу, и который родился в тот же день, что и я, — сокол, взлетевший на небеса прежде меня; об Таусерт Гордой, его царице — той, что впоследствии стала женой его божественного величества Саптаха и которую на моих глазах опустили в гробницу в Фивах. Я рассказываю о Мерапи, прозванной Луной Израиля, и о ее народе — иудеях, которые долго жили в Египте и покинули его, отплатив нам за все наше добро и зло потерями и позором. Я рассказываю о войне между богами Кемета
[289] и богом Израиля и о многом, что произошло во время этой войны.
А еще я, друг царя, великий писец, любимец фараонов, живших под солнцем одновременно со мной, рассказываю о многих других вещах и людях. Смотрите! Разве все это не написано в этом свитке? Читайте все, кто найдет его во времена, еще не наступившие, если ваши боги наделили вас этим искусством, читайте, о дети будущего, и вы узнаете тайны прошлого, которое так далеко от вас и, вместе с тем, поистине так близко.
Хотя принц Сети и я родились в один и тот же день, и поэтому моя мать, как и другие знатные женщины, чьи дети в тот день увидели свет, получила фараонов дар, а я — титул Царского Близнеца в боге Ра
[290], — случилось так, что я воочию увидел божественного принца Сети не раньше, чем каждому из нас исполнилось тридцать лет. Это произошло следующим образом.
В те дни великий фараон Рамсес Второй, а затем его сын Мернептах, который наследовал ему уже в старости, — поскольку могучий Рамсес отошел в край Осириса
[291] после того, как Нил разлился на его веку в сотый раз, — жили по большей части в городе Танисе, что в пустыне, тогда как я жил с моими родителями в древнем городе Белых Стен на берегу Нила — в Мемфисе. Иногда Мернептах и его двор посещали Мемфис, так же, как и Фивы, где теперь этот царь покоится в своей гробнице. Но юный принц Сети, законный наследник, Надежда Кемета, приезжал с ними только однажды, ибо его мать не жаловала Мемфиса, где в молодости с ней приключилась какая-то беда. Говорят, это была любовная история, которая стоила жизни ее любимому и навсегда оставила боль в ее сердце. А так как она никогда не выпускала Сети из виду, он постоянно находился при матери.
Но один раз он все же приехал (ему было тогда пятнадцать лет), чтобы предстать перед народом как сын своего отца, как сын Солнца, как будущий фараон; и мы, его близнецы в боге Ра, — девятнадцать юношей знатного происхождения — должны были поименно явиться перед ним и облобызать его царственные ноги. Я приготовился идти, облачившись в красивую новую тунику, расшитую пурпуром, с именем Сети и моим собственным. Но в то самое утро, по воле какого-то злого бога, все мое лицо и тело покрылись пятнами: обычная болезнь, которая поражает молодых людей. Так я и не увидел принца, ибо когда я поправился, он уже покинул Мемфис.
Мой отец, Мери, был писцом великого храма Птаха
[292], и меня обучили его ремеслу в школе при храме, где я переписывал многочисленные свитки, а также Книги Мертвых
[293], украшая их рисунками.
Я достиг такого мастерства, что, когда за несколько лет до смерти мой отец ослеп, я смог на свой заработок содержать и его, и моих сестер, пока те не вышли замуж. Матери у меня не было, ибо она отошла в край Осириса, когда я был еще совсем ребенком. И так моя жизнь текла из года в год, но в душе я ненавидел и проклинал свою участь. Когда я был еще мальчиком, у меня возникло желание — не переписывать то, что написали другие, а писать то, что другие должны переписывать. Я погрузился в мечты и видения. Бродя ночью под пальмами на берегах Сихора
[294], я следил, как луна сияет на глади вод, и мне казалось, что в ее лучах я вижу что-то прекрасное. В них возникали картины, отличные от всего, что я видел в мире людей, хотя в моих видениях были и мужчины, и женщины, и даже боги.
Из этих картин в душе моей складывались целые истории, и наконец, по прошествии нескольких лет, я стал записывать эти истории в свободные от работы часы. За этим занятием меня застали сестры. Они рассказали об этом отцу, который выбранил меня за безрассудство, говоря, что так я не обеспечу себя даже хлебом и пивом. Однако я продолжал писать втайне от них при светильнике, запираясь ночью у себя в комнате. Потом сестры вышли замуж, а в какой-то день отец внезапно умер, читая в храме молитвы. Я велел набальзамировать его тело лучшим бальзамировщикам, и его похоронили в гробнице, которую он сам для себя приготовил (хотя для того, чтобы покрыть все расходы, мне пришлось потом почти два года переписывать Книги Мертвых, и на мои сочинения не оставалось ни одного свободного часа).
Избавившись наконец от всех долгов, я встретил девушку из Фив; у нее было красивое лицо, на котором, казалось, всегда играла улыбка, и она похитила мое сердце, спрятав его в своей груди. В конце концов, вернувшись с войны против варваров, куда я был призван наряду с другими молодыми людьми, я женился на ней. Не стану называть ее имя — не хочу упоминать его даже наедине с самим собой. У нас был один ребенок, крошечная девочка, которая умерла, едва прожив два года. И вот тогда я узнал, что может значить для человека горе. Сначала жена моя предавалась печали, но со временем ее скорбь утихла, и она снова стала улыбаться, как прежде. Но теперь она сказала, что больше не будет рожать детей, раз боги их все равно отнимают. Имея много свободного времени, она стала часто уходить из дому, заводя дружбу с людьми, которых я не знал, ибо красота ее привлекала многих. Кончилось это тем, что она вернулась в Фивы с каким-то солдатом, которого я даже ни разу не видел. Я все время работал дома, вспоминая наше умершее дитя и думая о том, что счастье — это птица, которую ни один человек не может поймать в силки, хотя порой она по своей воле залетает к нему в окно.
Вот тогда мои волосы и побелели, хотя мне еще не было и тридцати.
Теперь, когда мне не для кого было работать, а мои собственные потребности были просты и немногочисленны, у меня оказалось больше времени для сочинения рассказов, в которых почти всегда сквозило что-то печальное. Одну из этих историй мой товарищ-писец прочитал с моего согласия в дружеской компании, и она так понравилась слушателям, что многие просили у меня разрешения переписать ее для широкого распространения. Я постепенно стал известен как сочинитель рассказов и повестей, и они переписывались и продавались, не принося мне, правда, ощутимой прибыли. Зато слава моя росла, я однажды получил письмо от принца Сети, моего близнеца в боге Ра, в котором говорилось, что он прочел некоторые из моих произведений, и они ему очень понравились, так что он желает взглянуть на мое лицо. Смиренно поблагодарив принца Сети через его посла, я обещал прибыть в Танис и лично предстать перед его высочеством. Но сперва я закончил самую длинную из написанных мной до той поры историй. Она называлась «Повесть о двух братьях», и в ней рассказывалось о том, как неверная жена одного из братьев навлекла на другого большие неприятности, в результате чего он был убит. А также о том, как справедливые боги вернули его к жизни, и о многих других событиях. Эту повесть я посвятил его высочеству принцу Сети и с нею за пазухой отправился в Танис, прихватив с собой также часть своих сбережений.
Так, в начале зимы я прибыл в Танис и, придя к дворцу принца, смело потребовал аудиенции. Но тут начались мои невзгоды, ибо стража и часовые прогнали меня от дверей. В конце концов я подкупил их и был допущен в передние покои, где собрались купцы, жонглеры, танцовщицы, военачальники и многие другие. И все они, видимо, ждали, пока их допустят к принцу. Изнывая от безделья, весь этот люд обрадовался незнакомому пришельцу и стал развлекаться, потешаясь надо мной. Однако, проводя в их обществе несколько дней, я завоевал их расположение, рассказав им одну из моих историй, и с этого момента стал для них желанным гостем. Но я по-прежнему не мог попасть к принцу, а так как мой денежный запас все уменьшался, я начал подумывать о возвращении в Мемфис.
И вот однажды передо мной остановился длиннобородый старик, на одежде которого была вышита голова быка; в руке он держал жезл или посох с золотым набалдашником, указывавший на то, что он занимал при дворе высокую должность. Назвав меня белоголовой вороной, он спросил, что я тут делаю, прыгая день за днем по дворцовым залам. Я назвал себя и объяснил, зачем я здесь, а он сообщил, что его имя — Памбаса и он один из камергеров принца. Когда я попросил его провести меня к принцу, он рассмеялся мне в лицо и туманно намекнул, что путь к его высочеству вымощен золотом. Я понял, что он имеет в виду, и преподнес ему подарок, который он склевал так же проворно, как петух склевывает зерно, сказав при этом, что поговорит обо мне со своим господином, и велев мне прийти во дворец на следующий день.
Я приходил трижды, и всякий раз этот старый петух склевывал новые зерна. Наконец во мне закипела ярость, и, забыв, где я нахожусь, я накричал на него и назвал его вором, так что вокруг нас собралась любопытствующая толпа слушателей. Видимо, это его испугало. Он бросил взгляд на дверь, возможно собираясь позвать стражу, чтобы прогнать меня прочь, но потом передумал и ворчливым голосом приказал мне следовать за ним. Мы прошли по длинным коридорам мимо солдат, стоявших на часах, неподвижных, как мумии в гробницах, и наконец очутились перед входом, задрапированным вышитыми занавесями. Здесь Памбаса шепотом велел мне подождать и вошел, неплотно задернув занавески, так что мне было видно и слышно все, что происходило в комнате.
Это была небольшая комната, в какой мог бы жить любой писец, ибо на столах были разложены палитры, тростниковые перья, стояли алебастровые вазы с тушью, а к доскам были прикреплены листы папируса. Стены были расписаны — не так, как я привык расписывать Книги Мертвых, а в старинном стиле, который я видел в некоторых древних гробницах, — изображениями диких птиц, взлетающих над болотами, и растущих деревьев и цветов. На стенах висели сетки со свитками папируса, в очаге горели кедровые дрова.
Перед очагом стоял принц, которого я сразу узнал по изображающим его статуям. Он выглядел моложе меня, хотя мы родились в один день, и был высок и худощав, и гораздо светлее, чем люди нашего племени, — быть может, из-за того, что в его жилах текла сирийская кровь. У него были прямые волосы, напоминавшие по цвету волосы северных купцов, которые приезжают в Египет, а глаза казались скорее серыми, чем черными, глядя из-под бровей таких же густых, как у его отца, Мернептаха. Лицо его было нежным, как у женщины, но морщинки, расходящиеся от уголков глаз к вискам, придавали ему необычное выражение. Я думаю, они образовались от привычки к размышлениям, но по мнению других, он унаследовал их от предка по женской линии. Мой друг Бакенхонсу, старый пророк, который служил первому Сети и совсем недавно умер, прожив сто двадцать лет, говорил мне, что он знал ту женщину до ее замужества и что она и первый Сети, возможно, были близнецами.
В руке принц держал развернутый свиток с очень древними письменами, — как я, искушенный во всем, что касалось моего ремесла, определил с первого же взгляда. Подняв глаза от этого свитка, он вдруг увидел стоявшего перед ним камергера.
— Ты пришел как раз вовремя, Памбаса, — сказал он голосом, который звучал очень мягко и приятно, но в то же время был голосом настоящего мужчины. — Ты стар и несомненно мудр. Скажи, ты ведь мудрый, Памбаса?
— Да, ваше высочество. Я мудрый, как дядя вашего высочества, Кхемуас, могучий маг, чьи сандалии я чистил, когда был молод.
— В самом деле? Тогда почему же ты так заботливо прячешь свою мудрость, которой следовало бы раскрываться, как цветок, чтобы мы, бедные пчелы, могли извлекать ее нектар? Ну, ладно, я рад, что ты мудрый, ибо в этой книге магии, которую я читаю, я наткнулся на проблемы, достойные покойного Кхемуаса, — я помню его как человека, всегда погруженного в размышления, с мрачным челом, и очень похожего на своего сына и моего двоюродного брата, Аменмеса, — только, разумеется, Аменмеса никто не может назвать мудрецом.
— Чему же радуется твое высочество?
— Тому, что, будучи, по твоему собственному признанию, равным Кхемуасу, ты сможешь разрешить проблему не хуже него. Как ты знаешь, Памбаса, будь он жив, он был бы сейчас фараоном вместо моего отца. Но он умер слишком рано. Все это наводит меня на мысль, что в рассказах о его мудрости что-то не совсем так. Ведь по-настоящему мудрый человек никогда бы не пожелал стать фараоном Египта.
— Не пожелал бы стать фараоном! — вскричал камергер.
— Так вот, Памбаса Мудрый, — продолжал принц, как будто не слышал его, — вот послушай. В этой старинной книге дано заклинание, которое может «избавить сердце от усталости» — старейшей, как тут говорится, и самой распространенной болезни в мире, которой не подвержены только котята, некоторые дети и сумасшедшие. Оказывается, что от этой болезни можно излечиться, говорит книга, если встать на вершине пирамиды Хуфу в полночь, в тот момент, когда луна — самая большая за весь год, и испить из чаши снов, произнося в то же время заклинание, выписанное здесь целиком на языке, которого я не знаю.
— Но каково же достоинство заклинания, принц, если оно написано на языке, который знают все?
— А какова польза, если этот язык не знает никто?
— Более того, ваше высочество, как может кто-нибудь забраться на пирамиду Хуфу, которая покрыта полированным мрамором? Даже днем, не говоря уж о полночи. И там пить из чаши снов!
— Не знаю, Памбаса. Все, что я знаю, — это то, что я устал от этой глупости, да и от всего на свете. Расскажи мне что-нибудь, что облегчит мое сердце, — мне как-то тяжело.
— Там в зале жонглеры, принц. Один из них говорит, что может подбросить в воздух веревку и влезть по ней на небо.
— Когда ты сам увидишь, как он это делает, Памбаса, приведи его ко мне, но не раньше. Смерть — вот единственная веревка, по которой мы можем подняться на небо или спуститься в ад. Ибо не стоит забывать, что существует некий бог Сет (между прочим, меня назвали в его честь, как и моего прадеда, — почему, знают только жрецы). А еще есть и другой бог — Осирис.
— Кроме жонглеров там еще и танцовщицы, принц, и у некоторых фигуры — просто красота. Я видел, как они купались в дворцовом озере, — даже сердце твоего деда, великого Рамсеса, порадовалось бы, глядя на них.
— Мое сердце не порадуется — я не хочу, чтобы здесь плясали голые женщины. Придумай что-нибудь другое, Памбаса.
— Ничего не приходит в голову, принц. Впрочем, постой-ка. Есть еще один писец по имени Ана — худой остроносый человек, который утверждает, что он твой близнец в боге Ра.
— Ана! — сказал принц. — Тот самый, из Мемфиса, который пишет рассказы? Почему же ты не сказал сразу, старый глупец? Сейчас же впусти его, сейчас же!
Услышав это, я раздвинул занавеси и, войдя, простерся перед ним со словами:
— Я тот самый писец, о Царственный Сын Солнца!
— Как ты смеешь входить без приглашения в покои принца, — начал было Памбаса, но Сети прервал его суровым тоном:
— А ты, Памбаса, как ты смеешь держать этого умного человека за дверьми, как собаку? Встань, Ана, и, пожалуйста, не перечисляй мои титулы, мы ведь не при дворе. Скажи, ты давно в Танисе?
— Много дней, о принц, — ответил я. — Все пытался попасть к тебе, но безуспешно.
— И как же в конце концов тебе удалось?
— За плату, о принц, — ответил я с невинным видом, — как, очевидно, положено. Привратники…
— Понимаю, — сказал Сети. — Привратники! Памбаса, выясни, какую сумму этот ученый писец заплатил привратникам, и верни ему эти деньги в двойном размере. Так что ступай и займись этим делом.
Памбаса ушел, бросив на меня украдкой жалобный взгляд.
— Скажи мне, — промолвил Сети, когда мы остались одни, — ты ведь по-своему мудрый: почему двор всегда порождает воров?
— Думаю, по той же причине, о принц, по которой собачья спина порождает блох. Блохи должны жить, а тут как раз собака.
— Верно, — ответил он, — и эти дворцовые блохи получают недостаточно высокую плату. Если я когда-нибудь получу власть, я этим займусь. Их будет меньше, но еды у них будет больше. А теперь, Ана, садись. Я тебя знаю, хотя ты меня и не знаешь, и я уже успел полюбить тебя, знакомясь с твоими писаниями. Расскажи мне о себе.
Я рассказал ему всю мою простую историю, которую он выслушал, не говоря ни слова, а потом спросил, почему я хотел его видеть. Я ответил: потому что он сам послал за мной, о чем позже забыл; а также потому, что я принес рассказ, который осмелился посвятить ему. С этими словами я положил перед ним на стол свой свиток.
— Ты оказал мне честь, — сказал он, явно довольный. — Большую честь! Если твоя повесть мне понравится, я велю положить ее вместе со мной в гробницу, чтобы мой
Ка[295] читал и перечитывал ее, пока не наступит День Воскресения, хотя, конечно, я прочту и изучу ее еще при жизни. Ты хорошо знаешь наш город Танис, Ана?
Я ответил, что почти не знаю его, ибо потратил все свое время, обивая пороги его высочества.
— Тогда, с твоего разрешения, я сначала покажу тебе город, а потом мы поужинаем. — И тотчас явился слуга, не Памбаса, а другой.
— Принеси два плаща, — сказал принц, — я собираюсь пройтись вместе с писцом Аной по городу. И снаряди охрану — четыре нубийца, не более; пусть следуют за нами, но на некотором расстоянии и переодетые.
Слуга поклонился и исчез.
Почти сразу же явился черный раб, неся два длинных плаща с капюшонами, какие обычно надевают погонщики верблюдов. Он помог нам облачиться в них и повел нас — через дверь, противоположную той, в которую я вошел, — по коридорам и вниз по узкой лестнице, в небольшой внутренний дворик. Мы пересекли его и оказались перед высокой и толстой стеной с двойными дверьми, окованными медью, которые таинственным образом распахнулись при нашем приближении. За этими дверьми стояли четверо высоких людей, тоже укутанных в плащи и, казалось, не обративших на нас никакого внимания. Однако, когда мы немного прошли, я оглянулся и заметил, что они следуют за нами, как будто по случайному совпадению.
Как прекрасно, подумал я, быть принцем, которому достаточно шевельнуть пальцем, чтобы повелевать людьми в любое время дня и ночи.
Именно в этот момент Сети сказал:
— Видишь, Ана, как печально быть принцем, — он не может даже выйти из дворца без ведома челяди и без тайного охранника, который, как шпион, следит за каждым его шагом и, несомненно, доложит обо всем полиции фараона.
Все имеет два лика, подумал я, но, как и прежде, промолчал.
II. Разделение чаши
Мы шли по широкой улице, окаймленной деревьями, за которыми белели обмазанные известью дома под плоскими крышами, построенные из обожженного солнцем кирпича и стоявшие каждый в своем собственном саду. Наконец мы вышли на большую рыночную площадь, и как раз в этот момент над пальмами взошла полная луна, залив мир своим сиянием и почти превратив ночь в день. Танис — или Рамсес, как его тоже называют, — был в ту пору очень красивым городом, хотя и вполовину меньше Мемфиса, впрочем, я слышал, что теперь, когда Двор его покинул, он сильно опустел.
На этой большой рыночной площади возвышались храмы богов с пилонами
[296] и аллеями сфинксов, а также знаменитое чудо света — гигантская статуя Рамсеса Второго, в то время как на северной стороне, на холме, стоял великолепный дворец фараона. Здесь были и другие дворцы — обиталища знати и придворных, а между ними разбегались длинные улицы, где жили горожане; некоторые из этих улиц кончались у того рукава Нила, на берегу которого стоял древний город.
Сети задержался, чтобы взглянуть на эти удивительные здания.
— Они очень древние, — сказал он, — но большинство из них, как и городские стены и вон те храмы Амона
[297] и Птаха, были перестроены во времена моего деда Рамсеса Второго и позже трудами рабов-израильтян, пригнанных из богатой страны Гошен, лежащей недалеко отсюда.
— Должно быть, это стоило много золота, — заметил я.
— Цари Кемета не платят своим рабам, — коротко ответил принц.
Мы пошли дальше и смешались с тысячами людей, которые бродили вокруг в поисках отдыха от дневных дел. Здесь, на границе Египта, собрался самый разноплеменный люд: бедуины из пустыни, сирийцы из-за Красного моря, купцы с богатого острова Читтим, путешественники с побережья и торговцы из страны Пунт
[298] и из неведомых земель севера. И все смеялись, разговаривали, веселились, исключая тех, что собирались в кружки — послушать рассказчика истории или странствующих музыкантов или посмотреть на женщин, которые плясали полураздетые в надежде на вознаграждение.
Время от времени толпа расступалась, давая проехать знатному человеку или даме, перед чьей колесницей бежали гонцы, крича «Дорогу! Дорогу!» и размахивая длинными палками. Потом появилась процессия облаченных в белое жрецов Исиды
[299], шествующих при лунном свете, как и подобает слугам богини Луны; они несли на воздетых руках священное изображение богини, перед которым все люди склоняли головы и на некоторое время умолкали. Иногда проносили тело какого-нибудь знатного человека, недавно умершего; впереди шли наемные плакальщицы, оглашая воздух воплями и причитаниями, которыми они провожали мертвеца перед тем, как его набальзамируют. Наконец из какой-то боковой улицы появилась толпа в несколько сотен мужчин, горбоносых и бородатых, среди них иногда мелькали женщины; они были связаны между собой веревкой, не мешавшей, однако, их движениям, и окружены сопровождавшими их вооруженными стражниками.
— Кто это? — спросил я, ибо никогда не видел ничего подобного.
— Рабы-израильтяне. Они возвращаются с работ по сооружению нового канала, который должен дойти до Красного моря, — ответил принц.
Мы остановились, пропуская их, и я заметил, как гордо сверкали их глаза и как свирепо было выражение их лиц, хотя они были всего лишь узники, да еще изнуренные усталостью и перепачканные от работы в грязи и воде. И вдруг случилось непредвиденное. Один седобородый человек отстал, задерживая и затрудняя продвижение остальным. Видя это, один из надсмотрщиков подбежал к нему и стал хлестать его бичом, сплетенным из кожи морского чудовища. Старик обернулся и, подняв деревянную лопату, которую нес на плече, ударил надсмотрщика с такой силой, что раскроил ему череп. Надсмотрщик упал мертвым. Другие надсмотрщики набросились на
израильтянина (как называли этих рабов) и ударами сбили его с ног. Тут появился воин и, увидев происходящее, выхватил свой бронзовый меч. Из толпы выбежала девушка, юная и прелестная, несмотря на ее грубую одежду.
Я видел с тех пор Мерапи — Луну Израиля, как ее называли, — в пышных одеждах царицы и даже в одеянии богини, но никогда, по-моему, она не была так прекрасна, как в этот час ее рабства. Ее большие глаза, ни синие, ни черные, сияли в свете луны и были влажны от слез. Густые с бронзовым оттенком волосы ниспадали крупными локонами на белоснежную грудь, видневшуюся из-под ее грубой одежды. Подняв нежные руки, она как будто пыталась отвести удары, сыпавшиеся на человека, которого она хотела защитить. Пламя светильника, горевшего в одной из торговых палаток, подчеркивало ее высокую стройную фигуру. Она была так прекрасна, что сердце мое замерло — да, мое сердце, в котором уже несколько лет женщина не пробуждала ничего, кроме самых мрачных и недобрых чувств.
Она громко вскрикнула. Стоя над поверженным узником, она стала молить воина о милосердии. Потом, поняв, что ожидать от него милосердия бесполезно, она обвела взглядом стоявших вокруг людей, и ее большие глаза остановились на лице принца Сети.
— О господин! — воскликнула она. — У тебя благородный вид. Неужели ты будешь спокойно смотреть, как убивают моего безвинного отца?
— Уберите эту женщину, или я проткну ее насквозь! — закричал воин, ибо она бросилась к лежащему неподвижно израильтянину. Надсмотрщики повиновались и оттащили ее прочь.
— Остановись, убийца! — вскричал принц.
— Кто ты такой, собака, что смеешь учить фараонова офицера его обязанностям? — ответил воин и левой рукой нанес принцу пощечину.
Потом он замахнулся, и я у видел, как его бронзовый меч вонзился в тело израильтянина. Тот содрогнулся и замер. Все произошло в какое-то мгновение, и в наступившем безмолвии отчаянно прозвучал женский вопль. С минуту Сети не мог произнести ни звука — думаю, что от ярости. Потом он произнес только одно слово:
— Стража!
Тотчас из толпы появились четверо нубийцев, которые до этой минуты, как им было приказано, держались на некотором расстоянии. Но не успели они приблизиться, как я, оправившись от изумления, бросился на офицера и схватил его за горло. Он замахнулся на меня окровавленным мечом, но удар, ослабленный плащом, лишь слегка скользнул по моему левому бедру. Тогда я — а в те дни я был еще молод и силен — схватился с ним, и мы оба покатились по земле. Началась суматоха. Рабы-иудеи разорвали веревку и набросились на солдат, как псы на шакалов, молотя по ним голыми кулаками. Солдаты, защищаясь, пустили в ход оружие. Надсмотрщики взмахивали бичами. Женщины визжали, мужчины кричали. Военачальник, с которым я схватился, начал одерживать верх — по крайней мере, я увидел, как его меч ослепительно сверкнул надо мной, и подумал, что все кончено. Несомненно, так бы и случилось, если бы Сети сам не оттащил от меня этого человека и таким образом не дал бы своим нубийцам схватить его. Я услышал, как принц воскликнул звонким голосом:
— Остановись! Ты имеешь дело с Сети, сыном фараона и правителем Таниса. — И он откинул с головы капюшон, и луна ярко осветила его лицо.
Мгновенно все смолкло. По мере того как до них доходила истина, люди один за другим преклонили колени, и я услышал, как кто-то произнес в благоговейном страхе:
— Чтобы солдат ударил по лицу царского сына, принца Египта! Он должен заплатить за это кровью.
— Как зовут этого офицера? — спросил Сети, указав на воина, который убил израильтянина и чуть не убил меня.
Кто-то ответил, что его имя — Хуака.
— Отведите его к ступеням храма Амона, — сказал Сети нубийцам, крепко державшим воина. — Следуй за мной, друг Ана, если у тебя есть силы. Вот — обопрись на мое плечо.
Так, опираясь на плечо принца, ибо я пострадал в схватке и с трудом переводил дыхание, я прошел с ним сто или более шагов до входа в величественный храм, где мы поднялись на площадку, воздвигнутую на верхней ступени лестницы. За нами привели схваченного воина, а дальше следовала толпа, великое множество людей, которые расположились на ступенях и перед храмом. Принц, который был очень бледен и спокоен, сел на низкое гранитное основание обелиска, возвышавшегося перед одним из пилонов храма, и произнес:
— Как правитель Таниса, города Рамсеса, имеющий власть над жизнью и смертью в любой час и в любом месте, объявляю мой Суд открытым.
— Царский Суд открыт! — воскликнула толпа по установленному обычаю.
— Дело заключается в следующем, — сказал принц. — Этот человек по имени Хуака, по одежде — военачальник из армии фараона, обвиняется в убийстве некоего еврея и в попытке убить писца Ану. Призовите свидетелей. Принесите тело убитого и положите его передо мной. Приведите женщину, которая пыталась защитить его, и пусть она говорит.
Тело принесли и опустили на площадку; глаза мертвеца, широко открытые, неподвижно смотрели вверх, на луну. Потом солдаты вытолкнули вперед плачущую девушку.
— Уйми слезы, — сказал Сети, — и поклянись Атумом — Создателем, и Маат — богиней истины и закона, что будешь говорить только правду.
Девушка подняла на него глаза и произнесла глубоким и тихим голосом, почему-то напомнившим мне медленно льющийся из кувшина мед, — быть может, потому, что она говорила с трудом, стараясь сдержать подступавшие к горлу рыдания:
— О царственный Сын Кемета, я не могу поклясться этими богами, ведь я дочь Израиля.
Принц внимательно посмотрел на нее и спросил:
— Каким же богом ты можешь поклясться, о дочь Израиля?
— Яхве, о принц, — мы считаем его единым и единственным богом. Творцом мира и всего, что в нем есть.
— Тогда, наверно, его другое имя — Кефера, — сказал принц, слегка улыбнувшись, — но будь по-твоему. Поклянись своим богом Яхве.
Она подняла обе руки над головой и сказала:
— Я, Мерапи, дочь Натана из племени Леви, народа Израиля, клянусь именем Яхве, бога Израиля, что буду говорить правду и всю правду.
— Расскажи нам все, что ты знаешь о смерти этого человека, о Мерапи.
— Я знаю не больше того, что знаешь ты, о принц. Тот, кто здесь лежит, — она жестом указала на тело убитого, отводя взгляд в сторону, — был моим отцом, старейшиной Израиля. Когда хлеба еще не созрели, капитан Хуака прибыл в страну Гошен, чтобы отобрать тех, кто должен работать на фараона. Он пожелал взять меня в свой дом. Мой отец сказал ему, что я с самого детства обручена с сыном Израиля, и отказал ему, отказал еще и потому, что наш закон запрещает нашим людям соединяться браком с вашими людьми. Тогда капитан Хуака забрал отца, хотя он занимал высокое положение и по возрасту не должен был работать на фараона, и его увезли — за то, я думаю, что он отказался отдать меня в жены Хуаке. Немного позже мне приснилось, что отец заболел. Три раза мне снился этот сон, и наконец я бежала в Танис, чтобы увидеться с отцом. Сегодня утром я нашла его и… — о принц, остальное ты знаешь сам.
— И это все? — спросил Сети.
Девушка молчала в нерешительности, потом сказала.
— Еще одно, о принц. Этот человек видел, как я давала отцу поесть, потому что он совсем ослабел и изнемог, выкапывая ил под палящими лучами солнца; ведь он из знатного рода и никогда не выполнял такой работы. В моем присутствии Хуака спросил отца: может быть, теперь он отдаст меня ему в жены? Отец сказал, что он скорее позволил бы змее поцеловать меня или отдал бы меня на съедение крокодилам. «Я выслушал тебя, — сказал Хуака. — Так знай же, раб Натан, прежде чем завтра взойдет солнце, тебя поцелует меч и сожрут крокодилы или шакалы». «Будь так, — ответил ему отец, — но знай, о Хуака, что прежде чем взойдет солнце, тебя тоже поцелует меч, а об остальном мы с тобой поговорим у подножия трона Яхве».
А потом, как ты знаешь, принц, надсмотрщик избил отца бичом, — я слышала, как Хуака приказал избить его, если он будет отставать от других; а после Хуака убил его, потому что отец, обезумев, ударил его лопатой. Больше мне нечего сказать, кроме одного: прошу тебя — вели отослать меня обратно, к моему народу, где я смогу оплакивать моего отца так, как у нас принято.
— Куда ты хочешь вернуться — к своей матери?
— Нет, о принц. Моя мать умерла, она была знатная женщина из Сирии. Я хочу вернуться к моему дяде, Джейбизу Левиту.
— Отойди в сторону, — сказал Сети. — Мы решим твое дело позже. Подойди сюда, о писец Ана! Принеси присягу и расскажи нам все, что ты знаешь о смерти этого человека, поскольку нам нужны два свидетеля.
Я произнес клятву и повторил то, чему я был свидетелем.
— Ну, Хуака, — сказал принц, когда я кончил, — ты хочешь что-нибудь сказать?
— Только одно, о царственный принц! — ответил Хуака, упав на колени. — Я ударил тебя случайно, не зная, что под плащом скрывается личность твоего высочества. За этот поступок я достоин смерти, это правда, но умоляю простить меня, ведь я не ведал, что творил. Остальное же ничего не значит, ибо я убил всего-навсего мятежного раба-израильтянина, каких убивают каждый день.
— Скажи мне, о Хуака, — ибо тебя судят именно за убийство этого человека, но не за то, что ты ударил, сам того не зная, человека царской крови, — какой закон разрешил тебе убить израильтянина без суда, назначенного фараоном?
— Я не ученый. Я не знаю законов, о принц. Все, что наговорила тут эта женщина, — ложь.
— Но, во всяком случае, то, что этот человек мертв и что убил его ты, — не ложь. Ты сам это признаешь. Так знай же, и пусть знают все египтяне, что даже израильтянин не может быть убит только за то, что он устал или ответил ударом на незаслуженный удар. За его кровь ты ответишь своей кровью. Солдаты! Отрубите ему голову!
Нубийцы набросились на него, и, когда через мгновение я вновь увидел Хуаку, его обезглавленное тело лежало рядом с трупом еврея Натана, и кровь обоих смешалась на ступенях храма.
— Суд завершил свое дело, — сказал принц. — Воины, проследите, чтобы эту женщину проводили обратно к ее народу и вместе с нею отправили тело ее отца для погребения. И помните, что вы отвечаете своей жизнью за то, чтобы ее не оскорбляли и чтобы с ней не случилось ничего плохого. Писец Ана, пойдем вместе в мой дом, — я хочу поговорить с тобой. И пусть стража пойдет впереди и вслед за мной.
Он поднялся, и все присутствующие склонились перед ним. Когда он повернулся, чтобы уйти, Мерапи упала перед ним на колени, говоря:
— О справедливейший принц, отныне и навсегда я буду тебя слушать!
Мы двинулись в путь, и, когда мы покинули рыночную площадь и направились ко дворцу принца, я услышал позади гул голосов; одни одобряли, другие осуждали действия Сети. Мы шли в молчании, нарушаемом лишь равномерными звуками шагов сопровождавших нас стражников. Вскоре луна зашла за тучу, и вокруг стало темно. Потом из-за края тучи вдруг вырвался луч света и протянулся, прямой и узкий, через все небо. Принц смотрел на него некоторое время и потом сказал:
— Скажи мне, Ана, что напоминает тебе этот лунный луч?
— Меч, о принц, — ответил я, — простертый над Кеметом рукой какого-то могущественного бога или духа. Смотри, вон его клинок, с которого будто падают облачка — капли крови; а вон там — рукоять из золота, и смотри, под ним лицо бога. Огонь струится из его глазниц, а чело его мрачно и ужасно. Мне страшно — сам не знаю отчего.
— У тебя душа поэта, Ана. Однако я вижу то же, что и ты, и я уверен, что какой-то меч возмездия действительно поднят над Египтом за все его злодеяния; этот луч — его символ. Видишь? Он как будто вот-вот упадет на храмы богов и на дворец фараона и рассечет их надвое. А теперь он исчез, и ночь стала похожа на все ночи с сотворения мира. Пойдем ко мне и поужинаем. Я устал, мне нужно подкрепиться едой и вином, — как, впрочем, и тебе после схватки с этим мерзким убийцей, которого я отправил куда следовало.
Стражники приветствовали принца и были отпущены. Мы поднялись в личные покои принца, где его слуги обрядили меня в одежды из тонкого полотна, после того как искусный домашний врач обработал ссадины и порезы на моем теле и наложил повязки, пропитанные бальзамом. Затем меня провели в маленький трапезный зал, где меня ожидал принц, — словно я был почетным гостем, пришедшим сюда из Мемфиса со своими товарами, а не бедным писцом. Он заставил меня сесть по правую руку от себя и даже придвинул мне стул, чем привел меня в смущение и замешательство. Как сейчас помню этот стул с кожаным сиденьем: его подлокотники кончались сфинксами из слоновой кости, а на спинке из черного дерева, в центре овала, было инкрустировано имя великого Рамсеса, которому этот стул некогда принадлежал. Подали кушанья — только два блюда, и те самые простые, ибо Сети не был охотником до еды, — и к ним вино, восхитительнее которого мне никогда не доводилось пробовать. Нам прислуживал молодой нубиец с очень веселым лицом.
Мы ели и пили, и принц расспрашивал меня о моей работе в должности писца и о сочинении рассказов, что, по-видимому, очень его интересовало. Можно было даже подумать, будто он ученик в школе, а я — учитель, так смиренно и так внимательно выслушивал он все, что я говорил о моем искусстве. О делах государства или об ужасной кровавой сцене, которую мы только что пережили, не было сказано ни слова. Под конец, однако, после небольшой паузы, во время которой он, держа в руке чашу из тонкого, как яичная скорлупа, алебастра, всматриваясь в игру света в густом красном вине, принц сказал мне:
— Друг Ана, мы с тобой пережили волнующий час, возможно, первый из многих, что еще впереди, а может быть, последний. Кроме того, мы родились в один и тот же день, а значит, — если астрологи не лгут, как другие мужчины и женщины, — и под одной звездой. И, наконец, позволь мне об этом сказать, — ты мне очень нравишься, хоть я и не знаю, нравлюсь ли я тебе; и когда ты со мной в комнате, я чувствую себя спокойно и свободно. Это странно, ибо я не знаю никого, с кем бы мне было так хорошо, как с тобой.
Только сегодня утром я изучал старинные рукописи и совершенно случайно прочел, что тысячу лет назад наследный принц Египта имел право — а значит, имеет и теперь, ведь в Египте ничто не меняется — держать личного библиотекаря, которому платит государство, то есть, в конечном счете, труженики страны. Последний такой библиотекарь был несколько династий тому назад, я думаю потому, что большинство наследников трона не умели — или не хотели — читать. Я рассказал о своем открытии визирю Нехези, который считает каждую унцию золота, потраченную мной, как будто он платит мне из собственной мошны, — впрочем, возможно, так и есть. Он ответил мне с его обычной кривой усмешкой: «Поскольку, принц, я твердо знаю, что нет ни одного писца в Египте, общество которого ты бы выдержал дольше месяца, я определю месячное жалованье библиотекаря в тех размерах, в каких оно было при Одиннадцатой Династии, внесу эту статью в список расходов твоего высочества и выплачу эту сумму из царской казны к тому времени, когда он будет уволен».
Таким образом, писец Ана, я предлагаю тебе этот пост на один месяц, на срок, который, могу обещать тебе, будет оплачен, какова бы ни была сумма. Право, я забыл, сколько именно она составит.
— Благодарю тебя, о принц! — воскликнул я.
— Не благодари меня. Нет, если ты мудр, лучше откажись. Ты познакомился с Памбасой. Так вот, Нехези — это Памбаса, помноженный на десять, плут, вор, грубиян и к тому же наушничает фараону. Он превратит твою жизнь в пытку и будет держаться за каждую крупицу золота, которую тебе придется вырывать у него из рук. Более того, жизнь здесь утомительна, а я мнительный и часто бываю в плохом настроении. Говорю тебе — не благодари. Откажись, возвращайся в Мемфис и пиши рассказы. Беги от двора с его интригами. Сам фараон — это только марионетка, через которую говорят другие голоса и лик, через который смотрят другие глаза, и все мановения его скипетра управляются нитями, которые держат другие руки. А если так с фараоном, то что же сказать о его сыне? И потом, Ана, — женщины! Они станут преследовать тебя своей любовью — они преследуют даже меня, а ты, кажется, говорил мне, что кое-что знаешь о женщинах. Не соглашайся, ступай обратно в Мемфис. Я пришлю тебе для переписки старинные рукописи и выплачу тебе все, что Нехези назначит для библиотекаря.
— И все же я согласен, о принц! А Нехези — да я не боюсь его: в худшем случае я напишу про него такой рассказ, над которым весь мир будет смеяться, так что он скорее предпочтет заплатить мне, чем подвергаться осмеянию.
— Ты мудрее, чем я думал, Ана. Мне никогда не приходило в голову сделать Нехези героем рассказа, хотя, признаться, я и рассказываю про него всякие истории, а это, в общем, почти то же самое.
Он наклонился ко мне, подперев рукой голову и глядя мне в глаза, спросил:
— Почему ты согласился? Дай мне подумать. Не потому же, что ты надеешься здесь разбогатеть; и не ради показной пышности и престижа придворной жизни; и не для того, чтобы водиться с великими мира сего, которые на самом деле так ничтожны. Ничего в твоем сердце нет и тебе ничего не нужно; ты художник, не больше и не меньше того. Так объясни же мне, почему ты, свободный человек, способный заработать себе на жизнь, болтаешься у трона и готов подставить шею под пяту принцев, которые растопчут тебя, как глину, чтобы вылепить из тебя обычного прислужника, или царского приживалу, или слугу, подставляющего скамеечку под ноги фараона.
— Объясню тебе, принц. Во-первых, потому, что троны творят историю, так же как история создает троны; а мне кажется, что в Египте зреют великие события, в которых я хотел бы сыграть свою роль. Во-вторых, потому, что боги подносят дары людям только один или два раза в жизни, и отказаться от этих даров, значит обидеть богов, давших тебе эту жизнь, которую ты должен использовать, пусть даже для неведомых тебе целей. А в-третьих… — Тут я заколебался.
— А в-третьих? Говори, ведь именно это, наверное, и есть настоящая причина.
— А в-третьих, о принц — право же, такие слова странно звучат в устах мужчины — но, в-третьих, потому, что я люблю тебя. С той минуты, как мой взгляд упал на твое лицо, я полюбил тебя, как не любил никого, — даже своего отца. Не знаю, почему. Конечно же, не
оттого, что ты принц.
Услышав эти слова, Сети задумался и так долго молчал, что я испугался, не слишком ли я дерзок для скромного писца, и поспешно добавил:
— Да простит твое высочество своего слугу за его самонадеянные речи. Это не уста твоего слуги говорили, а его сердце.
Он поднял руку, и я умолк.
— Ана, мой близнец в боге Ра, — сказал он, — знаешь ли ты, что у меня никогда не было друга?
— У принца — нет друга?
— Никогда, ни одного. Но теперь я начинаю думать, что нашел его. Эта мысль кажется странной и согревает меня. Знаешь ли, когда мой взгляд упал на твое лицо, я тоже полюбил тебя, одним богам известно почему. У меня было такое чувство, будто я нашел того, кто мне был дорог тысячу лет назад, но потом потерял его и забыл о нем. Быть может, это глупость, а может быть, это тень чего-то великого и прекрасного, что обитает где-то в другом месте, которое мы называем царством Осириса, — по ту сторону могилы, Ана.
— Иногда мне в голову приходили такие же мысли, принц. Я хочу сказать, что все, что мы видим, — тень; и мы сами — только тени, а реальности, которые отбрасывают их, живут в какой-то другой стране, озаренной духовным солнцем, которое никогда не заходит.
Принц кивнул и некоторое время молчал. Потом он поднял свою прекрасную алебастровую чашу и, налив в нее вина, отпил немного и передал чашу мне.
— Выпей и ты, Ана, — сказал Он, — и обещай мне, как обещаю тебе я, что во имя создателя, который дал человеку сердце, отныне наши два сердца слились в одно, и так будет всегда, в горе и в радости, в победе и в поражении, пока смерть не унесет одного из нас. Отныне, Ана, у меня нет от тебя никаких тайн, — разве что ты окажешься недостойным нашей клятвы.
Вспыхнув от радости, я принял от него чашу, говоря:
— Я добавлю к тому, что ты сказал, о принц, еще одно: мы едины не только в этой жизни, но и во всей цепи грядущих жизней. Смерть, о принц, — это, я думаю, лишь одна ступень воздушной лестницы, которая приводит наконец к тем головокружительным высотам, откуда мы видим лицо бога и слышим его голос, объясняющий нам, что мы есть и почему.
Потом я тоже произнес слова клятвы, выпил из чаши и поклонился ему, а он поклонился мне.
— Что мы сделаем с этой чашей, Ана? Священной чашей, в которой было вино наших сердец? Оставить ее у меня? Нет, она больше не принадлежит мне. Дать ее тебе? Нет, она не только твоя. Знаю — мы разделим эту бесценную вещь.
Схватив чашу за ножку, он с силой ударил ею о стол. И тут произошло нечто, показавшееся мне чудом. Ибо вместо того, чтобы разлететься вдребезги, чаша раскололась ровно на две половинки, сверху донизу. До сих пор не знаю, было ли это случайностью, или художник, создавший ее в каком-то минувшем поколении, заготовил по отдельности каждую из половинок и потом искусно склеил их воедино. Как бы то ни было, чудо свершилось у нас на глазах.
— Какая удача! — сказал принц с легкой усмешкой, под которой, как я заметил, он прятал слишком сильные чувства. — Бери же ту половину, которая ближе к тебе, а я возьму ту, что ближе ко мне. Если ты умрешь первым, я положу мою половину тебе на грудь, а если первым умру я, ты положишь мне свою, а если жрецы тебе запретят, потому что я царского рода и они сочтут это святотатством, брось свою половинку в мою гробницу. Что бы мы делали, Ана, если бы алебастр рассыпался на мелкие осколки, и какое бы предзнаменование ты в этом увидел?
— Зачем спрашивать, о принц, о том, чего не случилось?
Потом я взял свою половинку, приложил ее ко лбу и спрятал под одеждой на груди, и Сети сделал то же самое со своей половинкой чаши.
Вот так, столь необычным образом царственный Сети и я скрепили священный союз нашего братства и, как я думаю, — на вечные времена.
III. Таусерт
Сети встал из-за стола и потянулся.
— С этим кончено, — сказал он, — как кончается все, и на этот раз мне жаль, что это так. Ну, что теперь? Спать, я полагаю, ибо сон — конец всего или, пожалуй, как сказал бы ты, начало.
Не успел он договорить, как занавеси, скрывающие вход, раздвинулись и появился Памбаса, церемонно держа свой жезл перед собой.
— В чем дело? — спросил Сети. — Неужели я не могу даже поужинать спокойно? Стой, прежде чем ты ответишь, скажи: сон — конец или начало всех вещей? Ученый Ана и я разошлись в этом вопросе и хотели бы услышать твое мудрое мнение. Учти, Памбаса, что до того, как родиться на свет, мы, должно быть, спали, поскольку ничего не помним об этом времени, а после того как мы умрем, мы, по всей вероятности, спим, как знает всякий, кому доводилось видеть мумии. А теперь отвечай!
Памбаса уставился на сосуд с вином, стоящий на столе, как будто заподозрив, что его господин выпил больше, чем следовало. Потом твердым, официальным голосом он объявил:
— Она идет! Она идет! Она идет, чтобы принести свои приветствия и любовь царственному сыну Ра.
— В самом деле? — спросил Сети. — Но если так, почему сообщать об этом три раза? И — кто идет?
— Высочайшая принцесса, наследница Египта, дочь фараона, сводная сестра твоего высочества, великая госпожа Таусерт.
— Что ж, пусть войдет. Ана, стань позади меня. Если ты устанешь и я разрешу, можешь уйти, рабы покажут тебе, где твои покои.
Памбаса удалился, и тотчас из-за занавесей появилась царственного вида особа в великолепном одеянии. Ее сопровождали четыре служанки, которые остановились у порога и тут же скрылись. Принц пошел ей навстречу, взял обе ее руки в свои и поцеловал ее в лоб, потом отступил, после чего они с минуту стояли, смотря друг на друга. Тем временем я изучал ту, что была известна во всей стране как «Прекрасная Царская Дочь», но кого я до этого момента ни разу не видел. По правде сказать, я не нашел ее прекрасной, хотя я бы сразу понял, что она царского происхождения, даже будь на ней платье крестьянки. Для красавицы ее лицо было слишком жестким, а черные глаза с серым отливом слишком малы. Вместе с тем ее нос был слишком острым, а губы слишком тонкими. Поистине, если бы не очертания нежной и красивой женственной фигуры, я бы вполне мог подумать, что передо мной не принцесса, а принц. В остальном она во многом походила на своего сводного брата Сети, хотя и была лишена свойственного ему выражения доброты. Или, если сказать точнее, оба они походили на своего отца, Мернептаха.
— Приветствую тебя, сестра, — сказал он, глядя на нее с улыбкой, в которой мне почудилось что-то насмешливое. — Ого! Платье, отороченное пурпуром; изумрудное ожерелье и венец из золота, и кольца, и нагрудные украшения, — не хватает только скипетра! Почему ты так по-царски оделась, чтобы навестить столь скромную особу, как твой любящий брат? Ты являешься, как солнце, во тьму отшельнической кельи, и совсем ослепила бедного отшельника — или, точнее, отшельников, — и он указал на меня.
— Оставь свои шутки, Сети, — ответила она звучным, сильным голосом. — Оделась так потому, что это доставляет мне удовольствие. Кроме того, я ужинала с нашим отцом, а те, что сидят за столом фараона, должны быть одеты подобающим образом. Правда, я заметила, что иногда ты думаешь иначе.
— Вот как. Надеюсь, добрый бог, наш божественный родитель сегодня вполне здоров, раз ты так рано его покинула.
— Я покинула его потому, что он послал меня к тебе с поручением. — Она умолкла, пристально смотря на меня, и потом спросила: — Кто этот человек? Я его не знаю.
— Твоя беда, Таусерт, но дело можно поправить. Его зовут писец Ана, и он пишет странные истории, полные интереса, которые тебе следовало бы почитать, а то ты слишком поглощена внешней стороной жизни. Он из Мемфиса, а имя его отца — забыл, Ана, как звали твоего отца?
— Его имя слишком ничтожно для царских ушей, принц, — ответил я, — но мой дед был поэтом по имени Пентавр, который писал о деяниях могущественного Рамсеса.
— Правда? Почему же ты сразу мне не сказал? С таким происхождением ты заработал бы себе пенсию из придворной казны, если бы тебе удалось вырвать ее у Нехези. Так вот, Таусерт, имя его деда было Пентавр, чьи бессмертные стихи ты, несомненно, читала на стенах храма, где наш дед позаботился их увековечить.
— Читала, к сожалению, и нашла, что это пустая и хвастливая болтовня, — холодно ответила она.
— Честно говоря, — да простит меня Ана — я того же мнения. Но могу тебя уверить, что его рассказы несравненно лучше, чем стихи его деда. Друг Ана, это моя сестра, Таусерт, дочь моего отца, хотя матери у нас были разные.
— Прошу тебя, Сети, будь добр называть все мои законные титулы, говоря обо мне с писцом, да и с прочими твоими слугами.
— Извини, Таусерт. Ана, это — Первая госпожа Кемета, Царская Наследница, Принцесса Верхнего и Нижнего Египта
[300], Верховная жрица Амона, Любимица Богов, сводная сестра законного наследника, Цветущий Лотос Любви, будущая Царица — Таусерт, чьей супругой ты будешь? Кто окажется достоин такой красоты, превосходства, учености и — что еще можно добавить? — нежности, да, нежности.
— Сети, — сказала она, топнув ногой, — если тебе нравится издеваться надо мной в присутствии посторонних, очевидно мне остается только покориться. Вели ему уйти, мне нужно с тобой поговорить.
— Издеваться над тобой! О сколь плачевна моя участь! Когда
правда изливается из глубин моего сердца, мне говорят, что я издеваюсь, а когда я издеваюсь, все твердят: он говорит правду. Сядь, сестра, и говори, не стесняясь. Ана — мой верный друг, который только что спас мне жизнь; хотя за это мне, пожалуй, следовало бы считать его своим врагом. У него также отличная память, и он запомнит, а потом запишет все, что ты скажешь, тогда как я могу забыть. Поэтому, с твоего позволения, я попрошу его остаться.
— Мой принц, — сказал я, — пожалуйста, разреши мне уйти.
— Мой секретарь, — ответил он с повелительной ноткой в голосе, — я прошу тебя остаться на месте.
Выбора не было. Я сел на пол в обычной позе писца, а принцесса опустилась на ложе в конце стола; Сети остался стоять. После паузы принцесса заговорила.
— Поскольку ты желаешь, брат, чтобы я доверяла секреты не только твоим, но и чужим ушам, я повинуюсь. И все же, — тут она гневно взглянула на меня, — пусть язык остережется повторять то, что слышали уши, а то как бы не осталось ни языка, ни ушей. Мой брат, во время ужина фараону доложили, что в нашем городе начались волнения. Ему доложили, что из-за каких-то неприятностей по поводу низкого израильтянина ты велел обезглавить одного из фараоновых воинов. После чего вспыхнул мятеж, который продолжается до сих пор.
— Странно, что правда достигла ушей фараона так быстро. Вот если бы он услышал об этом на три луны позже, я бы тебе поверил — почти поверил бы.
— Значит, ты действительно обезглавил этого воина?
— Да, я обезглавил его два часа тому на лад.
— Фараон требует отчета об этом деле.
— Фараон, — ответил Сети, подняв глаза, — не властен ставить под сомнение правосудие правителя Таниса.
— Ты заблуждаешься, Сети. Власть фараона безгранична.
— Нет, сестра. Фараон — лишь один человек среди миллионов других, и хотя он говорит от себя, его речи внушены их духом, — но над их духом есть еще более великий дух, который направляет их мысли ради целей, о которых мы ничего не знаем.
— Я не понимаю тебя, Сети.
— Я и не ожидал, что ты поймешь, Таусерт, но на досуге попроси Ану объяснить тебе суть дела. Я уверен, что он понимает.
— О! С меня довольно, — воскликнула Таусерт, поднимаясь. — Выслушай приказ фараона, принц Сети. Завтра ты должен явиться к нему в Зал Совета, за час до полудня, чтобы говорить с ним об этом случае с израильтянскими рабами и воином, которого тебе угодно было лишить жизни. Я хотела сказать тебе еще кое-что, но поскольку это предназначалось только для твоих ушей, я подожду до более удобного случая. Прощай, брат мой.
— Как, ты уже уходишь? А я собирался рассказать тебе об этих израильтянах и особенно об одной девушке по имени — как ее имя, Ана?
— Мерапи, Луна Израиля, принц, — ответил я со вздохом.
— О девушке, которую зовут Мерапи и Луной Израиля, по-моему, самой прелестной, какую я когда-либо видел; это ее отца убил казненный капитан, убил у меня на глазах.
— Значит, тут замешана женщина? Я так и думала.
— В каждом деле замешана женщина, Таусерт, — даже в послании фараона. Памбаса, проводи принцессу и позови ее слуг — все они до единой — женщины, если мои чувства меня не обманывают. Спокойной ночи, о сестра и Госпожа Обеих Земель, и прости меня — твой венец немного съехал набок.
Наконец она ушла и я поднялся, вытирая лоб краем туники, и посмотрел на принца, который стоял перед очагом, тихо посмеиваясь.
— Запиши весь этот разговор, Ана, — сказал он. — В нем нечто большее, чем кажется на слух.
— Не надо и записывать, принц, — ответил я, — каждое слово выжжено в моем мозгу, как раскаленное железо выжигает деревянную дощечку. И недаром, ибо теперь ее высочество будет ненавидеть меня всю свою жизнь.
— Это гораздо лучше, Ана, чем если бы она притворилась, что любит тебя; но этого она никогда не сделает, пока ты мой друг. Женщины нередко уважают тех, кого ненавидят, и даже продвигают их из политических соображений, но пусть остерегаются те, кого они притворно любят! Как знать, еще придет время, когда ты станешь самым доверенным советником Таусерт!
Здесь я, писец Ана, замечу, что впоследствии, когда эта самая царица была женой фараона Саптаха, я действительно стал ее самым доверенным советчиком. Более того, в те времена и даже в час ее смерти она клялась, что с первого же взгляда, впервые увидев меня, она поняла, что я обладаю верным сердцем, и почитала меня за бескорыстие. И я думаю, что она верила в то, что говорила, забыв, что когда-то она смотрела на меня как на своего врага. Но я никогда не был ее врагом и всегда чтил ее, как великую женщину, которая любила свою страну, хотя ей подчас и не хватало мудрости. Но в ту далекую ночь, много лет назад, я не мог предвидеть всего этого, и потому я удивленно посмотрел на принца и сказал:
— О, почему ты не позволил мне уйти, как обещал сначала? Рано или поздно я заплачу головой за события этой ночи.
— Тогда ей придется добавить к твоей голове и мою. Послушай, Ана. Я удержал тебя здесь не для того, чтобы позлить принцессу или тебя, но по серьезной причине. Ты ведь знаешь, что в Египте существует обычай, по которому цари или те, кто будут царями, женятся на близких родственницах, чтобы сохранить чистоту крови.
— Да, принц, и не только цари. Однако я считаю, что это дурной обычай.
— И я тоже, ибо народ, который его придерживается, все слабее телом и духом. Может быть, поэтому мой отец уже не такой, каким был его отец, а я не такой, как мой отец.
— Кроме того, принц, очень трудно сочетать любовь к сестре с любовью к жене.
— Еще как трудно, Ана! Так трудно, что при таких попытках и та и другая любовь просто исчезают. Так вот, поскольку наши матери были верными царскими женами, хотя ее мать умерла еще до того, как мой отец женился на моей матери, фараон желает, чтобы я женился на моей сводной сестре Таусерт, и — что еще хуже — она тоже этого хочет. Больше того, многие боятся, что в Египте начнется смута, если мы, единственные потомки истинно царского рода и дети цариц, не соединимся и она возьмет в мужья кого-то другого или я возьму в жены другую женщину; поэтому они требуют, чтобы наш брак состоялся, поскольку они уверены, что тот, кто назовет Таусерт Властную своей супругой, будет править всей страной.
— А почему принцесса этого хочет? Чтобы стать царицей?
— Да, Ана. Хотя стань она женой моего двоюродного брата Аменмеса, сына старшего брата фараона, Кхемуаса, она все равно могла бы быть царицей, если бы я устранился — что я с удовольствием бы сделал.
— А Египет согласился бы на это, принц?
— Не знаю, да это и не имеет значения, поскольку она терпеть не может Аменмеса: он своеволен и тщеславен, она и слышать о нем не хочет. К тому же он женат.
— Неужели нет ни одного человека царского рода, за кого она
могла бы выйти, принц?
— Ни одного. И потом, она желает только меня.
— Почему, принц?
— Из-за древнего обычая, перед которым она преклоняется. А также потому, что она хорошо знает меня и любит — на свой лад. Она уверена, что я мягкосердечный мечтатель, которым она будет управлять. Наконец, потому, что я — законный наследник короны, и если не буду разделять с нею власть, она, по ее мнению, никогда не сможет чувствовать себя на троне в безопасности, особенно если я женюсь на другой женщине, в которой она будет видеть соперницу. Трон — вот предмет ее желаний, ради которого она хочет выйти замуж, а вовсе не принц Сети, ее сводный брат, которого она возьмет вместе с троном, как велит фараон. Любовь, Ана, не играет никакой роли в сердце Таусерт. Но это делает ее тем более опасной, ибо если ее холодное расчетливое сердце к чему-то стремится, она, несомненно, этого достигнет.
— Похоже, принц, что вокруг тебя воздвигается клетка. В конце концов, это великолепная клетка вся из золота.
— Да, Ана, только клетка не то место, где я хотел бы жить. Но, исключая смерть, как мне вырваться из этих тройных пут — воли фараона, страны и Таусерт? О! — продолжал он изменившимся голосом, в котором звучали и скорбь и гнев. — Пусть во всем остальном я — слуга, но в этом деле я хотел бы выбирать сам. А выбирать мне не позволено!
— Нет ли случайно какой-нибудь другой знатной женщины, принц?
— Никакой! Клянусь богами, никакой — во всяком случае, насколько я знаю. Я все-таки бы поискал, имей я свободу действий, и если б нашел, я бы взял ее, будь она хоть рыбачкой.
— Цари Кемета могут иметь достаточно большие семьи, принц.
— Знаю, разве не существуют еще десятки людей, которых я с полным правом мог бы назвать своими родственниками? Мой дед Рамсес осчастливил Кемет, я думаю, не менее чем тремя сотнями детей, и, пожалуй, в этом была какая-то доля мудрости, ибо он мог быть уверен, что пока стоит мир, еще долго будут жить капли крови, которая когда-то текла в его жилах.
— Но какая ему от этого польза, принц, — ив жизни, и в смерти? Кто-то должен порождать все эти массы людей, что населяют землю, так не все ли равно, кто их родитель?
— Решительно все равно, Ана, поскольку, к счастью или к несчастью, они так или иначе рождаются на свет. Поэтому есть ли смысл говорить о больших семьях? Хотя фараон, как и любой человек, способный платить за это, и может иметь «большую семью», но она мне не нужна, я хочу такую женщину, которая бы царствовала в моем сердце, а не только на троне. Однако устал я. Памбаса, поди сюда. Проводи моего секретаря Ану в свободную комнату рядом с моей — в ту, с росписью на стенах, которая выходит на север, и вели моим слугам позаботиться о нем так же, как они позаботились бы обо мне.
— Почему ты сказал мне, что ты писец, мой господин Ана? — спросил Памбаса, проводив меня в мою красивую комнату, где мне предстояло спать.
— Потому что таково мое ремесло.
Он посмотрел на меня и затряс головой с такой страстью, что его длинная седая борода всколыхнулась у него на груди, как храмовой стяг под легким порывом ветра.
— Нет, ты не писец, — ответил он, — ты чародей. Ты в одночасье завоевал любовь и милость его высочества, чего другие не могут добиться даже за время, что проходит между двумя разливами Сихора. Если бы ты сказал мне сразу, тебя бы приняли совсем иначе. Ты уж прости меня за то, как я обошелся с тобой в моем неведении. Я молю тебя — пожалуйста, не растай в ночной мгле, чтобы моим пяткам не пришлось отвечать под палками за твое исчезновение.
Шел четвертый час после восхода солнца, когда на следующий день я впервые в жизни оказался при дворе фараона в свите его высочества принца Сети. Это было величественное и торжественное место, ибо фараон принимал в зале судебных заседаний, где крыша поддерживается круглыми резными колоннами, а между ними стоят статуи фараонов минувших поколений. Свет, струившийся из верхнего ряда окон, выделял тот конец зала, где возвышался трон, в остальной же его части было сумеречно, даже почти темно; по крайней мере, так мне показалось после яркого солнца, сиявшего снаружи. В этом полумраке двигались, словно тени, множество людей: военачальники, вельможи, служители государства, которых вызвали ко двору, среди них мелькали жрецы в белых одеяниях и с бритыми лицами. Были здесь и другие, но эти интересовали меня меньше: предводители кочевых племен, пришедшие из пустыни, торговцы драгоценностями и другими товарами, землевладельцы и крестьяне, явившиеся с прошениями, адвокаты и их клиенты — всех не перечесть; но никому их них не было позволено перейти за ту черту, где начиналась светлая часть зала. Переговариваясь шепотом, все эти люди мелькали в полумраке, как летучие мыши в гробнице.
Мы ждали в одном из преддверий зала, между двумя колоннами; увенчанными скульптурными ликами богини Хатхор
[301]. Принц Сети был в отороченной пурпуром одежде, а его голову охватывала узкая золотая повязка с золотым
уреем, или змейкой, которую имеют право носить только фараоны. Он стоял, прислонившись к пьедесталу статуи, а мы молча стояли позади него. Некоторое время он тоже молчал, как человек, мысли которого витают где-то совсем в других сферах. Наконец он обернулся и сказал мне:
— Утомительная история! Как жаль, что я не попросил тебя захватить твой новый рассказ с собой, писец Ана, — мы бы почитали его вместе.
— Хочешь, я расскажу тебе его сюжет, принц?
— Да. Только не сейчас, а то я заслушаюсь тебя и забуду про хорошие манеры. Посмотри, — и он указал на человека средних лет с мрачным лицом и свирепым выражением в глазах, который шел через зал, как будто не замечая нас, — вот идет мой двоюродный брат Аменмес. Ведь ты знаешь его?
Я отрицательно покачал головой.
— Ну, тогда скажи, что ты о нем думаешь, вот так сразу, по первому впечатлению.
— Думаю, что у него царственный вид, что он упрям духом и крепок телом, по-своему красив.
— Это видно всем, Ана. Что еще?
— Я думаю, — сказал я, понизив голос, чтобы никто меня не услышал, — что его сердце также мрачно, как его лицо, что ревность и ненависть сделали его порочным и что он причинит тебе зло.
— Разве может человек стать порочным, Ана? Не остается ли он таким, каким родился, с начала и до конца? Мы этого не знаем, ни ты, ни я. Но ты прав: он ревнив и причинит мне зло, если это будет ему выгодно. Но скажи, кто из нас в конце концов восторжествует?
Пока я колебался, не зная, как ответить, я почувствовал, что к нам кто-то приближается. Оглянувшись, я увидел древнего старика в белом одеянии. У него было широкое лицо и лысая голова, и его глаза под густыми бровями горели, как угли среди пепла. Он опирался на посох из кедрового дерева, крепко обхватив его обеими руками, худыми и иссохшими, как руки мумии. С минуту он сосредоточенно смотрел на нас обоих, словно читая в наших душах, потом сказал звучным голосом:
— Приветствую тебя, принц.
Сети обернулся, посмотрел на него и ответил:
— Приветствую тебя, Бакенхонсу. Ты все еще жив? Когда мы с тобой расстались в Фивах, я был уверен…
— Что, вернувшись, ты найдешь меня в гробнице? Нет, принц, это я доживу до того дня, когда увижу тебя в гробнице. Да и не только тебя, но и других, которым еще предстоит сидеть на троне фараона. А почему бы нет! Хо-хо! Почему бы нет, если мне только сто семь лет, и я помню еще Рамсеса Первого и играл с его внуком, твоим дедом, когда был мальчиком? Почему бы мне еще не пожить, чтобы нянчить твоего внука — если боги даруют тебе внука? Ведь пока что у тебя нет ни жены, ни детей.
— Потому, что ты устанешь от жизни, Бакенхонсу, как уже устал я, да и боги не смогут так долго обходиться без тебя.
— Боги-то обойдутся без меня, принц, когда столь многие стекаются к их столу. К тому же они даже хотят, чтобы в Египте остался хотя бы один хороший жрец. Ки-чародей сказал мне что-то в этом духе сегодня утром. А он имел знамение с Небес во сне этой ночью.
— Почему ты был у Ки? — спросил Сети, пристально взглянув на него. — Я бы подумал, что, занимаясь одним и тем же ремеслом, вы должны ненавидеть друг друга.
— Вовсе нет, принц. Напротив, мы дополняем один другого. То есть, мы вместе обсуждаем и истолковываем наши видения, которые, кстати сказать, нынче нас очень тревожат. Этот молодой человек — писец из Мемфиса?
— Да, и мой друг. Его дедом был поэт Пентавр.
— Вот как! Я хорошо знал Пентавра. Он часто читал мне свои длинные поэмы,
под которые так легко было засыпать, — нудная писанина, вырастающая, как грубая трава на глубокой, но наполовину высохшей почве. Ты уверен, молодой человек, что Пентавр был твоим дедом? Ты совсем на него не похож. Растение совсем другой породы. И наверное знаешь, что в таком деле мы вынуждены полагаться на слово женщины.
Сети рассмеялся, а я гневно взглянул на старого жреца, хотя последняя фраза вдруг заставила меня вспомнить слова отца, который всегда говорил, что моя мать — самая большая лгунья во всем Египте.
— Ну, да ладно, — продолжал Бакенхонсу. — Ки говорил мне про тебя, молодой человек. Я не очень его слушал, но помню, это было что-то насчет внезапного обета дружбы между тобой и вот этим принцем. Упоминалась также некая чаша — алебастровая чаша — мне показалось, будто я ее уже видел. Ки сказал, что ее разбили.
Сети вздрогнул, а я гневно прервал старика:
— Что ты знаешь об этой чаше? Или ты там где-нибудь прятался, о жрец?
— О, в ваших душах, я полагаю, — ответил он мечтательно, — или, точнее, это был Ки. Но я — я ничего не знаю, да и не любопытствую. Вот если бы чаша была разбита из-за женщины, это было бы куда интереснее, даже для старика. Будь добр и ответь принцу на его вопрос, кто из них восторжествует в конце концов — он или его двоюродный брат Аменмес? Ибо именно это интересует и Ки и меня.
— Разве я ясновидящий, — возразил я с возрастающим гневом, — чтобы читать будущее?
Он, ковыляя, приблизился, положил мне на плечо похожую на клешню руку и произнес совсем другим, повелительным тоном:
— Всмотрись в этот трон и скажи, что ты там видишь.
Я невольно повиновался и устремил взгляд через зал на пустой трон. Сначала я ничего не увидел. Потом мне почудилось, что вокруг трона мелькают какие-то фигуры. Среди них выделялась фигура = Аменмеса. Гордо осматриваясь, он воссел на троне, и я заметил, что он одет уже не как принц, а как сам фараон. Но вот появились горбоносые мужчины, которые стащили его с трона. Он упал, как мне показалось в воду, потому что я увидел всплеск брызг. Потом к трону : поднялся принц Сети, ведомый женщиной, которую я не разглядел, | ибо она шла спиной ко мне. Но его я видел отчетливо — на нем была двойная корона, а в руке он держал скипетр. Он тоже исчез, будто I растаял, и появились другие, кого я не знал, хотя и подумал, что среди * них мелькнул образ принцессы Таусерт.
Потом все исчезло, и я стал рассказывать Бакенхонсу все, что я видел, говоря как будто во сне и не по своей воле. Внезапно я очнулся и рассмеялся над собственной глупостью. Но оба мои собеседника не смеялись, они смотрели на меня с серьезными лицами.
— Я так и думал, что ты в некоторой степени ясновидец, — сказал старый жрец. — Точнее, это думал Ки. Я не мог до конца поверить Ки, потому что он сказал, что сегодня утром я увижу здесь рядом с принцем кого-то, кто любит его всем сердцем, а ведь любить всем сердцем может только женщина, не так ли? По крайней мере, так думает весь мир. Ну, мы с Ки еще обсудим этот вопрос. Однако тихо! Идет фараон!
— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!
IV. Обручение при Дворе
— Жизнь! Кровь! Сила! — повторяли подобно эху все, кто был в зале, падая на колени и касаясь лбами земли. Даже принц и престарелый Бакенхонсу простерлись ниц, словно перед лицом бога. И в самом деле, проходя по освещенной солнцем части зала, увенчанный двойной короной и облаченный в царственные одежды и украшения, фараон Мернептах выглядел как бог, каким массы египтян его и считали. Это был уже старик, на лице которого годы и заботы оставили свои следы, но от всего его облика, казалось, веяло величием.
За ним, отставая на один—два шага, следовали Нехези — его визирь, сморщенный человек с пергаментно-бледным лицом и хитрыми бегающими глазами, верховный жрец Рои, и Хора — гофмейстер царского стола, и Мерану — царский рукомой, и Юи — личный писец фараона, и многие другие, кого Бакенхонсу называл мне по мере их появления. Потом пошли носители опахал и блестящая группа вельмож, которых называли друзьями царя
[302], и главные дворецкие, и не знаю еще кто; за ними охрана с копьями и в шлемах, сверкающих как золото, и чернокожие меченосцы из южной страны Куш
[303].
Только одна женщина сопровождала фараона, следуя непосредственно за ним, перед визирем и верховным жрецом. Это была дочь фараона, принцесса Таусерт, которая показалась мне и более гордой, и более величественной, чем кто-либо из присутствующих, хотя и несколько бледной и встревоженной.
Фараон приблизился к ступеням трона. Визирь и верховный жрец поспешили помочь ему подняться, ибо он был слаб от старости, но он жестом отклонил их помощь и, поманив дочь, оперся на ее плечо и так поднялся по ступеням трона. Я подумал, что эта сцена имела определенный смысл: он как будто хотел показать всем собравшимся, что эта принцесса — опора Кемета.
Он немного постоял молча, в то время как Таусерт присела на верхнюю ступеньку и подперла подбородок сверкающей бриллиантами рукой. Фараон же стоял, обводя взглядом зал. Он поднял скипетр, и все поднялись с колен, сотни и сотни людей, наполнявших зал, и их одежды зашуршали при этом, как листья под внезапным порывом ветра. Он сел на трон, и снова раздался приветственный клич, с каким обращаются исключительно к фараону.
— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!
В наступившем молчании я услышал, как он сказал, по-видимому принцессе:
— Аменмеса я вижу и других из родни тоже, но где же мой сын Сети, принц Кемета?
— Наблюдает за нами из какого-нибудь угла. Мой брат не любит придворных церемоний, — ответила Таусерт.
Тогда, подавив вздох, Сети вышел из-за колонны; за ним двинулись Бакенхонсу и я, а немного поодаль — остальные члены его свиты. Пока он шел через зал, все расступались, приветствуя его поклонами. Приблизившись к трону, он преклонил колени и произнес:
— Приветствую тебя, о царь и отец!
— Приветствую тебя, о принц и сын! Садись же, — ответил Мернептах.
Сети опустился в кресло, поставленное для него справа, у подножия трона. В другое кресло, слева, но несколько дальше от трона, сел Аменмес. Я стал за кресло принца.
Официальная часть началась. По знаку церемониймейстера самые разные люди подходили поодиночке и протягивали прошения, написанные на свитках папируса; визирь Нехези принимал их и бросал в кожаный мешок, который держал открытым черный раб. В некоторых случаях ответ на прошение, подача которого была лишь формальностью, вручался просителю тут же на месте, и тот, прикоснувшись ко лбу свитком, который, быть может, означал для него все на свете, кланялся и уходил, чтобы узнать свою судьбу. Потом явились
найхи, вожди племен, кочевавших в пустыне, и начальники крепостей в Сирии, и купцы, подвергшиеся нападению врагов, и даже крестьяне, пострадавшие от притеснений чиновников, и каждый излагал свою просьбу. Писец записывал все эти просьбы, в то время как визирь и советники отвечали на другие. Но фараон до сих пор не произнес ни одного слова. Он молча восседал на своем великолепном троне из слоновой кости и золота, как каменный бог на алтаре, устремив взгляд через зал в распахнутые двери, словно желая прочесть тайны видневшегося неба.
— Говорил я тебе, друг Ана, что придворные приемы — страшная скука, — прошептал принц, не поворачивая головы. — Может быть, тебе уже хочется вернуться в Мемфис и писать свои истории?
Не успел я ответить, как в дальнем конце зала произошло какое-то движение, привлекшее внимание принца и всех остальных. Я взглянул туда и увидел, что к трону направляется высокий бородатый человек, уже старик, хотя его черные волосы лишь слегка тронула седина. Он был в белом полотняном одеянии, поверх которого был накинут шерстяной плащ, какие носят пастухи, а в руке он держал посох. Лицо его было величественно и очень красиво, черные глаза сверкали огнем. Он медленно приближался, не глядя ни влево, ни вправо, и толпа расступалась перед ним, как если бы он был принцем. Я подумал даже, что они боятся его больше, чем любого принца, ибо они почти шарахались от него, когда он проходил мимо. Он был не один, за ним шел другой человек, очень похожий на него, но как мне показалось, еще старше, ибо его борода, спадавшая до пояса, была совершенно белой, так же как его волосы. На нем был плащ из овечьей кожи, а в руке — посох. Среди толпы поднялся шепот, и я услышал слова: «Пророки народа Израиля! Пророки народа Израиля!»
Оба уже подошли к трону и смотрели на фараона, ничем не выражая своего почтенья. Фараон молча смотрел на них. И долго стояли они так среди глубокого молчания, но фараон не произнес ни слова, и ни один из его чиновников, казалось, не смел раскрыть рта. Наконец первый из пророков заговорил чистым холодным голосом, каким мог бы говорить завоеватель:
— Ты знаешь, кто я, фараон, и в чем моя миссия.
— Тебя я знаю, — медленно произнес фараон, — как мне не знать тебя, если мы вместе играли, когда были детьми. Ты тот иудей, которого моя сестра, что спит ныне в краю Осириса, приняла и воспитала как сына, ибо нашла тебя младенцем в камышах Сихора. Да, я знаю тебя и брата твоего тоже. Но в чем твоя миссия, я не знаю.
— Вот в чем моя миссия, фараон, или скорее послание Яхве, бога Израиля, от имени которого я говорю. Разве ты до сих пор ничего не слышал? О том, что ты должен позволить его народу уйти в пустыню и совершить в честь него обряд жертвоприношения.
— Кто такой Яхве? Я не знаю Яхве, ибо служу Амону и другим богам Кемета, так почему я должен дать твоему народу уйти?
— Яхве — бог Израиля, великий Бог всех богов, и если ты не прислушаешься, фараон, ты скоро узнаешь на себе его могущество. А почему ты должен отпустить его народ — об этом спроси у принца, твоего сына. Спроси, что он видел прошлой ночью на улицах этого города и какой приговор он вынес одному из военачальников фараона. Или, если он не захочет рассказать тебе, узнай все из уст девушки, которую зовут Мерапи, Луна Израиля, — дочери Натана Левита. Выйди сюда, Мерапи, дочь Натана.
В ответ из толпы в конце зала вышла Мерапи в белом одеянии и с черным траурным покрывалом на голове, оставлявшим, однако, открытым ее лицо. Бесшумно, словно скользя, она приблизилась к трону и склонилась перед фараоном, бросив при этом быстрый взгляд на Сети. Потом она встала и стояла неподвижно, и я подумал, как она удивительно прекрасна в простом белом платье и с черным покрывалом на голове.
— Говори, женщина, — сказал фараон.
Она повиновалась и рассказала всю историю своим глубоким, медовым голосом, и никому ее рассказ не показался ни длинным, ни утомительным. Наконец она умолкла, и фараон спросил:
— Сети, сын мой, это правда?
— Это правда, о отец мой. Властью правителя этого города я приговорил капитана Хуаку к смертной казни за убийство, совершенное на моих глазах на улицах города.
— Возможно, ты поступил правильно, а возможно, и неправильно, сын мой Сети. Во всяком случае, судить тебе, и поскольку он ударил тебя, сына фараона, он заслужил смертной казни.
Он снова помолчал, глядя на небо сквозь открытые двери. Потом сказал:
— Чего же вам еще, пророки Яхве? Мой солдат, убивший человека из вашего народа, справедливо наказан. За жизнь заплачено жизнью в соответствии со строгой буквой закона. Дело завершено. И если вы все сказали, уходите.
— Велением нашего господа бога, — ответил пророк, — мы должны сказать тебе следующее, о фараон. Сними тяжкое ярмо с шеи народа Израиля. Прикажи освободить их от обязанности делать кирпичи для постройки твоих городов.
— А если я откажусь, что тогда?
— Тогда на тебя падет проклятие Яхве, фараон, и бедствие за бедствием обрушится на землю Кемета.
Внезапная ярость охватила Мернептаха.
— Как! — вскричал он. — Ты посмел угрожать мне в моем дворце и хотел бы, чтобы люди Израиля, которые разжирели на своей земле, бросили трудиться? Слушайте, мои слуги, — а вы, писцы, запишите мой приказ. Ступайте в страну Гошен и скажите израильтянам, что кирпичи, которые они делали, они будут делать и впредь и работы у них будет еще больше, чем во времена отца моего, Рамсеса. Только ни одной соломинки они теперь не получат для изготовления кирпичей. Раз они хотят праздной жизни, пусть идут и собирают солому сами: пусть собирают ее с полей
[304].
С минуту царило молчание. Потом в один голос оба пророка заговорили, указывая посохами на фараона:
— Именем господа Бога мы проклинаем тебя, фараон. Ты скоро умрешь и ответишь за этот грех. Народ Кемета мы тоже проклинаем. Гибель будет их уделом, смерть будет их хлебом, и кровь они будут пить во тьме великой. Больше того, в конце концов фараон даст нашему народу уйти.
Не ожидая ответа, они повернулись и удалились, и ни один человек не попытался их задержать. И опять в зале воцарилось молчание — молчание страха, ибо слова, произнесенные пророками, были ужасны. Фараон знал это, ибо голова его упала на грудь и лицо, только что пылавшее гневом, побелело. Таусерт прикрыла глаза рукой, как бы заслоняясь от какого-то зловещего видения, и даже Сети, казалось, было не по себе, словно это ужасное проклятие проникло в его сердце.
По знаку фараона визирь Нехези трижды ударил об пол своим жезлом и указал на дверь, дав этим традиционным жестом понять, что прием при дворе окончен, после чего все повернулись и ушли с поникшими головами, не говоря друг другу ни слова. Вскоре большой , зал опустел, остались только сановники, стража и личные слуги фараона. Когда все ушли, Сети поднялся и поклонился фараону.
— О фараон, — сказал он, — соблаговоли выслушать меня. Мы слышали зловещие слова этих людей, слова, которые угрожают твоей божественной жизни, о фараон, и призывают проклятие на Нижние и Верхние Земли. Фараон, эти люди Израиля считают, что они страдают от несправедливостей и угнетения. Так дай мне, твоему сыну, бумагу за твоей подписью и печатью, по которой я получу право поехать в страну Гошен и расследовать это дело, а потом доложу тебе всю правду. Тогда, если тебе покажется, что с народом Израиля обходятся несправедливо, ты сможешь облегчить их бремя и свести проклятие их пророков на нет. Но если тебе покажется, что они говорят неправду, твои слова останутся в силе.
Слушая его, я, Ана, подумал, что фараон снова разгневается, но я ошибся, ибо когда он заговорил, у него был тон человека, подавленного скорбью или усталостью.
— Будь по-твоему, сын, — сказал он. — Только возьми с собой большой отряд солдат, чтобы эти горбоносые собаки не причинили тебе вреда. Я им не верю, они всегда были врагами Египта. Разве не были они в сговоре с варварами, которых я разбил в великой битве? А теперь они угрожают нам от имени своего диковинного бога. Все же пусть заготовят эту бумагу, а я приложу печать. Да, постой-ка. Мне кажется, Сети, ты по своей добросердечной натуре слишком мягко относишься к этим пастухам-рабам. Поэтому я не пошлю тебя одного. С тобой поедет Аменмес, но подчиняться он будет тебе. Я сказал.
— Жизнь! Кровь! Сила! — сказали оба, показав таким образом, что приказание понято.
Ну, теперь все, — подумал я. Но не тут-то было. Фараон сказал:
— Пусть стража отойдет в конец зала и слуги тоже. Советники царя и члены семьи, останьтесь.
Немедленно все было исполнено. Я тоже хотел было удалиться, но принц удержал меня.
— Останься и запиши все, что произойдет.
Этот маленький эпизод не ускользнул от внимания фараона, хотя он и не слышал слов принца.
— Кто этот человек? — спросил он.
— Это Ана, мой личный писец и библиотекарь, о фараон, я ему доверяю. Именно он спас меня прошлой ночью.
— Ну, раз ты говоришь, сын, пусть остается при тебе, но знает, что если он предаст тебя, он умрет.
Таусерт, нахмурившись, посмотрела в нашу сторону, как будто собираясь что-то сказать. Но если и хотела, то, видимо, передумала и промолчала, ибо слово фараона не допускало ни возражений, ни изменений. Бакенхонсу тоже остался по праву советника фараона.
Когда все удалились, фараон, который некоторое время пребывал в задумчивости, поднял голову и заговорил медленно, но тоном человека, выносящего окончательное и бесповоротное суждение.
— Принц Сети, ты мой единственный сын от царицы Астнеферт из подлинно царского рода, которая ныне спит на груди Осириса. Правда, ты не перворожденный сын мой, поскольку Рамессу, — он показал на тучного добродушного человека с приятным, несколько глуповатым лицом, — старше тебя на два года. Но, как он хорошо знает сам, его мать, которая еще с нами, сирийского происхождения и не царской крови, и поэтому он не может сесть на египетский трон. Не так ли, сын Рамессу?
— Так, о фараон, — ответил Рамессу приятным голосом, — да я и не мечтаю сидеть на этом троне, я вполне доволен тем положением и богатством, которые фараон соблаговолил даровать мне как своему первенцу.
— Пусть эти слова сына моего Рамессу запишут и поместят в храме Птаха в этом городе и в храмах Птаха в Мемфисе и Амона в Фивах, — сказал фараон, — чтобы впредь никто не поставил их под сомнение.
Писцы фараона записали заявление Рамессу, и по знаку принца Сети я тоже записал его, положив папирус, который захватил с собой, себе на колено. Когда с этим было покончено, фараон продолжал:
— Итак, принц Сети, ты — наследник Египта и, возможно, так говорили пророки Израиля, вскоре займешь мое место на этом троне.
— Да будет царь жить вечно! — воскликнул Сети. — Ибо ему хорошо известно, что я не ищу ни власти, ни почестей.
— Знаю, знаю, сын мой, — настолько, что даже хотел бы, чтобы ты больше думал о той власти и тех почестях, которые перейдут к тебе, если боги того пожелают. Если же они повелят иначе, то следующий на очереди твой двоюродный брат Аменмес, в ком тоже течет царская кровь как с отцовской, так и с материнской стороны, а кто после него, я не уверен, — вероятно, моя дочь и твоя сводная сестра, царственная принцесса Таусерт, госпожа Кемета.
Тут вмешалась Таусерт:
— О фараон, — сказала она очень серьезно и настойчиво, — несомненно, мое право наследования подревней традиции выше права моего двоюродного брата.
Аменмес хотел было возразить, но фараон поднял руку, и он промолчал.
— В этом разберутся ученые. Те, кто занимаются подобными делами, — ответил Мернептах с некоторым сомнением в голосе. — Молю богов, чтобы Совету никогда не пришлось рассматривать этот высокий вопрос. Тем не менее, пусть запишут слова принцессы. Так вот, принц Сети, — продолжал он, когда запись была сделана, — ты все еще не женат, и если у тебя есть дети, они не царской крови.
— У меня нет детей, о фараон, — сказал Сети.
— В самом деле? — равнодушно произнес Мернептах. — Я знаю, у Аменмеса есть дети, ибо я их видел, но они — не от его царственной жены Унирет.
Я услышал, как Аменмес пробормотал:
— Ничего удивительного, учитывая, что она — моя тетка. — Замечание, заставившее Сети улыбнуться.
— Моя дочь, принцесса, тоже не замужем. Так что может оказаться, что источник царской крови иссякнет.
— Вот оно, — прошептал Сети так тихо, что только я его услышал.
— Поэтому, — продолжал фараон, — как ты уже знаешь, принц Сети, ибо вчера вечером я послал царственную принцессу Египта сообщить тебе об этом, я повелеваю…
— Прости, о фараон, — прервал его принц, — моя сестра ничего не говорила вчера вечером о твоем приказе; она сказала только, что сегодня утром я должен быть здесь.
— Потому что я не могла, Сети, застав тебя с посторонним человеком, которого ты отказался выслать. — И она остановила свой взгляд на мне.
— Неважно, — сказал фараон, — сейчас ты услышишь это из моих уст, что, пожалуй, и лучше. Я желаю, принц, чтобы ты, не откладывая, женился на принцессе Таусерт, дабы истинная кровь Рамсеса ожила в ваших детях. Услышь и повинуйся!
Таусерт перевела взгляд на Сети, пристально наблюдая за ним. Сидя сбоку от него на полу с разложенным на коленях папирусом, я тоже пристально следил за ним и заметил, что губы его побелели, а на лице появилось напряженное, странное выражение.
— Я слышал приказ фараона, — сказал он тихим голосом, склонив голову, и остановился.
— Хочешь что-нибудь добавить? — резко спросил фараон.
— Только одно, о фараон. Что, хотя этот брак продиктован интересами государства, он касается женщины, которая приходится мне сводной сестрой и привыкла любить меня, как родственника. Поэтому я хотел бы услышать из ее уст, хочет ли она взять меня в мужья.
Все взоры обратились к Таусерт, которая ответила холодным тоном:
— В этом деле, принц, как и во всех других делах, воля фараона — моя воля.
— Слыхал? — сказал нетерпеливо Мернептах. — И поскольку в нашем роду всегда был обычай заключать браки между родственниками, почему бы это не было и ее желанием? Да и за кого еще ей выходить замуж? Аменмес уже женат. Остается только Саптах, ее брат, который моложе ее.
— Я тоже, — пробормотал Сети, — на два долгих года. Но, к счастью, Таусерт его не слышала.
— Нет, отец мой, — решительно возразила она, — никогда калека не будет мне мужем.
Как бы в ответ на ее слова, из темного дальнего угла выступил молодой человек — вельможа небольшого роста со светлыми, как у Сети, волосами и острым умным лицом, напомнившим мне физиономию шакала (его и в самом деле прозвали за глаза Анубисом, по имени бога с головой шакала
[305]). Ковыляя, он приблизился к трону. Он был явно разгневан, ибо его щеки и маленькие глазки пылали.
— Должен ли я слушать, фараон, — сказал он тонким голосом, — как моя двоюродная сестра публично попрекает меня моей хромотой, которой меня наградила нянька, уронив грудным ребенком?
— Значит, его нянька уронила и его деда, потому что у него тоже одна нога была короче другой, — прошептал старый Бакенхонсу, — могу это засвидетельствовать, ибо видел его нагишом, когда он лежал еще в колыбели.
— Видимо, так, Саптах, разве что ты зажмешь уши, — ответил фараон.
— Она говорит, что не выйдет за меня, — продолжал Саптах, — хотя я с детства был ее рабом и не думал ни об одной другой женщине.
— По своей воле — никогда! — воскликнула Таусерт. — Молю тебя, Саптах, иди и стань рабом любой другой женщины.
— Но вот вам мое слово: придет день, когда она выйдет за меня замуж, ибо принц Сети не будет жить вечно.
— Откуда ты знаешь, Саптах? — спросил Сети. — Верховный жрец расскажет тебе другую историю.
Кое-кто из присутствующих отвернулся, чтобы спрятать невольную усмешку. И однако в этот день устами Саптаха говорил некий бог, превратив его на миг в пророка; ибо через год она действительно вышла за него замуж, лишь бы удержаться на троне в смутную пору, когда Египет не потерпел бы, чтобы женщина одна управляла страной.
Но фараон не улыбался, как некоторые из придворных. Напротив, он рассердился.
— Уймись, Саптах! — сказал он. — Кто ты такой, что смеешь пререкаться в моем присутствии и говорить о смерти царей и о том, что ты женишься на принцессе? Еще одно такое слово, и ты отправишься в изгнание. А теперь слушайте все. Я почти склоняюсь к тому, чтобы объявить мою дочь, царственную принцессу, единственной наследницей трона, ибо вижу в ней больше силы и мудрости, чем в ком-либо другом из моего рода.
— Если такова воля фараона, пусть будет, как хочет фараон, — смиренно сказал Сети. — Я вполне сознаю, что недостоин столь высокого положения, и клянусь всеми богами, что моя возлюбленная сестра не найдет более верного подданного, чем я.
— Ты хочешь сказать, Сети, — прервала его Таусерт, — что ты охотнее откажешься от своего права на двойную корону, чем женишься на мне? Поистине, я польщена. Сети, кто бы из нас ни царствовал, я не выйду за тебя замуж.
— Какие слова я слышу! — вскричал Мернептах. — Есть ли в этой стране хоть один, кто посмеет сказать, будто можно ослушаться приказа фараона? Запишите, писцы, а вы, чиновники, объявите народу от Фив до самого моря, что через три дня ровно в полдень в храме Хатхор в этом городе принц и царский наследник Сети Мернептах, Любимец Ра, женится на царственной принцессе Египта, Лилии любви, Любимице Хатхор, Таусерт, что приходится дочерью мне — богу.
— Жизнь! Кровь! Сила! — вскричал весь двор.
Затем какой-то высокопоставленный сановник подвел принца Сети к трону, а другой подвел к нему принцессу Таусерт, так что оба оказались рядом, вернее — лицом друг к другу. По старинному обычаю принесли золотую чашу и наполнили ее красным вином — оно напомнило мне кровь. Таусерт взяла чашу и, опустившись на колени, передала ее принцу, который отпил из нее и вернул ее принцессе, чтобы она также отпила вина в знак торжественного обручения. Не та ли сцена выгравирована на широких браслетах из золота, которые впоследствии Сети надевал, сидя на троне, — те же самые браслеты, которые я еще позже надел своими руками на запястья мертвой Таусерт.
Потом Сети протянул руку, и Таусерт коснулась ее губами, а он, наклонившись, поцеловал ее в лоб. Наконец фараон, спустившись на последнюю ступеньку трона, дотронулся скипетром сперва до головы принца, потом до головы принцессы, благословляя их обоих от своего имени, от имени своего
Ка, или двойника, и от имени духов и
Ка всех предков, царей и цариц Кемета, утверждая таким образом их право наследовать ему после того, как он отойдет в лоно богов.
Закончив обряд, он торжественно удалился, сопровождаемый толпой придворных, в то время как его телохранители шли впереди и позади него. Он опирался на руку принцессы Таусерт, которую любил больше всех на свете.
Некоторое время спустя я стоял наедине с принцем в его комнате, в которой увидел его впервые.
— Вот все и кончено, — произнес он веселым тоном, — и скажу тебе, Ана, что я совершенно счастлив. Тебе когда-нибудь случалось дрожать от холода на берегу реки в зимнее утро, боясь зайти в воду, а потом, когда ты наконец входил, не испытывал ли ты удовольствия, чувствуя, что ледяная вода освежает тебя и тебе уже не холодно, а жарко?
— Да, принц. Вот когда выходишь из воды и дует ветер и нет солнца — тогда тебе еще холоднее, чем было вначале.
— Верно, Ана. И поэтому не следует выходить из воды. Нужно оставаться там, пока не утонешь или пока тебя не сожрет крокодил. Но скажи, я хорошо держался?
— Старый Бакенхонсу Сказал мне. принц, что он присутствовал при многих царских обручениях — кажется, он упомянул одиннадцать — и не помнит ни одного, которое прошло бы с таким достоинством и тактом. Он сказал также, что то, как ты поцеловал в лоб ее высочество, было совершенством, как и все твое поведение после первого твоего возражения.
— И таким бы оно и осталось, Ана, если бы меня не заставили делать нечто большее, чем поцеловать ее в лоб, — ведь к этому я привык с детства. О, Ана, — добавил он почти со стоном, — ты уже становишься таким же придворным, как все они, придворным, который не может сказать правду. Впрочем, я ведь тоже не могу, так зачем же упрекать тебя? Расскажи мне еще раз о твоей женитьбе, Ана, о том, как все началось и чем кончилось.
V. Пророчество
Не знаю, виделся ли снова принц Сети с Таусерт до свадьбы, ибо он никогда не говорил со мной на эту тему. Да меня и не было там при этом событии: мне было позволено вернуться в Мемфис, чтобы устроить свои дела и продать дом, поскольку я был назначен личным писцом его высочества. Так прошло целых четырнадцать дней после обряда обручения, прежде чем я снова оказался перед входом во дворец принца. Меня сопровождал слуга, который вел осла, нагруженного всеми моими рукописями и другим имуществом, которое перешло ко мне от моих предков. Прием, оказанный мне на этот раз, был совсем иным, нежели при первом моем появлении. Не успел я подняться на ступени, как появился старый камергер Памбаса, сбежав вниз мне навстречу с такой поспешностью, что его белые одежды и борода пришли в некоторый беспорядок.
— Привет тебе, высокоученый писец, высокочтимый Ана, — проговорил он, задыхаясь. — Очень рад видеть тебя, ибо его высочество каждый час спрашивает, не вернулся ли ты, и бранит меня за то, что тебя ещё нет. Поистине, задержись ты в пути еще на один день, он послал бы меня на поиски, — я и так выслушал немало резких слов за то, что не послал с тобой охрану, — как будто визирь Нехези оплатил бы хоть одного стражника без специального приказа фараона. О, светлейший Ана, удели мне хоть частицу чар, которыми ты, несомненно, завоевал любовь нашего царственного господина, и я хорошо заплачу тебе за это.
— С удовольствием, Памбаса. Вот секрет! Пиши лучшие рассказы, чем пишу я, вместо того, чтобы пересказывать их, и он полюбит тебя больше, чем меня. Но скажи — как прошла свадьба? Я слышал, что все было великолепно.
— Великолепно? Как будто бог Осирис снова венчался с богиней Исидой в небесных чертогах. Его высочество, жених, был одет так же, как бог, — да, в одеждах и священных украшениях Амона. А процессия! А пир, который устроил фараон! Принц был так переполнен радостью и всем этим великолепием, что еще до конца торжества я заметил, что он сидит с закрытыми глазами, ослепленный блеском: золота и бриллиантов и красотой своей невесты. Он сам мне сказал об этом, чтобы я не подумал, будто он спит. А потом раздавали подарки, каждому из нас соответственно положению. Я получил… Ну, это неважно. И знаешь, Ана, я не забыл и про тебя. Зная, что все кончится еще до твоего возвращения, я шепнул твое имя на ухо его высочеству, предложив сохранить для тебя твой подарок.
— В самом деле, Памбаса? И что он сказал?
— Сказал, что отдаст тебе его сам. Когда же я удивился, ничего не видя у него в руках, он добавил: «Вот он», — и показал на кольцо небольшой ценности с гравированной надписью «Любимец Тота и Царя». Мне кажется, он просто хочет снять его, чтобы надеть другое, гораздо красивее, которое подарила ему ее высочество.
Тем временем рабы разгрузили и увели осла. Мы прошли через передний зал, где как всегда было много людей, во внутренние покои дворца.
— Сюда, — сказал Памбаса. — Мне приказано провести тебя к принцу, где бы он ни был, а он сейчас сидит с ее высочеством в переднем зале, где они принимали поздравления посланцев из дальних городов. Последние отбыли с полчаса назад.
— Но сперва я должен переодеться, почтеннейший Памбаса, — начал было я.
— Нет, нет, приказано срочно, я не смею ослушаться. Входи же, — и он эффектно, но учтиво отдернул дорогой занавес.
— Клянусь Амоном, — услышал я усталый возглас и сразу узнал голос принца, — еще какие-нибудь сановники или жрецы. Приготовься, сестра, приготовься!
— Прошу тебя, Сети, — ответил другой голос, голос Таусерт, — приучись называть меня надлежащим именем. Я ведь уже не сестра тебе, к тому же я сводная сестра.
— Прошу прощения, — сказал Сети. — Приготовься, Царственная Супруга, приготовься!
Теперь занавес был полностью открыт, но я стоял, не решаясь переступить порог, пыльный с дороги, растерянный и, сказать по правде, слегка дрожащий от страха перед ее высочеством. Мне видна была великолепная комната, полная света, в центре ее на одном из двух поставленных рядом стульев, украшенных резьбой и золотом, сидела в пышном одеянии ее высочество, безупречно прекрасная и спокойная. Она сосредоточенно рассматривала раскрашенный свиток, оставленный, очевидно, последними посланцами, ибо другие подобные свитки были аккуратно сложены на столе.
Второй стул был свободен, ибо принц беспокойно ходил взад и вперед по комнате; его парадный наряд был в некотором беспорядке, золотая повязка с уреем сдвинулась со лба, потому что принц имел привычку взъерошивать в задумчивости волосы. Поскольку я стоял в тени занавеса, где Памбаса меня оставил, меня не видели, и разговор продолжался.
— Я-то готова, муж мой. А вот ты, прости меня, выглядишь не так, как должно. Почему ты отослал писцов и приближенных до того, как церемония закончилась?
— Потому что они утомили меня, — сказал Сети, — своими непрерывными поклонами, восхвалениями и формальностями.
— Не вижу в них ничего особенного. А теперь придется вернуть их обратно.
— Кто там? Входите! — крикнул принц. Тогда я вошел и простерся перед ним ниц.
— Как! — воскликнул он. — Это Ана! Вернулся из Мемфиса! Подойди поближе, Ана, и тысячу раз добро пожаловать. Знаешь, я ведь принял тебя за какого-нибудь жреца или правителя какого-нибудь нома
[306], о котором я никогда не слышал.
— Ана! Какой Ана? — спросила принцесса. — Ах да, тот самый писец. Сразу видно, что он вернулся из Мемфиса, — и она окинула взглядом мою пыльную одежду.
— Царственная принцесса, — пробормотал я в замешательстве, — не брани меня за то, что я предстаю перед тобой в таком виде. Памбаса привел меня сюда против моей воли по приказу принца.
— Это верно? Скажи, Сети, этот человек принес важные вести из Мемфиса, раз ты так спешил его увидеть?
— Да, Таусерт, по крайней мере так мне кажется. Твои записи в порядке и при тебе, Ана?
— В полном порядке, принц, — ответил я, хотя и не знал, о каких записях он говорит, разве что о моих рукописях.
— В таком случае, мой господин, я не буду мешать тебе заниматься вестями из Мемфиса и его записями, — сказала принцесса.
— Да, да. Мы должны поговорить о них, Таусерт. А также о миссии в страну Гошен, куда Ана отправляется со мной завтра.
— Завтра! Но ведь только сегодня утром ты сказал, что выезжаешь через три дня.
— В самом деле, сестра — то есть, жена? Значит, я просто не был уверен, успеет ли Ана вернуться из Мемфиса. Ведь он должен сопровождать меня в моей колеснице.
— Писец — в твоей колеснице? Право же, было бы уместнее, чтобы с тобой ехал твой двоюродный брат Аменмес.
— К Сету Аменмеса! — воскликнул он. — Как будто ты не знаешь, Таусерт, что мне противен этот человек с его хитрой, но пустой болтовней.
— Вот как! Прискорбно слышать. Потому что, уж если ты кого-то ненавидишь, ты не умеешь этого скрыть, а Аменмес может быть опасным врагом. Ну, ладно, если не Аменмес (которого я, кстати сказать, ненавижу), то есть еще Саптах.
— Благодарю покорно. Я не сяду в одну колесницу с шакалом.
— С шакалом! Я не люблю Саптаха, но назвать отпрыска царской крови шакалом! Ну, наконец, есть визирь Нехези или начальник эскорта — забыла его имя.
— Не думаешь ли ты, Таусерт, что я жажду побеседовать об экономике государства с этим старым денежным мешком или слушать хвастливые рассказы полуобразованного нубийского мясника о подвигах, которых он не совершал?
— Не знаю, муж мой. Но о чем ты будешь говорить с этим Аной? О стихах и о всяких глупостях, я думаю. Или, может быть, о Мерапи, Луне Израиля, которую, как я понимаю, вы оба считаете красавицей. Ну, в общем, делай как хочешь. Ты говорил, что я не должна сопровождать тебя в этой поездке, — я, твоя молодая жена, а теперь, оказывается, ты хочешь взять вместо меня какого-то сочинителя рассказов, которого подобрал всего несколько дней назад, — твоего близнеца в боге Ра! Счастливого пути, мой господин! — И она поднялась со стула, оправляя обеими руками свои пышные одежды. Теперь рассердился Сети.
— Таусерт, — сказал он, топнув ногой, — тебе не следовало говорить такие слова. Ты прекрасно знаешь, что я не беру тебя с собой потому, что поездка может быть опасной. Более того, так хочет фараон.
Она обернулась и сказала с холодной учтивостью:
— Ну, тогда прости, и спасибо за трогательную заботу о моей безопасности. Я не знала, что эта миссия может быть опасной. Так ты последи, Сети, чтобы с писцом Аной не случилось ничего плохого.
С этими словами она поклонилась и исчезла за занавесом.
— Ана, — сказал Сети, — сосчитай, а то у меня не получится так быстро, сколько минут осталось до четырех часов завтрашнего утра, когда я велю подать мою колесницу? И еще: ты не знаешь, можно ли уехать через Сирию? А если нет, то через пустыню в Фивы и вниз по Нилу весной?
— О мой принц, мой принц! — сказал я. — Молю тебя, отпусти меня совсем. Позволь мне куда угодно уйти, лишь бы подальше от языка ее высочества.
— Странно, как одинаково мы обо всем думаем, даже о Мерапи и о языках царственных дам. Слушай мой приказ: никуда ты не уйдешь. Если встанет вопрос об уходе, то первыми уйдут другие. Больше того, ты и не можешь уйти, ты должен остаться и нести свое бремя, как я несу свое. Вспомни разбитую чашу, Ана.
— Я помню, мой принц, но лучше бы меня высекли розгами, чем такими словами, как те, что я должен выслушивать.
Однако в эту же ночь, после того как я оставил принца, мне суждено было выслушать более приятные слова от той же самой изменчивой, а может быть — очень хитрой царственной дамы. Она прислала за мной, и я пошел, мучаемый страхом. Я застал ее одну в маленькой комнате; правда, в другом конце комнаты сидела старая придворная дама, но она была явно глухая, что, возможно, и было причиной, почему выбор пал на нее. Таусерт очень учтиво пригласила меня сесть против нее и обратилась ко мне со следующими словами — не знаю, говорила ли она перед этим с принцем или нет.
— Писец Ана, прошу простить меня, если сегодня, от усталости или в раздражении, я сказала тебе и про тебя то, о чем сейчас жалею. Я знаю, ведь ты, в ком течет благородная кровь Кемета, не разгласишь то, что слышал в этих стенах.
— Я скорее дам отрезать себе язык, — сказал я.
— Видимо, писец Ана, мой повелитель-принц проникся большой к тебе любовью. Как и почему это вдруг случилось — ведь ты не женщина — мне непонятно, но я уверена, что раз это так, значит в тебе есть что-то такое, за что можно любить тебя, ибо я никогда не видела, чтобы принц проявлял столь глубокое уважение к человеку, который бы не был благородным и достойным. При таком положении вещей совершенно ясно, что ты станешь любимцем его высочества, человеком, которому поверяют свои думы, и что он будет высказывать тебе самые сокровенные мысли, может быть даже такие, которые он скрывает от советников фараона и даже от меня. Короче говоря, ты станешь влиятельным человеком в стране, может быть даже самым могущественным — после фараона — хотя с виду останешься только личным писцом.
Не стану притворяться, будто мне этого хотелось бы, — я бы хотела, чтобы у моего мужа был только один настоящий советчик — я сама. Но видя, как обстоят дела, я склоняю голову и надеюсь, что это все к лучшему. Если когда-нибудь, поддавшись ревности, я скажу тебе что-нибудь резкое, как сегодня, прошу тебя заранее простить меня за то, что еще не случилось. Прошу тебя, писец Ана, постарайся сделать все возможное, чтобы благотворно влиять на принца, — ведь он так легко идет за теми, кого любит. И пожалуйста, — ты ведь умный и вдумчивый, — вникни в государственные дела и в интересы нашего царственного дома, чтобы направлять принца по верному пути, если он обратится к тебе за советом. А если будет нужно, приходи ко мне, и я объясню все, что тебе покажется непонятным.
— Я сделаю все, что в моих силах, о принцесса, — хотя кто я такой, чтобы прокладывать дорогу, по которой должны ступать цари? И потом, я думаю, что при всей мягкости его натуры принц такой человек, который, в конечном итоге, всегда сам выбирает свой путь.
— Может быть, ты и прав, Ана. Во всяком случае, спасибо тебе. И поверь, что во мне ты всегда найдешь не врага, а друга, хотя по вспыльчивости своей натуры я не всегда владею собой, и это могло бы навести тебя на иные мысли, а теперь я скажу тебе еще одну вещь, только пусть это будет между нами. Я знаю, что принц любит меня скорее как друга и сестру, чем как жену, и что сам он никогда бы не подумал жениться на мне — что, может быть, и естественно. Знаю и то, что в его жизни будут и другие женщины, хотя возможно их будет меньше, чем у большинства царей, потому что понравиться ему довольно трудно. Я не жалуюсь, ибо таков обычай нашей страны. Я боюсь только одного — что какая-нибудь женщина перестанет быть его игрушкой, завладеет его сердцем и полностью подчинит его себе. В этом, Ана, я прошу твоей помощи, как и в других делах, ибо я хотела бы во всех отношениях, а не только по имени быть владычицей Кемета.
— О принцесса, как же я могу сказать принцу — «Люби ту или другую женщину лишь настолько — и не больше»? И почему ты боишься того, чего нет и возможно никогда не случится?
— Я и сама не знаю, как ты это скажешь ему, писец, но все-таки прошу тебя — скажи, если сможешь. А почему я боюсь? Потому что мне кажется, будто на меня падет холодная тень какой-то женщины и воздвигнет черную стену между его высочеством и мной.
— Это всего лишь мнительность, о принцесса.
— Может быть. Надеюсь, что так. И все же думаю иначе. О, Ана, неужели ты, изучивший сердца мужчин и женщин, не можешь понять мое положение? В замужестве я не могу надеяться, что меня будут любить как других женщин, — я жена и все же не жена. Я вижу, ты думаешь: зачем же тогда ты вышла замуж? Что ж, я уже столько тебе рассказала, что скажу и об этом. Во-первых, потому что принц совсем не такой, как другие мужчины, и по-своему выше их, — да, намного выше любого, за кого я, наследная принцесса Египта, могла бы выйти замуж. Во-вторых, если мне не суждено быть любимой, что мне остается, кроме честолюбия? По крайней мере, я хотела бы стать великой царицей и вызволить мою страну из пучины бед, в которую она погрузилась, и написать свое имя в книгах истории, а это я могла бы сделать, только взяв в мужья наследника фараона, как велит мне мой долг.
Она задумалась и потом добавила:
— Ну вот, я раскрыла тебе все мои мысли. Насколько это мудро, знают одни боги и покажет время.
— О принцесса, — сказал я, — благодарю тебя за доверие. Постараюсь помочь тебе, если смогу, но я смущен. Я, скромный человек, хотя и благородной крови, который еще совсем недавно был всего лишь писцом и ученым, мечтатель, познавший горе утрат, внезапно волей случая или божественным велением вознесен до дружеского расположения наследника Египта и, кажется, завоевал даже твое доверие. Как мне вести себя в этом новом положении, к которому я воистину никогда не стремился?
— Не знаю, у меня самой достаточно сложностей и огорчений. Но несомненно, божественное веление, о котором ты говоришь, предопределило и то, чем все это кончится. А пока хочу сделать тебе подарок. Скажи, писец, ты когда-нибудь владел каким-нибудь оружием, кроме пера?
— Да, принцесса, еще мальчиком я научился владеть мечом. Кроме того, хотя я и не люблю войн и кровопролития, несколько лет назад я сражался в великой битве против варваров, когда фараон призвал молодых людей Мемфиса выполнить свой долг. В честном поединке я убил двоих собственными руками, хотя один из них чуть меня не прикончил. — И я показал шрам, который просвечивал
сквозь мои седые волосы в том месте, куда угодило вражеское копье.
— Это хорошо. Я больше люблю солдат, чем марателей папируса. Подойдя к шкафу из раскрашенных камней, она достала из него удивительную рубашку, сплетенную из бронзовых колец, и кинжал, тоже из бронзы, с золотой рукояткой, которая заканчивалась изображением львиной головы, и подала их мне, говоря:
— Это трофеи, которые мой дед, Рамсес Великий, захватил, сражаясь в молодости с принцем Хитой, — он убил Хиту своими руками в той самой битве в Сирии, о которой твой дед сочинил стихи. Носи эту кольчугу, которую не пробьет ни одно копье, под своей одеждой.
А этим кинжалом опояшешься, когда вы окажетесь среди израильтян, — я им не верю. Я и принцу дала такую же кольчугу. Вмени себе в обязанность следить, чтобы он носил ее днем и ночью. Пусть твоей обязанностью будет также защищать его при необходимости этим кинжалом. А теперь прощай.
— Пусть все боги прогонят меня из Полей Иалу
[307], если я обману твое доверие, — ответил я и удалился, дивясь обороту событий и надеясь хоть немного поспать. Однако вышло так, что эта возможность представилась мне лишь спустя некоторое время.
Ибо, пройдя по коридору вслед за одной из служанок, кого я увидел в конце его, как не Памбасу, который поджидал меня, чтобы сообщить, что принцу необходимо мое присутствие. Я спросил, возможно ли это, ведь он сам отослал меня на ночь. Памбаса ответил, что знает только одно: ему приказано провести меня в комнату принца, ту самую, где я впервые увидел его высочество. Туда я и явился и нашел там принца, который грелся у очага, ибо ночь была холодная. При виде нас он велел Памбасе отослать прочь всех слуг, потом, заметив у меня в руках бронзовую кольчугу и кинжал, точнее короткий меч, сказал:
— Ты был у принцессы, не правда ли, и она имела с тобой долгий разговор. Догадываюсь, о чем, я ведь знаю ее повадки с самого детства. Она велела тебе следить за мной, истинная правда, включая тело и душу и все, что исходит от души, — о, и многое другое. Она дала тебе эти сирийские трофеи, чтобы ты их носил, когда мы будем среди израильтян, — она и мне их вручила, она такая осторожная и предусмотрительная! А теперь слушай, Ана. Мне очень жаль лишать тебя отдыха, ведь ты устал с дороги и от всех этих разговоров, но нас ждет старый Бакенхонсу, которого ты знаешь, а с ним великий маг Ки, по-моему, ты его еще не видел. Это человек удивительных знаний, и в некотором смысле в нем есть даже что-то нечеловеческое. По крайней мере он совершает странные акты волшебства, и временами кажется, что его взору открыты и прошлое и будущее, — хотя кто знает, правильно ли он их видит, ведь мы не знаем ни того ни другого. Несомненно, он несет — или думает, что несет, — мне какую-то весть, ниспосланную небом, и я подумал, что ты тоже захочешь ее услышать.
— Очень хочу, принц, если я этого достоин и если защитишь меня от гнева этого чародея, — его я боюсь.
— Иногда гнев переходит в доверие, Ана. Разве ты только что не испытал этого в случае с ее высочеством? Я же говорил тебе, что это может случиться. Тише. Они идут. Садись и приготовь свои вощеные дощечки, чтобы записать то, что они скажут.
Занавеси раздвинулись, и вошел престарелый Бакенхонсу, опираясь на свой посох, а за ним другой человек, сам Ки, в белом одеянии и с бритой головой, ибо он был наследственным жрецом храма Амона в Фивах и посвящен в таинства Исиды. Кроме того, он занимал должность
керхеба, или главного мага Кемета. На первый взгляд в этом человеке не было ничего необычного. Напротив, по внешности его легко было бы принять за пожилого купца; он был тучен и низкого роста, с ожиревшим и улыбающимся лицом. Но на этом веселом лице очень странными казались его глаза, скорее серые, чем черные. В то время как лицо словно улыбалось, эти глаза смотрели в пустоту, в ничто, как смотрят глаза статуи. Они и в самом деле напоминали глаза или, скорее, глазницы каменной статуи — так глубоко они были посажены. Я лично могу только сказать, что они вызывали во мне благоговейный ужас, и я решил, что кем бы Ки ни был, во всяком случае он не шарлатан.
Эта странная пара поклонилась принцу и по его знаку каждый сел — Бакенхонсу на стул, так как ему трудно было бы потом встать, а Ки, который был моложе, — на пол в позе писца.
— Ну, что я тебе говорил, Бакенхонсу? — произнес Ки звучным глубоким голосом, закончив фразу странным смешком.
— Ты сказал мне, маг, что я найду принца именно в этой комнате, которую, как я теперь вижу, ты описал во всех подробностях, хотя мы никогда тут не были. А еще ты сказал, что здесь будет писец Ана, — он будет сидеть на полу, имея при себе вощеные дощечки и
стило — палочку для письма, и странную рубашку из бронзовой сетки, и меч с рукояткой в виде льва.
— Как странно, — произнес принц, — но прости меня, если я скажу, что Бакенхонсу видит все эти вещи. Если бы ты, о Ки, сказал нам, что написано на дощечках Аны, то есть чего никто из нас не может видеть, это было бы еще более странным, — если, конечно, на них что-нибудь написано.
Ки усмехнулся и устремил глаза в потолок. Спустя мгновение он сказал:
— Писец Ана пользуется собственным кодом, расшифровать его нелегко. И все-таки я вижу, что там написана сумма, полученная им за какой-то дом в каком-то городе, который не назван. Также — сумма, которую он уплатил за себя, за слугу и за корм для осла на каком-то постоялом дворе, где останавливался во время путешествия. Столько-то и столько-то. Кроме того, там есть перечень свитков папируса и слова «синий плащ», а потом что-то стерто.
— Это верно, Ана? — спросил принц.
— Совершенно верно, — ответил я в страхе, — только слова «синий плащ», записанные на дощечке, я потом тоже стер.
Ки усмехнулся и перевел взгляд с потолка на мое лицо.
— Может быть, твое высочество пожелает, чтобы я сказал что-нибудь из того, что написано на дощечках его памяти, а не только на вощеных дощечках, которые он держит в руке? Их-то расшифровать легче, чем другие, и я вижу на них много интересного. Например, слова, которые, видимо, были сказаны ему по секрету одной высокой особой час тому назад, слова государственного значения, как я думаю. Или определенное высказывание — по-моему, твоего высочества, насчет того, как холодная дрожь, которая охватывает стоящего на берегу реки в холодный день, переходит в ощущение теплоты, когда тот входит в воду, — и ответ на это высказывание. Или слова, произнесенные в этом дворце, когда была разбита алебастровая чаша. Кстати, писец, ты выбрал очень удачное место, чтобы спрятать свою половинку разбитой чаши, — в ящике с двойным дном, который стоит в твоей комнате; этот ящик обвязан шнурком и запечатан скарабеем времен Рамсеса. Думаю, что вторая половинка чаши немного ближе. — И повернувшись, он посмотрел на стену, где я не видел ничего, кроме алебастровых плит.
Я сидел, открыв рот от изумления, ибо как мог этот человек узнать про все эти вещи? А принц засмеялся и сказал:
— Ана, я начинаю думать, что ты плохо держишь доверенные тебе секреты. По крайней мере, я бы так подумал, если бы не то, что у тебя просто не было времени передать кому-либо слова принцессы. И что ты едва ли знаешь трюк со скользящей панелью в этой стене — ведь я никогда не показывал тебе этот тайник.
Ки снова усмехнулся, и даже на широком морщинистом лице Бакенхонсу появилась улыбка.
— О принц, — начал я, — клянусь тебе, что я никогда не обмолвился ни одним словом.
— Знаю, друг, — прервал меня принц, — но, очевидно, есть другие, кому не нужно слов, ибо они умеют читать Книгу Мыслей. Поэтому лучше не встречаться с ними слишком часто, поскольку все люди имеют мысли, которые должны быть известны только им да богам. Маг, с чем ты пришел ко мне? Говори, как если бы мы были одни.
— Хорошо, принц. Ты отправляешься в страну к израильтянам — об этом уже все прослышали. Так вот, Бакенхонсу и я, любя тебя и зная, как много значит для Кемета твое благополучие, а также еще два ясновидца из моей школы, независимо друг от друга, постарались проникнуть в будущее и узнать, чем кончится твое путешествие. Хотя то, что мы узнали, разнится в деталях, но в основном оно совпадает. Поэтому мы сочли своим долгом рассказать тебе то, о чем мы узнали.
— Продолжай, керхеб.
— Итак, первое: жизни твоего высочества угрожает опасность.
— Жизни всегда угрожает опасность, Ки. Я с ней расстанусь? Если так, не бойся, скажи прямо.
— Этого мы не знаем, но думаем, что нет, судя по остальному, что нам известно. Мы узнали, что тебе грозит не только телесная опасность. Во время своей поездки ты встретишь женщину, которую полюбишь. Мы думаем, что эта женщина принесет много горя, а также много радости.
— Тогда, пожалуй, стоит туда поехать, Ки, ведь многие едут гораздо дальше. Скажи, я встречал эту женщину?
— Здесь мы несколько смущены, принц, ибо нам кажется, если, конечно, мы не обманываемся, что ты встречал ее, и не раз; что ты знаешь ее уже тысячи лет, так же как я этого человека, что сидит сейчас рядом с тобой.
Лицо Сети выражало глубокий интерес.
— Что ты имеешь в виду, маг? — спросил он, впиваясь в него взглядом. — Как могу я, человек еще молодой, знать женщину или мужчину тысячи лет?
Ки сосредоточенно посмотрел на него своими странными глазами и ответил:
— У тебя много имен, принц. Но есть одно из них — Вновь Возрождающийся?
— Да, это так. Не знаю, что это значит, но меня назвали так из-за какого-то сна, который приснился моей матери перед моим рождением. Это ты должен сказать мне, что это значит, поскольку ты так много знаешь.
— Не могу, принц. Эта тайна — не из тех, что мне открыты. Однако был один старик, тоже маг, как и я, у которого я в молодости многому научился, — Бакенхонсу хорошо знал его. Он говорил мне, — потому что ему это открылось — что люди не живут только один раз, чтобы потом навеки уйти из жизни. Он сказал, что они живут много раз и во многих формах и образах, хотя и не всегда в этом мире, и что каждая из жизней отделена от другой стеной тьмы.
— Но если это так, какой толк в жизнях, которые мы не помним, когда смерть закрывает дверь за каждой из них?
— В конце концов двери могут открыться, принц, и мы увидим всю анфиладу, через которую прошли, от самого начала до самого конца.
— Наша религия, Ки, учит нас, что после смерти мы вечно будем жить в нашей собственной плоти, которую мы обретаем в день Воскресения. А вечность, не имея конца, не может иметь и начала — это круг. Поэтому если верно одно, то есть — что мы продолжаем жить, то, очевидно, должно быть верно и другое, то есть, что мы всегда жили.
— Ты хорошо рассуждаешь, принц. В старые времена, еще до того, как жрецы заключили человеческую мысль в каменные блоки и построили на них святилища для тысячи богов, многие считали такое рассуждение правильным, ибо тогда они считали, что есть только один бог.
— Как считают эти израильтяне, которых я собираюсь посетить. Что ты скажешь об их боге, Ки?
— Что он и наши боги — одно и то же, принц. В глазах людей бог имеет много лиц, и каждый клянется, что тот бог, которого видит он, — единственный истинный бог. Однако они ошибаются, ибо все боги — истинны.
— А может быть, ложны, Ки, — разве что даже ложь есть часть истины. Ну, ладно. Ты сказал мне о двух опасностях: одна угрожает моему телу, другая — сердцу. Может быть, твоей мудрости открыта еще какая-нибудь третья?
— Да, принц. Третья опасность в том, что эта поездка может в конце концов стоить тебе трона.
— Если я умру, я, конечно, потеряю трон.
— Нет, принц, — если ты будешь жить.
— Даже если так, Ки, я мог бы, думаю, вынести жизнь, занимая и более скромное место, чем трон. Другое дело, вынесла ли бы такую жизнь ее высочество. Так ты говоришь, что, если я поеду в страну Гошен, фараоном буду не я, а другой.
— Мы не говорим этого, принц. Верно, что наше искусство явило нам другого на твоем месте — это будет время проклятий и чудес, и гибели тысяч людей. Но когда мы смотрим еще раз, мы видим не другого, а тебя — ты снова занимаешь это место.
Тут я, Ана, вспомнил о видении, которое явилось мне в зале
фараона.
— Это даже хуже, чем я думал, Ки, ибо расставшись с короной, я бы наверно не захотел надеть ее снова, — сказал Сети. — Кто показывает вам все эти вещи и как?
— Наши
Ка — наши тайные
Я, о принц. Они показывают нам эти вещи многими способами. Иногда через сны и видения, иногда — в виде картин на поверхности воды, а иногда в письменах на песке пустыни. Всеми этими способами и множеством других наши
Ка, черпая из бесконечного источника мудрости, который скрывается в существе всякого человека, позволяют нам улавливать проблески истины, так же как они даруют нам, посвященным, способность творить чудеса.
— Проблески истины. Значит, все, о чем ты говорил мне, — истинно?
— Мы так полагаем, принц.
— И будучи истинным, должно свершиться. Так какой же смысл предупреждать меня о том, что должно свершиться? Двух истин быть не может. Что я, по-вашему, должен делать? Отказаться от этой поездки? Почему вы сказали, что я должен ехать, — ведь если бы я не поехал, истина стала бы ложью, а это невозможно. Вы говорите мне, что мое путешествие предопределено свыше и что, если я поеду, свершится то-то и то-то. И однако велите мне не ехать, ибо именно таков смысл ваших речей. О керхеб Ки и Бакенхонсу, вы, несомненно, великие маги и мудрецы, но есть более великие, чем вы, и они правят миром, и есть мудрость, перед которой ваша мудрость — лишь капля воды перед Сихором. Благодарю вас за предостережение, но завтра утром я еду в страну Гошен выполнить приказ фараона. Если я вернусь, мы поговорим об этих вопросах более подробно здесь, на земле. Если не вернусь, — кто знает? — возможно, мы побеседуем о них где-то в другом месте. Прощайте.
VI. Страна Гошен
Принц Сети и вся его свита — весьма большая компания — благополучно прибыли в страну Гошен; я, Ана, ехал с ним в его колеснице. Тогда, как и теперь, это была плодородная земля, совершенно ровная за последней цепью пустынных холмов, меж которыми мы проехали по узкой извилистой тропе. Повсюду эта земля орошалась каналами, а между ними расстилались только что засеянные хлебные поля. Были и другие поля, покрытые зелеными травами, на которых пестрели сотни животных, стреноженные или на привязи, а на более сухих местах паслись стада овец. Город Гошен — если его можно так назвать — оказался неприглядным скоплением построенных из ила хижин, в центре стояло здание, тоже из ила, с двумя кирпичными колоннами перед фасадом; нам сказали, что это храм и что лишь верховный жрец может входить в него, точнее в его внутреннее святилище. При виде этого храма я засмеялся, но принц упрекнул меня, сказав, что нельзя судить о духе по его телу или о боге по его дому.
Мы разбили лагерь за чертой этого города и вскоре узнали, что его население, как и население любых других городов, насчитывает не менее десятка тысяч, ибо посмотреть на нас стекалось больше народу, чем я мог сосчитать. У мужчин были свирепые глаза и носы с горбинкой; молодые женщины отличались хорошими фигурами и привлекательной внешностью; женщины постарше выглядели толстыми и неуклюжими в своем большинстве; дети были чрезвычайно красивы.
Все были облачены в грубоватые широкие одеяния из неплотно сотканной материи темного цвета, под которыми женщины носили еще одежду из белого льняного полотна. Несмотря на обилие хлебов и скота, какое мы видели вокруг, украшения этих людей выглядели весьма скудно, а может быть, их просто припрятали подальше от наших глаз.
Легко было заметить, что они ненавидят нас, египтян, и даже дерзают презирать нас. Ненависть сверкала в их блестящих глазах, и я услышал, как они называли нас между собой идолопоклонниками и спрашивали, где же наш бог — бык, ибо в своем неведении они считали, что мы поклоняемся Апису
[308] (как, возможно, и делают некоторые люди из простонародья), тогда как мы смотрим на это священное животное как на символ могучих сил Природы. Они дерзнули даже на большее: в первую ночь после нашего прибытия они убили быка, напоминающего по масти Аписа, и утром мы обнаружили его близ ворот лагеря, а на нем — приколотых к его шкуре острыми шипами и еще живых навозных жуков. Ибо и тут они знали, что у нас, египтян, этот жук вовсе не бог, а эмблема Создателя
[309], ибо он скатывает лапками шарик из ила и навоза и откладывает в него личинки, так же как и Создатель скатывает мир, который кажется круглым, и заставляет его творить жизнь.
Эти оскорбления возмутили всех, и только принц засмеялся и сказал, что эта шутка кажется ему грубой, но умной. Однако худшее было впереди. По-видимому, один из солдат, налившись вином, оскорбил иудейскую девушку, которая пришла одна к каналу за водой. Весть об этом разнеслась по округе, и тысячи людей сбежались к лагерю, крича и требуя возмездия с такой угрожающей яростью, что нам пришлось сформировать отряды охраны.
Принц приказал пропустить в лагерь девушку и ее родню, чтобы они могли предъявить свои обвинения. Она явилась, с плачем и воплями разрывая на себе одежду и осыпая голову пылью, хотя оказалось, что солдат не причинил ей большого вреда, так как она от него убежала. Принц велел ей указать, кто из солдат ее обидел, и она показала на одного из телохранителей Аменмеса, лицо которого было покрыто царапинами, похожими на следы женских ногтей. Подвергнутый допросу, он сказал, что плохо помнит о том, что было, но признался, что видел ночью у канала эту девушку и шутил с ней.
Родственники девушки требовали казни солдата, утверждая, что он нанес оскорбление знатной даме Израиля. Сети отклонил их требование, говоря, что смерть — несоразмерная кара для подобного преступления, но что он прикажет подвергнуть оскорбителя публичной порке. Услышав это, Аменмес, любивший своего телохранителя, который навеселе допускал проступки, а не навеселе был в сущности неплохим человеком, пришел в страшную ярость и заявил, что никто не смеет тронуть хоть одного из его слуг только потому, что тот захотел приласкать какую-то легкомысленную израильтянку, которой нечего было шататься одной в темную ночь. Он добавил, что если его солдата накажут, то он и все, кто под его командой, немедленно покинут лагерь и отправятся обратно, чтобы доложить обо всем фараону.
Тогда принц, поговорив со своими советниками, сказал женщине и ее родне, что, поскольку зашла речь об обращении к фараону, он и будет судьей в этом деле, и приказал им явиться к царскому двору через месяц и предъявить свой иск против солдата. Они ушли крайне неудовлетворенные, сказав, что Аменмес нанес их дочери еще более тяжкое оскорбление, чем его слуга. Все кончилось тем, что на следующую ночь телохранителя нашли мертвым со множеством ножевых ран на теле. Девушку и ее родителей и братьев обнаружить не удалось: видимо, они бежали в пустыню; не было и никаких намеков на возможного убийцу воина. Поэтому оставалось только одно — похоронить жертву.
На следующее утро принц приступил к выполнению своей миссии. Все было обставлено надлежащим образом: принц Сети и Аменмес заняли свои места во главе большого шатра, за ними расположились советники, а у их ног уселись писцы, среди которых был и я. Тут мы узнали, что оба пророка, которых мы видели при дворе фараона, покинули страну Гошен, уйдя еще до нашего прибытия в пустыню, чтобы совершить «жертвоприношения богу», и никто не мог сказать, когда они вернутся. Другие старейшины и жрецы, однако, явились и начали излагать свое дело. Они говорили пространно со свирепой, бурной страстью, часто все сразу, сильно затрудняя работу переводчиков (ибо они притворились, что не знают египетского языка).
Больше того, они начали свою историю от самых ее истоков — с тех пор, когда они сотни лет тому назад пришли в Египет и получили помощь и поддержку визиря тогдашнего фараона; этот визирь — некто Иосиф — был могущественным и умным человеком их же расы, который запасал зерно на случай голода или низкого разлива Нила. Фараон происходил из гиксосов
[310]. Он был одним из тех царей, которых мы, египтяне, ненавидели и после многочисленных войн прогнали из страны. Под властью этих фараонов израильтяне богатели, росло их могущество, так что фараоны последующих поколений, не любившие израильтян, стали их бояться.
На этом закончился первый день слушания дела.
Второй день начался рассказом об их угнетении. Но даже в это тяжелое время для них они множились, как комары над Сихором, и стали такими сильными и многочисленными, что наконец Рамсес Великий задумал злое дело: он приказал убивать всех их младенцев мужского пола, как только они рождались на свет. Этот приказ, однако, не был приведен в исполнение, потому что за них заступилась дочь фараона, та самая, что спасла старого пророка Моисея, найдя его в камышах у берега Нила.
На этом принц, устав от шума и жары в переполненном шатре, прервал заседание до следующего дня. Велев мне сопровождать его, он приказал подать колесницу (не его собственную), и несмотря на мои старания отговорить его, выехал один без всякой охраны, не считая меня и возницы, сказав, что хочет увидеть собственными глазами, как эти люди трудятся по указу фараона.
Взяв в провожатые еврейского мальчика, который бежал перед лошадьми, указывая дорогу, мы отправились на берега канала, где израильтяне делали из ила кирпичи. После просушки на солнце кирпичи грузили на суда, ожидавшие в канале, и увозили в другие области Египта, где шло строительство по приказу фараона. На этой работе были заняты тысячи людей, трудившихся под командой египетских надсмотрщиков, которые вели учет, отмечая количество готовых кирпичей на палочках с нарезками или записывая сумму на глиняных дощечках. Эти надсмотрщики были грубые парни, большей частью из низшего класса, и, обращаясь к рабам, употребляли злобные и мерзкие выражения. Однако и этого им было мало. Заметив, что в одном месте собралась толпа, и услышав крики, мы направились туда узнать, что происходит. Здесь мы обнаружили, что на земле распростерт юноша, почти мальчик, его жестоко избивают кожаными бичами и все его тело покрыто кровью. По знаку принца я спросил, в чем он провинился, и мне грубо ответили — ибо ни надсмотрщики, ни стража не знали, кто мы, — что за последние шесть дней он сделал только половину причитающихся ему кирпичей.
— Отпустите его, — спокойно произнес принц.
— Кто ты такой, чтобы мне приказывать, — возразил старший надсмотрщик, который помогал держать юношу в то время, как стража его избивала. — Убирайся, не то я угощу тебя так же, как этого бездельника.
Сети посмотрел на него, и губы его побелели.
— Объясни ему, — сказал он мне.
— Эй ты, собака! — произнес я, задыхаясь от гнева. — Да знаешь ли ты, с кем смеешь говорить таким тоном?
— Не знаю и знать не хочу. Давай пошевеливайся, стражник! Принц, облаченный в плащ с широкими рукавами из простой материи и обычного покроя, распахнул его, открыв взорам нагрудную эмблему, которую носил при дворе, — прекрасную вещь из золота, на которой черной и красной эмалью были обозначены его царские имена и титулы. Одновременно он поднял правую руку, показывая кольцо с печаткой — знак, что он — посланник фараона. Все, ошеломленные, уставились на него, а один, более сведущий, чем другие, воскликнул:
— Клянусь богами, это его высочество, принц Кемета! При этих словах все они упали перед ним лицами вниз.
— Встань, — сказал принц мальчику, который смотрел на него, -забыв от изумления про боль, — и скажи мне, почему ты не выполнил свою долю работы.
— Господин, — зарыдав, ответил тот на ломаном египетском языке, — по двум причинам. Первая — потому что я калека, видишь? — и он поднял левую руку, тонкую и сухую, как рука мумии, — и не могу работать быстро. А вторая — потому что моя мать, у которой я единственный ребенок, вдова и лежит больная в постели, и в доме нет ни женщин, ни детей, которые могли бы пойти собирать для меня солому, как приказал фараон. И мне приходится тратить много часов, чтобы набрать соломы, ведь мне нечем платить тому, кто бы сделал это вместо меня.
— Ана, — сказал принц, — запиши имя этого юноши и место, где он живет, и, если он говорит правду, последи, чтобы нужды его и его матери были удовлетворены еще до нашего отъезда. Запиши также имена этого надсмотрщика и его товарищей и вели им завтра на рассвете явиться ко мне в лагерь для рассмотрения их дела. Скажи также мальчику, что, поскольку он обижен богами, фараон освобождает его от обязанности изготовлять кирпичи и вообще от всякой работы на государство.
Пока я выполнял все эти распоряжения, надсмотрщик и его товарищи бились головами о землю и молили о милосердии — как все жестокие люди, они были трусами. Его высочество не отвечал ни слова и только смотрел на них холодными глазами, и я заметил, что его лицо, обычно такое доброе, приняло ужасное выражение. Эти люди, видимо, подумали то же самое, ибо ночью они бежали в Сирию, бросив свои семьи и все свое имущество, и в Египте их больше никто никогда не видел.
Когда я кончил записывать, принц повернулся и, подойдя к ожидавшей его колеснице, велел вознице переехать по мосту на другую сторону канала. Мы ехали в молчании по дороге, которая бежала между возделанными землями и пустыней. Наконец я показал на заходящее солнце и спросил, не пора ли возвращаться.
— Почему? — возразил принц. — Солнце умирает, но взойдет полная луна, и будет светло. Да и чего нам бояться, если на поясе у нас мечи, а под одеждой кольчуги, которыми снабдила нас ее высочество Таусерт? О Ана! Я устал от людей, от их жестокости, криков, распрей, и мне кажется, что эта пустыня — обитель покоя, ибо здесь я чувствую, как будто я ближе к своей душе и к небу, откуда, я надеюсь, вселяется в человека душа.
— Твоему высочеству посчастливилось иметь душу, к которой он стремится приблизиться, чего нельзя сказать обо всех нас, — ответил я, смеясь, ибо мне хотелось изменить направление его мыслей и вовлечь его в спор на одну из его любимых тем.
Однако именно в этот момент наши лошади, которые были далеко не из лучших, остановились перед подъемом на песчаный холм. Сети запретил вознице бить их и велел дать им передохнуть. Тем временем мы сошли с колесницы и стали подниматься по склону; Сети опирался на мою руку. Дойдя до вершины, мы вдруг услышали рыдания и тихий голос, доносившийся с другой стороны холма. Кусты тамариска, бывшие когда-то живой изгородью, скрывали от нас плачущего.
— Еще одна жестокость или, во всяком случае, еще одно горе, — прошептал Сети. — Посмотри, кто там.
Мы осторожно приблизились к кустам тамариска и, глядя сквозь их пушистые макушки, увидели в чистом сиянии поднявшейся над пустыней луны прелестное и трогательное зрелище. Не дальше чем в пяти шагах от нас стояла женщина в белом, юная и стройная. Лица ее не было видно, потому что она отвернулась в сторону, к тому же его скрывали длинные темные волосы, ниспадавшие ей на плечи. Она молилась вслух, то на еврейском языке, который мы немного понимали, то на египетском, как человек, привыкший думать на двух языках, и ее молитва то и дело прерывалась рыданиями.
— О бог моего народа! — говорила она. — Пошли мне помощь и поддержку, чтобы твое дитя не осталось одиноким в пустыне и не стало добычей диких зверей, или людей, которые хуже, чем звери!
Тут она заплакала, опустилась на колени на большую связку соломы и снова стала молиться. На этот раз по-египетски, словно боялась, что молитву на еврейском языке могут подслушать и понять.
— О бог, — говорила она, — бог моих предков, облегчи мое бедное сердце, облегчи мое бедное сердце!
Мы хотели уйти, а еще больше спросить у нее, что ее так мучает, как вдруг она повернула голову так, что свет упал на ее лицо. Такое прелестное оно было, что у меня перехватило дыхание, а принц вздрогнул. Нет, оно было более чем прелестно, ибо так же как пламя светильника сияет сквозь стенки алебастровой чаши или жемчужной раковины, так душа этой женщины светилась сквозь черты ее заплаканного лица, делая его таинственным, как ночь. Тогда я, пожалуй, впервые понял, что именно дух, а не плоть придает истинную красоту и девушке, и мужчине. Белая ваза из алебастра, как она ни изящна, все же только ваза; и только светильник, скрытый в ней, преображает ее в сияющую звезду. А эти глаза, эти большие мечтательные глаза, полные слез и с оттенком глубокой ляпис-лазури, — о! какой мужчина мог бы увидеть их без волнения?
— Мерапи! — прошептал я.
— Луна Израиля! — пробормотал Сети. — Пронизанная луной, прекрасная, как луна, таинственная, как луна, и поклоняющаяся луне — своей матери.
— У нее несчастье, поможем ей, — сказал я.
— Нет, подожди, Ана, ведь мы с тобой никогда больше не увидим ничего подобного.
Хотя мы говорили чуть слышным шепотом, она, видимо, услышала нас. Во всяком случае, она изменилась в лице, словно испугавшись, поспешно поднялась, подхватила свою большую связку соломы и возложила ее на голову. Пробежав несколько шагов, она споткнулась и упала, слегка застонав от боли. В одно мгновение мы очутились рядом с ней. Она испуганно подняла на нас глаза, не зная, кто мы, ибо широкие капюшоны скрывали наши лица, а судя по плащам, нас можно было принять за полночных воров или работорговцев-бедуинов.
— О добрые люди, — пробормотала она, — отпустите меня. У меня нет ничего ценного, кроме этого амулета.
— Кто ты и что ты тут делаешь? — спросил принц, изменив голос.
— Господа, я Мерапи, дочь Натана Левита, которого убил в Танисе проклятый египетский капитан.
— Как ты смеешь называть египтян проклятыми? — спросил Сети нарочито грубым голосом, подавляя смех.
— О господа, потому что они… потому что я думала, вы бедуины, а они также ненавидят египтян, как мы. По крайней мере, тот египтянин был проклятый, потому что сам высокий принц Сети, наследник фараона, приговорил его к смертной казни.
— А принца Сети, наследника фараона, ты тоже ненавидишь и назвала бы его проклятым?
Она поколебалась и ответила с сомнением в голосе.
— Нет, его я не ненавижу.
— Почему же, если ты ненавидишь египтян. Ведь он среди них первый и поэтому вдвое достоин ненависти, как наследник и сын вашего угнетателя-фараона!
— Потому что, как я ни старалась, — не могу. Кроме того, — добавила она радостно, как человек, нашедший убедительное оправдание своим чувствам, — он же отомстил за моего отца.
— Это не причина, девушка, ибо он сделал только то, что велел закон. Говорят, что этот сукин сын, фараонов наследник, приехал в Гошен с какой-то миссией. Это правда? Ты его видела? Отвечай, ибо мы, люди пустыни, желаем знать точно.
— Думаю, что правда, господин, но я его не видела.
— Почему же, если он здесь?
— Потому что не хотела, господин. Почему бы дочь Израиля пожелала смотреть на лицо египетского принца?
— Говоря по правде, не знаю, — забывшись, сказал Сети своим голосом. Потом, заметив, что она пристально взглянула на него, добавил грубым тоном, — эта женщина, брат, либо лжет, либо она не кто иная, как та девушка, которую они называют Луной Израиля, — та, что живет у старого Джейбиза Левита, своего дяди. Как по-твоему?
— По-моему, брат, она лжет — и по трем причинам, — ответил я, поддерживая шутку принца, — Во-первых, у нее слишком светлая кожа для черной еврейской крови.
— О господи, — простонала Мерапи, — моя мать родилась и выросла в Сирии, в горах, и кожа у нее была белая, как молоко, а глаза голубые, как небо,
— Во-вторых, — продолжал я, не обращая на нее внимания, — если великий принц Сети действительно в стране Гошен, а она живет здесь, то просто неестественно, что она не пришла хоть раз взглянуть на него. Как женщину ее могли удержать только две вещи: одна — потому что она его боится и ненавидит, но она это отрицает, и другая — потому что он ей слишком понравился, и она, как девушка благоразумная, решила, что лучше всего никогда его больше не видеть.
При первых моих словах Мерапи взглянула на меня и хотела было ответить, но тотчас опустила глаза с таким выражением,
как будто у нее перехватило дыхание; в то же время даже при свете луны я увидел, как алая краска залила ее лицо и белые руки.
— Господин, — пролепетала она, — зачем ты обижаешь меня? Клянусь, что никогда до этой минуты я ни о чем таком не думала. Право же, это было бы изменой.
— Несомненно, — прервал ее Сети, — однако, такой, какую цари могли бы простить.
— В-третьих, — продолжал я, как бы не слыша ни ее, ни его слов,
— если бы эта девушка сказала о себе правду, она не бродила бы ночью одна в пустыне: ведь Мерапи, как я слышал от арабов, дочь Натана Левита, девушка далеко не из низкого рода, и семья ее достаточно богата. Впрочем, сколько бы она ни лгала, наши собственные глаза говорят нам, что она красива.
— Да, брат, в этом нам повезло, ибо работорговцы по ту сторону пустыни без сомнения дадут за нее высокую цену.
— О господин! — вскричала Мерапи, хватая его за полу плаща. — Конечно, ты не обречешь девушку на такую участь — ты не злой вор, я чувствую — сама не знаю почему, и у тебя есть мать, и, может быть, сестра. Не суди обо мне так плохо из-за того, что я тут одна. Фараон приказал, чтобы мы собирали солому для кирпичей. Сегодня утром я пошла искать солому вместо больной соседки, которая, к тому же, должна родить, и зашла слишком далеко. Но вечером я поскользнулась и порезала ногу об острый камень. Смотри, — и, приподняв ногу, она показала рану внизу ступни, из которой еще капала кровь, — зрелище, которое нас немало тронуло. — Теперь я не могу идти и тащить эту тяжелую солому, которую я так тщательно собирала.
— Пожалуй, она говорит правду, брат, — сказал принц, — и если бы мы доставили ее домой, мы могли бы получить немалое вознаграждение от Джейбиза Левита. Но сперва скажи мне, девушка, что за молитву ты возносила луне? В чем Хатхор должна помочь твоему бедному сердцу?
— Господин, — ответила она, — только идолопоклонники-египтяне молятся Хатхор, богине Любви.
— А я думал, что весь мир молится богине Любви, девушка. Но о чем была твоя молитва? Есть какой-нибудь мужчина, которого ты желаешь?
— Никакого, — отрезала она, внезапно рассердившись.
— Тогда почему же твое сердце так нуждается в помощи, что ты готова молить о ней воздух? Или, может быть, есть кто-то, кого ты не желаешь?
Она опустила голову и не отвечала.
— Пошли, брат, — сказал принц, — мы надоели этой даме, и я думаю, что будь она настоящей женщиной, она бы охотно ответила на наши вопросы. Пойдем, оставим ее. Поскольку она не может идти, мы заберем ее позже, если захотим.
— Господа, — сказала она, — я рада, что вы уходите, ибо гиены
— менее опасное общество, чем двое мужчин, которые грозятся продать беспомощную женщину в рабство. Но раз уж мы расстаемся и никогда больше не встретимся, я отвечу на ваш вопрос. В молитве, которую вы не постеснялись подслушать, я просила не о любовнике, а о том, чтобы избавиться от одного такого.
—Ну, Ана,
—сказал принц, рассмеявшись и распахнув свой плащ, — спроси теперь, кто этот несчастный, от кого госпожа Мерапи хочет избавиться, ибо я сам не смею.
Она всмотрелась в его лицо и слегка вскрикнула.
— Ах, — сказал она, — я подумала, что узнаю твой голос, когда ты один раз забыл про свою роль. Принц Сети, неужели твое высочество считает, что эта была добрая шутка по отношению к одинокой и испуганной женщине.
— Госпожа Мерапи, — ответил он, улыбаясь, — не сердись и согласись, что она была по крайней мере удачной, и ты не сказала нам ничего для нас нового. Вспомни — тогда, в Танисе, ты сказала, что обручена, и при этом в твоем тоне было что-то такое… Позволь мне перевязать твою рану.
Он опустился на колени, оторвал полоску от своей церемониальной одежды из тонкого полотна и начал перевязывать ее ступню, действуя быстро и искусно, ибо он был человеком необычных и неожиданных способностей. Я невольно следил за ними и заметил также, что их взгляды встретились, и при этом густая краска снова залила лицо Мерапи. Тогда я подумал, что принцу Египта не подобает играть роль лекаря, врачевателя ран женщины в пустыне, и подивился, почему он не предоставил мне эту скромную роль.
Вскоре повязка была наложена и скреплена царским скарабеем на золотой булавке, которую принц снял со своей одежды. На скарабее была выгравирована корона с уреем, а под ней знаки, означавшие «Повелитель Нижнего и Верхнего Египта» — это была эмблема и титул фараона.
— Ты видишь, госпожа, — сказал он, — теперь у тебя под пятой Египет. — И когда она спросила, что он имеет в виду, он прочитал ей надпись на драгоценном камне, и она в третий раз залилась румянцем до самых глаз. Потом он поднял ее на руки, велев ей опираться на его плечо и сказав, что боится, как бы скарабей, которого он ценит, не разбился, если бы она ступала по земле.
Мы двинулись в путь; я нес связку соломы, как он велел мне, ибо, по его словам, нельзя потерять то, что было собрано с таким трудом. Дойдя до того места, где мы оставили колесницу, мы обнаружили, что наш проводник ушел, а возница спит. Принц усадил Мерапи в колесницу, подстелив ей свой плащ и набросив ей на плечи мой, который он одолжил у меня, сказав, что поскольку я несу солому, плащ мне не нужен. Потом он занял свое место в колеснице, и они поехали, соразмеряя скорость движения с моим шагом. Так я шел следом за ними, и солома свисала мне на уши, я не слышал, о чем они говорили, — если они вообще о чем-то говорили; вполне возможно, что присутствие возницы исключало всякий разговор. Сказать по правде, я не прислушивался, погруженный в мысли о тяжкой доле этих бедных израильтян, вынужденных собирать пыльную солому и тащить так далеко эту ношу, отягченную комьями глины, которая налипла на корнях.
Еще не достигнув города Гошен, мы столкнулись с неприятностями. Едва мы пересекли по мосту канал, как я, шагая за колесницей, увидел при чистом свете луны бегущего навстречу молодого человека. Это был еврей, высокий, хорошо сложенный и по-своему очень красивый. У него были темные глаза, горбатый нос, ровные белые зубы, длинные черные волосы густыми волнами падали на плечи. В руке он держал деревянный посох, а за пояс был заткнут обнаженный нож. Увидев колесницу, он остановился и стал всматриваться, а потом спросил по-еврейски, не случилось ли путешественникам встретить молодую женщину-израильтянку, которая, очевидно, заблудилась в пустыне.
— Если ты ищешь меня, Лейбэн, то я здесь, — ответила Мерапи
из-под плаща.
— Что ты тут делаешь одна с египтянином? — свирепо спросил он. Что за этим последовало, я не знаю, ибо они заговорили так быстро на своем языке, что я ничего не понял. Наконец Мерапи повернулась к принцу и сказала:
— Господин, это Лейбэн, с кем я обручена, он велит мне сойти с колесницы и сопровождать его, как мне ни трудно идти пешком.
— Я, госпожа, велю тебе остаться. Лейбэн, с кем ты обручена, может сопровождать нас.
Лейбэн вспыхнул от гнева — что было, как я сразу понял, у него в крови — и порывисто протянул руку, видимо, намереваясь оттолкнуть Сети и схватить Мерапи.
— Ну, ты, остерегись! — сказал принц, в то время как я, бросив связку соломы, выхватил свой меч и одним прыжком очутился рядом с ними, крича:
— Раб, ты хотел поднять руку на принца Египта?
— Принц Кемета! — произнес он, отступив в изумлении, и угрюмо добавил: — Но какое отношение принц Кемета имеет к моей невесте.
— Он помогает ей добраться до дома после того, как нашел ее раненую и беспомощную в пустыне с мешком этой проклятой соломы, — ответил я.
— Вперед, возница! — сказал принц, а Мерапи добавила:
— Успокойся, Лейбэн, и возьми эту солому, которую спутник его высочества нес всю дорогу.
Мгновение он колебался, но потом схватил связку соломы и водрузил ее себе на голову.
Пока мы шли бок о бок, его злобное настроение постепенно одерживало верх над благоразумием. Он, не умолкая, ворчал из-за того, что Мерапи ехала одна рядом с египтянином. Наконец я не выдержал:
—Замолчите! — сказал я. — Тебе ли жаловаться на то, что делает его высочество, если он уже отомстил за убийство отца этой госпожи, а теперь спас ее от одинокой ночевки среди диких зверей и людей пустыни?
— Насчет первого я уже наслышан достаточно, — ответил он, — а насчет второго еще услышу более чем достаточно! С тех самых пор как моя невеста увидела этого принца, она смотрит на меня другими глазами и говорит со мной другим голосом. Да, а когда я пытаюсь ускорить нашу свадьбу, она говорит, что нельзя торопиться, ибо она все еще в трауре по своему отцу. Как бы не так! Она никогда не могла простить ему то, что он обручил ее со мной по обычаю нашего народа.
— Может быть, она любит кого-нибудь другого? — спросил я, желая узнать как можно больше об этой женщине.
— Никого она не любит, — по крайней мере, до сих пор не любила. Она любит только себя.
— Такая красавица может мечтать о самом высоком замужестве.
— Вот как! — произнес он в ярости. — Кого она может найти выше меня, прямого потомка самого древнего рода? Я гораздо выше, чем какой-то выскочка-принц или любой египтянин, будь он хоть сам фараон!
— Поистине, ты можешь служить хорошей иллюстрацией нравов своего племени, — сказал я, чувствуя, как мною все больше овладевает раздражение.
— Почему же? — спросил он. — Разве израильтяне не выше египтян — как эти угнетатели скоро узнают сами — и разве знатный человек Израиля не лучше любого идолопоклонника среди ваших людей?
Я посмотрел на этого человека, убого одетого и покрытого грязью после работы в кирпичной мастерской, и подивился про себя его наглости. Не было сомнения в том, что он верит всему, что говорит; я читал это в его гордом взгляде и надменной осанке. Он считал, что его племя больше значит в мире, чем наш великий и древний народ, и что он, неизвестный юноша, не ниже, а даже выше самого фараона. Придя в ярость от этих оскорблений, я ответил:
— Пока что это только слова, но где доказательства? Я лишь писец, но я знаю, что такое война. Давай задержимся здесь ненадолго, и тогда мы узнаем, кто лучше — знатный человек Израиля или писец из Египта.
— Я бы с радостью проучил тебя, писака, — ответил он, — если бы не видел твоего замысла. Ты хочешь нарочно задержать меня, может быть, даже убить каким-нибудь подлым образом, пока твой хозяин будет наслаждаться улыбками Луны Израиля. Нет, я не останусь с тобой, но в другой раз будет по-твоему и, может быть, очень скоро.
Думаю, я бы в ответ ударил его по лицу, хотя я не из тех, кто любит драться, если бы в этот момент не появился отряд
египетских всадников, возглавляемый самим Аменмесом. Увидев в колеснице принца, всадники остановились и приветствовали его. Аменмес спешился.
— Мы выехали на поиски твоего высочества, — сказал он. — Мы боялись, что с тобой что-нибудь случилось.
— Спасибо, кузен, — ответил принц, — случилось, но не со мной.
— Это хорошо, — сказал Аменмес с улыбкой, разглядывая Мерапи. — Куда ранена госпожа? Надеюсь, не в грудь.
— Нет, кузен, в ногу, поэтому она и едет со мной в колеснице.
— Твое высочество всегда был добр к несчастным. Пожалуйста, разреши мне занять твое место или посадить эту девушку к себе на коня.
— Поехали, — сказал принц вознице.
Мы двинулись, сопровождаемые солдатами. Я слышал, как они переговаривались, обмениваясь шутками насчет принца и его спутницы, — как, думаю, слышал их и Лейбэн, ибо он бросал вокруг гневные взгляды и скрежетал зубами. Так мы добрались наконец до города. Здесь по указанию Мерапи мы остановились перед домом ее дяди Джейбиза, седобородого еврея, который выбежал из дверей своего жилища под глиняной крышей, крича, что он не сделал ничего дурного, за что солдаты могли бы забрать его.
— Это не тебя они хотят забрать, а твою племянницу — мою невесту, — закричал Лейбэн, вызвав смех среди солдат и кучки женщин, собравшихся перед домом. Тем временем принц помогал Мера-пи сойти с колесницы, буквально подняв ее на руки. При виде этого Лейбэн в бешенстве бросился к нему, пытаясь вырвать ее из его объятий, и при этом невольно толкнул его высочество. Начальник отряда — это был один из начальников личной охраны фараона — в ярости поднял меч и ударил Лейбэна плашмя по голове с такой силой, что тот упал лицом вниз и громко застонал.
— Долой этого пса, и всыпьте ему как следует! — крикнул начальник отряда солдатам. — Или мы допустим, чтобы такие, как он, оскорбляли царственную кровь Кемета?
Солдаты бросились было исполнять приказ, но Сети сказал спокойно:
— Оставьте его, друзья, он просто не умеет себя вести, вот и все. Он ранен?
Не успел он договорить, как Лейбэн вскочил на ноги и, боясь худшего, бежал с проклятиями, бросив на принца взгляд, полный ненависти.
— Прощай, госпожа, — сказал Сети. — Желаю тебе поскорее поправиться.
— Благодарю тебя, о принц! — ответила она, оглядываясь. — Пожалуйста, подожди немного, пока я верну тебе твою драгоценность.
— Нет, оставь ее у себя, госпожа, и если когда-нибудь тебе будет грозить беда или опасность, пошли ее мне, и ты не останешься без помощи.
Она взглянула на него и разразилась слезами.
— Почему ты плачешь? — спросил он.
— О принц, потому что я боюсь близкой беды. У моего нареченного, Лейбэна, мстительное сердце. Дядя, помоги мне войти в дом.
— Слушай, израильтянин, — сказал Сети, повысив голос, — если с твоей племянницей случится что-нибудь плохое или ее заставят идти туда, куда она не хочет, — горе тебе и твоим близким. Ты меня слышишь?
— О повелитель, слышу, слышу. Не беспокойся. Ее будут беречь, как… она, несомненно, будет беречь драгоценную безделушку, что у нее на повязке.
— Ана, — сказал принц в тот же вечер, когда мы с ним беседовали перед сном, — не знаю почему, но я боюсь этого Лейбэна, у него дурной глаз.
— Я тоже думаю, что было бы лучше, если бы твое высочество позволил солдатам расправиться с ним. Тогда бы никому не пришлось бояться его в этом мире.
— Но я этого не сделал, так что нечего и говорить. Ана, она красива и прелестна.
— Самая красивая и самая прелестная из всех, каких я когда-либо видел, мой принц.
— Будь осторожен, Ана. Прошу тебя, будь осторожен, а то еще влюбишься в ту, что уже обручена с другим.
В ответ я лишь взглянул на него и вспомнил слова чародея Ки. Думаю, что и принц тоже вспомнил, — по крайней мере, он засмеялся, как мне показалось, счастливым смехом и отвернулся в сторону.
Что до меня, то я долго лежал без сна в ту ночь и когда наконец заснул, мне приснилась Мерапи, творившая молитву в сиянии Луны.
VII. Засада
Прошло целых восемь дней, прежде чем мы покинули Гошен. История, которую рассказывали израильтяне, была очень длинной и очень печальной. Больше того, они привели доказательства многочисленных жестокостей, которые они претерпели, а когда с этим было покончено, пришлось выслушать показания стражников и других лиц; и все это надо было записать. К тому же принц, казалось, не спешил с отъездом. По его словам, он надеялся, что те двое пророков вернутся из пустыни, но они так и не появились. Все это время Сети ни разу не видел Мерапи и даже не упоминал о ней, даже когда Аменмес подшучивал над ним, намекая на его спутницу в колеснице и спрашивая его, не выезжал ли он опять лунной ночью в пустыню.
Но я ее однажды встретил. Как-то раз перед заходом солнца я бродил по городу и увидел ее: она шла, словно пленница под конвоем, между дядей Джейбизом с одной стороны и своим женихом Лейбэном — с другой. Я подумал, что она отнюдь не выглядит счастливой, но ее нога, видимо, зажила; во всяком случае, она шла свободно и не хромая.
Я остановился, чтобы поздороваться с ней, но Лейбэн злобно нахмурился и увлек ее за собой. Джейбиз задержался и заговорил со мной. Он сказал, что она совершенно оправилась, но что между нею и Лейбэном были неприятности из-за того, что случилось в тот вечер, когда она повредила ногу, вплоть до столкновения Лейбэна с начальником телохранителей.
— Этот молодой человек, кажется, ревнивец от природы, — сказал я, — из тех людей, которые будут суровыми мужьями для любой женщины.
— Да, высокоученый писец, ревность была его проклятием с юных лет. Это же можно сказать о многих наших людях. И я благодарю бога за то, что я не женщина, которая станет его женой.
— Почему же тогда, Джейбиз, ты допускаешь, чтобы она вышла за него замуж?
— Потому что ее отец обручил ее с этим львенком, когда она была еще почти девочкой, а у нас разорвать такие узы крайне трудно. Лично я, — добавил он, понизив голос и оглядевшись вокруг своими быстрыми бегающими глазами, — лично я хотел бы видеть мою племянницу не в доме Лейбэна, а совсем в другом месте. С ее красотой и умом она могла бы достичь чего угодно, имей она такую возможность. Но по нашим законам, даже если бы Лейбэн умер (что легко могло бы случиться с таким неуравновешенным человеком), она не могла бы выйти замуж ни за кого, кроме сына Израиля.
— Но она, кажется, говорила, что ее мать была сирийкой.
— Это правда, писец Ана. Она была красавицей-пленницей, захваченной во время войны, когда Натан влюбился в нее и сделал ее своей женой. И ее дочь пошла в нее. И все же она — еврейка и по вероисповеданию, и по своему окружению и связям. Если бы не это, она могла бы сиять, как звезда, нет — как сама луна, в честь которой она названа, и, может быть, при дворе самого фараона.
— Как великая царица Тейе
[311], которая в прошлом изменила религию Кемета, вверив поклонение единому богу, — предположил я.
— Я слыхал о ней, писец Ана. Это была удивительная женщина и красивая к тому же, судя по ее статуям. Хотел бы я, чтобы вы, египтяне, нашли еще такую же, тогда, может быть, ваши сердца обратились бы к более чистой вере и смягчились бы по отношению к нам, бедным и отверженным. Когда его высочество покидает страну Гошен?
— На рассвете третьего дня, не считая сегодняшнего.
— Ему понадобятся продукты, много продуктов для питания такой большой свиты. Я торгую овощами и продуктами питания, Ана.
— Я доложу об этом его высочеству и визирю, Джейбиз.
— Спасибо тебе, писец, я буду ждать их распоряжения в твоем лагере завтра утром. Смотри, Лейбэн возвращается вместе с Мерапи. Он очень мстительный и не забыл того удара мечом по голове.
— Пусть Лейбэн будет осторожен, — ответил я. — Если б не его высочество, солдаты убили бы его, потому что он посмел оскорбить царскую кровь. Второй раз это ему не сойдет. Больше того, за все, что он сделает, фараон отомстит народу Израиля.
— Понимаю. Было бы печально, если бы Лейбэна убили, очень печально. Но у народа Израиля есть Некто, кто может защитить его от фараона и всех его полчищ. Прощай, высокоученый писец. Если мне когда-нибудь доведется быть в Танисе, мы еще, с твоего позволения, потолкуем об этих вещах.
Вечером я рассказал принцу о моей встрече. Выслушав меня, он сказал:
— Мне очень жаль госпожу Мерапи, ибо ее ждет тяжкая участь. Впрочем, — добавил он, засмеявшись, — пожалуй, оно и лучше, друг, если ты ее больше не увидишь, — ведь где бы она ни появлялась, сразу возникают неприятности. У этой женщины такое лицо, которое поселяется в душе, как
Ка поселяется в гробнице, я лично не хотел бы увидеть его снова.
— Рад это слышать, принц; лично я покончил с женщинами, как бы прелестны они ни были. А этому Джейбизу я скажу, что мы закупим провиант в другом месте.
— Нет, закупи все у него, а если Нехези будет ворчать, запиши все на мой счет. Путь к сердцу купца лежит через его мешки с сокровищем. Если с Джейбизом хорошо обращаться, то, может быть, он будет добрее к своей племяннице, о которой я навсегда сохраню приятное воспоминание, — единственной среди этих хмурых людей, ненавидящих нас, увы, не без причины.
Итак, овцы и вся провизия для обратного путешествия были куплены у Джейбиза по назначенной им самим цене, за что он усиленно высказывал мне благодарности, и на третий день мы тронулись в путь. В последний момент принц, которым накануне вечером как будто овладел дух противоречия, отказался ехать утром вместе со всеми (слишком шумно и пыльно, сказал он). Напрасно Аменмес убеждал его, а Нехези и приближенные чуть ли не на коленях умоляли отправиться вместе с ними, говоря, что они отвечают за его безопасность перед фараоном и принцессой Таусерт. Он велел им уйти, пообещав, что нагонит их, когда они к концу дня раскинут на ночь лагерь. Я тоже стал упрашивать его, но он резко отвечал, что как он сказал, так и будет, и что мы с ним поедем в колеснице одни, в сопровождении двух вооруженных бегунов, не более, а если я считаю, что это опасно, добавил он, я могу присоединиться к остальным. Я прикусил губу и промолчал, а он, увидев, что обидел меня, повернулся ко мне и смиренно попросил прощения, как подсказывало ему его доброе сердце.
— Не могу больше выносить Аменмеса и его солдат, — сказал он. — Я люблю быть в пустыне один. Последний раз, когда мы с тобой там были, Ана, мы столкнулись с приключениями, которые были очень приятны, а в Танисе, я уверен, меня ждут одни неприятности. Впусти, пожалуйста, еврейского жреца, который пришел, чтобы объяснить мне таинства их веры, мне очень хочется их понять.
Я поклонился и, покинув его, сообщил остальным, что мне не удалось поколебать его волю. Однако, рискуя вызвать его гнев, я сделал следующее, — ибо разве я не поклялся принцессе, что буду защищать его? Роль бегунов я поручил двум самым лучшим и храбрым воинам.
Кроме того, я дал указания капитану, который ударил Лейбэна, тайно от всех посадить на колесницы двадцать солдат, вооруженных пиками, и следовать за принцем, держась вне поля его зрения.
Итак, на заре следующего утра войско, приближенные принца и чиновники вместе с носильщиками имущества и провианта двинулись в путь, а мы последовали за ними не раньше, чем прошло много часов. Часть этого времени принц провел, разъезжая по городу и присматриваясь к условиям, в которых жили люди. Они, как я заметил, следили за нами весьма угрюмо, гораздо враждебнее, чем раньше, — возможно потому, что мы были без охраны. Обернувшись, я успел заметить даже, что один из мужчин угрожающе потряс нам вслед кулаком, а какая-то старая карга плюнула в нашу сторону и пожелала нам поскорее убраться из страны Гошен. Но когда я поведал об этом принцу, он только засмеялся и не придал этому значения.
— Всем известно, что они ненавидят нас, египтян, — сказал он. — Ну что ж, пусть нашей задачей будет постараться обратить их ненависть в любовь.
— Ты никогда этого не добьешься, принц. Эта ненависть слишком глубоко укоренилась в их сердцах; они всасывали ее с молоком матери в течение многих поколений. Кроме того, это — война богов Кемета и Израиля, а люди должны идти туда, куда ведут их боги.
— Ты так думаешь, Ана? Значит, люди всего лишь пыль, гонимая небесными ветрами, — они разносят ее из тьмы, предшествующей рассвету, чтобы в конце концов собрать и унести ее в могильную тьму ночи?
Некоторое время он молчал, погруженный в свои мысли, а потом продолжил:
— И все же на месте фараона я бы дал этим людям уйти, ибо их бог, несомненно, обладает большим могуществом и, говорю тебе, я их боюсь.
— Почему же он не хочет отпустить их? — спросил я. — Они не сила, а слабость Египта, как было доказано во время нашествия варваров, на сторону которых они стали. К тому же ценность их щедрой земли, которую они не могут унести с собой, намного больше, чем ценность всей совокупности их труда.
— Не знаю, друг. В этом деле мой отец — сам себе советчик; он не говорит об этом даже с принцессой Таусерт. Может быть потому, что не хочет изменять политику своего отца Рамсеса, а может быть потому, что он упрям с теми, кто против него. Или, возможно, его держит на этом пути безумие, которое наслал на него какой-то бог, чтобы ввергнуть Кемет в позор и несчастья.
— В таком случае, принц, все жрецы и вся знать также безумны, начиная с Аменмеса.
— Жрецы и знать следуют туда, куда ведет их фараон. Вопрос в том, кто ведет фараона? А вот и храм этих израильтян. Войдем?
Мы сошли с колесницы — где я лично охотно бы остался — и прошли через ворота храма, где в этот священный для израильтян седьмой день было полно молящихся женщин, которые притворились, что не видят нас, однако исподтишка следили за нами. Пройдя сквозь толпу, мы вошли еще в один дворик — под крышей. Здесь было много мужчин, которые встретили наше появление недовольным ропотом. Они слушали проповедника в белом одеянии и головном уборе странной формы, с какими-то украшениями на груди. Я узнал этого человека: это был жрец Кохат, который посвящал принца в таинства еврейской веры в той мере, в какой считал это возможным и нужным. Увидев нас, он внезапно прервал свою проповедь, поспешно произнес какое-то слово благословения и двинулся нам навстречу, приветствуя нас. Я остановился за спиной принца, считая, что не мешает заслонить его в толпе этих свирепых мужчин, и не слышал, что сказал ему жрец, поскольку тот говорил шепотом в этом священном месте. Кохат отвел его в сторону — на мой взгляд для того, чтобы вывести его из этой толпы, — к главной части маленького храма, туда вели несколько ступенек, над которыми свисал толстый и тяжелый занавес. В царившей вокруг густой полутьме принц не заметил нижней ступени и, оступившись, упал бы, если бы невольно не схватился за занавес. Занавес раздвинулся, открыв внутреннее помещение, простое и тесное, в котором находился алтарь. Больше я ничего не успел увидеть, ибо в следующий миг общий вопль ярости потряс воздух, и во мраке сверкнули мечи.
— Египтянин оскверняет алтарь! — выкрикнул один. — Вытащите его отсюда и убейте его! — завопил второй.
— Друзья, — сказал Сети, повернувшись к толпе, которая бурно рванулась к нему, — если я сделал что-то не так, то совершенно случайно…
Он ничего не смог добавить, видя, что они уже атакуют его или, скорее, меня, ибо я бросился между ними и им. Они уже схватили меня за полы одежды, и моя рука уже была на рукоятке меча, когда жрец Кохат вскричал:
— Воины Израиля, вы с ума сошли? Или хотите навлечь на нас месть фараона?
Они приостановились, а их главарь воскликнул:
— Мы не боимся фараона! Наш бог защитит нас от фараона! Вытащите его вон и убейте его!
Они кинулись было снова, но в этот момент один из мужчин, в котором я узнал дядю Мерапи, Джейбиза, громко произнес:
— Остановитесь! Если этот египетский принц оскорбил Яхве не случайно, а по умыслу, то бог несомненно отомстит ему. Подобает ли людям взять суд бога в свои руки? Отступите и подождите немного. Если Яхве оскорблен намеренно, египтянин упадет мертвым. Если он не умрет, дайте ему свободно уйти, ибо такова воля Яхве. Отойдите, говорю я, и подождите, пока я не сосчитаю трижды по двадцать.
Они отступили на шаг, и Джейбиз стал медленно считать.
Хотя я в то время ничего не знал о могуществе бога Израиля, должен сказать, что меня охватил страх, пока он считал, делая паузу после каждого десятка. Это была очень странная сцена. У ступенек на фоне балдахина стоял принц, скрестив на груди руки, и на его лице играла легкая улыбка удивления, смешанного с презрением, но без малейшего признака страха. С одной стороны стоял я, хорошо зная, что разделю его участь, какова бы она ни была, и даже не желая иной; а с другой стороны был жрец Кохат, у которого тряслись руки, а глаза чуть не вылезали из орбит. Перед нами стоял Джейбиз и считал, наблюдая за искаженными от ненависти лицами конгрегации, в мертвом молчании ожидавшей рокового исхода. Счет продолжался. Тридцать. Сорок. Пятьдесят… Казалось, прошел целый век.
Наконец его уста произнесли «шестьдесят». С минуту он ждал, и все следили за принцем, ни на миг не сомневаясь, что он сейчас упадет мертвым. Но вместо этого принц повернулся к Кохату и спокойно спросил, кончилось ли это испытание, ибо он желает принести пожертвование храму, посетить который его пригласили, и уехать.
— Наш бог дал свой ответ, — сказал Джейбиз. — Примите его, люди Израиля. То, что сделал принц, он сделал случайно, а не по умыслу.
Они повернулись и отошли, не сказав ни слова, и после того как я оставил пожертвование, весьма немалое, мы последовали за ними:
— Пожалуй, ваш бог — недобрый бог, — сказал принц Кохату, когда мы вышли наконец из храма.
— По крайней мере, он справедлив, твое высочество. Иначе ты, вторгшийся в его святилище, пусть даже случайно, был бы уже мертв.
— Значит, ты считаешь, жрец, что Яхве обладает способностью убивать нас, когда он в гневе?
— Вне сомнения, твое высочество, и если наши пророки говорят правду, то недалек тот день, когда Египет это узнает, — добавил он угрюмо.
Сети посмотрел на него и сказал:
— Возможно, и так, но все боги или их жрецы претендуют на право убивать тех, кто поклоняется другим богам. Как видно, не только женщины ревнивы, Кохат. Но все же я думаю, вы несправедливы к своему богу, ибо даже если он имеет такую силу — он оказался более милосердным, чем его полноправные поклонники, которые прекрасно знали, что я схватился за балдахин, чтобы просто не упасть. Если я когда-нибудь снова войду в твой храм, то лишь в обществе тех, кто может противопоставить силе силу, будь то сила духа или меча. Прощай.
Мы подошли к колеснице, возле которой стоял Джейбиз, наш спаситель.
— Принц, — сказал он шепотом, покосившись на толпу, которая, держась поодаль, медлила расходиться, молчаливая и враждебная, — прошу тебя, уезжай поскорее из этой страны, ибо здесь твоя жизнь в опасности. Я знаю, это вышло случайно, но ты все-таки осквернил святилище, увидев то, на что не смеют взглянуть ничьи глаза, кроме глаз самых высших жрецов, а этого не простит ни один израильтянин.
— А ты или твой народ, Джейбиз, готовы были осквернить святилище моей жизни, пролив кровь моего сердца, — и не случайно. Право же, странный народ; вы стремитесь сделать врагом того, кто старается быть вашим другом.
— Я не стремлюсь к этому, — воскликнул Джейбиз, — я бы хотел, чтобы тот, кто воплощает уста и слух фараона и скоро сам станет фараоном, был на нашей стороне. О принц Египта, не гневайся на всех детей Израиля из-за того, что угнетение и несправедливость сделали некоторых из них упрямыми и жестокосердными. Уезжай, и в доброте своей запомни мои слова.
— Запомню, — сказал Сети, подав вознице знак трогать.
Однако принц медлил покинуть город, говоря, что ничего не боится и хочет узнать все, что сможет, об этих людях и их обычаях, чтобы поточнее доложить о них фараону. Я же был уверен, что есть лишь одно лицо, на которое он хочет взглянуть еще раз перед отъездом; но об этом я счел благоразумным промолчать.
Был почти полдень, когда мы наконец действительно оставили город и направились на восток, по следам Аменмеса и всей нашей компании. И так мы ехали весь день; впереди бежали двое солдат, переодетых бегунами, а за нами, как говорило мне далекое облако пыли, следовал капитан с его колесницами, которому я тайно велел не выпускать нас из виду.
К вечеру мы достигли ущелья между каменистыми холмами, окаймлявшими землю Гошен. Здесь Сети сошел с колесницы, и мы в сопровождении обоих солдат, которым я дал знак идти с нами, взобрались на вершину одного из холмов, усеянную огромными каменными глыбами и обрамленную хребтами песчаника, между которыми тысячелетние ветры проделали узкие расщелины и овраги.
Облокотившись на один из этих хребтов, мы окинули взглядом оставшуюся позади землю. Это было удивительное зрелище. Далеко-далеко, за плодородной равниной, виднелся покинутый нами город, и за ним садилось солнце. Казалось, будто там разразилась какая-то буря, хотя над нами синел чистый и ясный небесный свод: по крайней мере, перед городом от земли до неба протянулись два огромных столба туч, похожих на колонны гигантского портала. Один из этих столбов был как будто высечен из черного мрамора, а второй казался расплавленным золотом. Между ними пролегала дорога света, завершаясь сиянием, и посреди этого сияния круглый шар Солнца-Pa горел, как глаз бога. Это зрелище было не только прекрасно, но и внушало ужас.
— Ты когда-нибудь видел такое небо в Египте, о принц? — спросил я.
— Никогда, — ответил он, и хотя он говорил тихо, его голос показался мне громким в окружающем нас безмолвии.
Мы постояли еще немного, погруженные в созерцание, пока солнце вдруг не опустилось, оставив разлившееся над ним и вокруг сияние; оно принимало причудливые формы, напоминавшие дворцы и храмы какого-то небесного города — далекого города, которого ни один смертный не может достичь иначе, чем в мечтах или во сне.
— Не знаю почему, Ана, — сказал Сети, — но впервые с тех пор, как я стал мужчиной, мне страшно. Мне кажется, что в этом небе какие-то предзнаменования, и я не могу их прочесть. Жаль, что с нами нет Ки, — он бы растолковал, что означает черная колонна справа и огненная слева, и какой бог живет в сияющем городе, и как нога человека может ступить на эту дорогу света, что ведет к его порталу. Говорю тебе — мне страшно. Мне кажется, будто Смерть совсем рядом, и все ее тайны открыты моему смертному взору.
— Мне тоже страшно, — прошептал я. — Смотри! Эти колонны движутся. Вон та, огромная, впереди, а та, из черной тучи, следом за ней, а между ними я будто вижу несметные толпы, идущие бесконечными отрядами. Посмотри, как отблески заката сверкают на их копьях! Несомненно, это бог Израиля поднялся в поход.
— Он или какой-то другой, или вообще не бог — кто знает? Пойдем, Ана, пора, если мы хотим быть в лагере до темноты.
Мы спустились с вершины. Лошади и возница были наготове, и вскоре мы въехали в ущелье. Оно было очень узко, местами не шире четырех шагов, и по обе стороны дороги громоздились глыбы песчаника, между которыми пробивались растения пустыни и змеились узкие овраги, прорытые водой, а над всем этим с каждой стороны уходили вверх отвесные стены гор. Здесь лошади пошли шагом. Мы приближались к самому узкому месту, где тропа делала поворот и подъем сменялся спуском.
Мы были от него не дальше, чем на бросок копья, как вдруг я услышат какой-то звук и, взглянув направо, увидел женщину, которая спрыгнула с уступа холма и устремилась к нам. Возница тоже увидел ее и остановился, а оба бегуна-солдата выхватили мечи. Не прошло и полминуты, как женщина очутилась рядом с нами, и свет упал на ее лицо.
— Мерапи! — воскликнули принц и я в один голос.
Это и в самом деле была Мерапи, но в каком виде! Ее длинные волосы растрепались и беспорядочно падали ей на плечи, плащ был разорван, на губах выступили кровь и пена. Она остановилась, задыхаясь, не в силах произнести ни слова, опираясь одной рукой на край колесницы, а другой показывая туда, где тропа делала поворот. На-. конец она проговорила только одно слово:
— Убийство!
— Она говорит, что ее хотят убить, — сказал мне принц.
— Нет, — выдохнула она, — тебя, тебя! Засада. Вернитесь обратно!
— Поворачивай назад! — крикнул я вознице.
Он постарался повернуть лошадей, но в тесном ущелье и на отвесных склонах это было нелегко даже с помощью солдат. Они успели сделать лишь пол-оборота, блокировав дорогу во всю ширину ущелья, когда раздался дикий крик: «Яхве!» — и из-за поворота вырвалась толпа разъяренных мужчин, размахивающих ножами и мечами. Мы едва успели укрыться за колесницей и приготовиться к отпору, как они ринулись в атаку.
— Слушай, — сказал я вознице, — беги что есть сил и приведи идущий за нами отряд!
Он умчался, как стрела.
— Уходи, госпожа! — крикнул Сети. — Это не женское дело — и видишь? Вот и Лейбэн тебя ищет. — И он показал мечом на предводителя этой толпы убийц.
Она отступила и, пробравшись к большому камню у дороги, спряталась за ним. Впоследствии она призналась мне, что идти дальше у нее не было сил, да и желания тоже, ибо если бы нас убили, ей лучше было бы тоже умереть, поскольку она предупредила нас об опасности.
И вот они уже сомкнулись с нами, целый поток — тридцать—сорок человек. Первый поразил лошадей, и они забились в упряжке, пытаясь освободиться. Следующие за ним уже вскочили на колесницу, пытаясь добраться до нас, и мы встретили их как можно достойнее, сорвав с себя плащи и намотав их на левую руку вместо щитов.
О, какое это было сражение! Будь мы на открытом месте или не подготовлены, нас неизбежно перебили бы в первые же минуты; но теснота ущелья и преграждавшая путь колесница дали нам некоторое преимущество. Тропа была так узка, а склоны гор в этом месте так высоки и неприступны, что атаковать нас одновременно могли не более четырех человек, которым, к тому же, приходилось сперва преодолевать препятствие в виде колесницы и еще живых лошадей.
Но нас тоже было четверо, и благодаря Таусерт на двоих под одеждой были кольчуги, — четверо сильных мужчин, борющихся за свою жизнь. На нас набросились четверо израильтян. Один спрыгнул с колесницы прямо на Сети, который принял его на острие своего железного меча, — я услышал стук рукоятки о грудную клетку противника — того славного железного меча, который сегодня лежит погребенный вместе с Сети в его могиле.
Тот рухнул замертво, сбив принца с ног тяжестью своего тела. Израильтянин, атаковавший меня, зацепился ногой за дышло колесницы и упал так, что я тут же прикончил его ударом по голове и таким образом успел помочь принцу подняться, прежде чем перед ним возник следующий. Оба наши солдата, храбрые и стойкие воины, тоже убили или смертельно ранили тех, кто достался на их долю. Но остальные наступали так яростно и стремительно, что я уже не мог следить за тем, что было дальше.
Вдруг я увидел, что один из наших воинов упал, сраженный Лейбэном. Удар ножом в грудь отбросил меня назад, и если бы не кольчуга, со мной тоже было бы кончено. Второй солдат убил того, кто убил бы меня, но тут же был убит двумя, напавшими на него.
Теперь нас было только двое — принц и я. Мы сражались, держась спиной к спине. Сети схватился с огромным израильтянином и ранил его в руку, так что тот выронил меч. Тогда он обхватил принца за пояс, и оба покатились по земле. Появившийся тут же Лейбэн ударил принца в спину, но его кривой нож отскочил от сирийской кольчуги. Я кинулся к Лейбэну и ранил его в голову, оглушив его так, что он зашатался и, кажется, упал, перевалившись через колесницу. Тогда на меня набросились другие, и если бы не кольчуга Таусерт, я бы погиб по меньшей мере трижды. Сражаясь, как безумный, я натолкнулся на выступ скалы и, прижавшись к нему спиной, приготовился к очередному нападению — ив этот миг увидел, что тот же гигант подмял под себя Сети, не успевшего опомниться от удара Лейбэна, и душит его, схватив за горло.
Я увидел и другое — женщину, которая подняла обеими руками меч и с силой опустила его, после чего руки израильтянина, сжимавшие горло Сети, разжались.
— Изменница! — раздался крик, и кто-то нанес ей удар, отбросивший ее к обочине. Потом, когда казалось, все кончено, и под градом ударов мое сознание меня покидало, я услышал топот конских копыт и крик — «Кемет! Кемет!», вырвавшийся из солдатских глоток. Сверкание бронзы на миг ослепило мой помутневший взор, и с шумом битвы в ушах я как будто уснул как раз в тот момент, когда свет дня погас.
VIII. Сети дает совет фараону
Сны, сны о голосах, сны о лицах, сны о солнечном и лунном свете и обо мне самом — меня несут куда-то вперед, всегда вперед; сны о кричащих толпах и, больше всего, — сны о глазах Мерапи, смотрящих на меня сверху, как две негасимые звезды, сияющие в небе. Потом наконец пробуждение, и с ним биение боли и приступы тошноты.
Сначала я подумал что умер и лежу в гробнице. Потом, постепенно, я понял, что я вовсе не в гробнице, а в затемненной комнате, и притом знакомой, в моей собственной комнате во дворце Сети, в Танисе. Иначе не могло быть: недалеко от кровати, на которой я лежал, стоял мой собственный ларец, наполненный рукописями, которые я привез из Мемфиса. Я попытался поднять левую руку, но не смог и, скосив глаза, увидел, что она забинтована как рука мумии, и это снова вызвало во мне мысль, что я, должно быть, умер, если только мертвые могут чувствовать такую сильную боль. Я закрыл глаза и некоторое время не то думал, не то спал.
Лежа так, я услышал голоса. Один, видимо, принадлежал врачу, который говорил:
— Да, он выживет и вскоре поправится. Удар по голове, из-за которого он столько дней пролежал без сознания, — это наихудшая из его ран, но к счастью кость только повреждена, не раздроблена и не попала в мозг. Порезы на теле хорошо заживают, и кольчуга, что была на нем, защитила внутренние органы.
— Я рада, врач, — ответил другой голос, в котором я узнал голос Таусерт, — ибо нет сомнения, что если бы не Ана, его высочество погиб бы. Странно, что человек, которого я считала всего лишь мечтателем-писцом, оказался таким храбрым воином. Принц говорит, что этот Ана убил своими руками троих из этих собак и ранил еще многих.
— Это было отлично, — ответил врач, — но еще лучше была его предусмотрительность, ведь это он обеспечил арьергард и послал возницу поторопить их. Кто действительно спас жизнь его высочеству, так эта та еврейская девушка: именно она, забыв, что она только женщина, нанесла удар убийце, который держал его за горло.
— Да, такова версия принца, насколько я понимаю, — холодно ответила она. — И все же странно, чтобы слабая и выбившаяся из сил девушка могла пронзить насквозь такого гиганта.
— По крайней мере, она предупредила принца о засаде, ваше высочество.
— Да, говорят. Может быть, Ана вскоре расскажет нам правду об этом деле. Лечи его хорошенько, врач, и ты не останешься без награды.
Потом они ушли, продолжая разговаривать, а я лежал не двигаясь, преисполненный чувства благодарности и удивления, ибо теперь я вспомнил все, что с нами произошло.
Немного позже, когда я лежал, по-прежнему закрыв глаза, ибо даже слабый свет, казалось, причинял боль, я вдруг услышал тихие женские шаги у моей кровати и почувствовал нежное благоухание, какое исходит от одежды и волос женщины. Я поднял веки и увидел сияющие, как звезды, глаза Мерапи, смотревшие на меня сверху точно так же, как в моих снах.
— Привет тебе, Луна Израиля, — сказал я. — Воистину мы встречаемся снова при странных обстоятельствах.
— О, — прошептала она, — ты наконец проснулся? Благодарение богу, писец Ана, — ведь я три дня думала, что ты умрешь.
— Ах, если бы не ты, госпожа, я бы умер, — я и кое-кто еще. Но теперь, кажется, мы все трое будем жить.
— Лучше бы только двое остались жить, Ана, — принц и ты. Лучше бы мне умереть, — ответила она с тяжелым вздохом.
— Но почему?
— А ты не догадываешься? Потому что я — отверженная, предательница своего народа. Потому что их кровь пролилась между мной и ними. Ибо я убила того человека, моего родственника, ради египтянина, то есть ради египтян. Теперь на мне проклятие Яхве, и так же, как умер мой родич, так и я вскоре умру, а потом — что потом?
— Потом покой и великая награда, если есть справедливость на земле или в небесах, о благороднейшая из женщин!
— Если бы я могла думать так же! Чу, я слышу шаги. Выпей это; я — главная из твоих сиделок, писец Ана, это — почетный пост, ибо сегодня тебя любит и прославляет весь Египет.
— Право же, это тебя, Мерапи, должен любить и прославлять весь Кемет, — сказал я.
Вошел принц Сети. Я попытался приветствовать его жестом, но он схватил мою руку и нежно сжал ее в своей.
— Здравствуй, любимец Ментху, бога войны, — сказал он, засмеявшись своим приятным смехом. — Я-то думал, что нанял писца, и вдруг! — в этом писце я нахожу воина, который мог бы стать гордостью армии.
В этот момент он заметил Мерапи, которая отошла при его появлении и стояла в полутьме.
—Здравствуй и ты, Луна Израиля, — произнес он, кланяясь. — Если я назвал Ану лучшим из воинов, каким же именем мы оба можем назвать тебя, кому мы обязаны жизнью? Нет, не опускай глаза, отвечай!
— Принц Египта, — ответила она в смущении, — я не совершила ничего особенного. Я услышала о заговоре от Джейбиза, моего дяди, и, с детства зная кратчайшие пути к перевалу, успела вовремя. Если бы я сначала подумала, то, возможно, не осмелилась бы…
— А все остальное, госпожа? Что ты скажешь о израильтянине, который хотел задушить меня, и о некоем ударе мечом, который навеки разжал его руки.
— Об этом, ваше высочество, я ничего не помню или помню очень мало. — Потом, несомненно вспомнив то, что она говорила мне перед его приходом, она низко поклонилась и вышла из комнаты.
— Она лжет с тем же очарованием, с каким делает все другое, — сказал Сети, проводив ее взглядом. — О! Какая женщина, Ана! Совершенство красоты, совершенство мужества, совершенство ума. Где же ее недостатки, а? Попробуй, найди их ты, ибо я не вижу в ней никаких.
— Спроси об этом у Ки, принц. Он великий маг, такой великий, что его искусство в силах открыть даже то, что женщина старается скрыть. А также вспомни о том, что он предупредил тебя кое о чем перед нашим отъездом в Гошен.
— Да… он сказал мне, что моя жизнь будет в опасности, — так оно и случилось. В этом он был прав. Он сказал также, что я увижу женщину, которую полюблю. Вот в этом он ошибся. Я не встретил такой женщины. О! Я хорошо знаю, о чем ты сейчас подумал. Из-за того, что я считаю госпожу Мерапи прекрасной и храброй, ты вообразил, что я ее люблю. Но этого нет. Я не люблю ни одну женщину, исключая, разумеется, ее высочество. Ана, ты судишь обо мне по себе.
— Ки сказал «полюбишь», принц. Еще есть время.
— Нет, Ана. Если кто любит, то любит сразу. Скоро я состарюсь, а она станет толстой и безобразной, и как можно тогда полюбить? Скорее поправляйся, Ана, — я хочу, чтобы ты помог мне с моим докладом фараону. Я скажу ему: я считаю, что этих израильтян жестоко угнетают и он должен возместить им потери и отпустить их с миром.
— А что скажет на это фараон, зная, что они пытались убить его наследника?
— Думаю, что фараон разгневается, как и народ Хемета, который не умеет рассуждать здраво. Он не поймет, что Лейбэн и его компания с их взглядами и верой были правы, пытаясь убить меня, — ведь я все-таки, хотя и нечаянно, осквернил святилище их бога. Если бы они поступили иначе, они были бы плохими израильтянами, и я не могу желать им зла. Однако весь Египет охвачен жаждой мести и вопит, что народ Израиля должен быть уничтожен.
— Мне кажется, принц, каков бы ни был исход второго пророчества Ки, его третье предсказание близко к осуществлению, — а именно, что эта поездка в Гошен может заставить тебя рисковать троном.
Он пожал плечами и ответил:
— Даже ради власти, Ана, я не скажу фараону то, чего нет у меня в мыслях. Но оставим это до твоего выздоровления.
— Чем кончилась битва, принц, и как я попал сюда?
— Наши убили большинство израильтян, которые еще оставались в живых. Несколько человек бежали и скрылись в темноте, в том числе и их предводитель, Лейбэн, хотя ты его и ранил, а шестерых взяли живыми. Теперь они ждут суда. Я был легко ранен, а ты — мы сначала думали, что ты погиб, — был просто без сознания и в таком состоянии или в бреду оставался до этого часа. Мы принесли тебя на носилках, и вот уже три дня, как ты здесь.
— А госпожа Мерапи?
— Мы посадили ее в колесницу и привезли в город. Если бы мы оставили ее, то ее сородичи, конечно, убили бы. Когда фараон услышал, что она сделала, он отдал ей маленький домик в этом саду (мне казалось, что нехорошо, если она останется здесь, во дворце) — там она будет в безопасности, и послал рабынь, чтобы они о ней заботились и прислуживали ей. Там она и живет и может свободно приходить во дворец, и все это время она за тобой ухаживала.
В этот момент мной вдруг овладела страшная слабость, и я закрыл глаза. Когда я открыл их снова, принца уже не было. Прошло еще шесть дней, прежде чем мне разрешили встать с постели, и за это время я часто видел Мерапи. Она была очень печальна и жила в страхе, ожидая, что израильтяне ее убьют. Вместе с тем ее мучила мысль, что она предала свою веру и свой народ.
— По крайней мере, ты избавилась от Лейбэна, — сказал я.
— Никогда я от него не избавлюсь, пока мы живы, — ответила она. — Я ему принадлежу, и он ни за что не разорвет эти узы, потому что жаждет меня всем сердцем.
— А ты тоже жаждешь его всем сердцем? — спросил я. Ее прекрасные глаза наполнились слезами.
— Женщина не смеет иметь сердце. О Ана, я так несчастна, — ответила она и ушла.
Я виделся и с другими. Меня навестила принцесса. Она горячо благодарила меня за то, что я сдержал данное ей обещание и охранял принца. Кроме того, она передала мне золото — дар фараона, и сама подарила мне нарядную одежду. Она подробно расспросила меня о Мерапи, к которой, как я видел, уже питала чувство ревности, и обрадовалась, узнав, что она обручена с израильтянином. Пришел и старый Бакенхонсу и много спрашивал о принце, о евреях и о Мерапи, особенно о Мерапи, о подвиге которой, сказал он, говорит весь Египет. На все эти вопросы я постарался ответить как можно лучше.
— Так вот она, эта женщина, о которой говорил нам Ки, — сказал он, — та, которая принесет так много радости и так много горя принцу Египта.
— Но почему? — спросил я. — Он же не взял ее в свой дом и, по-моему, не собирается.
— И однако, он это сделает, Ана, хочет он того или не хочет. Ради него она предала свой народ, а у израильтян это — преступление, которое карается смертью. Дважды она спасла ему жизнь, один раз когда предупредила о засаде, и второй раз — когда своими руками вонзила меч в одного из своих сородичей, который душил его. Разве не так? Скажи мне, ведь ты там был.
— Так, но что из этого следует?
— Вот что: она его любит, что бы она ни говорила, если, конечно, не тебя? — И он зорко взглянул на меня.
— Когда рядом с женщиной принц, да еще такой принц, стала бы она утруждать себя и расставлять силки для какого-то писца? — спросил я не без горечи.
— Ого! — сказал он, рассмеявшись. — Так вот как обстоят дела. Правда, я так и думал. Но, друг Ана, остерегись, пока не поздно! Не старайся превратить Луну в свой домашний светильник, а то как бы она не зашла, и Солнце, ее повелитель, не разгневался бы и не спалил тебя до смерти. Нет, она любит его и поэтому рано или поздно заставит его полюбить себя, иначе и быть не может.
— Но каким образом, Бакенхонсу?
— С большинством мужчин, Ана, это было бы просто. Вздох, полускрытые слезы в подходящий момент — и дело сделано. Я видел, как это делается, тысячу раз. Но с этим принцем, при том, каков он есть, все может быть иначе. Может быть, она даст ему понять, что ради него она потеряла свою честь, что из-за него ее народ ненавидит ее, а бог ее отверг, и это пробудит в нем жалость, а жалость — родная сестра любви. А может быть, поскольку она, как я знаю, еще и мудрая, она станет его советницей во всех делах с израильтянами и таким образом, под видом дружбы проникнет в его сердце, а тогда ее нежность и красота сделают все остальное по законам самой Природы. Во всяком случае, тем или другим способом, вверх или вниз по течению, но к этому она придет.
— Если даже так, что из того? По обычаю цари Кемета могут иметь больше чем одну жену.
— Да, Ана, но Сети, думаю, такой человек, который по-настоящему может иметь только одну, и ею будет эта еврейка. Да, еврейская женщина будет править Египтом и заставит принца принять ее бога, ибо она никогда не станет поклоняться нашим богам. Больше того, когда ее народ поймет, что потерял ее, он использует ее именно для этих целей. А может статься, что ее использует сам этот бог, чтобы довершить то, что он, возможно, уже начал, наведя ее на этот путь.
— А что потом, Бакенхонсу?
— Потом — кто знает. Я не маг, во всяком случае — не настолько владею этим искусством. Спроси у Ки. Но я очень, очень стар и наблюдал жизнь и людей и говорю тебе — так и случится, если только…
— Если только, что?
— Если только Таусерт не смелее, чем я думаю, и не убьет ее прежде, а еще лучше — не найдет какого-нибудь иудея, который бы убил ее, — скажем, ее отвергнутого любовника. Если бы ты был другом фараону и Египту, Ана, ты бы мог шепнуть ей об этом на ушко.
— Никогда! — ответил я с гневом.
— Я и не думал, что ты на это способен, Ана! Ты ведь сам бьешься в этих сетях из лунных лучей, которые прочнее и осязаемее, чем любые сети, сплетенные человеческой рукой. Да и я этого не сделаю, при моем возрасте. Я люблю наблюдать борьбу человеческих стремлений и, подойдя уже столь близко к богам, страшусь вмешиваться в их замыслы и планы. Пусть этот свиток развернется, прочти его, Ана, и вспомни, что я тебе сегодня сказал. Это будет прекрасная повесть, написанная под конец кровью вместо чернил. Охо-хо! — И, смеясь, он заковылял прочь из комнаты, оставив меня в страхе.
Но чаще всех я видел принца. Он навещал меня каждый день и еще до того, как я встал с постели, начал диктовать мне свой доклад фараону, ибо не признавал никакого другого писца. Суть доклада соответствовала тому, что он еще раньше набросал в разговоре со мной, а именно: что народу Израиля, который в течение многих поколений достаточно настрадался под властью Египта, следует ныне разрешить уйти спокойно и куда он хочет. Нападению на нас в ущелье он не придал большого значения, изобразив его как злой умысел нескольких фанатиков, внушенный им воображаемым оскорблением их бога, как
дело, за которое не должен пострадать весь народ. Доклад завершался следующими словами:
Помни, о фараон, молю тебя, что Амон, бог египтян, и Яхве, бог израильтян, не могут править в одной и той же стране. Если оба они останутся в Египте, вспыхнет война богов. Поэтому молю тебя дать Израилю уйти.
Поднявшись и окончательно оправившись, я переписал этот доклад своим самым красивым почерком, отказываясь сообщить кому-либо о его содержании, хотя меня спрашивали все и среди прочих визирь Нехези, который предложил мне взятку, если я открою этот секрет. Не знаю как, но это дошло до слуха Сети, и он был очень доволен мной, говоря, как он рад, что в Египте есть хоть один писец, которого нельзя подкупить. Таусерт тоже допросила меня, и когда я отказался отвечать, она, странным образом, даже не рассердилась, потому что, сказала она, я лишь исполнял свой долг.
Наконец свиток был дописан и запечатан, и принц собственноручно, но без единого слова положил его на колени фараону во время царского приема, ибо он не хотел его никому доверять. Аменмес тоже представил свой доклад, как и визирь Нехези, и начальник отряда, который спас нас от смерти. Спустя восемь дней принца вызвали на Большой Совет государства, равно как и всех членов царского дома и всех высших военачальников. Я тоже получил вызов как причастный к этому делу.
Принц в сопровождении принцессы прибыл во дворец в золотой колеснице фараона, запряженной парой белых, как молоко, лошадей, потомков тех знаменитых боевых коней, которые спасли жизнь Рамсесу Великому во время сирийской войны. На протяжении всего пути тысячи людей, высыпавших на улицы, встречали его приветственными криками.
— Видишь, — сказал старый Бакенхонсу, который, как член Совета, ехал со мной во второй колеснице, — Кемет гордится и радуется. Он считал своего принца всего лишь мечтателем, далеким от жизни. Но теперь все слыхали о засаде в ущелье и узнали, что он — человек отважный, воин, который может сражаться наряду с лучшими. Поэтому Кемет теперь любит его и ликует при его появлении.
— Тогда, по этой же мерке, Бакенхонсу, мясник — более великий, чем самый мудрый из писцов.
— Так оно и есть, Ана, особенно если он убивает не скот, а людей. Писатель создает, но убийца разрушает, и в мире, где правит смерть, тот, кто убивает, в большем почете, чем тот, кто творит. Послушай, теперь они выкрикивают твое имя. Потому ли, что ты автор неких произведений? Говорю тебе, нет. Это потому, что там, в ущелье, ты убил трех человек. Если ты хочешь, чтобы тебя прославляли и любили, Ана, брось писание книг и начинай резать глртки.
— Но писатель живет даже после смерти.
— Ого! — засмеялся Бакенхонсу. — Ты даже глупее, чем я думал. Какая польза человеку от того, что будет после его смерти? Да сегодня вон тот слепой нищий, который скулит на ступенях храма, значит для Кемета больше, чем мумии всех фараонов — разве что их еще можно ограбить. Бери то, что предлагает тебе жизнь, Ана, и не заботься о приношениях, которые кладут в гробницу на съедение времени.
— Это низменные взгляды, Бакенхонсу.
— Крайне низменные, Ана, как и все другое, что мы можем попробовать на вкус и на ощупь. Низменные взгляды, годные для низменных сердец, к которым можно причислить всех, кроме, пожалуй, одного из каждой тысячи. И все же, если хочешь преуспевать, следуй им, и когда ты умрешь, я приду и посмеюсь, стоя над твоей , могилой, и скажу: «Здесь лежит тот, от кого я ждал более высоких дел», — как я с надеждой жду их и от твоего господина.
— И не напрасно, Бакенхонсу, что бы ни случилось с его слугой.
— Ну, это мы узнаем и, думаю, скоро. Интересно, кто будет рядом с ним в колеснице перед следующим разливом Нила. К тому времени, может статься, он сменит золотую колесницу фараона на простую телегу, а ты будешь погонять волов и говорить с ним о звездах — или, может быть, о луне. Эта богиня ревнива и любит, когда ей поклоняются. Возможно, мы оба чувствовали бы себя счастливее. Охо-хо! Вот и дворец. Помоги мне сойти с колесницы, жрец богини Луны.
Мы вошли во дворец, и нас провели через большой зал в меньшую комнату, где фараон не в самом парадном облачении уже ожидал нашего прихода, сидя в кресле кедрового дерева. Взглянув на него, я увидел, что лицо мрачно и сурово; мне показалось также, что он как будто постарел. Принц и принцесса склонились перед ним, как и мы, менее значительный люд, но он не обратил на эти приветствия никакого внимания. Когда все собрались и двери закрыли, фараон сказал:
— Я прочитал твой доклад, сын Сети, о посещении страны Гошен и обо всем, что с тобой случилось; и твой тоже, племянник Аменмес, и всех остальных, кто сопровождал принца Египта. Прежде чем говорить об этих докладах, пусть писец Ана, который был вашим спутником, выйдет вперед и расскажет мне все, что там произошло.
Я вышел вперед и, склонив голову, повторил эту историю, по возможности опуская лишь то, что касалось меня самого. Когда я кончил, фараон сказал:
— Тот, кто говорит только полуправду, иногда приносит больше вреда, чем лжец. Так что же, писец, ты просидел все время в колеснице и бездействовал, пока принц бился за свою жизнь? Или ты сбежал? Говори, Сети, и скажи, какую роль сыграл этот человек, будь то во зло или на благо.
Тогда принц рассказал о моем участии в сражении, описав его такими словами, что вся кровь бросилась мне в лицо. Он рассказал также, что именно я, рискуя вызвать его гнев, приказал отряду в двадцать человек незаметно следовать за нами, переодел бегунами двух солдат и, не растерявшись, когда началось побоище, послал возницу за помощью, как я тоже был ранен и лишь недавно поправился. Когда он кончил, фараон сказал:
— О том, что все так и было, я знаю от других. Писец, ты действовал прекрасно. Если б не ты, сегодня его высочество лежал бы на столе для бальзамирования — что, может быть, он и заслужил за свое безрассудство — и весь Кемет, от Фив до устья Сихора, погрузился бы в траур. Подойди сюда.
Дрожащими ногами я подошел и преклонил колени перед его величеством. На груди фараона висела красивая золотая цепь. Он снял ее и надел мне на шею, говоря:
— Потому что ты проявил и храбрость, и мудрость, я жалую тебе вместе с этой цепью титул советника и друга царя и право вписать этот титул на твоей могильной стеле. Ступай, писец Ана, советник и друг царя.
Я отошел в смущении и когда проходил мимо Сети, тот прошептал мне на ухо:
— Прошу тебя, останься товарищем принца и после того, как Ты стал другом царя.
Затем фараон приказал, чтобы начальника отряда повысили в чине, солдаты получили награды, а дети убитых — необходимую помощь, и чтобы семьи тех двух воинов, которых я переодел бегунами, были обеспечены вдвойне.
Закончив эти дела, фараон снова заговорил медленно и многозначительно, предварительно велев всем слугам и страже удалиться. Я тоже хотел уйти, но старый Бакенхонсу удержал меня, поймав за одежду и сказав, что я в моем новом чине имею право остаться.
— Принц Сети, — сказал фараон, — после всего, что я слышал, я нахожу твой доклад весьма странным. Более того, он написан совершенно в ином духе, чем доклады Аменмеса и других. Ты советуешь мне отпустить этих израильтян на все четыре стороны из-за неких лишений и невзгод, которые они претерпели в прошлом и которые, однако, не уменьшили ни их числа, ни их богатства. Я не намерен принять этот совет. Скорее я намерен послать в страну Гошен армию с приказом — прогнать этот народ, сговорившийся тайно убить принца Египта, сквозь Врата Запада
[312], чтобы там они поклонялись своему богу на небесах или в аду. Да, да, умертвить их всех до единого, от седобородого старца до младенца, сосущего материнскую грудь!
— Я слышу фараона, — спокойно сказал Сети.
— Такова моя воля, — продолжал Мернептах, — и те, кто сопровождал тебя в этой поездке, и все мои советники думают так же, как я, ибо поистине Кемет не может терпеть столь мерзкой измены. Однако согласно нашему закону и обычаю, прежде чем предпринимать столь значительные военные и политические шаги, необходимо, чтобы тот, кто стоит ближе всех к трону и кому суждено занять его, дал свое согласие на эти действия. Ты согласен, принц Египта?
— Я не согласен, фараон. Я считаю, что было бы злодеянием уничтожать десятки тысяч людей по той причине, что несколько глупцов напали на человека, оказавшегося принцем царской крови, потому что тот по досадной случайности осквернил их святилище.
Я увидел, что этот ответ сильно разгневал фараона, ибо никогда еще его воля не встречала подобного сопротивления. Все же он овладел собой и спросил:
— Тогда, принц, ты, может быть, согласишься на более мягкий приговор, а именно — чтобы еврейский народ был рассеян: самые опасные были бы сосланы трудиться в шахтах и каменоломнях пустыни, а остальные расселены по всему Египту на положении рабов?
— Я не согласен, фараон. Мой скромный совет записан в этом свитке и не может быть изменен.
Глаза Мернептаха вспыхнули, но он снова сдержался и спросил:
— Случись тебе занять мое место, принц Сети, скажи нам всем, собравшимся здесь, какую политику ты будешь проводить по отношению к этим израильтянам?
— Ту политику, о фараон, которую я рекомендую в моем докладе. Если я когда-нибудь займу этот трон, ядам им уйти, куда они захотят, и унести с собой свои богатства.
Теперь все взоры были прикованы к нему, послышался ропот. Но фараон поднялся, трясясь от гнева. Схватившись за одежду, там, где она была скреплена на груди, он разорвал ее и вскричал страшным голосом:
— Слушайте его вы, боги Кемета! Слушайте этого сына, который бросает мне вызов в лицо и готов подставить ваши головы под пяту чужого бога! Принц Сети, в присутствии этих членов царского дома и моих советников я…
Он не сказал больше ни слова, ибо принцесса Таусерт, сидевшая до этого молча, подбежала к нему и, обняв, зашептала ему на ухо. Он выслушал ее, потом сел и вновь заговорил:
— Принцесса напоминает мне, что это слишком важный вопрос, который нельзя решать слишком поспешно. Может случиться, что когда принц посоветуется с ней и со своим собственным сердцем и, возможно, обратится к мудрости богов, он возьмет обратно слова, слетевшие с его уст. Приказываю тебе, принц, явиться сюда в этот же час на третий день от нынешнего. Тем временем ни один из присутствующих не должен, под страхом смерти, произнести ни слова о том, что произошло в этих стенах. Это приказ.
— Я слышу фараона, — сказал, поклонившись, принц. Мернептах поднялся, показывая, что Совет окончен, но в этот момент к нему подошел визирь Нехези и спросил:
— А что насчет израильских пленников, о фараон, тех убийц, которые были захвачены в ущелье?
— Их вина доказана. Прикажи бить их розгами до тех пор, пока они не умрут, а если у них есть жены или дети, пусть их схватят и продадут в рабство.
— Да будет воля фараона! — сказал Нехези.
IX. Поражение Амона
В тот вечер я сидел глубоко встревоженный в своей рабочей комнате, тщетно пытаясь писать, ибо я чувствовал, что принцу грозят большие беды, и не знал, что сделать, чтобы отвратить их от него. Дверь отворилась и появился старый Памбаса; назвав меня моим новым титулом, он сказал, что госпожа Мерапи, которая ухаживала за мной, пока я лежал в постели, желает со мной поговорить. И вот она пришла и остановилась передо мной.
— Писец Ана, — сказала она, — я только что видела моего дядю' Джейбиза, который приехал, или был послан, чтобы встретиться со мной.
— Зачем он был послан, госпожа? Сообщить тебе что-нибудь о Лейбэне?
— Нет, Лейбэн скрылся, и никто не знает, где он. А сам Джейбиз избежал неприятностей как дядя предательницы только потому, что согласился взять на себя эту миссию.
— Какую миссию?
— Просить меня, чтобы я, если хочу спастись от смерти или мщения богов, подействовать на сердце его высочества, а я не знаю, как это сделать…
— Но, я думаю, ты бы нашла способы, Мерапи.
— …кроме как через тебя, его друга и советчика, — продолжала она, отвернув в сторону лицо. — Джейбиз узнал, что фараон намерен поголовно истребить народ Израиля.
— Откуда он узнал, Мерапи?
— Не могу сказать, но думаю, это знает весь народ Израиля. Я сама знала с первого же дня, хотя никто мне об этом не говорил. Он узнал также, что по египетским законам это можно сделать только с согласия принца, если он наследник престола и достиг совершеннолетия. Вот я и пришла молить тебя, чтобы ты попросил принца не соглашаться.
— Почему бы тебе самой не попросить принца, Мерапи, — начал я, но вдруг за спиной услышал из полумрака голос принца, который вошел с каким-то писанием в руке через потайную дверь, говоря:
— И с какой же просьбой хочет обратиться ко мне госпожа Мерапи? Нет, не уходи, говори, Луна Израиля.
— О принц, — сказала она умоляюще, — моя просьба в том, чтобы ты спас израильтян от насильственной смерти, ибо ты один в силах это сделать.
В этот момент дверь распахнулась, и явилась царственная Таусерт.
— Что здесь делает эта женщина? — спросила она.
— Думаю, она пришла повидать Ану, жена, так же, как я и, несомненно, ты. И поскольку она здесь, она просит меня спасти ее народ от меча.
— А я прошу тебя, супруг, предать ее народ мечу; они вполне этого заслужили, ибо они хотели убить тебя.
— И заплатили за это, Таусерт, все до единого, — если кто-нибудь еще не мучается под розгами, — добавил он, содрогнувшись. — Остальные невиновны, почему же они должны умереть?
— Потому что от этого зависит судьба твоего трона, Сети. Говорю тебе: если ты будешь по-прежнему перечить воле фараона, а по закону ты имеешь на это право, он лишит тебя права престолонаследия и посадит на твое место твоего кузена Аменмеса, тоже на основании египетских законов.
— Я думал об этом, Таусерт. И все же, почему я должен повернуться спиной к правому делу ради моих личных интересов? Вопрос в том, правильно ли это?
Она с изумлением смотрела на него — она никогда не понимала Сети и не могла представить себе, что он откажется от самого могущественного трона в мире из-за спасения подвластного ему народа только потому, что, по его мнению, этот народ не должен погибнуть. Однако предупрежденная каким-то инстинктом она оставила первый вопрос без ответа, обратившись прямо ко второму.
— Конечно, правильно, — сказала она, — и по многим причинам. Укажу лишь одну, ибо она включает все другие. Боги Кемета — истинные боги, которым мы должны служить и повиноваться или погибнуть теперь и навеки. Бог израильтян — ложный бог, и те, кто ему поклоняются, заслуживают смертного приговора. Поэтому в высшей степени правильно, чтобы те, кого истинные боги осудили, погибли бы от мечей их слуг.
— Хорошо обосновано, Таусерт, и если это действительно так, то может статься, я и соглашусь с твоим мнением и не буду стоять между фараоном и его желанием. Но так ли это? Вот в чем трудность. Не стану спрашивать, почему ты считаешь богов египтян истинными, ибо знаю, что бы ты ответила или, скорее, вообще бы не ответила на этот вопрос. Но я спрошу эту госпожу, действительно ли ее бог — ложный бог, и если она ответит отрицательно, я попрошу ее доказать мне свою правоту, если она может. Если она в состоянии доказать, что она права, тогда, я думаю, через три дня я повторю то, что сказал фараону сегодня. Если она не в состоянии доказать этого, тогда я очень серьезно рассмотрю этот вопрос. Отвечай же, Луна Израиля, и помни — от того, что ты сейчас скажешь, зависят тысячи жизней.
— О принц, — начала было Мерапи. Потом она умолкла, молитвенно сложила руки и подняла глаза. Думаю, она действительно молилась, ибо ее губы шевелились. И вдруг я увидел — и, по-моему, Сети тоже увидел — что какой-то чудесный свет озарил ее лицо и засиял в глазах какой-то божественный огонь вдохновения и решимости.
— Как могу я, простая еврейская девушка, доказать твоему высочеству, что мой бог — истинный бог, а боги Кемета — ложные боги? Не знаю… И все же среди всех богов, которым вы поклоняетесь, есть ли какой-нибудь один, кого вы могли бы противопоставить нашему богу?
— Разумеется, израильтянка, — ответила Таусерт. — Амон-Ра, Отец Богов, от кого все другие боги берут свое существование и свою силу. В святилище его храма, древнего храма, высится его статуя. Пусть твой бог сдвинет ее с места! Но что ты выставишь против величия Амона-Ра?
— Мой бог не имеет статуй, принцесса, и его место в сердцах людей — по крайней мере, так учили меня его пророки. Мне нечего выставить в этой войне кроме того, что неизбежно предлагается во всех войнах, — своей жизни.
— Что ты имеешь в виду? — спросил ошеломленный Сети.
— То, что я, одинокая, без друзей и поддержки, предстану перед Амоном-Ра в его святилище и брошу ему вызов — и пусть он убьет меня, если сможет.
Мы уставились на нее, и Таусерт воскликнула:
— Если сможет! Какое богохульство! И ты, Сети, наследственный верховный жрец бога Амона, принимаешь ее вызов? Пусть же она заплатит жизнью за это святотатство!
— А если великий бог Амон не сможет ил и не пожелает убить тебя, госпожа, как это докажет, что твой бог более велик, чем он? — спросил принц. — Что, если он улыбнется тебе и, пожалев тебя, пренебрежет оскорблением, как поступил со мной твой бог?
— Это будет доказано так, принц: если со мной ничего не случится или если я останусь невредима после того, что все-таки случится, тогда я осмелюсь воззвать к моему богу, чтобы он подал знак или сотворил чудо и принизил Амона-Ра у вас на глазах.
— А если твой бог тоже улыбнется и оставит твою просьбу без ответа, как он поступил с вашими жрецами, когда они воззвали к нему против меня в тот раз, — как мы тогда узнаем, кто из богов сильнее, твой или Амон-Ра?
— О принц, тогда вы ничего не узнаете. Но если я избегну гнева Амона, а мой бог останется глух к моей мольбе, тогда я готова отдаться в руки жрецов Амона, и пусть они отомстят мне за мое кощунство.
— Вот голос великого сердца, — сказал Сети, — но я не хочу, чтобы эта женщина рисковала жизнью на таких условиях. Я не верю, что верховный бог Кемета или бог израильтян откликнутся на этот вызов, но я совершенно уверен в том, что жрецы Амона отомстят за кощунство и притом жестоко. Твоя игра проигрышная, госпожа. Ты не должна доказывать истинность своей веры своей кровью.
— Почему же? — спросила Таусерт. — Что тебе эта девушка, Сети, что ты так страшишься стать между нею и плодами ее кощунства, хотя ты, по крайней мере по званию, являешься верховным жрецом бога, которого она оскорбляет, и носишь его одеяние во времена храмовых мистерий? Она верит в своего бога, пусть он ей и поможет, — она же имеет дерзость утверждать, что он ей поможет.
— Ты веришь в Амона, Таусерт. Ты готова поставить свою жизнь против ее жизни в этом состязании?
— Я еще не сошла с ума и не настолько тщеславна, Сети, чтобы поверить, что бог всего мира спустится с небес спасать меня по моей просьбе, как верит — или говорит, что верит, — эта несчастная девушка.
— Ты отказываешься. Тогда, Ана, что скажешь ты, верный приверженец Амона?
— Скажу, принц, что было бы слишком самонадеянным с моей стороны высказывать свое мнение по такому вопросу, прежде чем выскажется его верховный жрец.
Сети улыбнулся и ответил:
— А верховный жрец говорит, что было бы самонадеянностью настолько расширять прерогативы его высокой должности, к которой он, к тому же, никогда не стремился.
— О принц, — сказала Мерапи умоляющим голосом, — молю тебя, будь милостив ко мне и дай мне пройти через это испытание, мысль о котором, сама не знаю почему, пришла мне в голову. Слова, сказанные мной, нельзя взять обратно. Они уже внесены в Книгу Вечности и рано или поздно, так или иначе должны осуществиться. Вопрос касается моей жизни, и я желаю сразу же узнать, потеряна ли она.
Теперь даже Таусерт посмотрела на нее с восхищением, но сказала только:
— Поистине, израильтянка, я верю, что это мужество не покинет тебя, когда тебя отдадут на милость Ки, жреца храма Амона, и других жрецов в подземелье храма, который ты осквернишь своим кощунством.
— Я тоже верю, что оно меня не оставит, принцесса, если такова будет моя судьба. Твое слово, о принц Египта.
Сети посмотрел на нее — она стояла перед ним спокойная, склонив голову и скрестив на груди руки. Потом он перевел взгляд на Таусерт, на лице которой играла насмешливая улыбка. Он прочитал значение этой улыбки, как прочел его и я. Она означала, что принцесса не верит, чтобы он позволил этой прекрасной женщине, которая спасла ему жизнь, рисковать своей жизнью ради какой-либо или всех сил неба и ада. Некоторое время он ходил взад и вперед по комнате, потом остановился и сказал, обращаясь неожиданно не к Мерапи, а к Таусерт:
— Будь по-твоему, но помни — если эта смелая женщина умрет, ее кровь будет на твоих руках, а если она восторжествует и будет жить, я сочту ее самой благородной из женщин и займусь изучением всех вопросов ее религии. Луна Израиля! Как титулованный верховный жрец Амона-Ра я принимаю твой вызов от имени бога, хотя и не знаю, обратит ли он на него внимание. Испытание состоится завтра ночью в святилище храма, в час, о котором тебе сообщат. Я буду присутствовать — и другие тоже — и следить, чтобы все было по справедливости. Запиши мои распоряжения, писец Ана, и вызови ко мне главного жреца Амона Рои и жреца Амона мага Ки — я хочу поговорить с ними. Прощай, госпожа.
Она пошла, но у дверей обернулась и сказала:
— Благодарю тебя, принц, от своего имени и от имени моего народа. Что бы ни случилось, умоляю тебя — не забудь моей просьбы спасти их, невинных, от меча. А сейчас, пока меня не вызовут в храм, прошу оставить меня совсем одну. Я должна, насколько смогу, подготовиться к тому, что меня ожидает, какова бы ни была моя судьба.
Вслед за ней ушла и Таусерт, не сказав ни слова.
— О друг, что я сделал! — сказал Сети. — Есть ли на свете боги? Скажи мне, есть ли вообще боги?
— Возможно, мы узнаем это завтра ночью, принц, — сказал я. — По крайней мере, Мерапи считает, что один бог есть, и, несомненно, получила приказ доказать правоту своей веры. Именно этот приказ ей и передал, думаю, ее дядя Джейбиз.
Это было за час до рассвета, когда ночь всего темнее. Мы стояли в святилище древнего храма Амона-Ра, освещенного множеством светильников. Все внушало благоговейный ужас. Величественные колонны подымались к массивной крыше. Во главе алтаря на троне высилась статуя Амона-Ра, втрое превышавшая рост человека. Над его челом, как бы вырастая из короны, возвышались два каменных пера, а в руках он держал Бич Власти и символы Могущества и Бессмертия. Отблески света мерцали на его суровом, страшном неподвижном лице, с неподвижным взором, обращенным к востоку.
Справа от него была статуя Мут, Матери всех вещей
[313]. На голове ее была двойная корона Египта с царственным уреем, в руке — перекрещенная петля, символ вечной Жизни. Слева сидел Хонсу — бог луны с головой ястреба, увенчанный серпом молодого месяца, несущий диск полной луны, в правой руке он тоже держал перекрещенную петлю, знак вечной Жизни, а в левой — Жезл Силы. Такова была эта могущественная триада, но самым великим в ней был Амон-Ра, коему и был посвящен этот алтарь. Страшно выглядели они, возвышаясь над нами на фоне черной тьмы.
Здесь собрались: принц Сети, облаченный в белое одеяние жреца и в льняном головном уборе, но без украшений, принцесса Таусерт, верховная жрица Хатхор, богини Любви и Природы. На ней был головной убор богини — голова грифа с диском луны, отлитым из серебра. Были здесь также главный жрец Рои в торжественном жреческом облачении — старый, иссохший человек с властным, жестоким лицом, Ки — жрец и маг, старый Бакенхонсу, я и группа жрецов Амона-Ра, Мут и Хонсу. Из-за статуи доносилось торжественное пение, хотя мы и не видели, кто пел.
Но вот из тьмы, обступившей освещенную часть святилища, появилась женщина, окутанная длинным плащом. Ее вели две жрицы. Выведя ее на открытое пространство перед статуей Амона, они сняли с нее плащ и удалились, оглядываясь на нее со страхом и ненавистью. Перед нами стояла Мерапи, вся в белом; белое покрывало, наброшенное на голову, обрамляло ее лицо, закрывая щеки, подбородок и шею, закрепляясь на груди застежкой со скарабеем, которую Сети дал ей в пустыне у города Гошен, — единственное яркое пятно, голубевшее среди облака белизны. Она не смотрела ни вправо, ни влево. Только однажды она взглянула вверх, на мрачную статую бога и, слегка задрожав, отвела взгляд, устремив его на выложенный в полу узор.
— На кого она похожа? — прошептал мне на ухо Бакенхонсу.
— На мертвеца, готового для бальзамирования, — ответил я. Он отрицательно покачал головой.
— Ну, тогда на молодую жену, подготовленную к приему своего мужа.
Он снова покачал головой.
— Тогда на жрицу, которая собирается читать свиток Тайн.
— Верно, Ана, — и понять то, что она читает. А на это способны лишь немногие из жриц. Но все три ответа были правильны, ибо в этой женщине, мне кажется, я вижу судьбу, которая есть Смерть, жизнь, которая есть Любовь, и дух, который есть Сила. У нее душа, которую целовали и Небо и Земля.
— Да, но кто из них предъявит на нее свои права в конечном итоге?
— К рассвету мы узнаем, Ана. Тише! Борьба начинается. Главный жрец Рои выступил вперед и, остановившись перед богом, окропил его ступни водой и благовониями. Потом он простер руки и все пали ниц, исключая Мерапи, которая оставалась стоять, как одинокий воин, уцелевший на поле битвы.
— Привет тебе, Амон-Ра, — начал он. — Повелитель Небес, Творец всего сущего, Создатель богов, воздвигший небесные своды и построивший основание Земли! О бог богов, перед тобой эта женщина Мерапи, дочь Натана, дитя израильского народа, который не признает тебя. Эта женщина сомневается в твоем могуществе; эта женщина ставит своего бога выше тебя. Не так ли, женщина?
— Так, — ответила Мерапи тихим голосом.
— Она бросает тебе вызов, о Единственный и Единый во многих формах, говоря: «Если бог египтян Амон — более великий бог, чем мой бог, пусть он вырвет меня из объятий моего бога и здесь, в этом самом святилище Амона, похитит дыхание из моих уст и оставит меня безжизненным телом из глины». Это твои слова, о женщина?
— Это мои слова, — сказала она тем же тихим голосом, и, услышав это, я содрогнулся.
Жрец продолжал:
— О повелитель времени, повелитель жизни, повелитель духов и небожителей, повелитель ужаса, явись в своем величии и сотри в прах эту богохульницу.
Рои отступил, и его место занял Сети.
— Узнай, о бог Амон, — сказал он, обращаясь к статуе, как будто говорил с живым человеком, — узнай от меня, твоего верховного жреца, урожденного принца и наследника трона Кемета, что это дело будет иметь великие последствия на земле Кемета, может быть, даже в том, кто займет трон, который ты даруешь его царям. Эта женщина Израиля дерзает говорить тебе прямо в лицо, что есть бог более великий, чем ты, и что ты не сможешь повредить ей, ибо она за щитом его силы. Она говорит также, что попросит своего бога подать знак и сотворить над ней чудо. Наконец, она говорит, что если ты оставишь ее невредимой, а ее бог не подаст о себе никакого знака, тогда она готова остаться в руках твоих жрецов и умереть смертью богохульницы. Твоя честь поставлена против ее жизни. О великий бог Кемета, и мы, поклоняясь тебе, ждем и следим, куда склонится чаша весов.
— Хорошо и правильно изложено, — пробормотал Бакенхонсу. — Теперь, если Амон не поддержит нас, что ты подумаешь об Амоне, Ана?
— Я узнаю мнение верховного жреца и подумаю то, что подумает верховный жрец, — ответил я уклончиво, хотя в душе я смертельно боялся за Мерапи и, сказать по правде, за себя тоже, ибо во мне возникли сомнения и я никак не мог их подавить.
Сети вернулся на свое место рядом с Таусерт, и теперь вперед выступил Ки и сказал:
— О Амон, я, твой жрец и маг, кому ты дал власть и силу, я, жрец и слуга Исиды, Матери Таинств, царицы богов, к тебе я взываю! Та, что стоит перед тобой, всего лишь еврейская женщина. И однако ты знаешь, как знаю я, о Отец, что в этом доме она больше, чем женщина, ибо она — Глас и Меч твоего врага Яхве, бога Израиля. Она, может быть, считает, что пришла сюда по своей воле, но ты, Отец Амон, знаешь, как и я, что ее послали великие пророки ее народа, те маги, которые своими чарами склоняют ее душу к тому, чтобы причинить тебе зло и подвести тебя, Амона, под пяту Яхве. Ставка как будто малая — жизнь лишь одной этой девушки, не больше; однако это великая ставка, о Отец: кто будет править миром — Амон или Яхве. Если ты падешь этой ночью — ты падешь навсегда, если ты восторжествуешь — ты восторжествуешь навсегда. В этом образе из камня скрывается твой дух, в этом образе из женской плоти скрывается дух твоего врага. Сокруши ее, о Амон, сокруши ее в мелкий прах, не дай силе, что таится в ней, одержать верх над твоей силой, иначе имя твое будет осквернено, и горе и лишения обрушатся на землю, которая служит тебе троном, и колдуны израильтян одолеют нас, твоих слуг. Так молит тебя Ки, твой маг, в чью душу тебе угодно было вдохнуть силу и мудрость.
Наступило глубокое молчание.
Следя за статуей бога, я вдруг подумал, что она шевельнулась, и по движению остальных понял, что они увидели то же, что и я. Мне показалось, что ее каменные глаза ожили, что она подняла гранитную руку, державшую Бич Власти, — хотя было ли это результатом действий какого-либо духа или кого-нибудь из жрецов, или магии Ки, я не знаю. По крайней мере, сильный порыв ветра пронесся по храму, всколыхнув наши одежды и чуть не погасив светильники. Только одеяние Мерапи не шелохнулось. Однако она увидела нечто, недоступное моему взору, ибо в глазах ее появился страх.
— Бог пробудился, — шепнул Бакенхонсу. — Теперь прощай, наша красавица-израильтянка. Смотри, принц дрожит, Ки улыбается, а лицо Таусерт сияет торжеством.
Не успел он договорить, как голубой скарабей отделился от ткани на груди Мерапи, как будто сорванный чьей-то рукой. Он упал на пол, как и покрывало с головы Мерапи, и ее густые черные волосы рассыпались по плечам. Потом глаза статуи перестали двигаться, ветер стих и снова наступило молчание.
Мерапи нагнулась, подняла покрывало, набросила его на голову, нашла скарабея и очень спокойно, как сделала бы одевающаяся женщина, снова приколола его на груди; при этом я услышал, как охнула Таусерт.
Долго мы ждали. Наблюдая за окружающими, я видел изумление и сомнение на лицах жрецов, ярость в глазах Ки; на лице же Сети промелькнула легкая улыбка. Мерапи закрыла глаза, как будто уснула. Наконец она открыла их и, повернув голову в сторону принца, сказала:
— Верховный жрец Амона-Ра, проявил ли твой бог свою волю по отношению ко мне, или я должна еще подождать, прежде чем воззвать к моему богу?
— Делай, что хочешь или что можешь, женщина, и кончай с этим, — уже скоро рассвет, когда в храме начнется обычный ритуал.
Тогда Мерапи сложила руки и, подняв глаза, начала молиться вслух, нежно и просто говоря:
— О Бог моих отцов, вверяясь тебе, я, бедная девушка твоего народа Израиля, отдаю жизнь, что ты даровал мне, в твои руки. Если, как я верю, ты Бог богов, молю тебя — подай знак и соверши чудо над этим богом египтян, подтверди свою Честь и сохрани дыхание в моей груди. Если же тебе неугодно, тогда пусть я умру, как я несомненно заслуживаю за многие свои грехи. О Бог отцов моих, я сотворила свою молитву. Выслушай ее или отвергни, да будет на все твоя воля.
Так закончила она, и, слушая ее, я почувствовал, что глаза мои наполняются слезами, потому что она была так одинока, и я боялся, что ее бог ни за что не спасет ее от уготованных ей жрецами мук. Сети тоже отвернулся и устремил взор на полоску неба над открытым двориком, где уже появились первые проблески зари.
И опять наступило молчание. И вдруг снова поднялся ветер, сильнее, чем прежде, погасил светильники и, как мне показалось, отбросил Мерапи в сторону, ибо теперь она стояла сбоку от статуи. В святилище воцарилась тьма; и вот первые лучи восходящего солнца коснулись крыши. С каждой минутой они продвигались все ниже и ниже, пока наконец не опустились, как пламенный меч, на статую Амона-Ра. И вновь статуя как будто шевельнулась. Мне показалось, что она подняла свою каменную руку, словно защищая голову. И потом в одно мгновение вся эта могучая глыба раскололась с оглушительным шумом и рассыпалась прахом вокруг трона, почти целиком покрыв его.
— Смотрите, мой Бог ответил мне, самой смиренной из его слуг, — сказала Мерапи тем же нежным и мягким голосом. — Вот его знак и чудо!
— Ведьма! — закричал главный жрец Рои и бежал в сопровождении своих коллег.
— Колдунья! — прошипела Таусерт и тоже обратилась в бегство, как и все остальные, кроме принца, Бакенхонсу, меня — Аны, и мага Ки.
Мы стояли в изумлении, а Ки повернулся к Мерапи и заговорил. Лицо его, выражавшее страх и ярость, было ужасно, глаза горели, точно светильники. Хотя он говорил шепотом, я стоял ближе, чем все остальные, и слышал все, что говорилось и чего те не могли слышать.
— Твоя магия хороша, израильтянка, — пробормотал Ки, — настолько, что превзошла мою даже в этом храме, где я служу.
— Я не владею никакой магией, — отвечала она очень тихо. — Я повиновалась Высшей воле, не больше.
Он жестко рассмеялся и спросил:
— Стоит ли двум коллегам терять время на глупости? Послушай: научи меня твоим секретам, я же научу тебя своим, и вместе мы станем править Египтом, как колесницей.
— У меня нет секретов, у меня только вера, — снова сказала Мерапи.
— Женщина, — не отступал он, — женщина или дьявол, ты хочешь иметь во мне друга или врага? Сейчас я посрамлен — ведь это на меня, а не на твоих богов полагались жрецы, готовясь уничтожить тебя. Однако я еще могу простить. Выбирай — и знай, что так же, как моя дружба дает тебе власть, жизнь и богатство, так же моя ненависть обречет тебя на позор и смерть.
— Ты вне себя и сам не знаешь, что говоришь. Повторяю, я не владею никакими секретами магии, которыми могла бы с тобой поделиться или которые хотела бы скрыть, — ответила она тоном человека, несведущего или равнодушного к предмету разговора, и отвернулась от него.
В ответ он пробормотал какое-то проклятие, которого я не уловил, поклонился груде пыли, которая была до этого статуей бога, и исчез среди колонн святилища.
— Охо-хо! — засмеялся Бакенхонсу. — Не зря я дожил до такой старости, ибо в Египте, кажется, появился новый бог, и вот его пророчица.
Мерапи подошла к принцу.
— О верховный жрец Амона, — сказала она, — угодно ли тебе отпустить меня? Я очень устала.
X. Смерть фараона
Наступил назначенный день и час. По распоряжению принца я поехал во дворец фараона в его колеснице, так как ее высочество принцесса отказалась сесть с нами рядом, и мы впервые заговорили о том, что произошло.
— Ты видел госпожу Мерапи? — спросил принц.
Я ответил, что нет, ибо мне сказали, что она нездорова и лежит в постели в своем доме, страдая от переутомления или не знаю от чего еще.
— Хорошо, что она не выходит из дома, — сказал Сети, — если бы она вышла, эти жрецы, я думаю, умертвили бы ее при первой возможности. Кроме того, есть и другие. — И он оглянулся на колесницу, в которой во всем царственном великолепии ехала Таусерт. — Скажи мне, Ана, ты можешь найти объяснение всему, что произошло?
— Я? Нет, принц. Я думал, что, может быть, твое высочество, верховный жрец Амона, смог бы просветить меня.
— Верховный жрец Амона сам блуждает в густой тьме. Ки и все прочие клянутся, будто эта израильтянка — колдунья, которая превзошла наших магов, но, по-моему, проще поверить в то, что она говорит правду: что ее бог сильнее, чем Амон.
— А если так, принц, что же нам делать? Ведь мы поклялись в верности богам Кемета?
— Склонить головы и пасть вместе с нашими богами, Ана, ибо чувство чести не позволит нам покинуть их.
— Даже если они ложные, принц?
— Я не думаю, что они ложные, Ана, хотя, возможно, и не такие истинные. Во всяком случае, это боги Кемета, а мы — египтяне. — Он помолчал, глядя на переполненные людьми улицы, и добавил: — Смотри, когда я проезжал здесь три дня назад, народ встречал меня приветственными криками. А сейчас они молчат, все как один.
— Может быть, они слышали о том, что было в храме?
— Несомненно, но не это их беспокоит, ибо они считают, что боги сами постоят за себя. Они слышали также, что я хочу поддержать израильтян, которых они ненавидят, и поэтому начинают ненавидеть и меня. Впрочем, почему бы мне жаловаться, если сам фараон подает им пример?
— Принц, — прошептал я, — что ты скажешь фараону?
— Это зависит от того, что фараон скажет мне. Но, Ана, если я — даже, может быть, в ущерб себе — не хочу покинуть наших богов потому, что они кажутся слабыми, неужели ты думаешь, что я покинул бы этих евреев, которые кажутся слабее, даже ради того, чтобы получить трон?
— Вот голос величия, — пробормотал я, и когда мы сошли с колесницы, он поблагодарил меня взглядом.
Мы прошли через большой зал в ту же комнату, где фараон назначил меня советником и наградил золотой цепью. Он был уже там в торжественном облачении и увенчанный двойной короной. Вокруг собрались все члены царского дома и высшие государственные сановники. Мы почтительно склонились перед ним, но он как будто не обратил на нас никакого внимания. Он сидел прикрыв глаза, и я подумал, что у него вид тяжело больного человека. Но когда вслед за нами вошла Таусерт, он сказал ей несколько слов приветствия и протянул руку для поцелуя. Потом он приказал закрыть двери. В этот момент доложили, что прибыл еврейский посол, который хочет поговорить с фараоном.
— Пусть войдет, — сказал Мернептах, и тот явился.
Это был человек средних лет с дикими глазами и длинными волосами, ниспадавшими на его одежду из овчины. На мой взгляд, он был похож на прорицателя. Он остановился перед фараоном, даже не поклонившись.
— Изложи, что тебе нужно, и уходи, — сказал визирь Нехези.
— Моими устами говорят Отцы Израиля! — воскликнул этот человек громким голосом, наполнившим гулким эхом сводчатую комнату. — До нашего слуха дошло, о фараон, что женщина Мерапи, дочь Натана, прозванная также Луной Израиля, та, что нашла убежище в твоем городе, оказалась пророчицей, которую наш бог наделил особой силой, так что она, стоя одна среди жрецов и магов Амона, бога египтян, была неуязвима для их колдовских чар и смогла мечом молитвы сокрушить идола Амона, превратив его в прах. Мы требуем, чтобы эта пророчица была нам возвращена, и со своей стороны клянемся, что она будет доставлена целой и невредимой ее нареченному мужу и не пострадает за те преступления или измены, какие она могла совершить против своего народа.
— По этому делу, — спокойно ответил фараон, — обратись со своей просьбой к принцу Египта, в чьем доме, как я понимаю, живет эта женщина. Если ему угодно выдать ее — эту, как я считаю, колдунью или ловкую фокусницу — ее жениху и родственникам, пусть выдаст. Не дело фараона решать судьбы отдельных рабов.
Человек резко обратился к Сети:
— Ты слышал, сын царя? Ты освободишь эту женщину?
— Не обещаю ни освободить ее, ни удержать, — сказал Сети, — поскольку госпожа Мерапи не принадлежит к моему дому, и я не имею над ней власти. Она спасла мне жизнь, если ей угодно будет уйти, она уйдет, если ей угодно остаться здесь, она останется. Когда Совет кончится, я дам тебе почетную охрану, и ты пройдешь к ней и узнаешь о ее желании из ее собственных уст.
— Ты получил ответ, а теперь уходи, — сказал Нехези.
— Нет! — воскликнул человек. — Я еще не все сказал. Отцы Израиля говорят: мы знаем о черных замыслах твоего сердца, о фараон. Нам ясно свыше, что ты намерен предать сынов Израиля мечу, в то время, как принц Египта намерен спасти их от меча. Откажись от своего намерения, о фараон, и поскорее, чтобы смерть не сразила тебя по воле небес.
— Замолчи! — вскричал Мернептах громовым голосом, заглушившим возмущенный ропот придворных. — Еврейская собака, ты смеешь угрожать фараону на его собственном троне? Да не будь ты послом и потому, по древнему обычаю, неприкосновенным, пока не зашло солнце, тебя бы тотчас разрубили на мелкие куски. Прочь его! И если его обнаружат в этом городе после наступления ночи, он будет убит.
Тогда на него набросились несколько советников и грубо поволокли его к выходу. У дверей он вырвался и прокричал:
— Подумай о моих словах, фараон, пока не село солнце! И вы, знатные мужи Кемета, подумайте о них, пока оно не появится вновь!
Они ударами прогнали его и закрыли двери. И фараон снова заговорил:
— Теперь, когда этот скандалист убрался, что ты хочешь сказать мне, принц Египта? Ты все еще настаиваешь на рекомендаций, которую дал в своем докладе? Ты все еще отказываешься, пользуясь правом наследника Трона, согласиться с моим решением — уничтожить этих проклятых израильтян мечом моего правосудия?
Все взгляды устремились на Сети, который, немного подумав, сказал:
— Да простит меня фараон, но мой совет остается все тем же, мое несогласие с твоим решением — то же. Потому что сердце говорит мне, что это справедливо, и я думаю, что это спасет Египет от многих бед.
Подождав, пока писцы зафиксируют эти слова, фараон снова спросил:
— Принц Египта, если бы в недалеком будущем ты занял мое место, остался бы ты при своем намерении — дать израильскому народу беспрепятственно уйти и унести с собой все богатства, которые они здесь накопили?
— Да простит меня фараон, я останусь при своем намерении. При этих роковых словах у всех, кто их слышал, вырвался вздох изумления. Прежде чем он замер, фараон уже повернулся к Таусерт, спрашивая ее:
— Является ли это и твоим советом, твоей волей и твоим намерением, о принцесса Египта?
— Да услышит меня фараон, — ответила Таусерт холодным и ясным голосом. — Нет. В этом важном вопросе мой супруг принц идет одной дорогой, а я — другой. Мой совет, моя воля и мое намерение те же, что у фараона.
— Сети, сын мой, — сказал Мернептах мягким и добрым голосом, какого я еще никогда у него не слышал, — последний раз, не как царь, а как отец твой, прошу тебя — подумай. Вспомни, что так же, как в твоей власти (поскольку ты совершеннолетний и участвовал вместе со мной во многих государственных делах) отказаться дать согласие в вопросе важного государственного значения, точно так же в моей власти, с согласия верховных жрецов и моих помощников-министров, устранить тебя с моего пути. Сети, я могу лишить тебя прав наследника и посадить на твое место другого и, если ты будешь упорствовать и дальше,
именно это я и сделаю. Поэтому подумай хорошенько, сын мой.
Среди напряженного молчания Сети ответил:
— Я подумал, о отец мой, и чего бы мне это ни стоило, не могу взять свои слова обратно.
Тогда фараон поднялся и вскричал:
— Запомните все, собравшиеся здесь, и пусть об этом объявят народу Кемета, чтобы все за этими стенами тоже запомнили, что я низлагаю моего сына Сети как принца Египта и объявляю, что он лишен права унаследовать двойную корону. Запомните, что моя дочь Таусерт, принцесса Египта, жена принца Сети, остается при всех своих правах. Все права и привилегии, положенные ей как наследнице короны, остаются за ней, и если у нее и у принца Сети родится дитя и будет жить, это дитя будет наследником египетского трона. Запомните, что если такое дитя не родится, или до его рождения, я нарекаю моего племянника Аменмеса, сына моего брата Кхемуаса, почившего в царстве Осириса, тем, кто вступит на престол Египта, когда меня не станет. Подойди ко мне, Аменмес.
Тот подошел и остановился перед ним. Фараон снял с головы двойную корону и на минуту увенчал ею Аменмеса, говоря в то время, как снова надевал ее на себя:
— Этим актом и знаком я нарекаю и назначаю тебя, Аменмес, царственным принцем Египта вместо моего сына, низложенного принца Сети. Иди, царственный сын — принц Египта. Я сказал!
— Жизнь! Кровь! Сила! — воскликнули все, склоняясь перед фараоном, — все, кроме принца Сети, который не поклонился и не двинулся с места. Он только воскликнул:
— О, я слышал! Угодно ли фараону объявить, не лишит ли он меня вместе с наследством и жизни? Если так, пусть это будет здесь и сейчас же. Мой кузен Аменмес имеет при себе меч.
— Нет, сын, — печально ответил Мернептах, — твоя жизнь остается с тобой, и вместе с нею — все твои личные титулы и твои владения, каковы бы они ни были.
— Да будет воля фараона, — произнес Сети безразличным тоном, — ив этом деле, как и во всех других, фараон оставляет мне жизнь до того времени, когда его преемник, Аменмес, займет его место и отнимет ее у меня.
Мернептах вздрогнул; эта мысль не приходила ему в голову.
— Выйди вперед, Аменмес, — воскликнул он, — поклянись тройной клятвой, которую нельзя нарушить! Поклянись Амоном, Птахом и Осирисом, богом смерти, в том, что ты никогда не попытаешься причинить вред принцу Сети, твоему двоюродному брату, — ни телесный, ни в его делах и правах, которые за ним остаются. Пусть Рои, главный жрец Амона, примет у тебя эту клятву в нашем присутствии.
Тогда Рои произнес слова клятвы в ее древней форме, клятвы, которую даже слушать было страшно, и Аменмес весьма неохотно, как я подумал, повторил ее за ним, слово в слово, добавив, однако, в конце следующие слова: «Все это я клянусь исполнить, и все кары в этом мире и в будущем призываю на свою голову лишь в том случае, если принц Сети оставит меня в покое, когда наступит мое время занять трон, который фараону угодно было мне завещать».
Кое-кто осмелился заметить вполголоса, что этого недостаточно, ибо мало было таких, кто в глубине души не любил бы Сети и не скорбел бы, глядя, как его лишили прав наследника из-за того, что его мнение в одном вопросе государственной политики расходится с мнением фараона. Но Сети только засмеялся и презрительно сказал:
— Пусть будет, как есть, ибо какую цену имеют такие клятвы? Фараон на троне выше всяких клятв, он отвечает только перед богами, а от некоторых сердец боги очень и очень далеки. Пусть Аменмес не боится, что я начну ссориться с ним из-за короны! По правде говоря, я никогда не жаждал величия и тревог царской власти и лишенный их по-прежнему имею все, чего мог бы желать. Отныне я пойду дорогой многих, как один из египетской знати, не более; и если в будущем фараону угодно прекратить мои странствия, я и тогда не стану горевать; я готов принять приговор богов, как в конце концов должен будет принять его и он сам. И все же, фараон, отец мой, прежде чем мы расстанемся, позволь мне высказать мысли, которые подымаются во мне.
— Говори, — пробормотал Мернептах.
— Фараон, с твоего разрешения скажу тебе: сегодня ты совершил большое зло — дело, которое не одобряют силы, правящие миром, кто бы или чем бы они не были; дело, которое принесет Кемету беды, неисчислимые, как песчинки в пустыне. Я думаю, что эти израильтяне, которых ты несправедливо собираешься уничтожать, поклоняются богу столь же великому, как наш бог, если не более, и что они и он восторжествуют над Египтом. Я думаю также, что великое наследство, которое ты у меня отнял, не принесет ни радости, ни почета тому, кто его получил.
Аменмес готов был вспылить, но Мернептах поднял руку, и он промолчал.
— Я думаю, фараон, — мне больно говорить об этом, но я должен, — что дни твои на земле сочтены и что мы смотрим в этой жизни друг на друга последний раз. Прощай, фараон, отец мой, кого я люблю в этот час расставания, может быть, больше, чем когда-либо прежде. Прощай, Аменмес, принц Египта. Прими от меня это украшение, которое отныне будешь носить только ты. — И сняв с головы венец наследника престола, он протянул его Аменмесу, который взял его с торжествующей улыбкой и надел на себя.
— Прощайте, вельможи и советники; надеюсь, в этом принце вы найдете хозяина, который будет вам больше по вкусу, чем мог бы стать я. Пойдем, Ана, друг мой, — если ты все еще хочешь быть мне другом, ведь теперь мне нечего делить.
Несколько мгновений он постоял, не сводя с отца проникновенного взгляда, в то время, как тот смотрел на него со слезами в запавших выцветших глазах.
Потом — не знаю, было ли это преднамеренно или случайно — Сети выпрямился и, не обращая внимания на Таусерт, которая смотрела на него в замешательстве и с гневом, воскликнул:
— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон! — и поклонился почти до земли.
Мернептах слышал. Бормоча почти шепотом:
— О Сети, сын мой, самый любимый мой сын! — он простер руки, словно пытаясь вернуть, а может быть обнять его. И вдруг я увидел, что он изменился в лице. И в следующий миг он упал лицом вниз и остался лежать, не двигаясь. Все замерли, охваченные ужасом, только придворный врач бросился к нему, а Рои и другие жрецы забормотали молитвы.
— Добрый бог отошел к Осирису? — произнес Аменмес хриплым голосом. — Ибо, если это так, то я — фараон!
— Нет, о Аменмес! — воскликнула Таусерт. — Его указы еще не утверждены и на них нет печати. Они не имеют ни силы, ни веса.
Прежде чем тот успел ответить, врач вскричал:
— Тише! Фараон еще жив, сердце бьется. Это только припадок, он может оправиться. Уходите все, ему нужен покой.
И мы ушли, но прежде Сети опустился на колени и поцеловал отца в лоб.
Час спустя принцесса Таусерт ворвалась в комнату Сети в его дворце, где мы с ним разговаривали.
— Сети, — сказала она, — фараон еще жив, но врачи говорят, что к рассвету он умрет. Еще есть время. Вот у меня тут написано, за его печатью и с подписями свидетелей, что он отменяет все сегодняшние приказы и объявляет тебя, своего сына, истинным и единственным наследником египетского трона.
— В самом деле, жена? Объясни мне, как умирающий человек, к тому же без сознания, мог продиктовать такое завещание и поставить на него печать? — И он дотронулся до свитка, который она держала в руке.
— Он ненадолго пришел в себя; Нехези скажет тебе, как, — ответила она, смотря ему в лицо холодным взглядом. Прежде чем он мог возразить, она добавила: — Не теряй времени на вопросы, а действуй, и немедленно. Начальник охраны ждет внизу; он твой преданный слуга. Через него я обещала наградить каждого солдата в день твоей коронации. Нехези и большинство сановников на твоей стороне. Против нас только жрецы — из-за этой еврейской колдуньи, которой ты дал убежище, и из-за ее племени, которому ты хочешь помочь; но они еще не успели поднять народ и не решатся восстать. Действуй, Сети, действуй, — без твоего личного приказа никто не тронется с места. Да и потом не возникнет никаких вопросов, ведь от Фив до моря и во всем мире тебя знают как наследника Египта.
— Что ты хочешь, чтобы я сделал? — спросил Сети, когда она остановилась, чтобы перевести дух.
— А ты не догадываешься? Неужели я должна вкладывать идеи в твою голову, как и меч в руку? Даже твой писец, который ходит за тобой по пятам, как любимый пес, был бы лучшим учеником. Ну, так слушай. Аменмес собирает войско, но пока что у него нет и пятидесяти человек, на которых он мог бы положиться. — Она наклонилась к нему и неистово зашептала: — Убей предателя Аменмеса — все примут это как акт справедливости, а начальник ждет твоего слова. Я позову его?
— Нет, — сказал Сети. — Разве то, что фараон, пользуясь своим правом, назвал другого человека царской крови своим наследником, делает того предателем по отношению к фараону, который еще жив? Нет, предатель или не предатель, я не убью моего кузена Аменмеса.
— Тогда он убьет тебя!
— Может быть. Это дело между ним и богами, пусть они и решают. Клятву, которую он дал сегодня, не так-то легко нарушить. Но нарушит он ее или нет, я тоже дал клятву, по крайней мере в сердце, в том, что я никогда не стану оспаривать решения фараона, которого я, в конце концов, люблю, как своего царя, фараона, который еще жив и, я надеюсь, еще может оправиться. Что бы я сказал ему, если бы он поправился или, в худшем случае, если бы мы встретились в другом мире?
— Фараон никогда не поправится; я говорила с врачом, он мне сказал. Они уже пробуравливают ему череп, чтобы выпустить злой дух болезни, а после этого никто из нашей семьи не жил долго.
— Потому что они впускают внутрь добрый дух смерти, что бы там ни говорили жрецы и врачи. Ана, прошу тебя, если я…
— Сети, — прервала она, стукнув рукой по столу, возле которого стояла, — ты понимаешь, что пока ты тут размышляешь и морализируешь, твоя корона уходит из твоих рук?
— Она уже ушла, госпожа. Разве ты не видела, как я передал ее Аменмесу?
— Да понимаешь ли ты, что вместо того, чтобы стать величайшим царем во всем мире, ты — если вообще тебя оставят в живых — через несколько часов будешь ничем, простым египетским горожанином, в которого может безнаказанно плюнуть даже нищий?
— Конечно, жена, больше того, в том, что я делаю, нет особой добродетели, поскольку такая перспектива меня, в целом, даже устраивает, и я готов пойти на риск и покинуть этот мир зла. Послушай, — добавил он совсем другим тоном. — Ты думаешь, что я глуп и слаб, и мечтатель тоже, ты — проницательная, хладнокровная женщина с государственным умом, готовая платить кровью за блеск и торжество момента, не стараясь понять, что за всем этим скрывается. У меня нет этих качеств, за исключением, может быть, последнего. Я лишь человек, который смирился, стремится быть справедливым и поступать правильно, насколько я это понимаю; и если я мечтаю, то о добре, а не о зле, — как я понимаю добро и зло. Ты убеждена, что эти мечтания приведут меня к житейским потерям и позору. Я же не уверен даже в этом. Мне приходит в голову, что они приведут меня к тем же самым побрякушкам, которых жаждешь ты, но только по дороге, усыпанной благоухающими цветами, а не костями людей, издающими трупный запах. Короны, которые покупаются ценой крови и удерживаются жестокостью, обычно и утрачиваются в кровопролитии, Таусерт.
Она замахала руками:
— Пожалуйста, замолчи! Оставь остальное до того дня, когда у меня будет время слушать. Уж если мне понадобятся пророчества, я лучше обращусь к Ки и к тем, для которых это — дело жизни. Для меня сегодня — это время действий, а не мечтаний, и, поскольку ты отвергаешь мою помощь и ведешь себя, как больная девчонка во власти фантазии, мне придется рассчитывать только на себя. Но пока ты жив, я не могу ни править одна, ни вести войну от твоего имени, так что я пойду к Аменмесу — он щедро заплатит мне за мир между нами.
— Ты пойдешь — и вернешься, Таусерт?
Она гордо выпрямилась, приняв царственный вид, и медленно сказала:
— Я не вернусь. Я, египетская принцесса, не могу жить как жена простого человека, того, кто свалился с трона на землю и начинает пачкать грязью собственный лоб, который венчала корона с уреем. Когда твои предсказания сбудутся, Сети, и ты выберешься из пыли, тогда, возможно, мы поговорим.
— Да, Таусерт, вопрос лишь в том, что мы друг другу скажем?
— А пока, — добавила она, собираясь уйти, — оставляю тебя с избранными тобой советчиками — твоим писцом, который преждевременно поседел от глупости, но не от мудрости, и, может быть, с еврейской колдуньей, которая может напоить тебя лунными лучами из своих лживых уст. Прощай, Сети, когда-то принц и мой супруг. 102
— Прощай, Таусерт, только боюсь, ты все равно останешься моей сестрой.
Он проводил ее взглядом и, повернувшись ко мне, сказал:
— Сегодня, Ана, я потерял и корону, и жену, и, однако, как ни странно, я не знаю, которое из этих зол меньше. Но на этот раз зло еще не исчерпано. Может быть, и ты тоже уйдешь, Ана? Хоть принцесса и издевается над тобой в гневе, на самом деле она о тебе хорошего мнения и с удовольствием приняла бы тебя к себе на службу. Запомни, в Египте может пасть кто угодно, но только не она: она-то продержится до конца.
— О принц, — ответил я, — неужели я так мало вытерпел сегодня, что ты хочешь добавить еще и оскорбление к моим горестям? Не я ли разделил с тобой чашу и поклялся быть твоим другом?
— Как! — засмеялся он. — Неужели в Кемете еще есть человек, который помнит клятвы себе в ущерб? Спасибо тебе, Ана. — И взяв мою руку, он крепко пожал ее.
В этот момент дверь открылась и вошел старый Памбаса.
— Эта женщина, Мерапи, хотела бы видеть тебя, а также два израильтянина, — сказал он.
— Впусти их, — ответил Сети. — Заметь, Ана, как этот старый служака отворачивает лицо от заходящего солнца. Еще утром он сказал бы «видеть твое высочество» и поклонился бы так низко, что его борода коснулась бы пола. А теперь это просто «видеть тебя» и не более чем легкий кивок в знак обычной учтивости. Да еще со стороны того, кто грабил меня из года в год и разжирел на взятках. Это первый из горьких уроков — нет, пожалуй, второй, ибо первый я получил от ее высочества. Только бы научиться принимать их со смирением.
Пока он предавался этим размышлениям вслух, а я, не находя слова утешения, внимал ему с печалью в сердце, вошла Мерапи, а минутой позже следом за ней явились тот посланец с дикими глазами, которого мы видели утром при дворе фараона, и хитроумный купец Джейбиз. Она низко поклонилась Сети и улыбнулась мне. Затем вошли эти двое, и с легким Поклоном посланец заговорил:
— Ты знаешь мое требование, принц. Эта женщина должна быть возвращена ее народу. Вот ее дядя, Джейбиз, — он ее увезет.
— А ты знаешь мой ответ, израильтянин, — возразил Сети. — Я не имею власти над действиями госпожи Мерапи, во всяком случае — не желаю никакого принуждения с моей стороны. Обратись к ней самой.
— Что ты от меня хочешь, жрец? — быстро спросила его Мерапи.
— Чтобы ты вернулась в город Гошен, дочь Натана. Или ты не слышишь, что я сказал?
— Слышала, но если я вернусь, чего ты от меня потребуешь?
— Чтобы ты, доказавшая своим подвигом в их храме что у тебя пророческий дар, посвятила бы его твоему народу. За это тебе простят все зло, какое ты ему нанесла, и в этом мы клянемся тебе именем бога.
— У меня нет дара пророчества, и я не причинила моему народу никакого зла, спасая от убийства человека, который доказал, что он их друг; он даже отказался ради них от короны.
— Об этом судить не тебе, женщина, а Отцам Израиля. Твой ответ?
— Об этом судить не им и не мне, а только богу. — Помолчав, она добавила: — Это все, о чем ты просишь?
— Это все, о чем просят Отцы, но Лейбэн просит вернуть ему нареченную жену.
— И меня выдадут замуж за… за этого убийцу?
— Без сомнения, тебя выдадут за этого храброго воина, ведь ты давно ему принадлежишь.
— А если я откажусь?
— Тогда, дочь Натана, моя обязанность — проклясть тебя от имени бога и объявить, что твой народ отвергает тебя. Моя обязанность, далее, заявить тебе, что твоя жизнь поставлена вне закона и что любой еврей может убить тебя, как и где сможет, и не понести за это никакого наказания.
Мерапи немного побледнела и, обернувшись к Джейбизу, спросила:
— Ты слышат, дядя. Что скажешь ты?
Джейбиз исподтишка огляделся и сказал елейным тоном:
— Племянница, ты, конечно же, должна повиноваться Старейшинам Израиля, выражающим волю неба, так же, как ты повиновалась им, когда решилась померяться силой с Амоном.
— Вчера ты мне советовал другое, дядя. Ты сказал, что мне лучше остаться здесь.
Посланец повернулся и смерил его свирепым взглядом.
— Между вчера и сегодня большая разница, — поспешил ответить Джейбиз. — Вчера ты была под защитой того, кто должен был вскоре стать фараоном и мог бы повернуть общее мнение в пользу твоего народа. Сегодня он лишился своего величия и его воля не имеет в Египте никакого веса. Кто же станет бояться мертвого льва?
При этом оскорблении Сети усмехнулся, но лицо Мерапи, как и мое лицо, покраснело, должно быть от гнева.
— Спящих львов и раньше принимали за мертвых, дядя, в чем не раз убеждались те, кто пытался их лягнуть. Принц Сети, ты не скажешь хоть слово, чтобы помочь мне в этом затруднении?
— Но в чем же затруднение, госпожа? Если ты желаешь вернуться к своему народу и к Лейбэну, который, как я понимаю, оправился от своих ран, то ничего не стоит между тобой и мной, кроме моей благодарности, которая дает мне право сказать, что ты не должна возвращаться. Однако, если ты желаешь остаться здесь, то, пожалуй, я еще не так бессилен, как думает достойный Джейбиз, и могу защитить и нанести удар. Я по-прежнему первый из вельмож в Египте, и рядом с мной люди, которые меня любят. Так что, пожелай ты остаться, я думаю, тебя здесь никто не обидит — и меньше всего тот друг, под покровительством которого ты можешь спокойно жить.
— Это очень благородные слова, — пробормотала Мерапи, — слова, какие мало кто сказал бы девушке, от которой ничего не ждут и которая ничего не может дать.
— Довольно болтовни! — закричал посланец. — Ты подчиняешься или нет? Твой ответ?
— Я не вернусь в Гошен и к Лейбэну — я достаточно насмотрелась на его меч.
— Может статься, ты видела его не в последний раз. Подумай все-таки, прежде чем тебя постигнет божья кара и на тебя обрушится проклятие твоего народа, а потом — смерть. Ибо это проклятие падет на тебя, говорю я, а я, как уже знает фараон и сам принц тоже, не какой-нибудь самозваный пророк!
— Я не верю, что мой бог, который видит сердца своих созданий, обрушит свою месть на женщину за то, что она отказывается стать женой убийцы, которого она сама не выбирала себе в мужья, — а именно такую участь ты мне сулишь, жрец. Поэтому я вручаю свою судьбу в руки великого Судьи над всеми людьми. В остальном же я отвергаю тебя и твои приказы. Если я должна погибнуть, пусть я умру, но по крайней мере я умру свободной, а не чьей-то любовницей, женой или рабыней.
— Хорошо сказано, — шепнул мне Сети.
Вид посланца стал ужасен. Размахивая руками и дико вращая своими дикими глазами, он призвал на голову бедной девушки какое-то отвратительное проклятие, большую часть которого мы не поняли, так как он говорил быстро и на каком-то незнакомом древнем еврейском наречии. Он проклял ее живую, умирающую и после смерти. Он проклял ее в любви и ненависти, в замужестве и бездетности и проклял ее детей и потомков во всех поколениях. Под конец он объявил, что она отвергнута богом, которому поклоняется, и приговорил ее к смерти от руки любого, кто сможет ее убить. Это проклятие было столь ужасно, что она отшатнулась, а Джейбиз скорчился на полу, закрыв лицо руками, и даже я почувствовал, как кровь стынет в моих жилах.
Наконец он умолк с пеной на губах и вдруг с криком: «После приговора — смерть!» — выхватил из-под одежды нож и бросился на Мерапи.
Она спряталась за нашими спинами. Он погнался за ней, но Сети воскликнул: «Ага! Я так и знал!» — и очутился между ними, с железным мечом в руке, который он носил обычно с парадной одеждой. Он схватился с нападавшим, и в следующий миг я увидел покрасневшее острие клинка, который пронзил того насквозь и выступил между лопатками.
Жрец упал, бормоча:
— Так-то ты показываешь свою любовь к Израилю, принц?
— Так я показываю свою ненависть к убийцам, — ответил Сети. Потом этот человек умер.
— О! — вскричала Мерапи, ломая руки. — Опять из-за меня пролилась еврейская кровь, и теперь все его проклятие падет на меня.
— Нет, на меня, госпожа, — если в проклятиях есть какой-то смысл (в чем я сомневаюсь). Ведь это я убил его, иначе нож этого сумасшедшего поразил бы тебя.
— Да, мне оставлена жизнь, хотя бы ненадолго. Если бы не ты, принц, я бы сейчас… — И она содрогнулась.
— А если бы не ты, Луна Израиля, я бы сейчас… — И он улыбнулся, добавив: — Право же, судьба плетет вокруг тебя и меня странную сеть. Сначала ты спасаешь меня от меча, потом я спасаю тебя. Я думаю, госпожа, что в конце концов мы умрем вместе и дадим Ане материал для лучшего из всех его рассказов. Друг Джейбиз, — обратился он к израильтянину, который все еще сидел, скорчившись и забившись в угол, — возвращайся к своему мягкосердечному народу и доходчиво объясни всем, почему госпожа Мерапи не может сопровождать тебя; в доказательство захвати с собой эту бренную плоть. Скажи им, что если они пришлют еще кого-нибудь, чтобы преследовать твою племянницу, его постигнет такая же участь, но что и теперь, как и раньше, я не отвернусь от них из-за поступков нескольких безумцев или злодеев. Ана, собирайся, ибо вскоре я уеду в Мемфис. Проследи, чтобы госпожа Мерапи, которая поедет одна, имела надежный эскорт во время путешествия, если, конечно, ей угодно будет покинуть Танис.
XI. Коронация Аменмеса
И вот, невзирая на все несчастья, выпавшие на долю Кемета, и на некую скорбь, которую я скрывал в своем сердце, начались самые счастливые дни, какие мне послали боги. Мы переехали в Мемфис, белостенный город, где я родился, город, который я любил. Теперь я уже больше не жил в маленьком домишке возле храма Птаха, который просторнее и великолепнее, чем любой храм в Фивах или Танисе. Моим домом стал прекрасный дворец Сети, доставшийся ему в наследство от матери, великой царской жены. Дворец этот стоял, да и до сих пор стоит на насыпном холме, не огражденный стенами, близ храма богини Нейт
[314], которая всегда обитает к северу от стены — почему, я не знаю, ибо этого не могут объяснить мне даже жрецы. Перед дворцом на северной стороне — портик, крыша которого покоится на раскрашенных колоннах с капителями в форме пальмовых листьев, и отсюда открывается самый прекрасный вид во всем Египте. Сначала — сады, потом пальмовые рощи, за ними возделанные поля, простирающиеся до широкого и благородного Сихора, а потом — уходящая вдаль пустыня.
Итак, здесь мы поселились, держа маленький двор и почти не имея охраны, но в богатстве и комфорте, проводя время в дворцовой библиотеке или в библиотеках при храмах, а когда уставали от работы — в прелестных садах или иногда скользя под парусом по глади Нила. Госпожа Мерапи жила здесь же, но в отдельном крыле дворца, с избранными рабами и слугами, которых предоставил ей Сети. Иногда мы встречались с нею в садах, где она любила гулять в те же часы, что и мы, — до того, как солнце начинало припекать слишком жарко, или в прохладные вечерние часы, а время от времени и ночью, когда выходила луна. Мы втроем часто разговаривали, ибо Сети никогда не искал ее общества один или в стенах дворца.
Эти разговоры доставляли нам много удовольствия. Более того, они происходили все чаще, а так как Мерапи жаждала знаний, принц приносил ей длинные свитки, которые она читала в маленьком летнем павильоне. Мы часто сидели там, а если было слишком жарко, то снаружи, в тени двух раскидистых деревьев, ветви которых простирались над крышей домика; Сети рассуждал о содержании свитков и учил ее секретам нашего письма. Иногда я читал им свои рассказы, которые оба они любили слушать, — по крайней мере, так они говорили, а я в своем тщеславии этому верил. Мы говорили о тайнах и чудесах мира, о израильтянах и их судьбе или о том, что происходило в Египте и в соседних странах.
Мерапи не чувствовала себя одинокой и потому, что в Мемфисе жили некоторые знатные женщины, в жилах которых текла еврейская кровь или, будучи израильтянками по рождению, вопреки своим законам вышли замуж за египтян. Среди этих женщин Мерапи нашла себе подруг, и вместе они молились на свой лад, и никто не запрещал им этого, поскольку жрецам не позволено было их беспокоить.
Мы же общались с кем хотели, ибо мало кто забыл, что по рождению Сети был принцем Египта, то есть почти полубогом, и все стремились попасть во дворец. К тому же его очень любили ради него самого, особенно бедняки, помогать которым было для него наслаждением, и он никогда не жалел для них своего богатства. Потому и получалось, совершенно против его воли, что стоило ему выйти в город, как его встречали с такими почестями и поклонением, словно он — почти царь; да и в самом деле, хотя фараон и мог отобрать у него корону, он не мог очистить его вены от царской крови.
Но именно поэтому я боялся за него; я был уверен, что Аменмес все знает через своих шпионов и начнет ревновать и возненавидит низложенного принца, который столь горячо любим теми, над кем он по праву должен был бы царствовать. Я поделился с Сети моими сомнениями и попытался внушить ему, что, выходя на улицы, он должен брать с собой вооруженных людей. Но он только рассмеялся и ответил, что если уж израильтянам не удалось его убить, то едва ли это удастся другим. Больше того, он верил, что ни один египтянин в стране не поднимет на него меч и не всыплет яду в его питье, от кого бы ни исходило подобное поручение. И он заключил такими словами:
— Лучший способ избежать смерти — это не бояться смерти, ибо тогда Осирис сторонится нас.
А теперь я должен рассказать о событиях в Танисе. Фараон Мернептах протянул еще несколько часов и ни разу не пришел в сознание. Тогда перед тем, как его дух отлетел на небо, во всей стране наступил великий траур, ибо если Мернептаха и не любили, то во всяком случае его почитали и боялись. Только израильтяне открыто радовались и ликовали, потому что он был их врагом и их пророки, предсказали ему близкую смерть, они представили его кончину, как ниспосланную их богом кару, и за это египтяне возненавидели их еще сильнее, чем прежде. Наряду с этим, в Египте возникло много сомнений и недоумений, ибо, хотя приказ о низложении принца Сети распространился по стране, народ, особенно жители юга, не могли понять, почему это следовало сделать из-за рабского пастушеского племени, обитавшего в Гошене. В самом деле, захоти только принц поднять руку, как десятки тысяч стеклись бы под его знамя. Однако он решительно отказался от этого, изумив весь мир, считавший просто чудом, что кто-то может отказаться от трона, который возвысил бы его почти до уровня богов. Именно с целью избежать подобных высказываний и назойливых советов Сети сразу же уехал в Мемфис и скрывался там весь период траура по своему отцу. Вот почему, когда Аменмес вступил на трон, не было ни одного человека, кто бы сказал ему «нет», поскольку Таусерт, оставшись без мужа, не могла — или не захотела — предпринять никаких действий.
После того как тело умершего было набальзамировано, фараона Мернептаха повезли вверх по Нилу в его вечный дом — роскошную гробницу, которую он заготовил для себя в Долине Царей в Фивах. Принца Сети не пригласили на эту великую церемонию, дабы его присутствие (как сказал мне впоследствии Бакенхонсу) не вызвало какого-нибудь выступления в его пользу с его или без его ведома. По этой же причине мертвый бог, как назвали Мернептаха, не получил передышки в Мемфисе во время своего последнего путешествия вверх по Нилу. Переодевшись простым горожанином, принц следил, как тело его отца проплывает мимо в траурной лодке, охраняемой бритыми, облаченными в белое жрецами, в центре великолепной процессии. Впереди шли другие лодки, заполненные воинами и государственными сановниками; позади следовали новый фараон и все великие мира сего в Египте, и над всем этим, и над гладью вод неслись стоны, плач и причитания. Они появились, они проследовали, они исчезли, и когда они скрылись из виду, Сети тихо заплакал, ибо он по-своему любил отца.
— Какая польза быть царем и называться полубогом, Ана, — сказал он, — если такие боги кончают тем же, чем нищий у ворот?
— Та польза, принц, — отвечал я, — что царь может принести больше добра пока он жив, чем нищий, а после себя оставить хороший пример другим.
— Или больше вреда, Ана. Кстати, нищий тоже может оставить великий пример — терпения в несчастьях. Все же, будь я уверен, что принесу только добро, я бы, возможно, стал царем. Но я заметил, что те, кто стремятся делать наибольшее добро, часто наносят величайший вред.
— Из чего логически следует, что это довод в пользу стремления делать зло, принц.
— Вовсе нет, — ответил он, — потому что в конечном счете торжествует добро. Ведь добро — это истина, а истина правит и землей, и небом.
— Тогда ясно, принц, что ты должен стремиться стать царем.
— Я вспомню этот довод, Ана, если мне когда-либо представится такая возможность, но не запятнанная кровью, — ответил он.
Когда погребение фараона свершилось, Аменмес вернулся в Танис и был там коронован. Я присутствовал при этой торжественной церемонии, принеся в дар фараону царственные эмблемы и украшения, передать которые поручил мне принц, говоря, что ему самому, как частному лицу, не годится их носить. Я преподнес их фараону, который взял их с сомнением, заметив при этом, что не понимает намерений и поступков принца Сети.
— Тут нет никакой ловушки, о фараон, — сказал я. — Так же, как ты радуешься славе, посланной тебе богами, так принц, мой господин, радуется покою и миру, которые дали ему боги, и не просит ничего иного.
— Возможно и так, писец, но я нахожу это таким странным, что иногда боюсь, как бы в пышных цветах моей славы не таилась какая-то смертоносная змея, о которой принц знает, хотя и не спрятал ее сам.
— Не могу сказать, о фараон, но без сомнения, хотя принц и не столь искусен, он не такой, как другие. У него широкий и глубокий ум.
— Слишком глубокий для меня, — пробормотал Аменмес. — Тем не менее скажи моему царственному кузену, что я благодарю его за эти дары, тем более, что некоторые из них, будучи наследником Египта, носил мой отец Кхемуас, — мне жаль, что вместе с царской кровью он не оставил мне своей мудрости. Скажи своему принцу также, что пока он, как до сих пор, не пытается вредить мне на троне, он может быть уверен, что я не причиню ему зла в том положении, которое он сам для себя выбрал.
Я видел также принцессу Таусерт, которая подробно расспросила меня о своем супруге. Я рассказал ей все, ничего не скрывая. Выслушав, она спросила:
— А как насчет той еврейки, Мерапи? Она, конечно, заняла мое место?
— Нет, принцесса, — ответил я. — Принц живет один. Ни она, ни какая-либо другая женщина не заняла твоего места. Она ему друг, не более.
— Друг! Ну, мы-то знаем, чем кончается такая дружба. О! Несомненно, боги наслали на принца безумие.
— Может быть и так, принцесса, но если бы боги поразили безумием больше людей, мир, думаю, был бы лучше, чем он есть.
— Мир есть мир, и дело тех, кто родился в величии, править им таким, каков он есть, а не прятаться среди книг и цветов и не вести глупые разговоры с красивой чужестранкой и писцом, даже самым ученым, — возразила она с горечью, добавив: — О! Если принц и не безумен, он способен свести с ума других, в том числе и меня, его супругу. Этот трон принадлежит ему, ему! И однако он позволил этому безмозглому болвану сесть на его место и шлет ему дары и благословение!
— Думаю, твоему высочеству следует подождать конца этой истории, прежде чем судить о ней.
Она пристально взглянула на меня и спросила:
— Почему ты так говоришь? Или принц в конце концов не так глуп? Может быть, он и ты, с виду такие простаки, ведете большую, скрытную игру, как некоторые притворяются дураками ради своей безопасности? Или эта колдунья-израильтянка наставляет вас в своих секретных знаниях, ведь женщина, обратившая в мелкий порошок статую Амона, вполне может обладать такими знаниями. Ты притворяешься, что ничего не знаешь, а на самом деле просто не хочешь отвечать. О писец Ана, если бы я не знала, что это опасно, я бы нашла способ вырвать у тебя правду, хотя ты и прикидываешься невинным младенцем.
— Твоему высочеству угодно угрожать, и без всякой на то причины.
— Нет, — ответила она, изменив тон и манеру, — я не угрожаю. Это только безумие, которым я заразилась от Сети. Разве ты бы не сходил с ума на моем месте, зная, что завтра не ты, а другая женщина наденет корону, потому что… потому что… — И она заплакала, испугав меня своими слезами больше, чем испугали меня ее резкие слова.
Вскоре она осушила слезы и сказала:
— Скажи моему супругу, я рада слышать, что он здоров, и шлю ему свои приветствия, но никогда по своей воле не посмотрю на его живое лицо, если он не передумает и не станет добиваться того, что принадлежит ему по праву. Скажи ему, хотя он и равнодушен ко мне и не обращает никакого внимания на мои желания, я забочусь о его благополучии и безопасности, как только могу.
— Его безопасности, принцесса! Только час назад фараон заверил меня, что ему нечего бояться, — впрочем он и не боится.
— О, кто из нас глупее, — воскликнула она, топнув ногой, — слуга или его хозяин? Ты веришь, что принцу нечего бояться, потому что так сказал узурпатор, а он верит, потому что просто никого не боится. Пока он может спать спокойно. Но подожди — случись в Египте какая-нибудь беда, и люди, поняв, что боги посылают эти бедствия за то большое зло, какое совершил мой отец, когда смерть схватила его за горло и помутила его разум, обратят свои взоры к законному царю.
Тогда узурпатором овладеет ревность и, если он захочет, Сети заснет спокойно — навсегда. Если ему не перережут горло, то лишь по одной причине: я удержу руку убийцы. Прощай, я не могу больше говорить с тобой: мой мозг охвачен пожаром; завтра его бы короновали, и меня с ним. — И она ушла, величественная и царственная как всегда, оставив меня гадать, имела ли она что-нибудь реальное в виду, говоря о грядущих бедствиях Египта, или это были случайные слова.
Позже мы с Бакенхонсу ужинали в школе при храме Птаха, где его называли отцом из-за его преклонного возраста, и я узнал кое-что еще.
— Ана, говорю тебе, такой мрак висит над Кеметом, какого я не видел даже тогда, когда все думали, что варвары победят нас и поработят страну. Аменмес будет пятым фараоном на моем веку, первого я видел, когда был совсем ребенком и держался за подол моей матери, но ни разу коронация не была столь безотрадной.
— Может быть, потому, что корона перейдет к тому, кто ее недостоин, Бакенхонсу?
Он покачал головой:
— Не только поэтому. Мне кажется, эта тьма, как и свет, спускается с небес. Люди боятся, сами не зная чего.
— Израильтяне? — предположил я.
— Вот это ближе к делу, Ана, ибо они несомненно имеют к этому отношение. Если бы не они, завтра короновали бы не Аменмеса, а Сети. Кроме того, весть о чуде, которое совершила в храме красавица-еврейка, разнеслась по стране, и в этом видят дурное предзнаменование. Я говорил тебе, что через шесть дней в храме была освящена прекрасная новая статуя Амона? Так вот, на другое утро ее нашли лежащей на боку, вернее, ее голова покоилась на груди Мут.
— Но в этом Мерапи не виновата, она ведь уехала из этого города.
— Конечно, уехала, но разве Сети тоже не уехал? Все-таки, думаю, она что-то оставила позади. Что бы то ни было, даже наш новый божественный повелитель не может подавить страх. Ему снятся дурные сны, Ана, — добавил он, понизив голос, — такие дурные, что он призвал Ки, главного мага, чтобы тот истолковал его видения.
— И что сказал Ки?
— Ки ничего не мог сказать; вернее, когда он и его компания вопросили своих
Ка, то единственным ответом было, что царствование этого нового бога будет очень кратким и кончится одновременно с его жизнью.
— Что, пожалуй, не очень обрадовало бога Аменмеса, Бакенхонсу?
— Что совсем не обрадовало бога. Он даже пригрозил Ки. Довольно глупо угрожать великому магу, Ана, — как, между прочим, сказал ему сам Ки, смотря ему в глаза. Тогда тот попросил у него прощения и осведомился, кто сменит его на троне, но Ки сказал, что не знает, ибо керхеб, когда ему угрожают, ничего не помнит.
— А он знал, Бакенхонсу?
Вместо ответа старый советник раскрошил на столе кусочек хлеба, потом, водя пальцем, выложил из них приблизительное подобие бога с головой шакала и двух птичьих перьев, после чего быстрым движением смахнул все крошки на пол.
— Сети! — прошептал я, прочитав иероглифы имени принца, и он кивнул и засмеялся своим раскатистым смехом.
— Иногда люди приходят к тому, на что имеют право, Ана, особенно если они не ищут своих прав, — сказал он. — Но в таких случаях сперва происходит много всяких ужасов. Новый фараон — не единственный, кому снятся сны. В последние годы я плохо сплю и иногда вижу сны, хотя и не владею искусством магии, как Ки.
— Что же тебе снилось?
— Мне снилась огромная толпа, движущаяся, подобно саранче, по всему Египту. Перед ней двигалась огненная колонна, из которой простирались две руки. Одна держала за горло Амона, а другая — нового фараона. Следом за толпой — колонна из тучи, а в ней образ, подобный незапеленатой мумии, образ смерти, стоявшей на воде, в которой плавали бесчисленные мертвецы.
Мне вспомнилась картина, которую мы с принцем наблюдали в закатном небе над страной Гошен, но об этом я ничего не сказал. Однако Бакенхонсу, видимо, читал мои мысли, ибо он спросил:
— А тебе никогда ничего не снится, друг? Тебе доступны видения, например — Аменмес на троне. Так ты не видишь снов, хотя бы иногда? Нет? Ну, ладно. А принц? Вы похожи на людей, которые способны на это. О, я вспомнил, вы оба видите сны, только вам снятся не те картины, которые проходят перед страшными глазами Ки, а те, что рисует луна на водах Мемфиса. Луна Израиля. Ана, послушайся моего совета, иссуши плоть и наращивай дух, ибо только в нем счастье, а женщина и все наши радости — лишь символы его, тени той смертной тучи, которая лежит между нами и небесным светом над ней. Я вижу, ты меня понимаешь, потому что отблески этого света проникли в твое сердце. Помнишь, ты видел его в тот час, когда умерла твоя маленькая дочь? Ага, я так и думал. Именно она оставила тебе этот дар, который будет расти и расти в твоей груди, только подави плоть и оставь для него место. Ана, не плачь — смейся, как смеюсь я, охо-хо! Подай мне мой посох, и спокойной ночи. Не забудь, что завтра мы встречаемся на коронации, ибо ты ведь друг царя, а этот титул, однажды пожалованный, никакой новый фараон отменить не может. Это то же, что дар духа, Ана, — дух трудно обрести, но если! ты его обрел, он более вечен, чем звезды. О, почему я так долго живу на земле, когда мог бы купаться в небе, как ребенком купался в Ниле?
На следующий день в назначенный час я пришел в большой зал дворца, где впервые увидел Мернептаха, и занял отведенное мне место. Оно было несколько в глубине, возможно потому, что меня знали как личного писца Сети, и было нежелательно, чтобы мой вид напоминал о нем.
Как ни велик был зал, толпа заполнила его до последнего уголка. При этом здесь не было ни одного простого человека, но присутствовали каждый вельможа и каждый главный жрец Египта, а с ними их жены и дочери, так что в полумраке колонн и вестибюлей сверкали золото и драгоценности, украшавшие праздничные одежды. Пока я ждал, я увидел Бакенхонсу. Ковыляя, он направлялся ко мне, и толпа расступилась, давая ему дорогу.
— Плохие у нас места, Ана, — сказал он, и я заметил, что в его глазах искрится смех. — Зато мы будем в безопасности, если кто-нибудь из многочисленных богов Кемета осыплет фараона огненным дождем. Кстати, о богах, — продолжал он шепотом, — ты слышал, что случилось час назад в храме Птаха здесь, в Танисе? Я только что оттуда. Фараон и все лица царской крови — кроме одного — по обычаю прошли перед статуей бога, которая, как ты знаешь, должна наклонить голову и тем показать, что бог выбирает и принимает царя. Впереди Аменмеса шла принцесса Таусерт, и когда она проходила, голова бога склонилась — я сам видел, хотя остальные притворились, что ничего не заметили. Потом подошел фараон и даже остановился в ожидании, но статуя не двигалась, хотя жрецы выкрикивали старинную формулу «Бог приветствует царя». Наконец он прошел, с лицом чернее ночи, а за ним прошли и все остальные из рода Рамсеса; последним шел Саптах и — можешь себе представить? — бог опять склонил голову.
— Каким образом и почему статуя это делает? — спросил я. — Да еще и невпопад?
— Спроси жрецов, Ана, или Таусерт, или Саптаха. Может быть, божественную шею давно не смазывали или смазали слишком густо, или слишком мало. А может быть, молитвы или шнурки подвели. Или фараон поскупился, одаривая этот храм великого бога Царского Дома. Кто я такой, чтобы разбираться в делах богов. Тот, что в храме в Фивах, где я служил пятьдесят лет назад, не притворялся, что кланяется, и не утруждал себя вопросом, кто из царской семьи должен сидеть на троне. Тише! Фараон идет!
И вот в пышной процессии, в окружении принцев, советников, дам, жрецов и странников появился Аменмес и с ним царственная жена, Унирет, крупная женщина с неуклюжей походкой, — в целом, блестящая группа. Главный жрец Рои и визирь Нехези встретили фараона и подвели его к трону. Толпа простерлась ниц, зазвучали фанфары, и трижды раздался приветственный клич: Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!
Аменмес привстал и поклонился, и я увидел, что лицо его мрачно и как будто постарело. Потом он принес клятву богам и людям, повторяя слова за Рои, и надел двойную корону и прочие эмблемы, и взял в руки бич и золотой серп. Затем началось чествование фараона. Первой подошла принцесса Таусерт и поцеловала руку фараона, но колен не преклонила. Она даже сказала ему несколько слов. О чем она говорила, мы не слышали, но потом узнали, что она требовала, чтобы он повторил в присутствии всех те обещания, которые дал публично ее отец, Мернептах, утверждая ее место и права. В конце концов Аменмес это сделал, хотя, как мне показалось, весьма неохотно.
Так, со многими формальностями в соответствии с древними традициями церемония продолжалась, и все уже устали, ожидая, когда наконец фараон обратится с речью к народу.
Однако эта речь так и не состоялась, ибо неожиданно появились двое, и я узнал в них тех пророков Израиля, которые нанесли Мернептаху визит в этом же зале. Все невольно расступились перед ними, так что они прошли прямо к трону, и даже стражники не решились преградить им путь. Что они сказали, я не слышал, но полагаю, что они требовали разрешения служить своему богу по-своему, и Аменмес отказал им так же, как это сделал раньше Мернептах.
Тогда один из них бросил на пол жреческий жезл и он превратился в змею, зашипевшую на фараона. В ответ керхеб Ки и его товарищи побросали свои жезлы, которые тоже обернулись змеями, — я услышал их свист и шипенье. После этого зал окутала густая тьма, так что люди, не видя лиц друг друга, стали перекликаться, поднялась суматоха, и в страхе и замешательстве церемония была прервана. Толпа вынесла меня и Бакенхонсу к дверям, и мы с радостью увидели над собой чистое небо.
Так закончилась коронация Аменмеса.
XII. Миссия Джейбиза
В тот вечер на улицах не было ни торжества, ни ликования, никто не пировал, кроме как во дворце и в домах придворных. Я вышел на рыночную площадь и заметил, что люди мрачно слоняются тут и там или собираются кучками и разговаривают шепотом. Неожиданно со мной заговорил человек, лицо которого было скрыто капюшоном. Он сказал, что должен передать кое-что моему господину, принцу Сети. Я ответил, что не беру никаких поручений от людей, скрывающих свое лицо, и тогда он откинул капюшон и я узнал Джейбиза, дядю Мера-пи. Я спросил, сделал ли он то, что велел ему принц, — отвез ли тело того пророка обратно в Гошен и объяснил ли, каким образом умер этот человек.
— Да, — ответил он, — и старейшины признали, что принц был прав. Они сказали, что их посланец превысил свои полномочия, ибо они вовсе не велели ему проклинать Мерапи и тем более — убивать ее, и что принц поступил правильно, уничтожив человека, который пытался совершить убийство перед его царственными глазами. Но все-таки они добавили, что проклятие, произнесенное тем жрецом, так или иначе падет на Мерапи.
— Так что же ей делать, Джейбиз?
— Не знаю. Если она вернется к своим, может быть, она получит отпущение, но тогда она наверняка должна выйти за Лейбэна. Ей решать.
— А что бы ты сделал на ее месте, Джейбиз?
— Думаю, остался бы здесь и добился бы любви Сети, положившись на то, что проклятие не сбудется, поскольку оно было незаконно. Куда бы она ни повернулась, ее всюду ждут неприятности, так что, на худой конец, женщина может предпочесть дать волю своему сердцу, прежде чем грянет беда, — особенно если ее сердце принадлежит тому, кто станет фараоном.
— Почему ты говоришь «кто станет фараоном»? — спросил я, видя, что вокруг нас никого нет.
— Этого мне не позволено сказать тебе, — ответил он с хитрым видом, — однако будет так, как я говорю. Тот, кто сейчас на троне, безумен, как был безумен Мернептах, и будет бороться с силой, которая сокрушит его. Только в сердце принца сияет свет мудрости. То, что ты видел сегодня, — только первое из чудес, писец Ана. Большего я не смею сказать тебе.
— Так что же я должен передать принцу, Джейбиз?
— Следующее. Поскольку принц старался помочь народу Израиля и ради этого даже отказался от трона, ему нечего бояться, что бы ни произошло с другими. С ним не случится ничего плохого, как и с его близкими вроде тебя, писец Ана; с тобой тоже поступят по справедливости. Однако может случиться, что принца и мою племянницу Мерапи постигнет большое горе из-за проклятия, павшего ей на голову. Поэтому, возможно, — хотя одно противоречит другому, — с ее стороны будет мудро остаться в доме Сети, а с его стороны, для равновесия, — прогнать ее от своих дверей.
— Какое горе? — спросил я, сбитый с толку его туманными рассуждениями, но не получил ответа: Джейбиза и след простыл.
Недалеко от дома, где я остановился, меня задержал другой человек, и при свете луны я увидел устремленные на меня страшные глаза Ки.
— Писец Ана, — сказал он, — на рассвете ты едешь в Мемфис — на два дня раньше, чем ты предполагал.
— Откуда ты знаешь, маг Ки? — спросил я, ибо я никому не говорил об изменении своих планов, даже Бакенхонсу, да и не мог, поскольку принял это решение только после разговора с Джейбизом.
— Я ничего не знаю, Ана, кроме одного — что верный слуга, который услышал то, что сегодня услышал ты, поспешит сообщить об этом своему хозяину, особенно если есть кто-то еще, кому он тоже хотел бы сообщить эти сведения, как говорит Бакенхонсу.
— Бакенхонсу слишком много говорит, что бы он про себя ни думал, — сказал я раздраженно.
— Старики часто болтливы. Ты был сегодня на коронации, не правда ли?
— Да, и если правильно заметил из своего угла, эти еврейские пророки побили тебя в твоем же ремесле, керхеб, что, должно быть, очень тебя раздражает, как и падение Амона в храме.
— Вовсе не раздражает и не раздосадовало, Ана. Если я владею какими-то силами, то могут быть и другие, чьи силы более могущественные, — как я узнал в храме Амона. Почему же я должен этого стыдиться?
— Силы! — ответил я со смехом, ибо нервы мои разошлись в ту ночь. — Почему не сказать точнее — ловкость? Как ты можешь превратить палку в змею, ведь для человека это невозможно?
— Может быть, «ловкость» и более подходящее слово, ибо ловкость означает знание, а не только трюкачество. «Невозможно для человека!» После того что ты видел в храме Амона, ты еще считаешь, что есть что-то невозможное для человека — или для женщины? Может быть, и ты способен на подобное же.
— Зачем ты дразнишь меня, Ки? Я изучаю книги, а не укрощение змей.
Он смотрел на меня со свойственным ему пристальным вниманием, словно читая — не лицо мое, но скрытые мои мысли. Потом, взглянув на кедровую палочку, которую держал в руке, он протянул ее мне со словами:
— Вглядись в это, Ана, и скажи мне, что это?
— Что я, ребенок, — возразил я сердито, — чтобы не узнать жреческого жезла, когда я его вижу?
— Думаю, ты в каком-то смысле ребенок, Ана, — пробормотал он, не отводя своих особенных глаз от моего лица.
И вдруг случилось что-то ужасное. Ибо палочка стала извиваться у меня в руке, и когда я присмотрелся к ней, я понял, что это длинная желтая змея, и я держу ее за хвост. Вскрикнув, я бросил тварь на землю, ибо она уже поворачивала голову, как будто собираясь ужалить меня; и она, извиваясь в пыли, поползла к Ки. Мгновение — и это снова была палочка из желтого кедрового дерева, хотя между мною и Ки остался извилистый змеиный след.
— И не стыдно тебе, Ана, — сказал Ки, подняв палочку, — упрекать меня в трюкачестве, если ты сам не можешь отличить жалкого фокусника от мастера в таком искусстве, как вот это?
Тут меня прорвало; не знаю, что я ему наговорил, помню только, что в конце сказал, что следующим номером он припишет мне, пожалуй, искусство погружать зал в мрак средь бела дня и поражать толпу ужасом.
Внезапно его лицо и тон изменились.
— Оставим шутки, — сказал он, — хотя в данном случае в них и есть определенный смысл. Хочешь взять эту палочку еще раз и наставить ее на луну? Ты отказываешься, и правильно: ни ты ни я не можем заслонить ее лик, Ана, из-за того, что ты по-своему мудр и общаешься с теми, кто еще мудрее, и вы оба были в храме, когда статуя Амона рухнула на пол по воле колдуньи, которая противопоставила свою силу моей и победила меня. Я, великий маг, хочу спросить у тебя, откуда сегодня явилась эта тьма в зале?
— От бога, я думаю, — прошептал я в страхе.
— Я тоже так думаю, Ана. Но скажи — или попроси Мерапи, Луну Израиля, сказать мне — от какого бога? О, говорю тебе, — какая-то ужасная сила грядет на нашу землю, и принц Сети хорошо сделал, что отказался от трона и бежал в Мемфис. Повтори ему это, Ана.
Он повернулся и ушел.
Я благополучно вернулся в Мемфис и рассказал обо всем принцу, который жадно слушал меня. Только один раз им овладело волнение — когда я передал слова Таусерт о том, что она никогда больше не взглянет ему в лицо, если он не обратит его к престолу. Когда он услышал это, глаза его наполнились слезами и, поднявшись, он несколько раз прошелся по комнате.
— Побежденные не должны ожидать милосердия, — сказал он, — и, конечно, Ана, ты считаешь, что с моей стороны глупо печалиться о том, что меня покинули.
— Нет, принц, ибо меня тоже покинула жена, и эта боль до сих пор со мной.
— Не о жене я думаю, Ана. Ведь в сущности, ее высочество мне не жена. Каковы бы ни были древние законы Кемета, разве может быть реальным такой брак, во всяком случае, между ней и мной? Я печалюсь о сестре. Хотя у нас разные матери, все же мы росли вместе и по-своему любим друг друга, хотя для нее удовольствием было командовать мной, а для меня — подчиняться и платить ей шутками. Наверное потому она так и рассердилась, что я вдруг вышел из-под ее власти и поступил по своей воле, из-за чего она потеряла трон.
— Удар был тем сильнее, что выйти замуж за фараона — долг наследницы Египта, освященный самим законом.
— Тогда для нее самое лучшее — выйти за того, кто стал фараоном, отодвинув в сторону его глупую жену. Но этого она никогда не сделает. Аменмеса она всегда ненавидела настолько, что даже избегала встречаться с ним. Да и он не женился бы на ней. Он желает править сам, а не через женщину, которая имеет больше прав на корону чем он. Ну, да что говорить. Она меня отвергла, и между нами все кончено. Отныне мне суждено одиночество — если только… Продолжай свой рассказ, друг. Очень мило с ее стороны обещать в ее величии свое покровительство лицу в столь скромном положении. Я это запомню… хотя и верю, что павшие иногда снова поднимают головы, — добавил он с горечью.
— По крайней мере, так думает Джейбиз, — заметил я и рассказал ему об уверенности израильтян в том, что он будет фараоном. В ответ он засмеялся и сказал:
— Может быть. Они ведь неплохие прорицатели. Что до меня, мне это неведомо, да и безразлично. А может быть, Джейбиз говорит так просто из выгоды, ведь он, как ты знаешь, умный купец.
— Не думаю, — начал я и запнулся.
— Джейбиз говорил еще что-нибудь, Ана? О госпоже Мерапи, например?
Тут я почувствовал, что мой долг — рассказать ему слово в слово все, что произошло между мной и Джейбизом, хотя кое-что меня и смущало.
— Этот израильтянин слишком во многом уверен, Ана, вплоть до того, кому Луна Израиля пожелает светить своими лучами. А может быть, это ты, на кого она направит свой свет, или какой-нибудь юноша из страны Гошен — только не Лейбэн — или никто.
— Я, принц? Я?
— Ну что ж, Ана, я уверен, ты бы этого хотел. Послушайся моего совета и спроси, что она думает на этот счет. Да не смущайся, друг! Для человека, который был женат, ты слишком скромен. Расскажи мне, как прошла коронация.
Радуясь тому, что можно больше не говорить о Мерапи, я подробно рассказал обо всем, что случилось с того момента, как Аменмес занял свое место на троне. Когда я описал превращение жреческой палочки пророка в змею и то, как Ки и его товарищи сделали то же самое, он засмеялся и сказал, что это обыкновенные жонглерские трюки. Но когда я перешел к описанию тьмы, которая окутала зал и наполнила мраком сердца людей, и зловещего сна Бакенхонсу, он выслушал меня очень серьезно и потом сказал:
— Я думаю то же, что и Ки. Я тоже считаю, что на Кемет движется какая-то ужасная сила, источник которой — страна Гошен, и что я поступил правильно, отказавшись от трона. Но от какого бога исходит эта сила, я не знаю. Может быть, время покажет. А пока, если в пророчествах израильтян действительно есть что-то, что в них увидел Джейбиз, то по крайней мере мы с тобой можем спать спокойно, чего нельзя сказать про фараона на троне, который так жаждет Таусерт. Если все так, игра стоит свеч и наблюдения. Ты хорошо выполнил свою миссию, Ана, иди и отдыхай, а я пока подумаю обо всем, что ты рассказал мне.
Был вечер, и так как во дворце было жарко, я вышел в сад и, направившись к тому летнему домику, где Сети и я любили сидеть над книгами, устроился там и побежденный усталостью задремал. Мне приснилась плачущая женщина, и от этого сна я проснулся. Уже наступила ночь. В небе сверкала полная луна, заливая сад своими лучами.
Перед летним домиком, как я уже говорил, росли деревья, покрытые в эту пору белыми цветами, а между деревьями было устроено сиденье, выложенное из обожженных солнцем кирпичей. На этой скамье сидела женщина, в которой по очертаниям фигуры я сразу узнал Мерапи. Она была печальна, ибо, хотя она опустила голову так, что волосы скрывали лицо, я услышал, как она тихо и грустно вздохнула.
Я почувствовал глубокое волнение и вспомнил, что говорил мне принц, советуя спросить у нее, как она ко мне относится. Поэтому не было бы ничего предосудительного в том, если бы я действительно это сделал. Однако я был уверен, что не ко мне склоняется ее сердце, хотя, признаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы было иначе. Но кто же посмотрит в сторону ибиса на болоте, если высоко в небе парит, раскинув крылья, орел?
Злая мысль пришла мне на ум, подсказанная Сетом, богом зла. Предположим, что глаза этой созерцательницы прикованы к орлу, царю воздуха. Предположим, что она поклоняется этому орлу, любит его, потому что его дом — небо, потому что для нее он — царь над всеми птицами. И предположим, ей говорят, что если она приманит его на землю из его сияющей небесной выси, где ему не грозит никакая опасность, она тем самым приговорит его к неволе или к смерти от руки птицелова. Не скажет ли тогда эта влюбленная созерцательница: «Пусть он будет свободен и счастлив, как бы я ни любила смотреть на него», — а когда он скроется из виду, не обратит ли она свой взор к скромному ибису на илистом болоте?
Джейбиз сказал мне, что если эта женщина и принц станут дороги друг другу, она навлечет большую беду на его голову. Если бы я повторил ей эти слова, она, веря в пророчества своего народа, несомненно поверила бы им. Более того, на что бы ни толкало ее страстное сердце, она никогда не согласится сделать то, что может навлечь беду на голову Сети, даже если бы отказ от него причинил ей глубокое горе. Не вернулась бы она и к своему народу, чтобы не попасть в руки ненавистного человека. Тогда, может быть, я?.. Сказать ей? Если бы Джейбиз не хотел, чтобы она об этом знала, стал ли бы он вообще вести со мной такие речи? Короче говоря, не в этом ли состоит мой долг перед ней и, возможно, перед принцем, и не уберегу ли я их от грядущих несчастий, если, конечно, эти предупреждения о грозящих бедствиях не пустая болтовня?
Таковы были злые мысли, которыми Сет атаковал мой дух. Не знаю, как я поборол их. Не своей добродетелью, во всяком случае, — ибо в этот момент я весь пылал от любви к этой нежной и прекрасной женщине и в своем безрассудстве, думаю, тут же отдал бы жизнь за то, чтобы поцеловать ей руку. И не ради нее тоже, ибо страсть глубоко эгоистична. Нет, я думаю, это было потому, что моя любовь к принцу была глубже и осязаемей, чем любовь к какой-либо женщине, и я хорошо знал, что не будь она сейчас здесь, передо мной, никогда бы такое предательство не закралось в мое сердце. Ибо я был уверен, хотя Сети не обмолвился об этом ни словом, что он любит Мерапи и больше всех земных благ желал бы иметь ее своей спутницей; но если бы я сказал ей, что хотел было сказать, то, чем бы это ни кончилось для меня и каковы бы ни были ее тайные желания, она никогда не стала бы его подругой.
Итак, я победил, но эта победа досталась мне нелегко: я дрожал, как слабое дитя, и роптал на судьбу, давшую мне жизнь для того, чтобы познать боль несбыточной любви. Награда не заставила себя ждать, ибо как раз в этот момент Мерапи отстегнула драгоценную застежку со своего белого одеяния и, подняв ее, повернула к лунному свету, словно желая лучше ее рассмотреть. Я узнал ее в одно мгновение. Это был тот царский скарабей, которым принц скрепил повязку на раненой ноге Мерапи и который таинственная сила сорвала с ее груди, когда статуя Амона в храме была повергнута в прах.
Долго и серьезно она смотрела на него, а потом, оглянувшись, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет, прижала его к груди и трижды страстно поцеловала, шепча — не знаю что — между поцелуями. Пелена спала с моих глаз, и я понял, что она любит Сети, и — о! — как я благодарил моего бога-хранителя, который избавил меня от ненужного позора.
Я стер холодный пот со лба и хотел бежать без лишних слов, как вдруг, подняв глаза, увидел стоящего позади Мерапи человека, который наблюдал за тем, как она снова прикрепляла скарабея к платью. Пока я колебался, человек заговорил, и я узнал голос Сети. Я снова подумал о бегстве, но при моем несколько робком и застенчивом характере не решился выдать свое присутствие, чтобы не стать мишенью для шуток Сети. Через мгновение бежать было уже поздно. Поэтому я притаился в тени и поневоле стал свидетелем их встречи.
— Что это за драгоценность, госпожа, которой ты так восхищаешься и так дорожишь? — спросил Сети своим неторопливым голосом, так часто скрывающим намек на улыбку.
Она слегка вскрикнула и, вскочив со скамьи, увидела его.
— О принц, — воскликнула она, — прости твою служанку! Я сидела здесь, в прохладе, как ты позволил мне, а луна так ярко светит, что я — мне хотелось узнать, смогу ли я при се свете прочесть надпись на этом скарабее.
Никогда еще, подумал я про себя, я не знал никого, кто бы читал устами, говоря по правде, она прежде воспользовалась глазами.
— И как, госпожа? Позволишь и мне попробовать?
Очень медленно и краснея так, что даже при луне можно было заметить вспыхнувший на ее щеках румянец, она снова сняла с платья застежку и протянула ему.
— Право, мне кажется, я ее узнаю? Не мог я видеть ее раньше? — спросил он.
— Может быть. Она была на мне в ту ночь в храме, ваше высочество.
— Ты не должна называть меня высочеством, госпожа. Я больше не имею никаких титулов в Египте.
— Знаю — из-за моих… моего народа. О! Это было благородно.
— Но этот скарабей, — сказал он, как бы отмахнувшись жестом от ее слов, — право же, это тот самый, который скрепил повязку на твоей ране — о, много-много дней назад.
— Да, тот самый, — подтвердила она, потупившись.
— Я так и подумал. И когда я дал его тебе, я сказал несколько слов, показавшихся мне в то время очень уместными. Помнишь, что я сказал? Я забыл. Или ты тоже забыла?
— Да — то есть — нет. Ты сказал, что теперь у меня под пятой весь Египет, — имея в виду царский девиз на скарабее.
— А, теперь и я вспомнил. Как верна и, однако, как ложна эта шутка или это пророчество.
— Как может что-то одновременно быть и истинным, и ложным, принц?
— Я мог бы очень легко доказать тебе это, но это заняло бы целый час, если не больше, так что отложим до следующего раза. Этот скарабей — жалкая вещица, верни его мне и ты получишь что-нибудь более ценное. А хочешь этот перстень с печаткой? Поскольку я уже не принц Египта, он мне не нужен.
— Возьми скарабея, принц, он твой. Но я не возьму это кольцо, потому что…
— …мне не нужно, а ты не хотела бы иметь то, что не нужно дарителю. О! Я плохо подбираю слова, но я хотел сказать совсем другое.
— Нет, принц, — потому что твое царское кольцо слишком велико для того, кто так мал.
— Как ты можешь знать, пока ты его не померила? Кроме того, этот недостаток можно исправить.
Тут он засмеялся и она тоже засмеялась, но кольца все-таки не взяла.
— Ты видела Ану? — продолжал он. — Мне кажется, он пошел тебя искать и так спешил, что едва закончил свой доклад.
— Он так и сказал?
— Нет, но у него был такой вид. Настолько, что я сам предложил ему идти не мешкая. Он сказал, что хочет отдохнуть после долгого путешествия, — или, может быть, это я велел ему пойти отдохнуть. Я забыл. Да и как не забыть в такую прекрасную ночь, когда совсем другие мысли приходят в голову.
— Зачем Ана хотел меня видеть, принц?
— Откуда я знаю? Почему человек, который еще молод, хочет видеть милую и красивую женщину? О, вспомнил! Он встретил в Танисе твоего дядю, который спросил его о твоем здоровье. Может быть, поэтому он и хотел тебя видеть.
— Я не хочу слышать о моем дяде в Танисе. Он напоминает мне о слишком многих вещах, которые причиняют боль, а бывают ночи, когда хочется забыть о боли, — она и так возвращается утром.
— Ты по-прежнему полна решимости не возвращаться к своим? — спросил он более серьезно.
— Конечно. О, не говори, что ты отправишь меня обратно…
— …к Лейбэну, госпожа?
— В том числе и к Лейбэну. Вспомни, принц, ведь на мне проклятие. Если я вернусь в Гошен, то так или иначе, рано или поздно, но я умру.
— Ана говорит, что, как сказал твой дядя Джейбиз, тот сумасшедший, который пытался убить тебя, не имел права тебя проклинать, тем более убивать. Спроси у Аны, он все тебе расскажет.
— Все же проклятие остается и в конце концов раздавит меня. Как же мне, одинокой женщине, противостоять мощи народа Израиля и его жрецов?
— Разве ты одинока?
— Как же может быть иначе с тем, кто вне закона?
— Ты права. Я знаю это, я ведь тоже отверженный.
— По крайней мере есть ее высочество, твоя жена, которая несомненно приедет, чтобы утешить тебя, — сказала она, опустив глаза.
— Ее высочество не приедет. Если бы ты видела Ану, он бы, возможно, сказал тебе, что она поклялась никогда не смотреть мне в лицо, если над ним не засияет корона.
— О, как может женщина быть столь жестокой! Ведь этот удар должно быть поразил тебя в самое сердце, — воскликнула она с невольным выражением жалости.
— Ее высочество не только женщина, она принцесса Египта, а это большая разница. Вообще мне, конечно, очень больно, что моя сестра покинула меня ради того, что она любит больше всего, — власти и величия. Но такова истина — разве что Ане все приснилось. Так что мы, как видишь, в одинаковом положении, оба отверженные, ты и я — разве не так?
Она молчала, по-прежнему не поднимая глаз, и он медленно проговорил:
— Мне пришла в голову одна мысль, о которой я бы хотел услышать твое мнение. Если бы двое покинутых и одиноких объединились, они стали бы наполовину менее одинокими, не так ли?
— Наверно так, принц, — то есть, если бы они были действительно покинуты и одиноки. Но я не понимаю этой загадки.
— Да ты ее решила. Если ты одинока и я одинок, по отдельности, то вместе мы, как ты говоришь, были бы менее одиноки.
— Принц, — прошептала она, отшатнувшись от него, — я этого не говорила.
— Нет, за тебя говорил я. Послушай меня, Мерапи. В Египте меня считают странным, поэтому у меня не было ни одной дорогой и близкой мне женщины, — я никогда не встречал женщины, которая стала бы мне дорога. — Тут она испытующе посмотрела на него, а он продолжал: — Не так давно, перед моей поездкой в Гошен, — Ана может рассказать тебе об этом, по-моему он все записал, — ко мне пришли Ки и старый Бакенхонсу. Ки, как ты знаешь, великий маг, хотя, видимо, и не такой великий, как некоторые ваши пророки. Он сказал мне, что они оба прочитали мое будущее. В Гошене я встречу женщину, которую мне суждено полюбить. Он добавил, что эта женщина принесет мне много радости, — Сети на миг умолк, очевидно вспомнив, что это не все, что говорил Ки и Джейбиз тоже. — Ки сказал мне также, — продолжал он медленно, — что я знаю эту женщину уже тысячи лет.
Она вздрогнула, и на лице ее мелькнуло странное выражение.
— Как это возможно, принц?
— То же самое я спросил у него и не получил вразумительного ответа. Но он сказал также не только об этой женщине, но и о моем друге Ане, а это кое-что объясняет и, насколько я понял, об этом же говорили другие маги. Потом я поехал в Гошен и там встретил женщину…
— В первый раз, принц?
— Нет, в третий…
Тут она опустилась на скамью и закрыла лицо руками.
— …я полюбил ее, и у меня было такое чувство, будто я любил ее уже «тысячи лет».
— Это неправда. Ты смеешься надо мной, это неправда! — прошептала она.
— Это правда, ибо если тогда я этого не знал, то узнал потом, но окончательно, пожалуй, только теперь, когда Ана сказал мне, что Таусерт действительно меня покинула. Луна Израиля, та женщина — ты. Я не буду говорить тебе, — продолжал он страстно, — что ты красивее других женщин или нежнее. Я скажу только, что люблю тебя, да, люблю, какой бы ты ни была. Я не могу предложить тебе трон Кемета, даже если бы позволял закон, но я могу предложить тебе трон моего сердца. Что ты скажешь на это, госпожа Мерапи? Постой — прежде чем отвечать, запомни, что хотя ты в Мемфисе как будто моя пленница, тебе нечего бояться меня. Каков бы ни был твой ответ, ты всегда, пока я жив, будешь иметь здесь кров и дружбу, и никогда я не стану навязывать тебе свое общество, как бы мне ни было больно проходить мимо тебя. Я не знаю, что сулит будущее. Может статься, я дам тебе высокое положение и власть, может статься, я не дам тебе ничего, кроме бедности и изгнания или даже возможности разделить со мной мою гибель, но всегда, в любом случае, с тобой будет мое поклонение тебе, служение всего моего существа. А теперь говори.
Она отняла от лица руки и подняла на него взгляд, в ее прекрасных глазах блестели слезы.
— Это невозможно, принц.
— То есть, ты не хочешь?
— Я сказала — это невозможно. Такие узы между египтянином и израильтянкой незаконны.
— Так думают некоторые в этом городе и в других местах.
— И у меня есть муж, я хочу сказать — нареченный, по крайней мере, формально.
— А у меня есть жена; я хочу сказать…
— Это совсем другое. Есть и другая причина, самая главная: надо мной висит проклятие, и я принесу тебе не радость, как говорил Ки, а горе или, по крайней мере, горе вместе с радостью.
Он испытующе посмотрел на нее.
— Разве Ана… — начал он и затем продолжал: — Даже если так, скажи: ты когда-нибудь видела жизнь, в которой радость не смешивалась бы с горем?
— Никогда. Но горе, которое принесла бы я, пересилило бы радость — для тебя. На мне лежит проклятие моего бога, а я не могу научиться служить твоим богам. На мне проклятие моего народа, закон моего народа разделяет нас, как меч, и если я стану тебе близкой, все это еще больше сгустится — не только над моей головой, что не так важно, но и над твоей тоже! — И она зарыдала.
— Скажи мне, — молвил он, взяв ее за руку, — только одно, и если ответом будет нет, я больше не стану тебе досаждать. Твое сердце — мое?
— Да, — вздохнула она, — с тех самых пор, как мои глаза увидели тебя на улицах Таниса. О! Тогда во мне вдруг что-то изменилось и я возненавидела Лейбэна, который раньше мне просто не нравился. Больше того, я тоже почувствовала то, о чем говорил Ки, — как будто я знала тебя уже тысячи лет. Мое сердце — твое, моя любовь — твоя, все, что делает меня женщиной, — твое и никогда не может принадлежать никакому другому мужчине. И все-таки мы должны быть врозь — ради тебя, мой принц, ради тебя.
— Значит, если бы не я, ты была бы готова пойти на риск?
— Конечно! Разве я не женщина, которая любит?
— А если так, — сказал он, слегка засмеявшись, — то, поскольку я совершеннолетний и, по мнению некоторых, неплохо разбираюсь в жизни, я, с твоего разрешения, тоже пойду на риск. О неразумная женщина, неужели ты не понимаешь, что на свете есть только одна хорошая вещь, единственное, что помогает забыть свое «я» и все его несчастья и горести, и это любовь? Могут случиться беды — пусть, какое они имеют значение, если существует любовь и память о ней? Если мы однажды сорвали этот прекрасный цветок и хоть час носили его у себя на груди? Ты говоришь, что у нас разные боги: может быть, эта разница и существует, но все боги посылают на землю дар любви, без которого жизнь прекратилась бы. Больше того, моя вера учит меня — может быть, яснее, чем твоя, — что жизнь не кончается и после смерти, и поэтому любовь, будучи душой жизни, продолжается вместе с ней. И последнее: я думаю, как и ты, что в каком-то непонятном смысле, в словах магов есть правда, и что в далеком прошлом мы были тем, чем снова собираемся стать; и сила этой невидимой связи выделила нас из всего мира и свела воедино и будет держать нас вместе еще долго после того, как этот мир умрет. Дело не в том, Мерапи, чего желаем мы, дело в том, что определила нам судьба. Еще раз — отвечай!
Она не ответила, и когда я через короткое время поднял глаза, она была в его объятиях и ее губы сомкнулись с его губами.
Так Сети, принц Египта, и Мерапи, Луна Израиля, соединились в Мемфисе, в Египте.
XIII. Красный Нил
На следующее утро я застал принца одного и, побыв с ним немного, напомнил ему о кое-каких древних рукописях, которые он хотел прочитать, но они хранились в Фивах, и я мог только там переписать их. Там же, как мне сказали, были в продаже и другие рукописи. Принц ответил, что они могут и подождать, но я возразил, что, если я не поеду в Фивы сейчас же, на них может найтись и другой покупатель.
— Ты слишком любишь далекие путешествия по моим делам, Ана, — сказал он. Потом с любопытством смотрел на меня некоторое время, и поскольку он мог читать мои мысли — так же, впрочем, как я его, — он понял, что я все знаю, и мягко добавил:
— Тебе следовало действовать, как я говорил, и спросить у нее первым. Кто знает…
— Ты, принц, — ответил я, — ты и никто другой.
— Поезжай, и да будут с тобой боги, друг. Но не сиди слишком долго над перепиской этих свитков, их может переписать любой писец. Думаю, в Кемете будет неспокойно, и я хочу, чтобы ты был рядом со мной. И кому-то другому, которому ты дорог, тоже нужно твое присутствие.
— Спасибо тебе и тому другому, — сказал я, поклонившись, и ушел.
Но этого мало; в то время как я занимался скромными приготовлениями к путешествию в Фивы, я обнаружил, что это совершенно излишне, ибо ко мне пришел раб и передал мне, что барка принца готова к отплытию и ждет только попутного ветра. На этой барке я и отправился в Фивы совсем как важный вельможа или как мумия царя, плывущая к месту погребения. Только вместо жрецов (пока я отослал их обратно в Мемфис) на корме сидели музыканты, а когда мне хотелось, появлялись танцовщицы, чтобы развлекать меня на досуге или в одеждах, сплетенных из золотых нитей, прислуживать мне во время трапезы.
Так я ехал, как будто сам принц, и поскольку меня знали как его друга, ко мне были внимательны правители номов, главные люди городов, мимо которых мы плыли, и верховные жрецы храмов в каждом городе, где мы делали остановку. Ибо, как я уже говорил, хотя на троне сидел Аменмес, в сердцах египтян по-прежнему царил Сети. И это ощущалось тем сильнее, чем дальше я продвигался вверх по Нилу, в районы, где мало знали об израильтянах и связанных с ними неприятностях. Почему, шептали мне на ухо великие мира сего, его высочество принц Сети не занял место своего отца? Тогда я рассказывал им о израильтянах, и они очень смеялись и говорили:
— Пусть только принц развернет здесь свое царское знамя, и мы покажем ему, что мы думаем по вопросу об этих израильских рабах. Неужели наследник Египта не может иметь собственное суждение о том, должны ли они жить на севере или уйти в пустыню, которой так жаждут?
На все это и многое другое я отвечал только, что передам их слова; большего я не мог, да и не смел сказать, ибо всюду я обнаруживал, что за мной следуют и наблюдают шпионы фараона.
Наконец я прибыл в Фивы и остановился в прекрасном доме, принадлежавшем принцу и подготовленном к моему прибытию, как мне сказали, по распоряжению специально присланного им гонца. Дом стоял неподалеку от входа на аллею сфинксов, которая ведет к величайшему из всех фиванских храмов, где находится великолепный колонный зал, построенный Сети Первым и достроенный Рамсесом Вторым, дедом принца.
Здесь я часто бродил ночью, и никогда мой дух не возносился так близко к небесам, как во время этих странствий. Переехав на западный берег Сихора, я посетил также ту уединенную и пустынную долину, где покоятся правители Кемета. Гробница фараона Мернептаха еще не была закрыта, и в сопровождении единственного жреца, несшего факел, я спустился в ее украшенные фресками залы и посмотрел на саркофаг того, кого я совсем недавно видел во всем великолепии на троне; и в уме моем невольно возникал вопрос, как много или как мало знает он обо всем, что происходит в Египте.
Кроме того, я переписал папирусы, ради которых приехал в Фивы, но не нашел ничего, достойного сохранения, и несколько других, действительно очень ценных, которые обнаружил в библиотеках храмов, а также купил несколько свитков. Один из этих последних запечатлел очень странный рассказ, давший мне много поводов к размышлениям, особенно теперь, в последние годы, когда никого из моих друзей уже нет в живых.
Так я провел два месяца и пробыл бы еще больше, если бы ко мне не явились гонцы из Мемфиса с вестью, что принц желает моего возвращения. Второй гонец прибыл через три дня после первого и передал мне послание принца: «Не думаешь ли ты, писец Ана, что если я уже не принц Египта, мне можно не повиноваться? Если так, то имей в виду, что по воле богов я в один прекрасный день могу вырасти выше, чем был когда-либо раньше, и тогда, будь уверен, я вспомню о твоем неповиновении и сделаю тебя на голову короче. Приезжай поскорее, мой друг, ибо я чувствую себя одиноко и нуждаюсь в собеседнике».
Я ответил, что вернусь со всей скоростью, с какой только способна двигаться барка, нагруженная рукописями, которые я переписал и купил в Фивах.
Итак, я тронулся в обратный путь. Признаться, я был даже рад покинуть — Фивы и вот по какой причине. Дня за два до этого, когда я шел вечером один, направляясь из храма домой, меня окликнула женщина в пестрой и яркой одежде, какую носят заблудшие создания. Я попытался отделаться от нее, но она вцепилась в меня, и я увидел, что она пьяна. Между прочим, она спросила (и ее голос показался мне знакомым), не знаю ли я, кто это прибыл в Фивы по делам какого-то члена царской семьи и остановился в так называемом Доме Принца. Я ответил, что его имя — Ана.
— Когда-то я знала одного Ану, — сказала она, — но я ушла от него.
— Почему? — спросил я, холодея, ибо, хотя я не видел ее лица, скрытого под капюшоном, мной овладел ужас.
— Потому что он жалкий дурак, — ответила она, — совсем не мужчина, — только и думал о своих писаниях; а тут подвернулся другой, он мне очень понравился, — только потом он меня бросил.
— А что случилось с Аной? — спросил я.
— Не знаю. Наверно, продолжал мечтать, а может взял другую жену. Жаль мне ее, если так. Только если этот Ана, что прибыл в Фивы, мой бывший Ана, то он должен быть теперь богат, и я пойду к нему — уж я заставлю его взять меня обратно!
— У тебя были дети? — спросил я.
— Только одна девочка, благодарение богам, — да и та умерла; еще раз благодарение богам, а то бы выросла и стала бы такой, как я
.
— И она надрывно всплакнула и тут же перешла к своим гнусным заигрываниям.
При этом капюшон соскользнул у нее с головы, и я увидел лицо своей жены, все еще красивое, но уже носящее следы пьянства и разврата. Я задрожал с головы до ног, а потом сказал измененным голосом:
— Женщина, я знал твоего Ану. Он уже умер, и ты причина его гибели. Но все же, поскольку я был его другом, возьми это и постарайся исправиться. — И я дал ей весьма увесистый мешочек с золотом.
Она схватила его, как ястреб добычу, и, заглянув в него при свете луны, поблагодарила меня и сказала:
— Право, Ана мертвый стоит больше, чем Ана живой. Пожалуй, хорошо, что он умер, — он ушел туда, куда ушло наше дитя, а ее он любил больше жизни и даже мной стал пренебрегать. Оттого я стала тем, что я есть. Да к тому же будь он жив, он бы еще немало натерпелся от женщин, он ведь совсем их не понимал. Ну, да ладно. Прощай, друг Аны. С тем, что ты мне дал, я, пожалуй, найду себе другого мужа! — И дико засмеявшись она, шатаясь, обошла сфинкса и исчезла в темноте.
После этой встречи неудивительно, что мне не терпелось покинуть Фивы. Кроме того, эта несчастная больно уязвила меня, убедив в том, о чем я до сих пор только смутно догадывался, а именно — я совершенный глупец в отношении женщин, такой непроходимый глупец, что лучше мне с ними не иметь дела. И я тут же поклялся именем моего бога-хранителя, что отныне никогда не взгляну ни на одну из них с любовью. И если другие клятвы я потом и нарушал, эту клятву я держу до сих пор. Укололи меня также слова о нашей умершей дочери; ибо в самом деле, когда это нежное существо отлетело к Осирису, сердце мое разбилось и в каком-то смысле так и не исцелилось до конца. И теперь мне пришло в голову, что быть может она права; забыв о матери ради ребенка, которого я боготворил, — да, тогда и все последующие годы — я невольно толкнул ее на путь позора. Эта мысль так мучила меня, что через одного преданного человека, считающего, что я лишь отдаю должное той, кого несправедливо обидел, я постарался обеспечить ей безбедную и спокойную жизнь.
Она действительно вышла замуж за купца, вокруг которого раскинула свои сети; со временем она растратила все его богатство и довела его до разорения, после чего он бежал. Сама она умерла на третий год царствования Сети Второго. Но, благодарение богам, она так и не узнала, что личный писец и секретарь фараона — тот самый Ана, который когда-то был ее мужем. На этом я и закончу ее историю.
Итак, я плыл вниз по Нилу с тяжелым сердцем — тяжелее, чем большой камень, служивший нам якорем. На третий день в сумерках мы пришвартовались у борта судна, которое держало курс вверх по течению под северным ветром. На борту этого судна был чиновник, которого я знавал при дворе фараона Мернептаха; он направлялся в Фивы с каким-то поручением. У него был такой испуганный вид, что я спросил, в чем причина его страха. Тогда он отвел меня в сторону, в пальмовую рощу на берегу и, присев на шест, которым волы вращали водяное колесо, рассказал мне о странных вещах, происходивших в Танисе.
Оказалось, что израильские пророки еще раз явились к фараону, который до тех пор не трогал их народ и не пошел на них с мечом, как того хотел Мернептах, — считали, что его удерживал страх — он боялся умереть подобно предыдущему фараону. Как и прежде пророки изложили свою просьбу — отпустить их народ в пустыню, а фараон отказал им. Тогда они встретили его на следующее утро, когда он приехал к реке, чтобы пройтись под парусом, и один из них ударил по воде своим жезлом, и вода превратилась в кровь. В ответ керхеб Ки и его товарищи тоже ударили по воде в другом месте, и вода тоже превратилась в кровь. Это было лишь шесть дней назад, и чиновник клялся, что теперь кровь поднимается, расползаясь, вверх по течению Нила. Я не поверил и засмеялся.
— Ну, тогда пойдем, покажу, — сказал он и повел меня на свое судно, где вся команда была охвачена страхом не меньшим, чем тот, что овладел их начальником.
Он привел меня на корму и показал большой кувшин для воды, и
— о! — он был полон крови, а в ней — дохлая рыба, издававшая зловоние.
— Эту воду, — сказал он, — я сам набрал из Нила в пяти часах ходу отсюда. Но мы обогнали эту кровь, которая теперь движется за нами. Посмотри еще раз. — И, взяв светильник, он поднял его над кормой, и я увидел, что все доски были как будто обагрены кровью.
— Послушайся моего совета, высокоученый писец, — добавил он, — и наполни все кувшины и все кожаные мешки чистой водой, иначе завтра вас замучит жажда. — И он засмеялся смехом, от которого мне стало жутко.
Затем мы расстались, ничего больше не сказав, ибо ни один из нас не знал, что еще можно сказать об этих непонятных и страшных явлениях, и около полуночи чиновник отчалил, воспользовавшись поднявшимся ветром и рискуя наскочить в темноте на какую-нибудь песчаную мель.
Я последовал его совету, хотя мои гребцы, которым не пришлось говорить с его людьми, решили, что с моей стороны просто безумие загружать барку таким количеством воды.
При первых проблесках зари я дал команду к отплытию. Поглядывая за борт, я заметил, что там, где падали лучи разгоравшейся зари, вода принимает розовый оттенок. Больше того, этот оттенок, становясь все гуще, распространялся не вниз, а вверх по течению вопреки законам природы и, следовательно, не мог быть результатом смыва красной почвы с южных земель. Гребцы приглядывались и вполголоса переговаривались. Наконец один из них, перегнувшись через борт, зачерпнул в ладонь воды и отпил глоток—другой, но тут же выплюнул ее с криком ужаса.
— Кровь! — воскликнул он. — Кровь! Опять убили Осириса, и его кровь заполняет воды Сихора!
Гребцы так испугались, что если б не я, они тотчас бы повернули вспять и направили бы барку вверх по течению или пристали бы к берегу и сбежали в пустыню. Но я крикнул им, чтобы они продолжали путь на север и мы таким образом смогли бы скорее избавиться от этого ужаса, и они меня послушались. Но чем дальше мы плыли, тем краснее казалась вода, становясь почти черной, так что наконец нам стало казаться, что мы плывем в потоках крови, в которых мертвые рыбы плавали тысячами или бились, погибая, на поверхности. Зловоние стало таким ужасным, что пришлось наложить на нос повязку и хотя бы частично смягчить ощущение отравленного воздуха.
Мы поравнялись с одним городом и услышали общий вопль ужаса, поднимавшийся над его улицами. Люди стояли с видом пьяных, глядя на покрасневшие руки, которые они окунали в воду, а женщины бегали по берегу и рвали на себе волосы и одежду, испуская громкие крики: «Коварство! Колдовство! Проклятые боги перебили друг друга, и люди тоже должны погибнуть!» — и тому подобное.
Мы видели также, как на некотором расстоянии от берега крестьяне рыли колодец, надеясь добраться до чистой, здоровой воды.
Весь день мы плыли в этом ужасном потоке, а пена и брызги, срываемые сильным ветром, покрывали наши тела и одежды зловещими пятнами, от которых несло запахом крови и внутренностей. От этой пены исходили зловоние и соленый вкус свежей крови, и мы только пили заготовленную мной воду; и гребцы, которые сочли меня прежде сумасшедшим, теперь называли мудрейшим из людей, человеком, предвидящим то, что может случиться в будущем.
К вечеру мы наконец заметили, что с каждым часом красный цвет бледнеет. Это было вторым чудом, поскольку выше нас по течению вода еще сохраняла цвет яшмы. При этом чуде мы на время откинули весла и, несмотря на наш неподобающий вид, спели гимн и вознесли благодарственные молитвы Хапи, богу Нила, Великому, Таинственному, Незримому. И в самом деле, перед заходом солнца река уже вновь стала чистой. Только на берегу, куда мы причалили на ночь, камни и камыши были все в пятнах, а вокруг тысячами лежали мертвые рыбы, отравляя воздух. Чтобы уйти от этого зловония, мы взобрались на скалы, которые в этом месте подходили к самому Нилу, и, обнаружив вырубленные в них входы в древние гробницы, давно уже разграбленные и опустевшие,
решили переночевать в одной из них.
Вытоптанная человеком тропинка вела к самой большой из этих гробниц. Приблизившись, мы вдруг услышали доносившиеся из нее плач и причитания. Я заглянул внутрь и увидел женщину и нескольких детей, которые скорчились на полу гробницы, посыпая головы песком и пылью. Увидев нас, они завопили еще громче сухими, резкими голосами, — без сомнения, они приняли нас за разбойников или, возможно, за привидения, судя по нашей запачканной кровью одежде. С ними был еще один ребенок, совсем младенец, который не плакал: он был мертв. Я спросил женщину, что произошло, но даже когда она поняла, что мы обычные люди и не причиним ей зла, она была в состоянии лишь выдохнуть одно слово: «Воды! Воды!» Мы дали ей и детям напиться из принесенных нами кувшинов, что они и сделали с жадностью, после чего я выспросил у нее их историю.
Она была женой рыбака, который поселился в этой пещере. Она рассказала, что семь дней назад вода в Ниле вдруг превратилась в кровь, что ее невозможно было пить, а весь их запас воды ограничивался небольшим горшочком. Вырыть колодец они были не в состоянии из-за скалистой почвы. Бежать отсюда они тоже не могли, ибо при виде этого страшного чуда ее муж в ужасе выпрыгнул из лодки и вброд добрался до берега, а лодку унесло течением.
Я спросил, где же ее муж, и она показала в глубину пещеры. Я пошел взглянуть, что там, и увидел человека, висевшего с петлей вокруг горла на веревке, которая была закреплена на капители одной из колонн гробницы; человек был мертв и холоден. У меня сжалось сердце, и я спросил женщину, как это произошло. Она рассказала, что когда он увидел, что вся рыба погибла, лишив его пищи и ремесла, а жажда убила его младшее дитя, он обезумел, отполз в глубину пещеры и тайком от жены повесился на веревке от невода. Поистине ужасная история.
Оставив вдове нашу еду, мы переночевали в другой гробнице, ибо нам не хотелось спать в обществе мертвецов. На следующее утро едва забрезжила заря, мы взяли женщину и ее детей на барку и отвезли их в город, в трех часах ходу от ее мрачного жилья. Там у нее жила сестра, которую она и разыскала. Мужа и ребенка мы оставили в гробнице, ибо мои люди не хотели осквернить себя, прикоснувшись к мертвым телам.
Наконец после стольких ужасов и несчастий мы благополучно прибыли в Мемфис. Оставив гребцов привести в порядок барку, я отправился во дворец, ни с кем не разговаривая на пути, и меня немедленно провели к принцу. Я застал его в затененной от солнца комнате, где он сидел рядом с госпожой Мерапи и держал ее за руку, и они живо напомнили мне статуи
Ка мужа и жены, в рост человека, какие я видел в древних гробницах, созданные в те времена, когда скульпторы умели передавать точные подобия живых мужчин и женщин. Сегодня они этого не делают, думаю потому, что жрецы внушили им, что это незаконно. Он разговаривал с ней вполголоса, в то время как она слушала его с нежной, как всегда, улыбкой, но в ее глазах, устремленных куда-то в пространство, мне почудился страх. Я подумал, что она очень красива в белой одежде, на которую падали ее волосы, приподнятые на висках узкой золотой полоской-повязкой. Но глядя на нее, я к своей радости почувствовал, что сердце мое уже не жаждет ее, как в ту ночь, когда она сидела перед летним домиком. Теперь оно радовалось ей, как другу, не более, и другом она осталась до самого конца, как хорошо знали и принц, и она сама.
Когда Сети увидел меня, он вскочил и пошел мне навстречу как человек, который счастлив приветствовать любимого друга. Я поцеловал его руку и, подойдя к Мерапи, поцеловал ее руку тоже, заметив при этом, что на ней сверкает то кольцо, которое она однажды отвергла под предлогом, что оно ей велико.
— Расскажи, Ана, обо всем, что с тобой случилось, — сказал он своим приятным, дружелюбным голосом, который никогда не звучал равнодушно.
— Многое, принц, в том числе нечто очень странное и ужасное, — ответил я.
— Здесь тоже произошло нечто странное и ужасное, — сказала Мерапи, — и, увы, это лишь начало бедствий.
С этими словами она поднялась, как будто не решаясь сказать большего, поклонилась сначала своему мужу, потом мне и вышла из комнаты.
Я посмотрел на принца, и он ответил на вопрос, который прочел в моих глазах.
— Здесь был Джейбиз, — сказал он, — и поселил в ее сердце дурные предчувствия. Если фараон не отпустит израильтян с миром, клянусь Амоном, я хотел чтобы он отослал хотя бы Джейбиза б какое-нибудь место, где тот и остался бы. Но скажи мне, вы тоже видели, как кровь поднималась вверх по течению Сихора? Должно быть, да. — И он взглянул на ржавые пятна, которых никакая стирка не могла смыть с моей одежды.
Я кивнул, и мы долго и серьезно разговаривали, но в конце разговора не стали умнее, чем были в начале, несмотря на все наши рассуждения. Ибо ни один из нас не понимал, как могло случиться, что люди, ударив по воде палкой, превратили ее в подобие крови, как это сделали израильские пророки и Ки, и каким образом эта кровь могла подняться по Нилу против течения и держаться в реке на протяжении семи дней, да и проникнуть во все каналы Египта, так что люди были вынуждены рыть колодцы, чтобы добыть чистую воду, и притом каждый раз заново, ибо кровь просачивалась и туда. Но мы оба думали, что это — работа богов, и скорее всего того бога, которому поклоняются израильтяне.
— Помнишь, Ана, — сказал принц, — слова Джейбиза, которые он просил тебя мне передать? Он сказал, что от израильтян и их проклятий мне не будет ничего плохого. Ничего до сих пор и не было плохого — кроме появления самого Джейбиза. За день до того, как мы услышали об этом кровавом бедствии на Ниле, сюда явился Джейбиз, переодетый торговцем сирийских товаров, которые он продал мне втридорога. Он проник на половину Мерапи, где она обычно принимает тех, кого любит и хочет видеть, под предлогом, что хочет показать ей свой товар, и говорил с ней и, боюсь, рассказал ей все, что мы с тобой так старались от нее скрыть — что она навлечет на меня беду. По крайней мере, с тех пор она как-то изменилась, и я счел разумным заставить ее дать клятву, которую, я знаю, она никогда не нарушит: теперь, когда мы вместе, она никогда не покинет меня, пока мы оба живы.
— Джейбиз хотел, чтобы Мерапи с ним уехала, принц?
— Не знаю. Об этом она мне ничего не говорила. Однако я уверен, что если бы он явился сюда со своей гнусной болтовней до твоего возвращения из Таниса, она бы уехала. Но теперь есть причины, которые, надеюсь, удержат ее от этого.
— Что же он мог ей сказать, принц
1 :
— Приблизительно то же, что и тебе. Что страну Кемет ожидают большие бедствия. Он сказал еще, что послан спасти меня и моих друзей от этих бедствий, потому что я был другом евреев, насколько мог. Потом он обошел весь дом и сад и что-то вычитывал вслух из какого-то папируса, что именно — я не понимал, и время от времени молился своему богу: там, где канал входит в сад, там, где он вытекает из сада, и около источника с питьевой водой. Но это еще не все! Вместе с Мерапи он побывал в моих полях и на пастбищах и тоже читал и молился, так что слуги решили, что он просто сумасшедший. Потом они вернулись, и я слышал, как они прощались. Она сказала: «Дом ты благословил, и он в безопасности; поля тоже — не благословишь ли ты и меня, о мой дядя, и моих будущих детей?» А он покачал головой и ответил: «У меня нет власти ни благословлять тебя, ни проклинать, как тот глупец, которого убил принц. Ты сама выбрала свой путь, независимый от твоего народа. Может быть, это хорошо, может быть — плохо, а может быть и то и другое, и отныне ты должна идти этим путем одна, куда бы он тебя ни привел. Прощай, ибо, возможно, мы больше не увидимся».
Потом они прошли, и я больше ничего не услышал, но я видел, что она упрашивала его, а он по-прежнему качал головой. Под конец, однако, она поднесла ему дар — наверно, все что у нее было, но не знаю, ему ли или для их храма. Во всяком случае он, кажется, смягчился и весьма нежно поцеловал ее в лоб и отбыл с видом удачливого купца, продавшего весь свой товар. Но Мерапи ни за что не хочет рассказать мне, о чем они говорили. Я тоже не сказал, что слышал кое-что из их разговора.
— А потом?
— А потом, Ана, мы узнали, что израильский пророк превратил воду в кровь и что Ки и его ученики сделали то же самое. Последнему я не поверил, потому что мне казалось, было бы естественнее, если бы Ки превратил кровь обратно в воду вместо того, чтобы прибавлять крови туда, где ее и так достаточно.
— Мне кажется, маги лишились рассудка.
— Или способны только на злые дела, Ана. Во всяком случае, кровь действительно появилась, и так было целых семь дней, а потом начались болезни из-за гниющей рыбы. А теперь о чуде: у меня ни в доме, ни в садах не было никакой крови, хотя канал был ею переполнен. Вода оставалась чистой, как всегда, и рыбы плавали в ней, как всегда, в колодце вода тоже была чистая и свежая. Как только об этом стало известно, сюда сбежалась тысячная толпа, и все кричали, тре^ буя воды, — до того момента, как увидели, что едва они выходили за ворота, вода в их кувшинах краснела; правда, некоторые все-таки приходили и старались поскорее выпить воды, не сходя с места.
— А что говорят об этом в Мемфисе, принц? — спросил я, с удивлением выслушав его рассказ,
— Кое-кто считает, что не Ки, а я — великий маг Египта; никогда еще слава, Ана, не доставалась так легко! Другие говорят, что настоящий маг — Мерапи, не только потому, что ее история в танисском храме дошла до Мемфиса, но и потому, что она — израильтянка из племени еврейских пророков. Тише! Она возвращается!
XIV. Ки приезжает в Мемфис
Обо всех ужасах, началом которых было это превращение воды в кровь, я, писец Ана, рассказывать здесь не буду, ибо я уже стар, и, если бы стал перечислять все, что последовало, я бы не успел кончить свой рассказ. На протяжении многих и многих новолуний обрушивались они на Кемет, одно бедствие за другим, пока вся страна не обезумела от нужды и страданий. И всякий раз повторялось одно и то же. Израильские пророки являлись в Танис и требовали от фараона, чтобы он отпустил их народ, угрожая в случае отказа местью. Но тот неизменно отказывал, как будто во власти какого-то безумия, а может быть, завороженный богом израильтян, — не знаю почему.
Так, вскоре после ужаса крови страну поразило бедственное нашествие лягушек, которые заполнили Египет от северной до южной границы, распространяя вокруг зловоние. Ки и его товарищи тоже сотворили подобное же чудо в стране Гошен, где лягушки изводили израильтян. Но каким-то образом во дворце Сети в Мемфисе и в прилегающих к нему владениях лягушек не было или, по крайней мере, их были единицы, хотя по ночам с полей доносилось их кваканье, похожее на дробь множества барабанов.
Потом страну одолели вши, и Ки с товарищами хотели напустить их и на Гошен, но тщетно, и после этого уже не пытались бороться против магии израильтян. За вшами появились мухи, от которых в воздухе стало черно и невозможно было сохранить пищу свежей. Только во дворце Сети не было мух и очень мало — в саду. После этого началась страшная болезнь скота, от которой погибли тысячи животных. Но в большом стаде Сети не заболело ни одно, и как мы узнали позже, в Гошене тоже не стало ни на одно копыто меньше.
Это бедствие обрушилось на Кемет вскоре после того, как Мерапи родила сына — очень красивое дитя с глазами, как у матери, которому дали имя в честь его отца — Сети. К этому времени весть о том, что принц и все его хозяйство каким-то чудом избежали этих напастей, вызванных проклятием, разнеслась и вызвала много толков, так что и к нему стали присылать ходоков, чтобы узнать, как это могло случиться.
Среди первых явился старый Бакенхонсу с поручением от фараона и отдельно ко мне с поручением от принцессы Таусерт, ибо гордость не позволила ей обратиться прямо к Сети. Но мы не могли сообщить ему ничего, кроме того, о чем я здесь написал, и на первых порах он нам не поверил. Однако, удостоверившись, что мы говорим правду, он отказался от всего, сказался больным и попросил разрешения принца остаться на некоторое время в его доме, поскольку он был другом его отца, деда и прадеда. Сети засмеялся — как, впрочем, и сам хитрый старец и Бакенхонсу остался, к нашей великой радости ибо он был самым очаровательным собеседником и к тому же большим ученым. Что касается его поручения, то в Танис был послан один из его слуг с ответом фараону и Таусерт и с уведомлением о прискорбном недомогании его хозяина.
Спустя дней восемь я стоял утром, греясь на солнце, у той садовой калитки, что выходит к храму Птаха, и праздно следил за процессией жрецов, с пением проходящих по его территории, ибо из-за частых болезней, случавшихся в эту пору в Мемфисе, я редко покидал пределы дворца. Неожиданно я увидел темную фигуру человека, кутавшегося в плащ, так как солнце еще не разогнало утреннюю прохладу. Человек приблизился и, обратившись ко мне через голову стражника, просил, не может ли он видеть госпожу Мерапи. Я ответил, что она занята, ибо нянчит своего сына.
— И кое-чем еще, я полагаю, — ответил он многозначительно, и его голос показался мне знакомым. — Ну, тогда могу я видеть принца Сети?
Я ответил, что он тоже занят.
— Тем, что нянчит свою душу, изучает глаза госпожи Мерапи, улыбку своего младенца, мудрость писца Аны и атрибуты ста одного бога, в том числе, как можно предположить, бога Израиля, — произнес этот знакомый голос, добавив: — Тогда я, возможно, могу повидать этого писца Ану, который, насколько я понимаю, приписывает свою удачливость своей учености.
Рассерженный насмешливым тоном незнакомца, который, как я уже ясно чувствовал, на самом деле вовсе не незнакомец, я ответил, что писец Ана, стремясь пополнить недостаток удачливости, занят беседой с богиней учености в своем кабинете.
— Что ж, пусть его беседует, — насмешливо сказал незнакомец, — поскольку она — единственная женщина, какую ему, похоже, удалось поймать. Хотя одна его однажды поймала. Если ты его знакомый, спроси у него, о чем он с ней беседовал в аллее сфинксов у большого храма в Фивах скольких золотых монет и слез ему это стоило.
Услышав это, я поднял руку и протер глаза, думая что я, должно быть, задремал, пригревшись на солнце. Но когда я отнял руку, все оставалось, как было: стоял стражник, равнодушный к тому, что его не касалось, петух, распустив хвост, все так же разгребал лапой грязь, гриф по-прежнему сидел с распростертыми крыльями на голове одной из двух больших статуй Рамсеса, возвышающихся словно стражи у ворот. Поодаль продавец воды расхваливал свой товар — но незнакомец исчез. Тогда я понял, что я действительно видел сон, и повернулся, собираясь уйти, — и оказался лицом к лицу с незнакомцем.
— Эй, ты, — сказал я возмущенно, — как, во имя Птаха и всех его жрецов, ты прошел мимо стражника и через эти ворота, а я даже не заметил?
— Не утруждай себя новой задачей, когда их и так уже достаточно, чтобы сбить тебя с толку, друг Ана. Скажи, ты уже решил ту — про палку, которая превратилась у тебя в руке в змею? — И он отбросил капюшон, и я увидел бритую голову и сверкающие глаза керхеба Ки.
— Нет, — ответил я, — благодарю покорно, ибо он протянул мне свой жезл. — Я не повторю больше этот фокус. В следующий раз зверь может и укусить. Ну ладно, Ки, если ты смог войти сюда без моего разрешения, к чему о нем спрашивать? Короче, чего ты от меня хочешь после того, как израильские пророки положили тебя на обе лопатки?
— Тихо, Ана! Никогда не давай воли гневу, это напрасная трата сил, которых у нас и так мало; ты ведь мудрый и знаешь — а может быть, не знаешь — что при нашем рождении боги дают нам определенный запас сил, а когда они истощаются, мы умираем и должны идти куда-то в другое место, чтобы пополнить этот запас. При твоем характере, Ана, жизнь твоя будет короткой, ибо ты растрачиваешь слишком много сил на эмоции.
— Что тебе нужно? — повторил я, слишком сердитый, чтобы спорить с ним.
— Хочу найти ответ на вопрос, который ты так грубо сформулировал: почему израильские пророки, как ты выразился, положили меня на обе лопатки?
— Я не маг, каким являешься — или претендуешь быть — ты, и не могу ответить на твой вопрос.
— Я ни на минуту не предполагал, что можешь, — ответил он благодушно, протянув руки и выпустив из них свой посох, который так и остался стоять перед ним. (Только позже я вспомнил, что этот проклятущий кусок дерева стоял сам по себе, без видимой поддержки, ибо его кончик упирался в вымощенную дорожку у ворот.) — Но, по счастливой случайности, ты имеешь в этом доме мастера или, скорее, мастерицу над всеми магами — как известно сегодня каждому египтянину — госпожу Мерапи, и я хотел бы повидаться с ней.
— Почему ты называешь ее мастерицей над вами, магами? — спросил я с возмущением.
— Почему одна птица узнает другую по полету? Почему вода остается здесь чистой, когда во всех других местах она превращается в кровь? Почему лягушки не квакают в садах Сети, а мухи не садятся на мясо у него на столе? Почему, наконец, статуя Амона рассыпалась под ее взглядом, в то время как все мои чары отскакивали от ее груди, как стрелы от кольчуги? Вот вопросы, которые задает весь Египет, и я хотел бы получить на них ответы от возлюбленной Сети, или бога Сети, — от той, кого называют Луной Израиля.
— Тогда почему не пробраться туда самому, Ки? Тебе, несомненно, ничего не стоит принять вид змеи или крысы, или птицы, и проползти или прокрасться, или прилететь в покои Мерапи.
— Возможно, это и не было бы очень трудно, Ана. Или, еще лучше, я мог бы посетить ее во сне, как я сделал в одну памятную ночь в Фивах, когда ты поведал мне о разговоре с одной женщиной в аллее сфинксов и о том, сколько золота она тебе стоила. Но в данном случае я хочу появиться как человек и друг и немного погостить здесь. Бакенхонсу говорит, что находит жизнь в Мемфисе очень приятной, К тому же свободной от болезней, которые сейчас стали, видимо, обычными для Кемета. Так почему бы мне тоже не пожить здесь, Ана?
Я посмотрел на его круглое, полное лицо, на котором застыла | неподвижная улыбка, неизменная, как улыбка масок на гробах мумий (которую, я думаю, он и скопировал) и холодно сверкали глубоко сидящие глаза, и почувствовал легкую дрожь. Сказать по правде, я боялся этого человека, чувствуя, что он соприкасается с существами и вещами какого-то иного мира, и решил больше ему не противодействовать.
— С этим вопросом тебе лучше обратиться к моему господину. Сети, кому принадлежит этот дом. Пойдем, я проведу тебя к нему.
Итак, мы направились к большому портику дворца, прошли между его раскрашенными колоннами к той части дворца, где жил я, откуда я решил сообщить принцу о неожиданном госте. Оказалось, что это излишне, ибо мы увидели, что он сидит в тени маленькой ниши; рядом с ним сидела Мерапи, а между ними на вытканном коврике лежал сияющий младенец, на которого оба смотрели с обожанием.
— Странно, что в сердце этой матери скрыта сила, которой могли бы гордиться все боги Кемета. Странно, что эти материнские глаза могут превратить древнюю славу Амона в прах, — сказал мне Ки таким тихим голосом, что мне почудилось, будто я слышу не слова его, а мысли. Может быть, так оно и было.
Теперь мы стояли перед этой троицей, и так как раннее солнце было еще позади нас, тень облаченного в плащ Ки упала на дитя и покрыла его. Страшная фантазия пришла мне вдруг в голову: тень Ки выглядела как фигура бальзамировщика, склонившегося над только что умершим ребенком. Младенец что-то почувствовал, открыл большие глаза и заплакал. Мерапи вскочила и подняла его на руки. Сети тоже поднялся со скамьи, воскликнув:
— Кто пришел?
К моему изумлению Ки простерся перед ним и произнес приветствие, с которым обращаются только к царю Египта:
— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!
— Кто смеет приветствовать меня этими словами? — воскликнул Сети. — Ана, какого сумасшедшего ты привел?
— Если принцу угодно, это он привел меня сюда, — ответил я слабым голосом.
— Скажи, кто научил тебя обратиться ко мне с такими словами? Худшего приветствия нельзя придумать.
— Те, кому я служу, принц.
— А кому ты служишь?
— Богам Кемета.
— Ну, тогда боги по тебе плачут. Фараон сидит не в Мемфисе, и если бы он услышал твои слова…
— Фараон никогда не услышит их, принц, до тех пор, пока не услышат все.
Они смотрели друг на друга. Потом, как раньше у ворот сделал я, Сети протер глаза и сказал:
— Право же, это Ки! Почему же ты только что выглядел иначе?
— Боги могут изменять вид своих посланцев тысячи раз в мгновение ока, если на то их воля, о принц.
Гнев Сети прошел, и он засмеялся.
— Ки, Ки, — сказал он, — ты бы лучше приберег эти трюки для Двора. Но раз уж ты в таком настроении, как бы ты приветствовал эту госпожу, что стоит рядом со мной?
Ки устремил на нее взгляд, от которого она, всегда боявшаяся и ненавидевшая мага, невольно вздрогнула.
— Корона Хатхор, приветствую тебя. Любимица Исиды, сияй в небесах, проливая свет и мудрость, пока ты не зайдешь.
Это приветствие озадачило меня. Я его даже не совсем понял, пока Бакенхонсу не напомнил мне, что прозвище Мерапи было Луна Израиля, Хатхор, богиня Любви, увенчана луной на всех изображающих ее статуях, Исида — царица таинств и мудрости, и что Ки, считая Мерапи совершенной в любви и красоте и величайшей из всех чародеек, сравнивал ее с Луной, Хатхор и Исидой.
— Да, — ответил я, — но что он имел в виду, говоря о ее заходе?
— Разве луна не всегда садится и разве иногда на нее не находит тень? — спросил он как-то странно.
— Но солнце тоже садится, — ответил я.
— Верно, солнце тоже! Ты становишься мудрецом, Ана, настоящим мудрецом. Охо-хо!
Но вернемся к сцене в саду. Когда Сети услышал это приветствие, он снова рассмеялся и сказал:
— Я должен в это вдуматься, но ясно, что у тебя талант к восхвалению. Не правда ли, Мерапи? Корона Хатхор и воплощение мудрости Исиды? '
Но Мерапи, которая, думаю, понимала больше, чем любой из нас, побледнела и отступила подальше, из тени на солнце.
— Ладно, Ки, — сказал Сети, — закончим с приветствиями. Как насчет младенца?
Ки всмотрелся в него:
— Теперь, когда он не в тени, я вижу, что этот побег из корня фараона растет столь быстро и высоко, что мои глаза не достигают его венчика. Он слишком высок и велик для приветствий, принц.
Тогда Мерапи слегка вскрикнула и унесла ребенка прочь.
— Она боится магов и их темных изречений, — сказал Сети, глядя ей вслед с огорченной улыбкой.
— Она не должна бояться, принц, учитывая, что она — властительница всего нашего племени.
— Госпожа Мерапи — и маги? Ну, в каком-то смысле, да, — там, где это касается мужских сердец, как ты думаешь, Ана? Но говори яснее, Ки. Еще рано, а загадки хороши только ночью.
— Какая другая женщина могла бы разрушить крепкий и священный дом великого Амона на земле? Даже пророки Израиля не могли бы, я думаю. Кто еще смог бы оградить этот сад от проклятий, которые пали на весь Кемет? — серьезно спросил Ки, ибо вся его насмешливость с него слетела.
— Я не думаю, что все это делает она, Ки. Я думаю, что через нее действует какая-то сила, и я знаю, что она осмелилась стать лицом к лицу с Амоном в его храме только потому, что так велели жрецы ее народа.
— Принц, — ответил он с коротким смешком, — недавно я отправил тебе с Аной послание. Возможно, другие мысли вытеснили его у тебя из памяти. Оно было о природе той Силы, о которой ты говоришь. В моем послании я назвал тебя мудрым, но теперь вижу, что в тебе так же мало мудрости, как и во всех остальных; ибо, если бы она у тебя была, ты бы знал, что резец, обрабатывающий камень, — это не направляющая рука, а разящая молния — это не посылающая ее сила. Так и с твоей прекрасной любимой, так и со мной, и со всеми, кто творит чудеса. Но мы делаем, что нам приписывают, — мы лишь резец и молния. Я хотел бы знать лишь одно: кто или что направляет ее руку и дает ей власть и силу защищать или разрушать.
— Это очень серьезный вопрос, Ки; во всяком случае, так кажется мне, с моей малой, как ты говоришь, мудростью. Тот, кто может на него ответить, держит ключ к знанию. Твое искусство не так велико, оно кажется великим лишь потому, что доступно очень немногим. Какое чудо заставляет цветок расти, ребенка — родиться, Сихор — разливаться, а солнце и звезды — сиять в небесах? Что делает человека наполовину зверем, а наполовину богом, толкает его вниз — к зверю, или поднимает вверх — к богу — или к тому и другому сразу? Что такое вера и что — неверие? Ты качаешь головой, ты не знаешь; как же могу знать я, ведь я, по-твоему, глупец? Так что ищи ответа на твой вопрос у госпожи Мерапи — только может случиться, что твои вопросы встретят противодействие.
— Все-таки попробую. Спасибо повелителю Мерапи! Прошу о милости, принц (раз уж ты не разрешаешь называть тебя другим именем, которое естественно вырвалось из уст того, для кого настоящее и будущее — почти одно и то же)…
Сети пристально посмотрел на него, и впервые в его глазах промелькнуло выражение страха.
— Оставь Будущее — Будущему, Ки! — воскликнул он. Каково бы ни было мнение Египта, сейчас меня вполне удовлетворяет настоящее. — И он взглянул на кресло, в котором недавно сидела Мерапи, и на коврик, где лежал его сын.
— Беру свои слова обратно. Принц мудрее, чем я думал. Маги знают будущее потому, что временами оно нисходит на них и они поневоле должны обращать к нему взор. Это и делает их одинокими, поскольку они не могут сказать о том, что они знают. Но только глупец пытается проникнуть в будущее.
— И все же время от времени они приподнимают краешек завесы, Ки. Я помню, например, твои собственные слова о ком-то, кто найдет в стране Гошен великое сокровище, а потом испытает временные потери и — дальше я забыл. Да перестань же улыбаться мне и пронзать меня насквозь острыми, как мечи, глазами. Ты все можешь, — какой же милости ты хочешь просить у меня?
— Дай мне пожить здесь немного, в обществе Аны и Бакенхонсу. Послушай, я больше уже не керхеб. Я поссорился с фараоном, может потому что струйка этого великого ветра Будущего проникает мне в душу, или возможно потому, что он не вознаграждает меня по заслугам, — какое значение имеет, почему. По крайней мере, я пришел к тому же мнению, какого придерживаешься ты, о принц, и считаю, что фараон сделал бы правильно, отпустив израильтян на свободу, и поэтому я никогда больше не попытаюсь противопоставить свою магию их магии. Но он опять отказал, так что мы расстались.
— Почему он отказывается, Ки?
— Может быть, потому, что написано — он должен отказаться. Или, возможно, потому, что считает себя величайшим из царей, а не игрушкой в руках богов, и гордость запирает двери его сердца, чтобы в какой-то грядущий день буйный ветер Будущего, о котором я говорил, смел бы и разрушил дом, где оно обитает. Не знаю, почему он отказывается, но ее высочество Таусерт весьма активно его поддерживает.
— Для человека, который не знает, у тебя слишком много толкований и все разные, о высокоученый Ки, — сказал Сети.
Он помолчал, прохаживаясь взад и вперед по портику, и я, всегда понимавший его настроения, догадывался, что он ищет ответа на вопрос, что лучше — приютить Ки, которого он временами боялся, потому что его окружала тайна и он никогда не менялся, или отослать его прочь. Ки тоже было как бы не по себе, и, слегка передернувшись, он вышел из портика на яркое солнце. Здесь он протянул руку, и с крыши вдруг спустилась большая ночная бабочка и села ему на руку, а он поднял ее к губам и как будто заговорил шепотом с этим насекомым.
— Что мне делать? — пробормотал Сети, проходя мимо меня.
— Мне не очень нравится его общество, да и госпоже Мерапи, думаю, тоже, но он такой человек, которого опасно обижать, принц, — сказал я. — Смотри, он разговаривает с себе подобным.
Сети вернулся на свое место; Ки стряхнул с руки бабочку, которая, казалось, не желала с ним расстаться, ибо дважды садилась ему на голову, и тоже вернулся в тень портика.
— Какая польза задавать мне вопросы, Ки, если — как ты сам показал — ты уже знаешь, что я на них отвечу? Ну, что я тебе отвечу? — спросил принц.
— Это пестрое существо, которое только что сидело у меня на руке, кажется, шепнуло мне, что ты скажешь: «Оставайся, Ки, будь мне верным слугой и используй все знания, какие у тебя есть, чтобы оградить мой дом от зол».
Тогда Сети рассмеялся, как будто его ничто не угнетало, и ответил:
— Будь по-твоему, поскольку есть правило: ни один член царского дома в Египте не может отказать в гостеприимстве тем, кто его просит, особенно бывшему другу! И не стану противопоставлять твоей бабочке то, что шептала мне этой ночью летучая мышь. Нет, и никаких приветствий, подсказанных мне насекомым или будущим! — И он протянул Ки руку, которую тот поцеловал.
Когда Ки ушел, я сказал:
— Я говорил тебе, что та ночная тварь ему сродни.
— Значит, ты сказал глупость, Ана. Ки получает свои знания не от бабочек или жуков. Однако как жаль, что я поторопился и не спросил госпожу Мерапи, хочет ли она оставить Ки у нас в доме. Ты бы лучше подумал об этом, Ана, вместо того, чтобы наблюдать за бабочкой у него на руке, — он специально приманил ее, чтобы отвлечь твои мысли. Ладно, в наказание тебя ожидает приятная участь — изо дня в день смотреть на человека с лицом, похожим на… на что?
— На тот лик, что я видел на саркофаге доброго бога, твоего божественного отца, Мернептаха, — и он был изготовлен для фараона еще при жизни в мастерской бальзамировщика в Танисе.
— Да, — сказал принц, — лицо вечно улыбающегося в Нечто, которое есть Жизнь и Смерть, но в иные моменты — с глазами, пылающими огнем.
На следующий день по приглашению госпожи Мерапи я гулял с ней в саду; за нами шла няня, неся на руках царское дитя.
— Хочу спросить у тебя про Ки, друг Ана, — сказала она. — Ты знаешь, что он мой враг, ведь ты, должно быть, слышал, что он говорил в храме Амона в Танисе. Видимо, мой господин пригласил его погостить у нас в доме — о, смотри! — И она указала в ту сторону, куда мы шли.
Впереди, в нескольких шагах от нас, там, где тень сплетающихся над дорожкой ветвей была особенно густой, стоял Ки. Он опирался на свой жезл, тот самый, который в моих руках превратился/в змею, и смотрел вверх с видом человека, погруженного в мысли или внимающего пению птиц. Мерапи повернула было обратно, в этот момент Ки нас увидел, хотя и продолжал смотреть вверх.
— Привет тебе, о Луна Израиля! — сказал он и поклонился. — Привет тебе, о победительница Ки!
Она поклонилась в ответ и замерла, как птичка, увидевшая змею. Наступило долгое молчание, которое он прервал, спросив ее:
— Зачем требовать от Аны того, что Ки сам жаждет дать! Ана — ученый, но разве его сердце — сердце Ки? А главное, зачем говорить ему, что Ки, смиреннейший из твоих слуг, — твой враг?
Теперь Мерапи выпрямилась, посмотрела ему в глаза и ответила:
— Разве я сказала Ане то, чего он не знал? Разве Ана не слышал, что ты сказал мне напоследок в храме Амона в Танисе?
— Несомненно слышал, госпожа, и потому я рад, что он здесь и теперь услышит мои объяснения. Госпожа Мерапи, в тот момент во мне, служителе Амона, говорил не мой собственный дух, но разгневанный дух бога, которого ты унизила так, как его не унижал еще ни один человек в Египте. Этот бог через меня потребовал, чтобы ты раскрыла секрет твоей магии, угрожая своей ненавистью, если ты откажешь. Госпожа, тебе грозит его ненависть, но не моя, поскольку я тоже заслужил его ненависть, ибо меня, а через меня и его, победили твои пророки. Госпожа, мы с тобой спутники в скитаниях по долине бедствий.
Она не сводила с него глаз, и я видел, что она не верит ни одному его слову. Не отвечая ему, она только спросила:
— Зачем ты явился сюда вредить мне, ведь я не желаю тебе зла?
— Ты ошибаешься, госпожа, — возразил он. — Я ищу здесь убежища, защиты от Амона и его слуги-фараона, которого Амон толкает на путь гибели. Я хорошо знаю, что если ты захочешь, то стоит тебе шепнуть одно слово на ухо принцу и он выставит меня отсюда. Но тогда… — И он взглянул через ее голову туда, где нянька покачивала на руках спящего ребенка.
— Что тогда, маг?
Не отвечая, он повернулся ко мне.
— Высокоученый Ана, помнишь, ты встретил меня однажды вечером в Танисе?
Я покачал головой, хотя отлично знал, какой вечер он имеет в виду.
— У тебя слабеет память, Ана, а может быть, ты просто не совсем точно помнишь, ведь мы часто встречались, не так ли?
Сказав это, он уставился на свою палку, я тоже, потому что не мог противиться, и увидел (или мне почудилось), как мертвое дерево вдруг начало вспухать и выгибаться. Этого было достаточно, и я поспешил ответить.
— Если ты имеешь в виду день коронации, то я действительно припоминаю…
— А! Я так и думал. Ты, Ана, наблюдателен, как все писцы, и, конечно, замечал, как часто сущие мелочи — запах цветов, пролетевшая птица или даже змея, извивающаяся в пыли, — воскрешают в памяти слова или события, которые уже давно забылись.
— Ну, так что о нашей встрече? — перебил я поспешно.
— Решительно ничего — или разве что вот: как раз перед этим ты разговаривал с Джейбизом, дядей госпожи Мерапи, да?
— Да, разговаривал с ним на открытом месте, один на один.
— Не совсем так, ученый писец, ибо ты знаешь, что мы никогда не бываем одни — полностью. Если б позволяло наше зрение, ты бы увидел, что каждая песчинка имеет ухо.
— Будь любезен объяснить, Ки, что ты имеешь в виду? — спросил я с гневом и в следующий же миг пожалел, что не откусил себе язык, с которого слетели эти слова.
— Многое, многое. Дай вспомнить. Вы разговаривали о госпоже Мерапи и о том, как ей лучше поступить — остаться ли под защитой принца в Мемфисе или вернуться в страну Гошен под защиту — я забыл его имя. Джейбиз, человек знающий, сказал, что по его мнению в Мемфисе она была бы счастлива, хотя, возможно, ее присутствие принесло бы много горя ей и… другому.
Тут он снова взглянул на ребенка, который будто почувствовал его взгляд, ибо проснулся и стал бить ручонками воздух.
Нянька тоже почувствовала этот взгляд, хотя и смотрела в другую сторону: она вздрогнула, а потом отступила и спряталась за стволом одной из пальм. Мерапи сказала тихо и потрясенно:
— Я знаю, что ты имеешь в виду, маг, ибо с тех пор я уже виделась с моим дядей Джейбизом.
— Как и я, притом несколько раз, госпожа, и это может объяснить то, что Ана считает столь загадочным, а именно — как я узнал, о чем они говорили «один на один», по его мнению. Но, как я уже сказал, никто никогда не бывает один, по крайней мере в Египте, стране подслушивающих богов…
— И подсматривающих чародеев! — воскликнул я.
— …и подсматривающих чародеев, — повторил он, — и писцов, которые все записывают и выучивают наизусть свои записи, и жрецов с большими, как у ослов ушами, и листьев, которые шепчут, и многих других вещей.
— Брось свои насмешки и говори то, что хотел сказать, — произнесла Мерапи тем же тихим, прерывающимся голосом.
Он не ответил, но лишь посмотрел в сторону дерева, за которым скрылись нянька и ребенок.
— О! Знаю, знаю! — воскликнула она почти со стоном. — Мое дитя в опасности! Ты угрожаешь моему ребенку, потому что ненавидишь меня.
— Прошу прощения, госпожа. Действительно, этому царственному младенцу грозит опасность — во всяком случае, так я понял Джейбиза, который так много знает. Но это не я угрожаю ему, это так же неверно, как то, что я тебя ненавижу. Я признаю в тебе товарища по ремеслу, настолько превосходящего меня, что мой долг — повиноваться.
— Перестань! Зачем ты меня мучаешь?
— Разве могут жрецы богини Луны мучить Исиду, Мать Волшебства, своими просьбами и приношениями? И могу ли я, собираясь обратиться к тебе с просьбой и приношением…
— С какой просьбой и с каким приношением?
— С просьбой о том, чтобы ты позволила мне укрыться в этом доме от многих опасностей, которые грозят мне со стороны фараона и пророков твоего народа, и с приношением всей помощи, какую я только могу оказать посредством моего искусства и знаний, в противовес еще более мрачным опасностям, грозящим… другому.
Тут он еще раз взглянул на ствол пальмы, из-за которого донесся плач младенца.
— Если я соглашусь, что тогда? — спросила она хриплым голосом.
— Тогда, госпожа, я употреблю все силы, чтобы защитить некоего младенца от проклятия, которое, по словам Джейбиза, ему угрожает, а также некоторых других, в ком течет египетская кровь. Я постараюсь, если мне будет позволено остаться здесь, — я не говорю, что мне удастся, ибо, как мне напомнил твой господин и как ты сама доказала мне в храме Амона, моя сила уступает силам пророков и пророчиц Израиля.
— А если я откажусь?
— Тогда, госпожа, — ответил он голосом, который звенел, как железо, — я уверен, что тот, кого ты любишь, как любят матери, будет вскоре спать в объятиях бога, называемого нами Осирисом.
— Оставайся, — крикнула она и, повернувшись, бросилась бежать.
— Ну вот, она ушла, — сказал он, — а я даже не успел поторговаться насчет награды. Придется ее искать в вашей компании. Странные существа — женщины, Ана! Вот, например, эта — одна из величайших представительниц своего пола, как ты узнал в храме Амона: однако и она расцветает под солнцем надежды и сжимается в тени страха, как листья того нежного растения на берегу реки, если до них дотронуться; а между тем ее глазам доступны тайны, скрытые от нашего взгляда, ее слух ловит шепот ветров, которого не слышит никто из нас; и она могла бы попирать ногами земные надежды и страхи или сделать их ступенями, ведущими к славе и величию. Она бы так и поступила, будь она мужчиной, но ее пол губит ее — для нее поцелуй младенца больше, чем весь блеск и все сокровища мира. Да, младенца, одного жалкого, крошечного младенца. У тебя ведь тоже был такой когда-то, Ана?
— О! Иди ты к Сету со всей твоей мерзкой болтовней! — сказал я и пошел прочь.
Пройдя несколько шагов, я оглянулся и увидел, что он смеется, подбрасывая вверх и снова ловя свою палку.
— К Сету? — крикнул он мне вдогонку. — Интересно, как бы он принял меня, этот Сет! Ну что ж, может быть, когда-нибудь мы это узнаем, ты и я вместе, писец Ана.
Так Ки поселился с нами, в той же части дворца, где Бакенхонсу, и почти каждый день я встречал их в саду, поскольку я, постоянный гость за столом принца (за исключением тех случаев, когда он уходил на половину Мерапи), никогда не участвовал в их трапезах. Встречаясь, мы беседовали о многих предметах. Когда дело касалось науки и даже религии, я одерживал верх над Ки, который не был ни большим ученым, ни знатоком теологии. Но всегда, прежде чем расстаться, он всаживал какую-нибудь стрелу мне в ребра, а старый Бакенхонсу смеялся вновь и вновь, но неизменно прикрывал меня щитом своей мудрости — просто потому, я думаю, что искренне любил меня.
После вселения Ки на египетский скот напала чума, так что десятки тысяч животных погибли, но не все, как сообщалось. Как я уже говорил, стада Сети не пострадали, так же как, судя по слухам, не пострадал и скот в стране Гошен. Страх и уныние охватили весь Кемет, но Ки улыбался и уверял, будто он знал, что так будет и худшее еще впереди. Мне так и хотелось треснуть его по голове его собственной палкой, и, пожалуй, я бы не утерпел, если бы не боялся, что она опять превратится в моей руке в желтую змею.
Старый Бакенхонсу смотрел на все это иначе. Он сказал мне, что с тех пор, как умерла его последняя жена (лет пятьдесят назад), ему стало казаться, что жить очень скучно, ибо ему не хватало проявлений ее нрава и ее привычки представлять вещи такими, какими они никогда не были и никогда не могли стать. Однако теперь жизнь снова полна интереса, поскольку чудеса, которые происходят в стране Кемет, противоречат всяким законам Природы и тем самым напоминают ему его последнюю жену и ее рассуждения. Так он в своеобразной форме выразил мысль, что последние годы мы живем в новом мире, в котором, по мнению египтян, воцарился Сет, бог Зла.
Но фараон все так же упорно отказывался уступить просьбам израильских пророков, то ли потому, что дал клятву Мернептаху, когда тот посадил его на трон, то ли по причинам — или одной из причин — которые Ки изложил принцу.
Потом на страну обрушилось проклятие болячек и язв, не пощадившее ни мужчин, ни женщин, ни детей — за исключением тех, кто жил во владениях Сети. Так, сторож и его семья, которые жили в доме за воротами, пострадали, тогда как садовник и его семья, жившие всего лишь в двадцати шагах, но в пределах ограды, не пострадали, что стало причиной вражды между их женами. Таким же образом Ки, будучи гостем во дворце принца в Мемфисе, не пострадал от язв, тогда как его товарищи и ученики в Танисе были поражены ими даже сильнее, чем все другие, так что кое-кто из них даже умер. Когда Ки услышал об этом, он засмеялся и заявил, что он им это предсказывал. Болезнь не обошла даже самого фараона и ее высочество Таусерт: у последней язва появилась на щеке и обезобразила ее на некоторое время. Бакенхонсу слышал даже, уж не знаю от кого, будто ее ярость была столь велика, что она готова была вернуться к Сети, в чьих владениях, как она узнала, люди остались целы и невредимы, а красота ее преемницы, Луны Израиля, не только не потерпела урона, но даже возросла; эти сведения, думаю, сообщил ей сам Бакенхонсу. Но в конце концов гордость или ревность помешали ей осуществить это намерение.
Теперь сердце Египта начало всерьез поворачиваться к Сети. Принц, говорили люди, был против притеснения евреев и, не в силах изменить положения вещей, отказался от своего права на престол, а фараон Аменмес купил это право ценой принятия политики, плоды которой оказались столь разрушительными. Поэтому, рассуждали они, если бы Аменмес был низложен, а принц стал бы царствовать, бедствия народа прекратились бы. Они стали тайно посылать к нему людей, умоляя его восстать против Аменмеса и обещая свою поддержку. Но он не хотел их слушать, говоря, что счастлив в своем положении и не желает иного. Все же фараон проникся ревностью, ибо его шпионы доносили ему обо всем слово в слово, и начал плести интриги, чтобы погубить Сети.
О первой из них меня предупредила Таусерт, послав ко мне своего гонца, но вторую, гораздо худшую, раскрыл Ки и притом каким-то странным образом, так что убийца был захвачен в воротах и убит сторожем; после того Сети сказал, что, в конечном итоге, он поступил мудро, оказав Ки гостеприимство, если конечно желание остаться в живых можно назвать мудростью. Госпожа Мерапи сказала мне примерно то же самое, но я заметил, что она всегда избегала Ки, относясь к нему с недоверием и страхом.
class='book'>
XV. Ночь ужаса
Потом разразился град, а спустя несколько месяцев налетела саранча, и весь Кемет сходил с ума от отчаяния и ужаса. Нам стало известно, ибо с водворением Ки и Бакенхонсу в дом Сети мы всегда обо всем знали, что эта буря с градом была обещана израильскими пророками, если фараон откажется их выслушать. Поэтому Сети велел оповестить народ по всей стране, чтобы египтяне при первых же признаках бури укрыли свой скот. Но фараон услышал об этом и объявил свой приказ, запрещающий подобные действия, ибо они были бы оскорблением для богов Кемета. Все же многие последовали совету Сети и так спасли свой скот. Необычное зрелище представляла собой эта сплошная стена падающего льда, как бы воздвигшаяся от земли до небес и уничтожавшая все, на что она обрушивалась. Град сдирал кору даже с высоких финиковых пальм, взламывал и поднимал почву. Попадая под него, люди и животные погибали или покрывались рваными ранами. Я стоял в воротах и следил за происходящим. Там, на расстоянии какого-нибудь шага, падал белый град, превращая мир в руины, в то время как здесь, по нашу сторону ворот, не упала ни единая градина. Мерапи тоже смотрела, а вскоре к нам присоединился Ки, а за ним и Бакенхонсу, который за всю свою долгую жизнь никогда не видел ничего подобного. Но Ки больше наблюдал за Мерапи, чем за падающим градом, ибо я видел, что его безжалостные глаза стремятся проникнуть в самую глубину ее души.
— Госпожа, — сказал он наконец, — молю тебя, открой твоему слуге, как ты это делаешь? — И он указал сначала на деревья и цветы по нашу сторону ворот, потом на хаос разрушения снаружи.
Сперва я подумал, что она его не расслышала из-за рева бури, ибо она подошла и открыла боковую калитку, чтобы впустить беднягу-шакала, который скребся о забор. Однако я ошибся, ибо затем она обернулась и сказала:
— Неужели, керхеб, самый искусный маг Египта, просит неученую женщину научить его чудесам? Нет, Ки, я не могу, потому что этому не училась и не делаю этого, и не знаю, как это делается.
Бакенхонсу засмеялся, а неподвижная улыбка Ки стала как будто еще ярче, чем обычно.
— В стране Гошен говорят иное, госпожа, — ответил он, — и еврейские женщины в Мемфисе тоже. Как и жрецы Амона. Эти жрецы утверждают, что твое искусство превосходит искусство всех магов на берегах Сихора. И вот доказательство. — И он опять показал на то, что было у нас, и на то, что происходило снаружи, добавив: — Госпожа, если ты можешь защитить свой собственный дом, почему же ты не можешь защитить невинных людей Египта?
— Потому что не могу, — ответила она с гневом. — Если бы я когда-нибудь и имела такую способность, она теперь покинула бы меня, — я теперь мать ребенка от египтянина. Но я не обладаю такой способностью. Там, в храме Амона, через меня действовала какая-то сила, вот и все. Сила, которая никогда больше не изберет меня своим орудием из-за моего греха.
— Какого греха, госпожа?
— Из-за того, что я приняла принца Сети как своего мужа и господина. Теперь, если бы даже какой-нибудь боги действовал через меня, это был бы один из богов египтян, ибо бог Израиля отверг меня— .
Ки вздрогнул, словно его осенила какая-то новая мысль; она же повернулась и ушла.
— Вот бы она стала верховной жрицей Исиды, чтобы действовать на пользу нам, а не против нас! — сказал он.
Бакенхонсу покачал головой.
— Не надейся, — ответил он. — Будь уверен, ни одна израильтянка не станет служить тому, что она считает египетской мерзостью.
— Если она не пожертвует собой, чтобы спасти народ, пусть остережется, как бы народ не пожертвовал ею, чтобы спасти себя, — холодно сказал Ки.
Затем он тоже удалился.
— Если такой час когда-нибудь настанет, думаю, что Ки получит свою долю, — засмеялся Бакенхонсу. — Какая польза от пастуха, который укрывается здесь в уюте и довольстве, в то время как овцы гибнут, а, Ана?
После того как налетела саранча и пожрала все, что оставалось съедобного на полях Египта, так что бедняки, которые никому не причиняли зла и не имели никакого отношения к делам между фараоном и израильтянами, страдали и умирали от голода тысячами, — наступила великая тьма; и вот тогда появился Лейбэн. Тьма опустилась на страну подобно плотной туче и лежала целых три дня и три ночи. Тем не менее, хотя тени стали гуще, над домом Сети в Мемфисе настоящей тьмы не было: дом стоял как бы под колоколом сумеречного света, простиравшегося от земли до небес.
Теперь ужас усилился в десять раз против прежнего, и мне казалось, что все сотни тысяч жителей Мемфиса столпились под нашими стенами, лишь бы хоть смотреть на этот свет, каков бы он ни был, если им не оставалось ничего другого. Сети впустил бы всех, кому хватило места, но Ки запретил это, сказав, что если он откроет ворота, за ними вольется вся эта тьма. Только Мерапи впустила нескольких израильтянок, которые были замужем за египтянами и жили в Мемфисе, — хотя они и проклинали ее как ведьму. Ибо теперь большинство жителей Мемфиса были уверены, что именно Мерапи, сама живя в безопасности, навлекла на них все эти бедствия, так как поклонялась чужому богу.
— Если бы она, возлюбленная наследника Египта, принесла бы жертву египетским богам, эти ужасы нас миновали бы, — говорили они, заучив, как я думаю, эту фразу из уст Ки. А может быть, их научили посланцы Таусерт.
И снова мы стояли у ворот, наблюдая за тем, как движутся и мелькают в темноте люди, ибо это зрелище действовало на Мерапи так же, как змея действует на птичку. Вот тогда и явился Лейбэн. Я сразу узнал его горбатый нос и ястребиные глаза, и она тоже его узнала.
— Уходи со мной, Луна Израиля, — закричал он, — и все тебе простится. А не уйдешь, тебя постигнет ужасная кара!
Она стояла, не сводя с него глаз и не отвечая ни слова, и в этот момент к нам подошел принц Сети и увидел его.
— Схватить этого человека! — приказал он, вспыхнув от гнева, и стражники бросились в темноту выполнять его приказ. Но Лейбэн исчез.
На второй день этой тьмы волнение было велико, на третий оно стало ужасающим. Толпа отбросила стражника, сорвала ворота и ворвалась во дворец, смиренно требуя, чтобы госпожа Мерапи вышла помолиться за них, но показывая всем своим видом, что если она откажется, они выведут ее силой.
— Что делать? — спросил Сети у Ки и Бакенхонсу.
— Об этом судить принцу, — сказал Ки, — хотя я лично не вижу, как это может повредить госпоже Мерапи, если она помолится за нас на площади Мемфиса.
— Пусть пойдет, — сказал Бакенхонсу, — пока дело не зашло дальше, чем мы хотели бы.
— Я не хочу! — воскликнула Мерапи. — Я не знаю, за кого молиться и как.
— Будет так, как хочешь ты, госпожа, — сказал Сети своим мягким серьезным тоном. — Только послушай, как ревет толпа. Если ты откажешься, я думаю, мы все скоро пойдем туда, где, может быть, уже совсем не надо будет молиться. — И он посмотрел на младенца, которого она держала на руках.
— Я пойду, — сказала она.
Она двинулась, неся ребенка, и я последовал за ней. Принц тоже, но в темноте его отрезала от нас бегущая тысячная толпа, и я вновь 148
увидел его уже после того, как все было кончено. Бакенхонсу шел со мной, опираясь на мою руку, но Ки ушел вперед, думаю — для своих собственных целей. Огромная масса людей клубилась вокруг нас во тьме, в которой тут и там отдельные огоньки плыли, как фонари над спокойным морем. Я не знал, куда мы идем, пока свет одного из этих фонарей не осветил колени гигантской статуи Рамсеса Великого и часть орнамента. Тогда я понял, что мы у ворот самого большого храма в Мемфисе, возможно, самого большого в мире.
Следуя за жрецами, которые вели нас за руку, мы прошли колоннадами одного дворика за другим и приблизились к алтарю в самом большом дворе, который был до отказа заполнен мужчинами и женщинами. Это было святилище Исиды, которая держала у груди младенца Гора.
— О, друг Ана, — воскликнула Мерапи, — помоги! Меня одевают в странные одежды.
Я попытался пробиться к ней, но был отброшен назад и чей-то голос — мне показалось, голос Ки — произнес:
— Под страхом смерти, глупец!
Подняли фонарь, и при его свете я увидел Мерапи, которая сидела в кресле, одетая как богиня, в жреческом облачении Исиды и в головном уборе с изображением грифа, поразительно прекрасная. В ее объятиях лежал ее сын, одетый как маленький Гор.
— Молись за нас, Матерь Исида! — вскричали тысячи голосов. — Молись, чтобы проклятие тьмы было снято!
Тогда она начала молиться, говоря:
— О мой бог, сними проклятие тьмы с этих невинных людей, — и все присутствующие повторяли за ней ее молитву.
И вдруг небо стало светлеть, и не прошло и полчаса, как засияло солнце. Когда Мерапи увидела, как одеты она и ее дитя, она громко вскрикнула и сорвала с себя драгоценные украшения, восклицая:
— Горе! Горе! Горе! Горе народу Кемета! — Но от радости при виде вновь засиявшего солнца мало кто слышал ее, уверенные, что именно она вернула свет дня. И снова на мгновение появился Лейбэн.
— Ведьма! Изменница! — закричал он. — Ты была в одежде Исиды и молилась в храме египетских богов! Да падет на тебя проклятие бога Израиля, на тебя и тобой рожденных.
Я бросился на него, но он извернулся и исчез. Потом мы отнесли лишившуюся чувств Мерапи домой.
Итак, бедствие прекратилось, но с того дня Мерапи не позволяла уносить от нее сына и не спускала с него глаз.
— Почему ты так носишься с ним, госпожа? — спросил я однажды.
— Потому что я хочу любить его, пока он еще здесь, друг, — ответила она, — но не говори об этом его отцу.
Прошло некоторое время, и мы услышали, что фараон все еще не дает израильтянам уйти. Тогда принц Сети отправил Бакенхонсу и меня в Танис к фараону с таким посланием: «Я ничего не добиваюсь для себя и забыл то зло, которое ты пытался причинить мне из ревности. Но говорю тебе: если ты не отпустишь этих чужестранцев, великие и ужасные бедствия постигнут тебя и весь Египет. Поэтому внемли моей мольбе и дай им уйти».
И вот Бакенхонсу и я предстали перед фараоном и увидели, что он сильно постарел, ибо волосы его побелели у висков и кожа под глазами тяжело обвисла. К тому же он ни одной минуты не мог держаться спокойно.
— Или ваш господин и вы сами — слуги этого израильского пророка, которому египтяне поклоняются как богу за то, что он причинил им так много зла? — спросил он. — Должно быть, не иначе, ибо я слышу, что мой кузен Сети держит у себя в доме израильскую ведьму, которая отгоняет от него все беды, поражающие остальных людей Кемета, и что керхеб Ки, мой маг, тоже сбежал к нему. Более того, я слышу, что в награду за эти колдовские штучки ему обещан трон Египта при поддержке многих легкомысленных и трусливых из моих подданных. Пусть он поостережется, а то как бы я не поднял его выше, чем он надеется, — уж слишком много предателей развелось у меня в стране; и вас тоже, с ним заодно.
Я промолчал, понимая, что этот человек просто с ума сошел, но Бакенхонсу засмеялся громко и сказал:
— О фараон, я знаю мало, но одно знаю наверняка: хоть я и стар, но даже тогда, когда люди перестанут произносить твое имя, я все еще буду беседовать с тем, кто будет носить двойную корону Египта. Скажи, ты дашь израильтянам уйти или предпочтешь обречь Кемет на гибель?
Фараон злобно посмотрел на него и ответил:
— Я не дам им уйти.
— Почему же, фараон? Объясни, ибо мне любопытно.
— Потому что не могу, — ответил он со стоном. — Потому что нечто более сильное, чем я, вынуждает меня отказывать в их просьбе. Ступайте же прочь!
Мы ушли, и это был последний раз, когда я видел Аменмеса в Танисе.
Когда мы выходили из зала, я заметил входящего туда израильского пророка. Впоследствии до нас дошел слух, что он грозил погубить всех людей в Египте, но что фараон по-прежнему не желал освободить израильтян. Говорили даже, будто он сказал пророку, что если тот явится в Танис еще раз, его предадут смертной казни.
Со всеми этими вестями мы вернулись в Мемфис и доложили обо всем Сети. Когда Мерапи услышала обо всем, она почти обезумела, плакала и ломала руки. Я спросил ее, чего она боится. Она ответила — смерти, которая грозит всем нам. Я сказал:
— Если так, то есть вещи похуже смерти, госпожа.
— Может быть, для вас — верных и добродетельных на свой лад, но только не для меня. Неужели ты не понимаешь, друг Ана, что я нарушила закон бога, которому меня учили поклоняться?
— А кто из нас не нарушал закона бога, которому нас учили поклоняться, госпожа? Если ты и действительно совершила нечто подобное, бежав от кровожадного злодея к тому, кто тебя искренне любит (я не верю, что это грех), то, несомненно, такой грех заслуживает прощения.
— Да, возможно, но — увы! — я поступила намного хуже. Или ты забыл, что я сделала? В одеянии Исиды я молилась в храме Исиды, держа моего мальчика, который играл роль Гора. Такое преступление не простится ни одной еврейской женщине, Ана, ибо мой бог — ревнивый бог. Правда, меня обманом вовлек в это Ки.
— А если бы не он, госпожа, я думаю, никого бы из нас не осталось: ты же видела, как люди обезумели от ужаса перед этой тьмой и верили, что ты одна можешь ее рассеять — так оно и вышло, — добавил я с сомнением.
— Еще один трюк Ки! О, как ты не понимаешь, что это тоже была его работа, потому что он хотел, чтобы люди окончательно поверили, что я колдунья.
— Зачем? — спросил я.
— Не знаю. Может быть, для того, чтобы иметь наготове жертву, которую можно подсунуть на алтарь вместо себя в нужный момент. Во всяком случае, я знаю, что платить буду я, я и моя плоть и кровь, что бы ни говорил нам Ки. — И она взглянула на спящего ребенка.
— Не бойся, госпожа, — сказал я. — Ки уехал, и ты его больше не увидишь.
— Да, потому что принц очень рассердился на него за его трюк в храме Исиды. Поэтому он и уехал или сделал вид, что уехал, ибо кто знает, где может находиться такой человек? Но он вернется. Подумай, Ки был самым главным магом Египта; даже старый Бакенхонсу не помнит никого, кто мог бы с ним сравниться. И вот он пробует состязаться с пророками моего народа и терпит крах.
— Но потерпел ли он крах, госпожа? То, что сделали они, сделал и он, наслав на израильтян те же бедствия, что они обрушили на нас.
— Да, но не все. Его опередили, или он боялся, что в конце концов его опередят. Может ли такой человек, как Ки, забыть об этом? А если Ки действительно поверит, что я его соперница и превосхожу его в его черных делах, как думают тысячи людей после того, что произошло в храме Амона, не отплатит ли он мне полной мерой рано или поздно? О, я боюсь Ки, Ана, и египтян, и если бы не мой любимый супруг, я бы бежала с моим сыном в пустыню из этой злополучной страны. Тише! Он просыпается.
С этого времени — и пока не упал меч — великий ужас охватил Кемет. Никто не мог точно сказать, чего они боятся, но все считали, что это имеет какое-то отношение к смерти. Люди ходили мрачные, оглядываясь через плечо, как будто кто-то их преследовал, а по вечерам собирались кучками и о чем-то подавленно шептались. Только израильтяне выглядели радостными и счастливыми. Больше того, они готовились к чему-то новому и необыкновенному. Так, израильтянки, жившие в Мемфисе, начали продавать ту собственность, какую имели, и занимать у египтян. Особенно они старались получить займы в виде бриллиантов и других драгоценностей, говоря, что у них будет большой праздник и им хочется выглядеть богатыми и красивыми в глазах их соотечественников. Никто не отказывал им в их просьбах, потому что все их боялись. Они явились даже во дворец и попросили Мерапи отдать им свои украшения, хотя Мерапи была их соотечественницей и всегда относилась к ним с искренней добротой. Увидев, что волосы на голове ее сына перехвачены золотым венчиком, одна из женщин стала просить Мерапи отдать ей этот венец, и та не отказала ей. Но как раз в этот момент в комнату случайно вошел принц и, увидев в руках женщины этот знак царского рода, очень рассердился и заставил ее вернуть его.
— Какая польза от короны, если для нее нет головы? — насмешливо сказал она и со смехом убежала, унося с собой остальную добычу.
После того как Мерапи услышала такие слова, она стала еще печальнее, и все чаще ею овладевало смятение; и эти настроения повлияли на Сети. Им тоже овладели печаль и беспокойство, хотя на мои вопросы — почему? — он клялся, что не знает причины, но думает, что это предчувствие каких-то новых бедствий.
— Однако, — добавил он, — если я смог пережить девять тяжких бед, не знаю, почему я должен бояться десятой.
И все же он страшился ее и даже советовался с Бакенхонсу о том, нет ли какого-нибудь способа отвратить или смягчить гнев богов.
Бакенхонсу засмеялся и сказал, что, по его мнению, такого способа нет, ибо если боги не гневаются по одному поводу, они сердятся по другому. Сотворив мир, они только и делают, что ссорятся с ним или с другими богами, которые тоже приложили руку к его созданию, а жертвами этих ссор становятся люди.
— Неси свои несчастья, принц, — добавил он, — если они тебя постигнут, ибо еще до того, как Нил разольется в пятидесятый раз, тебе уже будет все равно, были эти несчастья или не были.
— Значит, ты считаешь, что, уходя на запад, мы действительно г умираем и что Осирис — лишь другое имя для захода солнца, Бакенхонсу?
Старый советник покачал своей большой головой и ответил:
— Нет. Если тебе когда-то суждено потерять того, кого ты очень любишь, утешься, принц, ибо, я думаю, смерть — не конец жизни. Смерть — это нянька, которая укладывает жизнь спать, не более, а утром она проснется снова, чтобы идти сквозь другой день вместе с теми, кто были ее спутниками с самого начала.
— Куда же все эти дни приведут ее в конце концов, Бакенхонсу?
— Спроси у Ки, я не знаю.
— К Сету Ки, я сердит на него, — сказал принц и вышел из комнаты.
— И не без причины, я думаю, — задумчиво произнес Бакенхонсу, но когда я спросил его, что он имеет в виду, он не захотел или не смог мне объяснить.
Итак, мрак сгущался, и дворец, где прежде было на свой лад весело, погрузился в печаль.
Никто не знал, что будет, но все знали, что-то надвигается, и простирали руки, пытаясь защитить то, что они больше всего любили, от сокрушительного гнева воинствующих богов. Для Сети и Мерапи это был их сын, красивый мальчуган, который уже умел бегать и болтать и был слишком здоровым и энергичным для потомка Рамсеса, династия которого образовалась из людей, состоявших в кровном родстве. Ни на минуту этого мальчика не выпускали из поля зрения его родители, так что теперь я редко видел Сети одного, и наши ученые занятия фактически прекратились: он постоянно был озабочен и поочередно с Мерапи выполнял роль няньки, оберегая своего сына.
Когда об этом узнала Таусерт, она сказала в присутствии одного из моих друзей:
— Не сомневаюсь, что он готовит своего ублюдка к тому, чтобы тот мог занять трон Египта.
Но, увы! Единственным местом, которое маленькому Сети суждено было занять, оказался гроб.
Был тихий жаркий вечер, такой жаркий, что Мерапи велела няньке вынести кроватку ребенка в портик и поставить ее между колоннами. Там он и спал, прелестный, как божественный Гор. Она сидела у кроватки в кресле, ножки которого имели форму ног антилопы. Сети ходил взад и вперед по террасе перед портиком, опираясь на мое плечо и разговаривая о том о сем. По временам проходя мимо, он приостанавливался, чтобы при свете луны убедиться, что с Мерапи и ребенком все благополучно: последнее время это у него стало привычкой. Тогда, не говоря ни слова из боязни разбудить сына, он улыбался Мерапи, которая сидела, задумавшись, подперев голову рукой.
Глубокая тишина царила вокруг. Листья пальм не шелестели, шакалы притаились, и даже звонкоголосые насекомые замолчали в темноте. Большой город, раскинувшийся внизу, притих и замер словно город мертвых. Казалось, будто предчувствие надвигающегося конца сковало всех страхом и ввергло мир в безмолвие. Ибо, несомненно, что-то роковое витало в воздухе. Это ощущали все, вплоть до няни, которая подобралась как можно ближе к креслу своей госпожи и даже в эту жаркую ночь не могла временами унять дрожь.
Но вот маленький Сети проснулся и залепетал что-то о том, что ему приснилось.
— Что же тебе снилось, сын? — спросил его отец.
— Мне снилось, — ответил он чистым детским голоском, — что какая-то женщина, одетая, как была одета мама тогда в храме, взяла меня за руку и мы стали подниматься все выше и выше. Я посмотрел вниз и увидел тебя и маму: у вас лица были белые и вы плакали. Я тоже заплакал, а женщина с перьями на голове говорит «не плачь», потому что она ведет меня на красивую большую звезду, и мама скоро придет туда и меня найдет.
Принц и я переглянулись, а Мерапи с преувеличенной хлопотливостью стала уговаривать его снова заснуть. Приближалась полночь, но, казалось, никто не помышляет об отдыхе. Пришел старый Бакенхонсу и начал было говорить что-то насчет того, какая странная и неспокойная эта ночь, как вдруг маленькая летучая мышь, мелькавшая то тут то там над нашими головами, упала ему на голову, а оттуда на землю. Мы посмотрели на нее и увидели, что она мертва.
— Странно, что она так вдруг погибла, — сказал Бакенхонсу, и в этот же миг на землю упала еще одна. Черный котенок маленького Сети, спавший за его кроваткой, выскочил и бросился на нее. Но прежде чем он успел ее схватить, летучая мышь резко повернулась, встала на лапки, царапая воздух, потом издала жалобный писк и упала мертвой.
Мы уставились на нее. Вдруг вдали пронзительно завыла собака. Потом заревела корова, как ревут эти животные, потеряв детенышей. Затем, совсем близко, но за воротами, раздался вопль женщины, как будто в агонии, от которого кровь застыла в жилах и который разбудил многократное эхо, так что казалось, что весь воздух наполнился стонами и плачем.
— О Сети! Сети! — воскликнула Мерапи странным свистящим голосом. — Посмотри на твоего сына!
Мы бросились к ребенку. Он не спал, но смотрел куда-то вверх широко раскрытыми глазами и с застывшим лицом. Страх, если он его и испытывал, как будто исчез, хотя взгляд был все так же неподвижен. Он привстал, продолжая смотреть вверх. Потом его лицо озарилось улыбкой, сияющей улыбкой; он протянул руки, словно желая обнять кого-то, кто склонился над ним и, откинувшись, упал навзничь — мертвый.
Сети замер, неподвижный, как статуя; мы все молчали и не двинулись, даже Мерапи. Потом она наклонилась и подняла тело мальчика.
— Ну вот, господин мой, — сказала она, — вот и обрушилось на тебя то горе, о котором предупреждал тебя Джейбиз, мой дядя, если ты свяжешь свою судьбу с моей. Теперь проклятие Израиля пронзило мое сердце, а наше дитя, как предсказывал злой маг Ки, теперь так высоко, что не услышит ни приветствий, ни слов прощания.
Все это она произнесла холодным и спокойным голосом, как может говорить человек, который давно предвидел то, что сейчас произошло; потом низко поклонилась принцу и ушла, унося тело ребенка. Никогда, кажется, Мерапи не была так прекрасна, как в этот час роковой утраты, ибо теперь сквозь ее женскую прелесть сиял отсвет ее души. В самом деле, такие глаза и такие движения могли принадлежать духу, а не женщине, которая удалилась, унося с собой то, что еще недавно было ее сыном.
Сети оперся на мое плечо, глядя на опустевшую кроватку и на испуганную няню, которая все еще сидела возле нее, и я почувствовал, что на мою руку упала слеза. Старый Бакенхонсу поднял голову и посмотрел на него.
— Не горюй так, принц, — сказал он, — прежде чем пройдет столько лет, сколько я прожил, об этом ребенке уже никто не вспомнит и его мать тоже забудут, и даже ты, о принц, останешься жить лишь как имя, которое некогда было в Египте великим. А потом, о принц, где-то в другом краю игра начнется сызнова, и то, что ты потерял, будет найдено вновь, еще прекраснее вдали от нечистого дыхания людей. Магия Ки — не все ложь, а если даже и так, то в ней есть какая-то тень истины; и когда он сказал тебе тогда в Танисе, что недаром тебя назвали Вновь Возрождающимся, в этом была какая-то правда, хотя нам и трудно постичь ее скрытый смысл.
— Благодарю тебя, советник, — сказал Сети и, повернувшись, ушел следом за Мерапи.
— Ну, эта смерть — только начало, — воскликнул я, едва понимая в своем горе, что я говорю.
— Не думаю, Ана, — ответил Бакенхонсу, — поскольку нас прикрывает щит Джейбиза или его бога. Он ведь предсказывал, что несчастье постигнет Мерапи, а Сети — через Мерапи, но это и все.
Я взглянул на котенка.
— Он забрел сюда из города три дня назад, Ана. И летучие мыши наверно тоже прилетели из города. Слышишь эти вопли? Когда мы еще слышали такое в Кемете?
XVI. Джейбиз продает лошадей
Бакенхонсу был прав. Кроме сына Сети никто не умер в доме и владениях принца. Однако в других местах в Египте все младенцы-первенцы лежали мертвые и все первенцы зверей — тоже. Когда это стало известно, по всей стране египтян охватила ярость против Мерапи: припомнили, что она призывала горе на головы египтян после того, как ее заставили молиться в храме и рассеять (как все верили) окутавшую Мемфис тьму.
Бакенхонсу и я, и другие, кто любил ее, указывали на то, что ее собственный ребенок умер наряду с остальными. Нам отвечали (и в этом я увидел руку Таусерт и Ки), что это ровно ничего не значит, поскольку ведьмы не любят детей. Больше того, они говорили, что она может иметь столько детей, сколько захочет и в любое время, делая их похожими на глиняные статуэтки детей и превращая их позже в злых духов, терзающих страну. Наконец, утверждали, будто слышали, как она говорила, что она еще отомстит египтянам, обращающимся с ней, как с рабыней, и убившим ее отца. Передавали также, будто некая израильтянка (или кто-то из них, среди них, возможно, и Лейбэн) призналась, что виновницей всех бедствий, поразивших Ке-мет, была именно та колдунья, которая очаровала принца Сети.
В результате египтяне возненавидели Мерапи, из всех женщин самую прелестную и нежную и самую достойную любви, и ко всем ее предполагаемым преступлениям добавилось еще и то, что она своим колдовством похитила сердце Сети у его законной жены и даже заставила его прогнать от своих ворот эту принцессу, наследницу Египта, так что та была вынуждена жить одна в Танисе. Ибо никто не порицал самого Сети, которого в Египте все любили, зная, что он поступил бы с израильтянами совершенно иначе и тем самым предотвратил бы все бедствия и страдания, поразившие их древнюю землю. Что касается еврейской девушки с большими глазами, которая опутала его своими чарами, то это было его несчастьем, не более. Они не видели ничего странного в том, что среди многих женщин, которыми, как они воображали, Сети по обычаю принцев заселил свой дом ^фавориткой оказалась именно колдунья. Я даже уверен, что только общая осведомленность о любви к ней Сети спасла Мерапи от смерти, по крайней мере в то время, иначе ее бы отравили или покончили с ней каким-либо другим тайным способом.
И вот до нас дошла радостная весть о том, что гордость фараона наконец была сломлена (ибо его первенец умер, как и другие) или, может быть, туча, затмившая его мозг, рассеялась; как бы то ни было, он объявил, что дети Израиля могут уйти из Египта куда и когда им угодно. Тогда народ вздохнул с облегчением, воодушевленный надеждой, что их страданиям, кажется, приходит конец.
Именно в это время в Мемфис явился Джейбиз, гоня перед собой упряжку лошадей, которых он, по его словам, решил продать принцу, не желая, чтобы они попали в другие руки. Судя по цене, которую он запросил, это, должно быть, были превосходные животные.
— Почему ты хочешь продать своих лошадей? — спросил Сети.
— Потому что вместе с моим народом я ухожу в земли, где слишком мало воды, и они могут погибнуть, о принц.
— Я куплю их. Займись этим, Ана, — сказал Сети, хотя я хорошо знал, что у него лошадей более чем достаточно.
Принц встал, показывая, что беседа закончена, но Джейбиз, который истово кланялся, выражая свою благодарность, поспешно сказал:
— Я рад слышать, о принц, что все было, как я предсказывал вернее — как мне было велено предсказывать, и что несчастья, поразившие Египет, миновали твой царственный дом.
— Значит, ты рад слышать неправду, поскольку худшее из несчастий случилось именно в этом доме. Мой сын умер. — И он отвернулся
Джейбиз поднял глаза от земли и взглянул на принца.
— Знаю, — сказал он, — и скорблю, потому что эта утрата поразила тебя в самое сердце. Однако ни я, ни мой народ в этом не виноваты. Если ты подумаешь, то вспомнишь, что и тогда, когда я воздвиг вокруг этого дома защитную стену в благодарность за твое доброе отношение к Израилю, о принц, и еще раньше я предсказывал и велел другим предупредить тебя о том, что, если ты и Мерапи, Луна Израиля, сойдетесь вместе, тебя могут постичь большие невзгоды через нее, ибо, став женой египтянина вопреки нашему закону, она должна разделять участь египетских женщин.
— Возможно, — сказал принц. — Я не хочу говорить на эту тему. Если эта смерть была делом ваших чародеев, могу сказать лишь одно — плохо заплатили они мне за все, что я стремился сделать для израильтян. Впрочем, чего еще я мог ожидать от такого народа в таком мире? Прощай.
— Одна просьба, о принц. Разреши мне поговорить с моей племянницей Мерапи.
— Она не принимает. С тех пор как с помощью колдовства убили ее ребенка, она никого не хочет видеть.
— Все же я думаю, она не откажется повидаться со своим дядей, о принц.
— Что же ты хочешь ей сказать?
— О принц, милостью фараона мы, бедные рабы, собираемся навсегда покинуть Египет. Поэтому, если моя племянница останется здесь, я, естественно, хотел бы проститься с ней и сообщить ей кое-какие подробности, касающиеся нашего рода и нашей семьи, которые она, может быть, пожелала бы передать своим детям.
Услышав слово «дети», Сети смягчился.
— Я тебе не доверяю, — сказал он. — Может быть, у тебя наготове еще какие-нибудь проклятия против Мерапи, или ты скажешь ей что-нибудь такое, от чего она почувствует себя еще более несчастной, чем теперь. Но если бы ты захотел поговорить с ней в моем присутствии…
— Достойный принц, я не решаюсь настолько утруждать тебя. Прощай. Не откажись передать ей…
— Или, если это тебя смущает, — перебил его Сети, — в присутствии Аны, если только она сама не откажется принять тебя.
Джейбиз минутку подумал и ответил:
— Пусть будет так — в присутствии Аны. Это человек, который знает, когда надо молчать.
Джейбиз поклонился и ушел, и по знаку принца я последовал за ним. Вскоре нас впустили в комнату госпожи Мерапи, где она сидела в глубокой печали и одиночестве, закрыв голову черной накидкой.
— Привет тебе, дядя, — сказала она, взглянув на меня и, думаю, поняв причину моего присутствия. — Ты хочешь сообщить мне еще о каких-нибудь пророчествах? Пожалуйста, не надо, твои последние оправдались с лихвой. — И она дотронулась пальцем до черной накидки.
— У меня новости и просьба, племянница. Новости — то, что народ Израиля покидает Египет. Просьба — она же и приказ — о том, чтобы ты приготовилась сопровождать нас.
— Лейбэна? — спросила она, подняв на него глаза.
— Нет, племянница. Лейбэн не желает иметь женой ту, что стала любовницей египтянина. Но ты должна сыграть свою роль, хотя бы и самую скромную, в судьбе нашего народа.
— Я рада, что Лейбэн не хочет того, что никогда не мог получить. Скажи, прошу тебя, почему же я должна выполнить эту просьбу — или этот приказ?
— По весьма важной причине, племянница, — потому что от этого зависит твоя жизнь. До сих пор тебе было позволено следовать желанию твоего сердца. Но теперь, если ты останешься в Египте, где ты уже выполнила свою миссию — направлять мысли твоего возлюбленного, принца Сети, в сторону, благоприятную для дела Израиля, — ты умрешь!
— Ты хочешь сказать, что наши люди меня убьют?
— Нет, не наши. Но ты все равно умрешь. Она подошла к нему и посмотрела ему в глаза.
— Дядя, ты уверен в том, что я умру?
— Уверен… или, по крайней мере, другие уверены.
Она засмеялась; впервые за несколько новолуний я увидел, что: она смеется.
— Тогда я остаюсь, — сказала она. Джейбиз удивленно смотрел на нее.
— Я так и думал, что ты любишь этого египтянина, который и в самом деле достоин любви любой женщины, — пробормотал он в бороду.
— Может быть именно потому, что люблю его, я и хочу умереть. Я отдала ему все, что имела: от моего сокровища только и осталось то, что может навлечь беду или несчастье на его голову. Поэтому чем больше любовь — а она больше всех пирамид, если бы их сложить в одну, — тем больше потребности в том, чтобы похоронить ее на время. Понимаешь?
Он покачал головой.
— Я понимаю только одно — ты очень странная женщина, совершенно не такая, как все, кого я знал.
— Мой ребенок, убитый со всеми другими, был для меня всем на свете, и я хотела бы быть там, где он. Ну теперь понимаешь?
— И ты бы рассталась с жизнью, ты, еще совсем молодая, способная иметь еще много детей, ради того, чтобы лежать в гробнице вместе с твоим умершим сыном? — спросил он медленно, как человек крайне удивленный.
— Я хочу жить, только пока моя жизнь нужна тому, кого я люблю, а когда придет день и он вступит на престол, как сможет служить ему дочь ненавистных здесь израильтян? И детей мне больше не нужно. Мой сын, живой или мертвый, владеет моим сердцем, и в нем нет места для других. Эта любовь, по крайней мере, чиста и совершенна и, забальзамированная смертью, навсегда останется неизменной. Кроме того, я буду с ним не в гробнице — в это я верю. Религия египтян, которую мы так презираем, говорит о вечной жизни на небесах; туда я и пошла бы искать то, что потеряла, и ждать того, кто временно остался позади.
— Ах! — сказал Джейбиз. — Что до меня, то я не утруждаю себя этими вопросами: в нашей временной жизни на земле и без того много дела для рук и головы. Однако, Мерапи, ты ведь бунтовщица, а как принимает царь — небесный или земной, все равно — тех, кто восстает против него?
— Ты говоришь — я бунтовщица, — сказала она, повернувшись к нему, и глаза ее вспыхнули. — Почему? Потому что я не захотела бесчестья и не вышла замуж за человека, которого ненавижу, за убийцу, к тому же и потому, что я, пока жива, не покину человека, которого люблю, и не вернусь к тем, от кого видела только зло! Разве бог создал женщин для того, чтобы их продавали, как скот, ради удовольствия и выгоды того, кто может больше заплатить?
— Видимо, для этого, — сказал Джейбиз, разводя руками.
— Видимо, это вы так думаете, представляя себе бога таким, каким хотели бы, чтобы он был. Но я — я в это не верю, а если б верила, то поискала бы себе другого царя. Дядя, я обращаюсь против жреца и старейшин к Тому, что создало и их, и меня, и я буду жить или умру по его приговору.
— Весьма опасная позиция, — произнес Джейбиз, как бы размышляя вслух, — поскольку жрец имеет возможность взять закон в свои руки, прежде чем подсудимый успеет апеллировать к другой инстанции. Однако кто я такой, чтобы оспаривать ту, которая может стереть Амона в порошок в его собственном святилище, и поэтому кто может достоверно знать все, что она думает и делает.
Мерапи топнула ногой.
— Ты отлично знаешь, что именно ты передал мне приказ бросить вызов Амону в его храме. Это не я…
— Знаю, знаю, — возразил Джейбиз, махнув рукой. — Знаю также, что это именно то, что говорит каждый маг (каковы бы ни были его боги и его народ) и во что никто не верит. Именно потому, что ты, веруя, повиновалась приказу свыше и через тебя Амон был повержен, египтяне и израильтяне считают тебя величайшей из волшебниц, какие когда-либо существовали на берегах Нила; а это, племянница, — опасная слава!
— На которую я не претендую и которой никогда не добивалась.
— Совершенно верно, но она все равно пришла к тебе. Так что же
— зная (а я не сомневаюсь в том, что ты знаешь) обо всем, что скоро произойдет в Египте, и получив предупреждение (если ты в нем нуждаешься) об опасности, которая грозит тебе самой, — ты все-таки отказываешься повиноваться приказу, который я считаю своим долгом тебе передать?
— Отказываюсь.
— Тогда пеняй на себя и прощай. Да, хотел еще сказать тебе: там есть кое-какое имущество в виде скота и урожая с полей, которые принадлежат тебе по наследству от твоего отца. В случае твоей смерти…
— Возьми все себе, дядя, и да поможет оно твоему процветанию. Прощай.
— Великая женщина, друг Ана, и красавица к тому же, — сказал старый еврей, проводив ее взглядом. — Печально, что я никогда ее больше не увижу. Да и никто не будет смотреть на нее долго. Скорблю, ибо она все-таки мне племянница и я люблю ее. А теперь мне пора, тем более, что я выполнил данное мне поручение. Будь счастлив, Ана. Ты ведь уже не солдат, правда? Нет? Оно и к лучшему, как ты увидишь. Мое почтение принцу. Думай обо мне иногда, когда состаришься, и не поминай лихом, ибо я служил тебе, как только мог, и твоему господину тоже, — надеюсь, он вскоре вновь обретет то, что не так давно потерял.
— Ее высочество принцессу Таусерт, — предположил я.
— И ее, кроме всего прочего, Ана. Скажи принцу, если он сочтет мою цену слишком высокой, что эти лошади, которых я ему продал, действительно самых лучших сирийских кровей и что эту породу моя семья разводила в течение многих поколений. Да, если у тебя есть друг, которому ты желаешь добра, не дай ему уйти в пустыню в период нескольких ближайших новолуний, особенно если командовать войском будет фараон. Нет-нет, я ничего не знаю, но просто это пора у больших бурь. Прощай, друг Ана, и еще раз прощай.
Что же он хотел этим сказать? — думал я, направляясь к принцу, чтобы доложить о происшедшем. Но никакой ответ не приходил мне в голову.
Очень скоро я начал понимать. Оказалось, что наконец израильтяне действительно покидают Египет, огромная масса их, а с ними и , десятки тысяч арабов из разных племен, которые поклонялись их богу и были — некоторые из них — потомками гиксосов, пастухов, некогда правивших Кеметом. Что это действительно так, подтверждалось известием о том, что все еврейские женщины в Мемфисе, даже те, что были замужем за египтянами, ушли из города, оставив своих мужей, а иногда даже детей. В самом деле, перед их уходом несколько таких женщин, которые были подругами Мерапи, посетили ее и спросили, не уйдет ли она с ними. Покачав головой, она ответила:
— Почему вы уходите? Или вам так хочется скитаться в пустыне, что ради этого вы готовы навсегда расстаться с мужьями, которых вы любите, и с детьми вашей плоти и крови?
— Нет, госпожа, — ответили они плача, — мы счастливы в белоснежном Мемфисе и здесь, под журчание Нила, мы хотели бы состариться и умереть, вместо того, чтобы жить в пустыне, в какой-нибудь палатке вместе с чужими мужчинами или в одиночестве. Но страх гонит нас отсюда.
— Страх? Чего же вы боитесь?
— Египтян, которые, конечно же, убьют всякого израильтянина, оставшегося среди них, когда оценят все, что они претерпели от нас в обмен за те богатства и приют, что мы имели от них в течение многих поколений, превратившись из горсти семей в великий народ. А еще мы боимся проклятия наших жрецов, которые велели нам уходить.
— Тогда и мне тоже надо бояться, — сказала Мерапи.
— О нет, госпожа, ведь ты — единственная любовь принца Египта, который, по слухам, скоро станет фараоном Египта и защитит тебя от гнева египтян. А поскольку ты еще, как всем известно, самая великая чародейка в мире, победительница могущественного Амона-Ра и пожертвовала собственным ребенком, чтобы отвратить все несчастья от своего жилища, тебе нечего бояться со стороны жрецов и их магии.
Тогда Мерапи вскочила, требуя, чтобы они предоставили ее своей участи и пошли навстречу собственной, что они и поспешили сделать, боясь ее чар. Вот и вышло так, что вскоре прекрасная Луна Израиля и некоторые дети смешанной крови оказались единственными из всей еврейской расы, кто остался в Египте. Тогда, несмотря на то, что страдания и бедствия последних лет со всеми их ужасами, смертями и голодом уменьшили численность египтян почти вполовину, народ Кемета возликовал, преисполнившись великой радости.
В каждом храме каждого бога состоялись торжественные процессии, и все, у кого что-нибудь осталось, приносили пожертвования, в то время как статуи богов наряжали в новые красивые одежды и увешивали гирляндами цветов. Но это еще не все: на Ниле и на священных озерах плавали лодки, украшенные фонарями, как в праздник Воскресения Осириса. Как титулованный верховный жрец Амона — должность, являвшаяся пожизненной, — принц Сети присутствовал на этих празднествах в большом храме Мемфиса, куда я сопровождал его. Когда обряды закончились, он во всем своем великолепном жреческом облачении вывел процессию из храма сквозь массы поклоняющихся, и тысячи глоток приветствовали его громогласным криком: «Фараон!» или, по крайней мере, прославляя как наследника Египта.
Когда крики наконец замерли, он обратился к собравшимся и сказал:
— Друзья, если вам хочется послать меня не на пир фараона, а в общество, что сидит за столом Осириса, вы можете повторить это безрассудное приветствие, — оно доставит нашему повелителю Аменмесу весьма мало радости.
В наступившем молчании вдруг раздался голос:
— Не бойся, о принц, пока еврейская колдунья спит каждую ночь у тебя на груди! Та, что навлекла на Кемет столько бед, уж конечно убережет тебя от опасности! — на что толпа ответила новым взрывом одобрения и приветствий.
На следующий день из Таниса, куда он ездил с визитом, вернулся старый Бакенхонсу и принес новые вести. Оказывается, там, в самом большом зале одного из самых больших храмов состоялся многолюдный совет, открытый для всех желающих. На этом совете Аменмес сообщил, как обстоит дело с израильтянами, которые, как он сказал, уходят тысячами. Были также совершены приношения, чтобы умилостивить разгневанных богов Кемета. Когда обряд закончился, но еще до того, как начали расходиться, ее высочество принцесса Таусерт поднялась с места и обратилась к фараону:
— Во имя духов наших отцов, — воскликнула она, — и особенно во имя духа доброго бога Мернептаха, моего родителя, я спрашиваю тебя, фараон, и всех вас, о люди, — должна ли гордая земля Кемета терпеть наглость этих рабов-евреев и их магов? Наших богов оскорбляли и оскверняли; на нас навлекали несчастья, огромные и ужасные, о каких не знала история; десятки тысяч новорожденных, начиная от первенца фараона, погибли за одну ночь. И вот теперь эти израильтяне, убившие их своим колдовством, — ибо все они колдуны, и мужчины и женщины, особенно одна, которая сидит в Мемфисе, но о которой я не хочу говорить,потому что она нанесла мне лично вред, — эти израильтяне с разрешения фараона уходят из страны! Мало того, они берут с собой весь свой скот, весь собранный с полей урожай, все сокровища, которые они накопили в течение поколений, и все украшения и драгоценности, которые они страхом отняли у наших людей, забирая в долг то, что они никогда не собираются возвращать. Поэтому я, царственная принцесса Египта, хочу спросить фараона — это приказ фараона?
При этом, как рассказал Бакенхонсу, фараон сидел повесив голову и не отвечал ни слова.
— Фараон молчит, — продолжала Таусерт. — Тогда я спрошу — это приказ Совета фараона и воля египетского народа? Еще есть в Кемете большая армия, сотни колесниц и тысячи пехотинцев. И эта армия будет сидеть и ждать, пока эти рабы уйдут в пустыню, поднимут против нас наших врагов-сирийцев и вместе с ними вернутся, чтобы расправиться с нами?
— При этих словах, — продолжал свой рассказ Бакенхонсу, — вся эта масса собравшихся там людей ответила громким криком «нет!».
— Народ говорит — нет. А что скажет фараон? — воскликнула Таусерт.
Наступило молчание, пока наконец Аменмес не встал и не заговорил.
— Будь по-твоему, принцесса, и если это обернется злом, пусть падет оно на твою голову и на головы тех, кого ты подстрекаешь на это дело, хотя, я думаю, это твой муж, принц Сети, должен был бы сейчас стоять там, где стоишь ты, и задавать мне свои вопросы.
— Мой муж, принц Сети, привязан к Мерапи веревкой, сплетенной из волос колдуньи, по крайней мере, так мне сказали, — ответила она с презрительным смехом, и ропот присутствующих поддержал ее слова.
— Этого я не знаю, — сказал Аменмес, — но знаю одно: принц всегда настаивал на освобождении израильтян, и временами, когда одно несчастье следовало за другим, я думал, что он прав. Воистину, не раз я и сам хотел бы, чтобы они ушли, но всегда какая-то сила, не знаю, какая, сдавливала мое сердце, превращая его в камень, и вырывала у меня слова, каких я не хотел произносить. Даже сейчас я дал им уйти, но все вы — против меня, и может быть, если я буду противиться вам, я заплачу за это своей жизнью и троном. Военачальники, прикажите привести в готовность мои войска и соберите их здесь, в Танисе ибо я сам поведу их, преследуя народ Израиля, и разделю с ними участь.
На этом, под громкие крики одобрения, собрание закончилось, и вскоре только фараон остался сидеть на своем троне, с видом человека, — по словам Бакенхонсу, — который скорее мертв, чем жив, но отнюдь не с видом царя, собирающегося начать войну против своих врагов.
Принц выслушал рассказ Бакенхонсу в глубоком молчании, но когда тот кончил, он спросил:
— Что ты об этом думаешь, Бакенхонсу?
— Думаю, о принц, — ответил старый мудрец, — что ее высочество поступила дурно, подняв снова все это дело, хотя я не сомневаюсь, что она говорила голосами жрецов и армии, и фараон не нашел в себе достаточно сил, чтобы сопротивляться.
— Я думаю то же, что и ты, — сказал Сети.
В этот момент в комнату вошла госпожа Мерапи.
— Я слышу, мой муж, — сказала она, — что фараон решил преследовать народ Израиля со своим войском. Я пришла просить моего супруга, чтобы он не присоединялся к армии фараона.
— Вполне естественно, госпожа, что ты не хочешь, чтобы я воевал против твоих соотечественников, и сказать по правде, у меня нет никакого желания действовать в этом направлении, — сказал Сети и, повернувшись, вышел вместе с ней из комнаты.
— Она думает вовсе не о своих соотечественниках, а о спасении своего любимого, — заметил Бакенхонсу. — Она не колдунья, как о ней говорят, но она действительно знает то, что нам неведомо.
— Да, — ответил я, — это верно.
XVII. Сон Мерапи
Прошло дней четырнадцать, и за это время стало известно, что израильтяне действительно тронулись в путь. Их было огромное множество и они несли с собой гроб и мумию своего пророка, человека их крови, бывшего, как говорили, визирем того фараона, который приютил их в Египте сотни лет тому назад. О том, куда они идут, говорили по-разному, но всезнающий Бакенхонсу утверждал, что они направляются к озеру Крокодилов, которое некоторые называют также Красным морем; оттуда они пойдут на ту сторону, в пустыню, и дальше — в Сирию. Я спросил его, как же им удастся переправиться на ту сторону, ведь это озеро даже в самом узком месте имеет тридцать тысяч футов[315] в ширину, а глубина донного ила вообще неизмерима. Он ответил, что не знает, но что я мог бы спросить об этом госпожу Мерапи.
— Значит, ты изменил мнение о ней и тоже считаешь ее колдуньей, — сказал я, на что ой ответил:
— Человек поневоле вдыхает дующий в лицо ветер, а Египет так насыщен колдовскими чарами, что трудно что-нибудь сказать. И все-таки это она сокрушила древнюю статую Амона. О да, колдунья она или нет, было бы интересно спросить ее, как ее народ собирается переправиться через Красное море, особенно если за их спинами вдруг появятся колесницы фараона.
Я действительно задал ей этот вопрос, но она ответила, что ничего об этом не знает и знать не хочет, поскольку она порвала со своим народом и осталась в Египте.
Потом появился Ки, уж не знаю, откуда, и, помирившись с Сети, которого он клятвенно уверил, что переодевание Мерапи в наряд Исиды было делом жрецов против его воли, сообщил, что фараон и большое войско выступили из Таниса и начали преследование израильтян. Принц спросил его, почему он не присоединился к ним. В ответ Ки возразил, что, во-первых, он не воин, а во-вторых, фараон отвратил от него свое лицо. В свою очередь он спросил принца, почему же он сам не с ними.
Сети ответил, что он отстранен от командования, как и его офицеры, и не имеет желания участвовать в этом деле как простой горожанин.
— Ты мудр, как всегда, принц, — сказал Ки.
На следующий вечер, почти ночью, когда принц, Ки, Бакенхонсу и я, Ана, сидели и разговаривали, к нам вдруг ворвалась госпожа j Мерапи, как была в ночном одеянии, по которому разметались ее распущенные волосы, и с диким выражением в глазах.
— Я видела сон! — вскричала она. — Мне приснилось, будто я | вижу, как мой народ, все множество людей, следует за пламенем, пылающим от земли до самого неба. Они подошли к кромке большого водного пространства, и вдруг позади них появился фараон и с ним — все египетское войско. Тогда люди Израиля устремились прямо в воду, и вода держала их, как будто это была твердая земля. Воины фараона бросились вслед за ними, но тут явились боги Кемета — Амон, Осирис, Гор, Исида, Хатхор и все остальные, и пытались их остановить. Однако они не хотели их слушать и, увлекая за собой богов, ринулись в воду. Тут наступила тьма, и в этой тьме раздались крики и плач, и громкий смех. Потом — она рассмеялась, — взошла луна и осветила пустоту. Я проснулась, вся дрожа. Растолкуй мне этот сон, если можешь, о Ки, мастер магии.
— Какая в этом нужда, госпожа, — ответил он, как будто очнувшись ото сна, — если видевшая этот сон — сама ясновидящая? Осмелится ли ученик наставлять учителя или новичок — разъяснять тайны верховной жрице храма? Нет, госпожа, я и все маги — мы считаем тебя выше всех магов, какие были и есть в Кемете.
— Почему ты всегда меня дразнишь? — сказала она задрожав. Тогда Бакенхонсу, слушавший до сих пор молча, сказал:
— Последнее время мудрость Ки погрузилась в тучу и не светит нам, его ученикам. Однако смысл твоего сна достаточно ясен, хотя я и не знаю, насколько этот сон правдив. Он означает, что всему египетскому войску, а вместе с ним и богам Кемета, угрожает гибель из-за их вражды к израильтянам, если только не найдется кто-то, кого они будут слушать и кто убедит их отказаться от намерения, которое мне неясно. Но кого послушают безумные, о, кого они послушают? — И подняв свою большую голову, он посмотрел прямо на принца.
— Боюсь, что не меня, я ведь никто в Египте, — сказал Сети.
— Почему не тебя, о принц, если завтра ты можешь стать всем в Египте? — спросил Бакенхонсу. — Ты всегда вступался за израильтян и говорил, что вражда к ним не принесет Кемету ничего, кроме зла, — так оно и вышло. К кому же еще более охотно прислушается народ и армия?
— Более того, о принц, — вмешался Ки, — госпоже твоего дома приснился очень плохой сон, из которого, что ни говори, следует, что это был не сон, а проявление силы, направленной против величия Кемета, той силы, которая сбросила великого Амона с его престола, той силы, которая оградила магической стеной этот дом.
— Я опять повторяю, что не обладаю никакой силой, о Ки, иначе я бы не заплатила за это жизнью собственного ребенка.
— И однако колдовские чары были приведены в действие, госпожа; а сила, как издавна известно, достигает совершенства только в жертвоприношении, — загадочно произнес Ки.
— Кончай свои разговоры о чарах, маг, — воскликнул принц, — а если тебе уж так хочется, то говори о своих собственных, их у тебя достаточно. Это Джейбиз защитил нас от бедствий, а статую Амона разбил какой-то бог.
— Прошу прощения, принц, — сказал Ки, кланяясь, — это не госпожа защитила твой дом от бедствий, которые свирепствовали в Египте, и не госпожа, а какой-то бог, действующий через нее, сокрушил Амона в Танисе. Так сказал принц. Однако ей же приснился некий сон, который Бакенхонсу нам объяснил, хотя я не могу, и я думаю, что фараону и его военачальникам нужно рассказать об этом сне, чтобы они вынесли свое суждение о нем.
— Так почему бы тебе не рассказать им, Ки?
— Фараону угодно было, о принц, отстранить меня от моих обязанностей как потерпевшего провал и передать должность керхеба другому. Если я появлюсь теперь там, меня убьют.
Слыша это, я, Ана, от души пожелал, чтобы Ки появился перед лицом фараона, хоть я и не верил, что его кто-нибудь убьет, ибо он знал особые заклинания против смерти. Дело в том, что я боялся Ки и был уверен в том, что он опять замышляет козни против Мерапи, в невиновности которой я не сомневался.
Принц ходил взад и вперед по комнате, что было его привычкой в минуты размышлений. Наконец он остановился и сказал:
— Друг Ана, будь добр, распорядись, чтобы мои колесницы были наготове, а также эскорт в сто человек и запасные лошади для каждой колесницы. Мы выезжаем на рассвете, ты и я, чтобы разыскать армию фараона и добиться приема у фараона.
— О супруг мой, — умоляюще произнесла Мерапи, — прошу тебя, не уезжай, не оставляй меня одну!
— Зачем одну? Поезжай со мной, госпожа, если хочешь. Но она покачала головой и сказала:
— Я не смею. Принц, последнее время я чувствую, будто какие-то чары толкают меня обратно к моему народу. Дважды ночью я просыпалась и обнаруживала, что стою в саду, лицом к северу, и слышала голос моего покойного отца, который говорил мне: «Луна Израиля, твой народ блуждает в пустыне, и ему нужен твой свет». И я боюсь, что если я окажусь поблизости от этих людей, меня затянет, как водоворот затягивает щепку, и я никогда больше не увижу Египет.
— Тогда прошу тебя, останься здесь, Мерапи, — сказал принц, слегка засмеявшись, — ведь ясно, — куда пойдешь ты, туда следом пойду и я, а у меня нет ни малейшего желания блуждать с твоими евреями в пустыне. Так что, поскольку ты не хочешь покинуть Мемфис и не поедешь со мной, я должен остаться с тобой.
Ки устремил на них обоих пронзительный взгляд.
— Да простит меня принц, — сказал он, — но клянусь богами, я никогда не думал, что доживу до того часа, когда принц Сети Мернептах поставит женские капризы выше своей чести.
— Твои слова грубы, — сказал Сети, гордо выпрямившись, — и будь сейчас другое время, может быть, я бы, Ки…
— О мой принц! — сказал Ки, простершись перед ним, так что его лоб коснулся пола. — Подумай только, как важна должна быть причина, побудившая меня вымолвить такие слова. Когда я приехал сюда из Таниса в первый раз, дух, живущий во мне и говорящий моими устами, произнес по отношению к твоему высочеству определенные титулы, за которые тебе угодно было упрекнуть меня. Однако этот дух во мне не может лгать, и я знаю точно и прошу всех, кто сейчас здесь, запомнить мои слова, что этой ночью я стою перед тем, кто менее чем через два новолуния будет фараоном.
— Поистине, ты всегда приносил плохие вести, Ки, но даже если это так, что из этого следует?
— А вот что, мой принц: если бы духи Истины и Справедливости не побуждали меня говорить, разве посмел бы я, человек из уязвимой плоти, бросить жестокие слова в лицо тому, кто скоро станет фараоном? Разве посмел бы я перечить нежной голубке, которая свила гнездо в его сердце, мудрой белой голубке, шепчущей тайны небес, откуда она прилетела, которая сильнее, чем гриф Исиды, и быстрее, чем ястреб Ра, голубке, которая в гневе могла бы растерзать меня на более мелкие частицы, чем Сет разрубил Осириса?
Тут я заметил, что Бакенхонсу раздувается от внутреннего смеха, подобно лягушке, готовой заквакать; но Сети ответил усталым голосом:
— Клянусь всеми птицами Кемета и священными крокодилами в придачу — я не знаю. Твой ум, Ки, — не открытая книга, которую может читать проходящий мимо. Все же, если бы ты объяснил мне, по какой причине богини Истины и Справедливости вдохновили тебя…
— Причина, принц, в том, что судьба всей египетской армии, быть может, сейчас в твоих руках. Время не терпит, и я скажу прямо: что ни говори, а эта госпожа, которая кажется лишь воплощением любви и красоты, на самом деле величайшая волшебница во всем Египте, уж я, кого она превзошла, хорошо это знаю. Она бросила вызов высокому богу Кемета и сокрушила его в прах и заплатила ему, его пророкам и всем, кто его чтит, тем же злом, которое он мог бы причинить ей, — как в подобном случае сделал бы любой из нас. Теперь ей приснилось или ее дух открыл ей, что армии Египта грозит гибель, и я знаю, что этот сон исполнится. Так поспеши, о принц, спасти войска Египта, ведь они понадобятся тебе, когда ты сядешь на египетский трон.
— Я не волшебница! — вскричала Мерапи. — И однако — о горе, что я должна сказать об этом! — в словах этого улыбчивого чародея с холодными глазами правда. Меч смерти готов сразить войска Египта!
— Вели приготовить колесницы, — сказал Сети.
Прошло восемь дней. Солнце садилось, когда мы остановили коней недалеко от Красного моря. День и ночь мы двигались по следам фараоновой армии, по дороге, проложенной через пустыню его колесницами и ногами его солдат, и десятками тысяч израильтян, прошедших ранее этим же путем. И теперь с вершин холмов, где мы остановились, мы увидели внизу лагерь фараона — весьма большую армию. Кроме того, отставшие солдаты говорили нам, что за этой армией тоже расположилась лагерем несметная масса израильтян, а еще дальше, за нею, расстилалось Красное море, преградившее им путь. Но ни израильтян, ни воды не было видно по очень странной причине: между ними и армией фараона возвышалась черная стена туч, как бы воздвигнутая с земли до самого неба. Один из отставших солдат рассказал, что эта огромная туча двигалась днем перед израильтянами, а ночью превращалась в столб пламени. Но в день, когда к ним приблизилась армия фараона, туча обошла лагерь израильтян и стала между ними и египетской армией.
Когда принц, Бакенхонсу и я услышали об этом, мы посмотрели друг на друга и не проронили ни слова. После долгого молчания принц, слегка засмеявшись, сказал:
— Нам бы следовало захватить с собой Ки, даже если бы пришлось привязать его к колеснице, — уж он бы объяснил нам это чудо, ибо, конечно, он единственный, кто мог бы.
— Ки не так-то легко привязать, принц, если он желает быть на свободе, — сказал Бакенхонсу. — Кроме того, еще раньше, чем мы сели в колесницу, он покинул Мемфис, направляясь к югу, в Фивы. Я видел, как он уходил.
— А я приказал больше не принимать его, ибо его появление, я считаю, не сулит добра; во всяком случае, так думает госпожа Мерапи, — ответил Сети со вздохом.
— Теперь, когда мы здесь, что принц намерен делать? — спросил я.
— Спуститься в лагерь фараона и сказать то, что мы должны сказать, Ана.
— А если он не пожелает слушать?
— Тогда громко прокричать наше сообщение и повернуть обратно.
— А если он нас задержит, принц?
— Тогда спокойно стоять и жить или умереть — как решат боги.
— Поистине, у нашего принца мужественное сердце! — воскликнул Бакенхонсу. — И хотя я чувствую себя слишком молодым, чтобы умереть, я склонен остаться с ним и увидеть исход этого дела, — и он громко захохотал.
Но я, не в силах подавить в себе страх, подумал, что его «охо-хо», на которое как будто само небо отозвалось эхом, прозвучало над нашими головами как странное и даже зловещее преднамеренное.
Между тем мы облачились в парадные одежды, которые привезли с собой, но без оружия и с половиной нашего эскорта проехали туда, где видели флаги над шатром фараона. Остальную часть наших воинов мы оставили в лагере, приказав им, если с нами что-то случится, вернуться назад и объявить обо всем в Мемфисе и других больших городах. Когда мы приблизились к лагерю фараона, передовые посты увидели нас и приказали остановиться. Но когда при свете заходящего солнца они узнали принца, раздался шепот: «Принц Египта! Принц Египта!» — ибо они всегда продолжали называть Сети этим титулом — и, салютуя своими копьями, они пропустили нас.
Так мы достигли шатра фараона, который был окружен целым полком стражников. Края шатра были подняты, ибо вечер стоял жаркий, а внутри кроме самого фараона находились его военачальники, его советники, жрецы, маги и еще многие другие, кто участвовал в трапезе или разносил еду и напитки. Они сидели за столом лицом ко входу, и фараон восседал в центре, а позади него стояли его дворецкие и слуги с опахалами.
Мы прошли в шатер — принц посередине, по правую его руку Бакенхонсу, по левую — я с дарованной мне фараоном Мернептахом с золотой цепью на шее; сопровождавшие нас воины остались снаружи, где стояли часовые.
— Кто это? — спросил Аменмес, подняв глаза. — Кто это входит сюда без приглашения?
— Трое граждан Египта с вестью для фараона, — ответил Сети своим спокойным негромким голосом, — которую мы поспешили вовремя доставить.
— Как вас зовут, граждане Египта, и кто посылает эту весть?
— Нас зовут Сети Мернептах, принц Египта и наследник престола, Бакенхонсу, старый советник, и Ана, писец и друг царя; а наша весть послана богами.
— Мы слышали эти имена, кто их не слыхал? — сказал фараон, и при его словах все присутствующие поднялись и поклонились в сторону принца. — Не желаешь ли ты с твоими товарищами сесть и откушать с нами, принц Сети?
— Мы благодарим божественного фараона, но мы уже поужинали. Не позволит ли нам фараон сообщить нашу весть ему?
— Говори, принц.
— О фараон, много раз обновлялась луна с тех пор, как мы последний раз смотрели друг другу в лицо, в тот день, когда мой отец, добрый бог Мернептах, лишил меня наследства и позже отошел в край Осириса. Фараон помнит, почему я был таким образом отрезан от царского корня Египта. Это было в связи с вопросом об израильтянах, которые, по моему убеждению, терпели от нас много зла и должны были быть отпущены на свободу. По твоему совету, о фараон, и по совету других добрый бог Мернептах хотел покончить с ними, уничтожив их мечом, и потребовал моего согласия как наследника Египта. Я отказался дать согласие и был лишен своих прав, и с тех пор ты, о фараон, носишь двойную корону Кемета, в то время как я живу как гражданин Мемфиса на тех землях и на те средства, которые являются моей собственностью. Между тем часом и этим, о фараон, много бедствий обрушилось на Кемет, и последнее стоило жизни твоему первенцу и моему. Однако, о фараон, при всех этих бедствиях ты отказывался отпустить этих евреев, вопреки тому, что я советовал с самого начала. Наконец после смерти твоего сына ты объявил, что они могут уйти куда угодно. А теперь ты преследуешь их с большой армией и намерен сделать то, что сделал бы мой отец, славный бог Мернептах, если бы я согласился, — уничтожить их мечом. Слушай меня, фараон!
— Я слушаю; дело изложено хорошо, хоть и кратко. Что еще хотел бы ты сказать, принц Сети?
— Только одно, о фараон: молю тебя, откажись от преследования израильтян и уйди обратно со всей своей армией — не утром и не на следующий день, а сейчас, в этот вечер.
— Почему же, о принц?
— Из-за некоего сна, который приснился госпоже моего дома, еврейской женщине, и который предсказывает гибель тебе и армии Египта, если ты не прислушаешься к моим словам.
— Кажется, мы знаем об этой змее, которую ты приютил и пригрел у себя на груди, откуда она может оплевывать Кемет ядом. Ее зовут Мерапи, Луна Израиля, не так ли?
— Так зовут госпожу, которой приснился этот сон, — ответил Сети холодным тоном, хотя я, стоя рядом с ним, чувствовал, как он дрожит от гнева, — сон, который, если фараон пожелает, мои товарищи могут пересказать слово в слово.
— Фараон не пожелает, — закричал Аменмес, ударив кулаком по столу, — потому что он знает, что это лишь еще один трюк для спасения этих колдунов и воров от участи, которую они заслужили.
— Значит, я — исполнитель трюков, о фараон? Если так, зачем бы я ехал сюда с этим предупреждением, хотя завтра, сидя в Мемфисе, я мог бы снова стать наследником двойной короны? Ибо если ты не послушаешь меня, то очень скоро ты погибнешь, а вместе с тобой и все эти… — И он указал на сидящих за столом. — Ас ними и вся огромная армия, что там снаружи. Прежде чем отвечать, скажи, что значит эта черная туча, закрывающая лагерь врагов, евреев? Ты не находишь ответа? Тогда я скажу: это покров, который окутает ваши кости, всех вас до единого.
Теперь вся компания дрожала от страха, — да, даже жрецы и маги — и те дрожали. Но фараон обезумел от ярости. Вскочив со своего места, он сорвал с головы двойную корону и швырнул ее на землю, и я заметил, что золотая лента с уреем отлетели в сторону и легли на сандалию Сети. Аменмес разорвал на себе одежду и закричал:
— По крайней мере, ты разделишь со мной судьбу, отступник, продавший Кемет еврейской колдунье за ее поцелуи? Схватить этого человека и его товарищей! И когда эта тьма рассеется завтра утром и мы атакуем израильтян, пусть они идут вместе с нами в первых рядах. Вот тогда и увидим, где правда!
Таков был приказ фараона, и Сети, не ответив ни слова, скрестил на груди руки и ждал, что последует.
Люди поднялись со своих мест, как бы повинуясь этому приказу, но снова сели; стражники устремились вперед — и однако застыли в неподвижности. Тогда Бакенхонсу разразился торжествующим хохотом.
— Охо-хо! — смеялся он. — Как фараоны приходили и уходили — один и два, и три, и четыре, и пять — я видел, но чтобы ни один советник и ни один стражник не выполнили приказа фараона, даже если б они не хотели — такого я еще не видел! Когда ты станешь фараоном, принц Сети, надеюсь, тебе больше повезет. Дай руку, Ана, друг мой, и веди нас, царственный наследник Египта! Истина показана, но слепые глаза не желают видеть. Слово сказано, но глухие уши не желают слышать. Долг исполнен. Доброго вам сна, избранники Осириса, доброго сна!
Потом мы повернулись и пошли прочь из шатра. У выхода я оглянулся, и в сумерках, которые предшествуют ночной тьме, мне почудилось, будто сидящие за столом уже мертвы. Лица их посинели, глаза мерцали пустым блеском и ни одного слово не сорвалось с их уст. Они лишь неотрывно смотрели на нас, пока мы шли, все смотрели и смотрели.
Снаружи я по приказу принца громко прокричал суть ясновидения госпожи Мерапи и предупредил всех, кому было слышно, чтобы они перестали преследовать народ Израиля, если им дороги жизнь и свет солнца. Но даже после этого, хотя моя речь была прямой изменой фараону, ни одна рука не поднялась ни на принца, ни на меня, его слугу. С тех пор я часто спрашивал себя, почему так было, и не. находил ответа на свои вопросы. Возможно потому, что в глубине души все знали, что Сети — истинный фараон, и любили его. Возможно потому, что они верили принцу и считали, что если он отправился в такую даль и отдал себя во власть Аменмеса, то лишь с тем, чтобы спасти армии Египта и передать им весть, полученную от самих богов.
Или, может быть, он все еще был под покровительством, которое израильтяне обещали ему через своих пророков голосом Джейбиза. Во всяком случае, все было, как я описал. Фараон мог приказать, но его слуги не повиновались ему. Более того, эта весть распространилась, и в ту же ночь многие дезертировали из войска фараона и расположились поблизости от нашего лагеря или бежали обратно в города, откуда пришли. Среди них было немало советников и жрецов, которые тайно переговорили с Бакенхонсу. Потому и случилось, что даже если фараон хотел покончить с нами — как, вероятно, он и собирался сделать под покровом ночи, — он все же счел более мудрым выполнить это намерение после того, как он расправится с народом Израиля.
Это была очень странная ночь — полное безмолвие, тяжелый неподвижный воздух. Звезд не было, но в завесе черной тучи, как будто опустившейся над лагерем египтян, вспыхивали живые молнии, принимая формы каких-то букв, которые я не мог прочесть.
— Смотри — вот Книга Судеб[316], написанная огнем рукою бога! — сказал Бакенхонсу, наблюдавший зловещее зрелище.
Около полуночи вдруг налетел восточный ветер, столь сильный, что нам пришлось лечь наземь лицом вниз, укрывшись за колесницами. Потом он замер, и мы услышали волнение и крики как из египетского лагеря, так и из лагеря Израиля, скрытого за тучей. Затем последовал толчок, как во время землетрясения, который сбил с ног тех из нас, которые стояли, и при свете появившейся кроваво-красной луны мы увидели, что вся армия фараона начинает двигаться в сторону моря.
— Куда они идут? — спросил я принца, который ухватился за мою руку.
— Навстречу судьбе, я думаю, — ответил он, — но какой судьбе, не знаю.
Больше мы не сказали ни слова, нам было страшно.
Наконец занялась заря, осветив самое ужасное зрелище, какое когда-либо видели глаза человека.
Стена туч исчезла, и при ясном свете утра мы увидели, что глубокие воды Красного моря расступились, оставив посередине твердую дорогу — не то расчищенную ветром, не то приподнятую землетрясением. Кто знает? Только не я, чья нога так и не ступила на эту дорогу смерти. По этой широкой дороге устремлялись десятки тысяч израильтян, двигаясь между водой справа и водой слева, а за ними следовала вся армия фараона, кроме тех, которые дезертировали и теперь стояли или лежали вокруг нас, наблюдая. Видны были даже золотые колесницы, указывая, где сам фараон и его телохранитель, — в самой гуще беспорядочного войска, рвавшегося вперед, не соблюдая ни дисциплины, ни боевого строя.
— Что же теперь? О, что же теперь? — прошептал Сети, и в этот момент последовал второй подземный толчок. Затем в западной части моря поднялась огромная волна, высокая, как пирамида. Она катилась, курчавясь и пенясь на гребне, и у ее основания мы на миг, не более, увидели армию Египта. Но в то же мгновение мне почудилось, что вдоль ее гребня несутся могучие фигуры, которые я принял за богов Кемета, а за ними, преследуя их и гоня их бичом, — какой-то образ из сияющего света. Они появились, они исчезли, сопровождаемые звуками стенаний, и волна упала.
Но за ее пределами по-прежнему шли толпы израильтян — на дальнем берегу.
Наступил густой мрак, и сквозь этот мрак я увидел — или подумал, что вижу, — Мерапи, Луну Израиля, стоящую перед нами с выражением отчаяния на лице, и услышал — или подумал, что слышу, — ее крик:
— О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети! Потом она тоже исчезла.
— Запрягайте лошадей! — крикнул Сети глухим голосом.
XVIII. Коронация Мерапи
Как ни мчались наши кони, но слух, а точнее — истина, которую несли ушедшие раньше нас, летела быстрее. О! Это путешествие казалось сном, ниспосланным злыми богами. День и ночь неслись мы, и в каждом городе навстречу нам выбегали женщины, крича:
— Это верно, о путники, это верно, что фараон и его войско погибли в море?
И старый Бакенхонсу отвечал им:
— Верно, что тот, кто был фараоном, и его войско погибли в море. Но фараон жив — вот он! — И он указывал на принца, который не обращал ни на кого внимания и повторял только одно слово: — Вперед! Вперед!
И снова мы мчались вперед, в то время как стоны и плач замирали далеко позади.
Солнце садилось, когда мы наконец приблизились к Мемфису. Принц повернулся ко мне и прервал молчание.
— До сих пор я не смел спросить, — сказал он, — но скажи мне, Ана. В темноте, когда большая волна упала и ужасные образы пронеслись мимо, тебе не показалось, что перед нами стоит женщина, и не послышалось, что она что-то говорит.
— Все так и было, принц.
— Кто была эта женщина, и что она говорила?
— Это была та, что родила тебе сына, о принц, которого уже нет, и она говорила: «О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети!»
Его лицо, даже под слоем покрывавшей его пыли, стало пепельного цвета, и он застонал.
— Двое любящих ее видели и двое любящих ее слышали, — сказал он. — Сомнений нет, Ана, она погибла.
— Молю богов…
— Не моли, ибо боги Кемета тоже погибли — пали от руки бога Израиля. Ана, кто ее убил?
Неплохой рисовальщик, я изобразил пальцем на толстом слое песка и пыли, покрывавшем борт колесницы, брови человека и под ними два глубоких глаза… Позолота, отражая солнце, выглядела, как блеск в глазах.
Принц кивнул и сказал:
— Теперь мы узнаем, могут ли великие маги, вроде Ки, умереть, как другие люди. Чтобы узнать это, я готов даже, если необходимо, надеть корону фараона.
У ворот Мемфиса мы остановились. Они были заперты, но слышно было, что за ними большой город шумит и волнуется.
— Открывай! — крикнул Сети стражнику.
— Кто приказывает мне открывать? — отозвался начальник стражи, всматриваясь в наши лица, ибо солнце стояло низко у нас за спиной.
— Фараон приказывает тебе открыть!
— Фараон! — сказал начальник стражи. — Мы получили точные сведения, что фараон и его армия утонули в результате колдовства.
— Глупец! — вскричал принц. — Фараон никогда не умирает.
Фараон Аменмес отошел к Осирису, но славный бог Сети Мернептах,
фараон Египта, велит тебе открыть ворота.
Тогда бронзовые ворота отворились, и те, кто охраняли их, простерлись в пыли.
— Скажи, — обратился я к начальнику стражи, — что значат эти крики?
— Господин, — ответил он, — я точно не знаю, но говорят, что на площади перед храмом сжигают на костре колдунью, которая навлекла на Кемет все эти бедствия и своими чарами погубила фараона Аменмеса и его армию.
— По чьему приказу? — крикнул я, но возница стегнул лошадей, и мы не услышали ответа.
Мы промчались по широкой улице на большую площадь, заполненную десятками тысяч людей. Мы погнали лошадей прямо на них.
— Дорогу фараону! Дорогу могучему славному богу, Сети Мернептаху, Царю Верхних и Нижних Земель! — закричали сопровождавшие Сети воины.
Толпа обернулась, и все увидели высокую фигуру принца все в той же парадной одежде, в которой он стоял перед Аменмесом в его шатре близ моря.
— Фараон! Фараон! Слава фараону! — закричали люди, падая ниц, и этот крик пронесся по Мемфису подобно ветру.
Мы пробились к центру площади. Там, перед большими воротами храма пылал огромный костер из высоко сложенных дров. Перед ним мелькали фигуры, и в одной из них я узнал Ки, облаченного в одежду мага. Двойная цепь солдат окружала костер, сдерживая напор толпы, которая неистовствовала, будто охваченная безумием, крича и потрясая кулаками. Группа жрецов разделилась, и я увидел стоящих рядом мужчину и женщину. Одежда на женщине была порвана, волосы растрепались; видно было, что с ней обошлись грубо. В этот момент силы ее покинули и она упала на колени, подняв лицо. Это было лицо Мерапи, Луны Израиля.
Значит, она не погибла!.. Человек, стоящий рядом, нагнулся, чтобы поднять ее, но пущенный ему в спину камень заставил его с проклятием выпрямиться. Я сразу узнал этот голос, хотя широкий плащ скрывал облик этого человека.
Это был голос Лейбэна, израильтянина, обрученного с Мерапи и пытавшегося убить нас в стране Гошен. «Что он здесь делает?» — подумал я.
Ки заговорил:
— Слыхали, как зашипела эта еврейская кошка? — сказал он. — Ну что ж, дело рассмотрено, приговор вынесен. Я думаю, первым пойдет в огонь соучастник, а потом колдунья. Теперь следите за ним — он, может статься, оборотень.
Все это Ки произнес, приятно улыбаясь, — даже когда подал знак черным рабам храма, ожидавшим поблизости. Они бросились вперед, и я увидел, как вспыхнуло отражение пламени на их медных браслетах, когда они схватили Лейбэна. Он яростно сопротивлялся, крича:
— Где ваши армии, египтяне, где ваш собака-фараон? Ступайте выуживать их из Красного моря! Прощай, Луна Израиля! Хорошо же увенчал тебя твой царственный любовник, о неверная…
Больше он ничего не успел сказать, ибо в этот момент рабы швырнули его головой вперед в самую середину костра, который на миг потемнел и вновь вспыхнул ярким пламенем.
И тогда Мерапи с трудом поднялась и воскликнула — теми же словами, которые принц и я услышали, когда ее образ явился нам у далекого Красного моря: «О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети!» Да, это были те же самые слова, которые — по крайней мере, нам так показалось — поразили наш слух за много дней до того, как они сорвались с ее уст.
Продвижение наших колесниц фут за футом сквозь толпу заняло не больше времени, чем нужно, чтобы досчитать до ста, и едва замерло эхо ее зова, как мы были уже рядом и спрыгнули наземь.
— Колдунья зовет того, кто сегодня ужинает за столом Осириса вместе с фараоном и его войском, — издевательски усмехнулся Ки. — Пусть пойдет да поищет его там, если позволят боги, — и он снова подал знак черным рабам.
Но Мерапи уже увидела — или почувствовала, что Сети рядом, и кинулась ему на грудь. У всех на глазах он поцеловал ее в лоб, потом велел мне поддержать ее и повернулся лицом к толпе.
— На колени! На колени! На колени! — раздался громкий голос Бакенхонсу. — Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон! — И воины эскорта повторили его слова.
И толпа вдруг поняла. Все упали на колени, и со всех сторон грянуло древнее приветствие. Сети поднял руку и благословил их. В этот момент я заметил, что Ки скользнул в темноту, и шепнул несколько слов стражникам, которые тут же бросились ему вслед и привели его обратно.
Между тем принц заговорил:
— Вы называете меня фараоном, люди Мемфиса, и боюсь, что сегодня я действительно фараон по праву кровного родства. Не знаю, соглашусь ли я нести и дальше бремя правления, если Кемет об этом попросит. Но тот, кто носил двойную корону, погиб на дне моря: по крайней мере, я видел, как волны сомкнулись над ним и его армией. Поэтому, хотя бы на час, я должен быть фараоном, чтобы властью фараона решить некоторые дела. Госпожа Мерапи, скажи, прошу тебя, как все это произошло?
— Господин мой, — ответила она тихим голосом в наступившем молчании, — после того как ты уехал, чтобы предупредить армию фараона о моем сне, Ки, который ушел в тот же день, снова вернулся. С помощью служанки, которую он, я думаю, заговорил, он проник в мои покои, где я сидела одна, и предъявил мне свои условия.
«Открой мне, — сказал он, — секрет твоей магии, чтобы я мог отомстить виновникам моего падения — израильским пророкам и вообще всем израильтянам и другим моим врагам, и таким образом снова стать самым большим человеком в Египте. За это я исполню все твои желания и сделаю тебя, именно тебя, царицей Египта, и до конца ваших дней буду служить тебе и твоему супругу Сети, который станет фараоном. Откажешься — и я подниму против тебя весь народ, и прежде чем принц вернется, люди, которые верят, что ты злая колдунья, предадут тебя участи колдуньи».
Муж мой, я ответила Ки так же, как и раньше: что у меня нет никаких секретов, ибо я не владею искусством черной магии, а статую Амона в танисском храме разбила не я, но та же сила, которая потом причинила Кемету тяжкие бедствия. А еще я сказала, что мне не нужны его дары, потому что я не хочу быть царицей Египта. Тогда он рассмеялся мне в лицо и сказал, что он не из тех, кого можно дразнить, как уже многие узнали на свою беду. Потом он направил на меня свою палочку и пробормотал какое-то заклинание, так что я совершенно лишилась сил и не могла ни двинуться, ни закричать еще долго после того, как он ушел. Я велела своим слугам от твоего имени схватить его и задержать до твоего возвращения, но его нигде не могли найти.
С того часа мне стали угрожать расправой. Люди собирались тысячами у дворцовых ворот днем и ночью, крича, что убьют меня, колдунью. Я молилась о помощи, но, видимо, небо отвернулось от меня грешной, и мои молитвы оставались без ответа. Даже слуги во дворце обратились против меня и не желали смотреть мне в лицо. Все меня покинули. Я сходила с ума от страха и одиночества. Наконец однажды ночью перед рассветом я вышла на террасу и, так как никакой бог не желал меня слушать, повернулась в ту сторону, куда ты уезжал, и позвала тебя на помощь — так же, как сейчас, перед тем, как ты явился… — Тут принц взглянул на меня, а я, Ана, взглянул на него. — В ту же минуту из-за кустов вышел какой-то человек в широком плаще, так что я не могла разглядеть его лицо, и сказал мне: «Луна Израиля, меня прислал его высочество принц Сети, чтобы предупредить тебя: твоя жизнь в опасности, как и его жизнь, и поэтому он не может сейчас приехать к тебе. Он велит тебе приехать к нему, чтобы вы вместе могли бежать из Египта в другую страну, где вы сможете спокойно переждать, пока кончатся все наши невзгоды».
«Твое лицо закрыто, — сказала я, — откуда мне знать, что именно он послал тебя ко мне с этой вестью. Дай мне знак».
Тогда он протянул ту застежку со скарабеем, которую ты дал мне далеко в стране Гошен, ту же, что ты попросил меня вернуть тебе в знак любви, когда мы с тобой обручились и ты подарил мне свое царское кольцо; этого скарабея я видела на твоей одежде, когда ты с Аной уезжал из Мемфиса…
— Я потерял его по дороге к Красному морю, — шепотом сказал мне принц, — но боялся признаться тебе, Ана, приняв это за дурной знак; ночью мне приснилось, будто явился Ки и украл его у меня.
«Этого недостаточно, — сказала я. — Эта драгоценность могла быть похищена или снята с одежды убитого принца, или получена с помощью магии».
Человек в плаще подумал немного и сказал:
«Этой ночью, меньше чем час назад, фараона и все его колесницы поглотило море. Да послужит это тебе знаком».
«Как это возможно? — ответила я. — Ведь Красное море далеко отсюда, и такая весть не дошла бы сюда за час. Уходи, лживый искуситель!»
«И все же это правда», — сказал он.
«Когда ты это докажешь, я поверю и поеду с тобой».
«Хорошо», — сказал он и ушел.
На следующий день в Мемфисе пронесся слух, что это ужасное событие действительно произошло. Слух расходился все шире и шире, и вскоре все стали клясться, что так и было на самом деле. И тогда людей охватила ярость против меня, и они бесновались вокруг дворца как львы пустыни, рыча и требуя моей крови: как только они кидались на ворота, что-то отбрасывало их назад, как будто какой-то дух охранял дворец. Так прошло несколько дней. Но сегодняшней ночью, даже уже на рассвете, я опять стояла на террасе, и из-за деревьев опять вышел тот человек в плаще.
«Теперь ты слышала, Луна Израиля, — сказал он, — и должна поверить и уехать отсюда, хоть ты и считаешь себя здесь в безопасности, потому что дом Сети с самого начала был чудесным образом защищен от всех зол».
«Слышала и думаю, что в это можно поверить, хотя и не понимаю, как могла эта весть дойти до Мемфиса за один час. И однако повторяю тебе, незнакомец, это еще не доказательство».
Тогда он вынул из-под плаща свиток папируса и бросил его к моим ногам. Я подняла его, сломала печать и прочла написанное. Я сразу узнала почерк — это был почерк Аны, а в конце стояла твоя подпись и свиток был запечатан твоей печатью и печатью Бакенхонсу как свидетеля. Вот он, — и Мерапи вынула спрятанный на груди папирус и отдала его мне, так как опиралась на меня, чтобы не упасть.
Я развернул папирус и при свете факела прочел то, что было написано. Почерк действительно выглядел как мой, и подпись, и печати — все было в точности, как она сказала. Вот это письмо слово в слово:
«Мерапи, Луне Израиля, в моем доме в Мемфисе. Приезжай, госпожа, Цветок Любви, ко мне, твоему супругу, куда тебя проводит надежный человек, вручивший тебе это письмо. Приезжай немедля, ибо мне грозит большая опасность, так же как и тебе, и только вместе сможем мы ее избежать».
— Ана, что это значит? — спросил принц страшным голосом. — Если ты предал меня и ее…
— Клянусь богами, — начал я, закипев от возмущения, — человек я или подлый шакал, чтобы слышать такие обвинения, да еще из уст твоего высочества… — Я умолк, ибо в этот момент Бакенхонсу начал громко смеяться.
— Посмотрите на письмо! — проговорил он. — Посмотрите на письмо!
Мы посмотрели в недоумении — и на наших глазах строчки сперва покраснели как кровь, а потом стали бледнеть и совсем исчезли: вместо письма у меня в руках остался чистый лист папируса.
— Охо-хо! — смеялся Бакенхонсу. — Поистине, друг Ки, ты — первый среди магов, не считая тех пророков Израиля, которые привели тебя — куда они привели тебя, друг Ки?
Тогда, первый раз за все время, что я его знал, вечная улыбка исчезла с лица Ки, и оно словно превратилось в камень со вставленными в него двумя бриллиантами — его злобно сверкающими глазами.
— Продолжай, госпожа, — сказал принц.
— Я поверила письму. Я бежала с этим человеком. Он сказал, что нас ждет колесница. Мы вышли через боковую калитку.
«Где же колесница?» — спросила я.
«Мы поедем в лодке», — сказал он и повел меня вниз к реке. Когда мы пробирались через пальмовую рощу, из-за деревьев вдруг появились люди.
«Ты меня предал!» — воскликнула я.
«Нет, — ответил он, — меня самого предали».
Тогда впервые я узнала его голос — голос Лейбэна.
Нас схватили. Во главе этих людей был Ки.
«Вот она, колдунья, — сказал он, — которая, завершив свое черное дело, решила сбежать вместе со своим любовником-евреем, соучастником ее колдовских действий».
Они сорвали с него плащ и фальшивую бороду, и передо мной оказался действительно Лейбэн. Я прокляла его, глядя ему в лицо. Но он ответил только:
«Мерапи, то, что я сделал, я сделал из любви к тебе. Я хотел привести тебя обратно к нашему народу, потому что знал, что здесь тебя убьют. Этот маг в награду за некоторые сведения,которые я ему доставал, обещал отпустить тебя со мной, если мне удастся выманить тебя из дворца».
Это все, что он успел сказать. Нас притащили в тайную темницу большого храма и там нас разлучили. Целый день сегодня Ки и его жрецы мучили меня вопросами, на которые я не отвечала. К вечеру они вывели меня из темницы и привели сюда, и Лейбэна тоже. Когда люди увидели меня, они подняли страшный крик : «Колдунья! Колдунья! Еврейская колдунья!» Они прорвались через стражу, схватили меня, бросили на землю и стали избивать. Лейбэн пытался защитить меня, но его оттащили в сторону. Наконец толпу оттеснили, а потом — о муж мой, остальное ты знаешь. Все, что я рассказала, правда. Не могу больше.
Колени ее подогнулись, и она лишилась чувств. Мы отнесли ее в колесницу.
— Ты слышал, Ки, — сказал принц. — Что скажешь в ответ?
— Ничего, о фараон, — холодно произнес он, — ибо фараоном ты стал, как я предсказывал. Фараон, мой дух покинул меня, его похитили израильские пророки. То письмо должно было исчезнуть после того, как его прочла твоя супруга, а потом я рассказал бы тебе иную историю: историю ее тайной любви, измены и бегства с любовником. Но какой-то злой бог удержал письмо на папирусе до тех пор, пока ты сам не прочел его, — ты, никогда не писавший этого письма! Я побежден. Поступай со мной как хочешь, и прощай! Любим ты будешь всегда, тебя ведь всегда любили, но счастливым в этом мире — никогда.
— О люди! — воскликнул Сети. — Я не могу быть судьей в моем собственном доме. Вы слышали все, вы и судите. Ваш приговор этому магу.
Ответом был мощный крик:
— Смерть! Смерть от огня! Смерть, какую он готовил для невинных.
Это был конец. Но потом мне рассказывали, что когда костер догорел, была обнаружена голова Ки, похожая на раскаленный камень. Однако, лишь только ее коснулись лучи солнца, она рассыпалась и исчезла, как исчезли с папируса строчки того письма. Не знаю, правда это или нет, ибо я при этом не присутствовал.
Мы привезли Мерапи во дворец. Она прожила только три дня, ибо ее телесные и духовные силы были подорваны. Последний раз я видел ее, когда она послала за мной за час до смерти. Она лежала в объятиях Сети, шепча ему что-то об их ребенке, и выглядела особенно прелестной и счастливой. Она поблагодарила меня за дружбу и улыбнулась так, что я понял: она знала, что мои чувства к ней были больше, чем просто дружбой, и попросила заботиться о моем друге и повелителе, пока мы все не встретимся снова где-то в ином мире. Потом она протянула мне руку, я поцеловал ее и ушел, плача.
После того как она умерла, странная фантазия овладела Сети. В большом зале дворца он приказал воздвигнуть золотой трон и на этот трон он посадил ее во всем царском облачении, с нагрудными украшениями и жемчужным ожерельем; корона царицы Египта венчала ее голову. И в таком виде он представил ее знатным и государственным людям. Потом он велел набальзамировать ее и похоронить в гробнице, местонахождение которой я дал клятву никогда не разглашать; погребение состоялось без традиционных обрядов, потому что она исповедовала другую веру. Там она и спит в своем вечном доме, пока не настанет день Воскресения, и с нею спит ее маленький сын.
После этих похорон еще до появления новой луны все великие люди страны Кемет собрались в Мемфисе, чтобы провозгласить принца фараоном, а вместе с ними явилась и ее высочество принцесса Таусерт. Я присутствовал на церемонии, и странное чувство не покидало меня. Я снова видел визиря Нехези, я видел верховного жреца Рои и с ним многих других жрецов, здесь был даже старый Памбаса, с длинной белой бородой, которой он очень гордился, ибо она была не искусственной, — такой же напыщенный и пресмыкающийся, как и прежде, хотя он покинул дом принца, когда тот был лишен прав наследства, и стал служить Аменмесу. Его появление с официальным жезлом в руке заставило Сети засмеяться — единственный раз в течение многих недель.
— Так ты опять здесь, камергер Памбаса, — сказал он.
— О священнейший, о царственный повелитель, — ответил старый мошенник, — разве Памбаса, ничтожная песчинка у тебя под ногами, когда-нибудь покидал дом фараона, или того, кто будет фараоном?
— Нет, — сказал Сети, — ты ведь оставляешь только того, кто, как ты думаешь, не будет фараоном. Ну, хорошо, приступай к своим обязанностям, плут, может быть, в душе ты такой же честный, как и все остальные.
Начался величественный и древний ритуал Подношения Короны, когда говорили жрецы, переодетые в богов, и другие жрецы, изображавшие могущественных фараонов прошлого, а также знатные люди и правители других городов. Когда церемония закончилась, Сети ответил:
— Я принимаю это наследство — не потому, что я желаю им обладать, но потому, что это мое наследие и я знаю, пока я жив, я должен выполнять свой долг, в чем и дал клятву тому, кого уже нет в живых. Удар за ударом поражали Египет — чего, я думаю, никогда бы не случилось, если бы прислушались к моему голосу. Теперь Кемет истекает кровью и почти мертв. Да будет вашим и моим делом постараться вылечить и вернуть его к жизни. То недолгое время, что я буду с вами — ибо и на меня обрушились несчастья, неважно какие, — я, хотя и царствую, буду вашим слугой и слугой Кемета. Я отменяю всякие пиры и торжества в честь моего вступления на престол, но все богатства, которые пошли на их устройство, будут розданы вдовам и детям тех, кто погиб в Красном море. Теперь идите!
Все разошлись притихшие, но счастливые, поскольку на трон вступил фараон, который знал нужды Египта, любил его и был единственным, кто проявил мудрость и мужество в ту пору, когда другими овладело безумие. Потом явилась ее высочество в великолепном наряде, увенчанная короной и сопровождаемая своими приближенными, и склонилась перед троном.
— Привет фараону! — воскликнула она.
— Привет царственной принцессе Египта, — ответил он.
— О нет, фараон, — царице Египта!
Рядом с троном Сети стоял другой, тот, на который он тогда посадил мертвую Мерапи, увенчанную царской короной. Сети повернулся и некоторое время смотрел на него. Потом он сказал:
— Я вижу, это кресло свободно. Пусть царица займет его, если пожелает.
Она уставилась на него, как на сумасшедшего, хотя несомненно слышала кое-что о связанной с этим троном истории, потом гордо поднялась по ступеням и села в царское кресло.
— Твое величество долго отсутствовало, — сказал Сети.
— Да, — ответила она, — но как мое величество обещало, оно вернулось на свое законное место рядом с фараоном — и никогда больше его не покинет.
— Фараон благодарит ее величество, — сказал Сети и низко поклонился.
Прошло лет шесть. Однажды поздним вечером я сидел с фараоном Сети Мернептахом в его дворце в Мемфисе, где он всегда предпочитал жить, когда позволяли государственные дела.
Это было как раз в годовщину смерти их первенца, и об этом ему хотелось со мной говорить. Он ходил взад и вперед по комнате, и, наблюдая за ним в лучах светильника, я заметил, что он вдруг стал как будто намного старше, а лицо его — еще милее и добрее, чем прежде. Он также заметно похудел, и в глазах его появилось такое выражение, какое бывает у человека, созерцающего далекие пространства.
— Ты, конечно, помнишь ту ночь, друг? — сказал он. — Может быть, самую ужасную ночь, какую когда-либо видел мир, по крайней мере в его малой частице, называемой Кеметом. — Он помолчал, приподнял полог над входом и указал на портик снаружи. — Вон там стоял ты, а там лежал мальчик, а рядом сидела его няня — между прочим, я с огорчением узнал, что она больна. Ты ведь присматриваешь за ней, да, Ана? Скажи ей, что фараон навестит ее, когда сможет.
— Я все помню, фараон.
— Да, конечно, как не помнить, ведь ты любил ее и мальчика тоже, и даже меня — его отца. И будешь по-прежнему любить нас, когда мы достигнем той страны, где забывается плотская жизнь со всеми ее запретами и страстями и остается только одна любовь — и мы тоже будем всегда любить тебя.
— Да, — ответил я, — поскольку любовь — ключ к жизни, и только над теми, кто никогда не научился любить, тяготеет проклятие.
— Почему же проклятие, Ана, ведь, если жизнь продолжается, они еще могут научиться любить. — Он замолчал и после недолгой паузы заговорил снова: — Я рад, что он умер, Ана, хотя, если бы он был жив, он стал бы фараоном после меня, поскольку у царицы никогда не будет детей. Но что значит — быть фараоном? Вот уже шесть лет я царствую и, кажется, меня любят. Царствую над растерзанной страной, которую стараюсь связать воедино, над больной страной, которую стараюсь вылечить, над опустевшей землей, которую стараюсь заставить забыть. О! Проклятие этих израильтян хорошо сработало. И я думаю, в этом моя вина, Ана. Если бы я был настоящим мужчиной, то вместо того, чтобы сбросить с себя бремя ответственности, я должен был восстать против моего отца Мернептаха и его политики, и если нужно — поднять народ. Тогда бы израильтяне свободно ушли и никакие бедствия не постигли бы Кемет. Впрочем, возможно, я сделал то, что должен был сделать, и что случилось, то случилось. А теперь мое время подходит к концу, и я уйду отсюда, чтобы уравнять свой счет, насколько смогу, моля о том, чтобы нашлись понимающие и великодушные судьи.
— Почему фараон так говорит? — спросил я.
— Не знаю, Ана, но в последнее время моя жена Мерапи почему-то не выходит у меня из головы. Она была по-своему мудрой, такой же мудрой, как и любящей, не правда ли, и если бы мы ее снова сейчас увидели, может быть, она бы ответила на твой вопрос. Но хотя мне кажется, что она совсем рядом, я никак не могу ее увидеть. А ты можешь, Ана?
— Нет, фараон. Правда, однажды вечером старый Бакенхонсу поклялся, что видел, как она прошла мимо нас и, проходя, пристально посмотрела на меня.
— А, Бакенхонсу! Ну, он тоже мудрый и любил ее на свой лад. К тому же плоть все больше с него сходит — хотя, возможно, он еще успеет возложить свои приношения в наших с тобой гробницах. Впрочем, Бакенхонсу теперь в Танисе — или в Фивах — у ее величества, за которой он любит наблюдать, как и я. Так что он ничего не может рассказать нам о своих видениях. В этой комнате очень жарко, Ана. Давай выйдем.
Мы откинули полог и остановились между колоннами портика, глядя в сад, таинственно сумеречный в лунном свете, и разговаривая о том о сем, кажется об израильтянах, которые, как мы слышали, в это время странствовали в пустынях Синая. Потом мы вдруг замолчали — и он, и я.
Туча наплыла на лицо луны, погрузив мир во тьму. Она ушла, и я вдруг почувствовал, что мы уже не одни. Перед нами лежал коврик, а на коврике — мертвое дитя, царственное дитя по имени Сети; возле коврика стояла женщина и смотрела на ребенка глазами, полными муки, — еврейская женщина, прозванная Луной Израиля.
Сети коснулся моей руки и указал на женщину, а я указал на ребенка. Мы стояли, затаив дыхание. Потом, внезапно нагнувшись, Мерапи подняла ребенка и протянула его отцу. Но — о чудо! — он уже не был мертвым: нет, он заливался смехом и, увидев отца, обнял, как мне показалось, его за шею и поцеловал в губы. Более того, мука в глазах женщины вдруг сменилась неизъяснимой радостью, и она стала прекраснее, чем звезда. Потом, смеясь так же, как и ребенок, Мерапи повернулась к Сети, поманила его и исчезла.
— Мы увидели мертвых, — сказал он мне, прервав молчание, — и, о Ана, мертвые продолжают жить!
В ту же ночь, еще не рассвело, во дворце раздался крик, пробудивший меня ото сна. Повторяясь, он звучал под сводами: «Славного бога фараона больше нет! Ястреб Сети улетел на небо!»
Во время погребения фараона я положил обе половинки чаши ему на грудь, чтобы он мог отпить из нее, когда настанет день Воскресения.
Здесь кончается рассказ писца Аны, советника и друга царя, им любимого.
Генри Райдер Хаггард
Принцесса Баальбека
ПРОЛОГ
Салахеддин, повелитель верных, султан, сильный в помощи, властитель Востока, сидел ночью в своем дамасском дворце и размышлял о чудесных путях Господа, который поднял его на высоту. Султан вспомнил, как в те дни, когда он еще был малым в глазах людей, Нуреддин, властитель Сирии, приказал ему сопровождать своего дядю, Скиркуха, в Египет, куда он и двинулся, как бы ведомый на смерть, и как против воли он достиг там величия. Он подумал о своем отце, мудром Эюбе, о сверстниках-братьях, из которых умерли все, за исключением одного, и о любимой сестре. Больше всего думал он о ней, Зобеиде, сестре, увезенной рыцарем, которого она полюбила, полюбила до готовности погубить свою душу; да, о сестре, украденной англичанином, другом его юности, пленником его отца, сэром Эндрю д'Арси. Увлеченный любовью, этот франк нанес тяжкое оскорбление ему и его дому. Салахеддин тогда поклялся вернуть Зобеиду обратно, хотя бы из Англии, и даже составил план убить ее мужа и захватить ее, но, подготовив все, узнал, что она умерла. После нее осталась малютка, по крайней мере, так донесли ему его шпионы, и он рассчитал, что, если дочь Зобеиды жива, она теперь стала взрослой девушкой. И его мысль со странной настойчивостью возвращалась к незнакомой племяннице, своей ближайшей родственнице, хотя в жилах ее и текла наполовину английская кровь.
От далеких, полузабытых воспоминаний мысль султана перешла на бедствия, на потоки крови, среди которых протекли его дни, на последнюю борьбу между последователями пророков Иисуса и Магомета, на будущую Джихад (священную войну), к которой готовился он. Тут Салахеддин вздохнул, потому что был милосерд и не любил кровопролитий, хотя жестокая религия и вовлекала его то в одну, то в другую войну.
Салахеддин заснул и увидел во сне мир. В грезах какая-то девушка подошла к нему и подняла свое покрывало; перед ним стояла красавица, с чертами лица, походившими на его собственные, но более красивыми, и он узнал в ней дочь своей сестры, бежавшей с английским рыцарем. Он удивился, почему она явилась к нему, и во сне попросил Аллаха объяснить ему это. Тогда вдруг он увидел, что та же самая женская фигура стоит в долине Сирии, а по обе стороны от нее виднеются бесчисленные орды сарацин и франков, и он знает, что тысячи и десятки тысяч этих людей обречены на смерть. Что это? Он, Салахеддин, с обнаженной саблей выезжает перед войском, но девушка подняла руку и остановила его.
— Что ты делаешь здесь, племянница? — спросил он.
— Я пришла, чтобы с твоей помощью спасти многие жизни, — ответила она, — для этого я была рождена от твоей крови, для этого я и послана к тебе. Опусти оружие, султан, и пощади их.
— Скажи же, девушка, какой выкуп ты дашь за спасение этой толпы? Какой выкуп и какой дар?
— Выкуп — моя собственная кровь, которую добровольно отдаю, дар Божий — мир твоей грешной душе, о султан!
И, протянув руку, девушка наклонила его наточенную саблю, и острие оружия дотронулось до ее груди.
Салахеддин проснулся; странный сон изумил его, но он никому ничего не сказал. На следующую ночь повторились те же грезы, и воспоминание о сновидении не оставляло его весь следующий день, но опять он ничего не сказал.
Когда же в третью ночь тот же сон приснился ему еще живее, он убедился, что сам Бог послал ему это видение, потребовал к себе своих имамов и снотолкователей и стал держать с ними совет. Выслушав его, помолившись и поговорив между собой, они сказали:
— О султан, вызвав тени, Аллах предупредил тебя, что девушка, твоя племянница, живущая далеко, в Англии, благородством души и самопожертвованием в неопределенном будущем избавит тебя от пролития целого моря крови и принесет стране покой. Поэтому привлеки ее к своему двору, постоянно держи при себе, потому что, если она уйдет от тебя, мир уйдет вместе с нею.
Салахеддин сказал, что это толкование сна мудро и истинно, потому что он и сам так понял свои грезы. Потом он потребовал к себе одного предателя-рыцаря, носившего на груди крест, но в тайне принявшего ислам, своего франкского шпиона, приехавшего из той страны, в которой жила дочь Зобеиды, и расспросил его о ней самой, о ее отце и доме. С ним, с другим своим разведчиком, считавшимся христианским пилигримом, и с принцем Гассаном, одним из величайших и самых доверенных его эмиров, Салахеддин составил хитрый план захватить девушку в плен, если бы она не согласилась добровольно приехать в Сирию.
Кроме того, желая, чтобы ее положение было достойно ее высокого происхождения и судьбы, он декретом возвел никогда не виданную им племянницу в сан принцессы Баальбекской, сделал ее владелицей больших земель, которыми до нее правил ее дед Эюб и ее дядя Изэдип. Он купил могучую военную галеру, наполнил ее опытными моряками и отборными воинами, отдав их под команду принца Гассана, написал письмо английскому лорду сэру Эндрю д'Арси и его дочери и приготовил для нее царственный подарок. Он приказал своим посланцам постараться уговорить девушку уехать в Сирию, а если это не удастся, захватить ее силой или хитростью, но прибавил, что без нее никто не должен осмелиться снова взглянуть ему в лицо. В Англию он послал также двоих франкских шпионов, знавших место, где жила знатная девушка; один из них — предатель-рыцарь — был опытным моряком и капитаном корабля.
Вот что сделал Салахеддин и стал терпеливо ждать, чтобы Господь пожелал исполнить видение, которым Он во сне заполнил его душу.
ЧАСТЬ I
I. В ВОЛНАХ БУХТЫ СМЕРТИ
С гребня старинной стены на Эссекском берегу Розамунда, повернув лицо к востоку, смотрела на океан. Справа и слева, но немного позади нее, точно стражи при своей госпоже, стояли ее двоюродные братья-близнецы Годвин и Вульф, высокие статные молодые люди. Годвин был недвижим, как статуя; его сложенные руки лежали на рукоятке длинного, спрятанного в ножны меча, острие которого опиралось в землю; брат же его Вульф беспокойно шевелился, наконец громко зевнул. Красивы были они; полным расцветом молодости и здоровья сияли все трое: царственная Розамунда с темными волосами и глазами, с кожей белой, как слоновая кость, с тонким станом, с букетом желтых луговых цветов в руке; бледный, статный Годвин с задумчивым лицом и воинственный Вульф с мужественным челом и с синими глазами — саксонец до конца ногтей, несмотря на нормандскую кровь своего отца.
Услышав незаглушенный зевок, Розамунда повернула голову с медлительной грацией, которой отличались все ее движения.
— Неужели вы уже хотите спать, Вульф, хотя солнце еще не зашло? — спросила она своим богатым, низким голосом, который благодаря чужеземному акценту казался непохожим на все остальные женские голоса.
— Кажется, да, Розамунда, — ответил он. — Сон помог бы скоротать время. Ведь теперь вы перестали собирать желтые цветы, за которыми мы приехали издалека, и оно тянется слишком долго.
— Стыдитесь, Вульф, — с улыбкой сказала она. — Посмотрите на море и на небо, на эту чудную пелену, сверкающую золотом и пурпуром.
— Я пристально смотрел на нее с полчаса, кузина Розамунда, а также на вашу спину, на левую руку Годвина и на его профиль, смотрел так долго, что мне, право, представилось, будто я стою на коленях в приорстве Стенгет и рассматриваю каменное изображение моего отца в то время, как приор Джон служит мессу. Если поставить статую на ноги — увидишь Годвина; те же скрещенные руки на рукоятке меча, то же холодное молчаливое лицо с глазами, поднятыми к небу.
— Да, это Годвин, каким он будет когда-нибудь, будет, если святые позволят ему совершить такие же деяния, какие исполнил наш отец, — прервал его брат.
Вульф посмотрел на него, и странное вдохновение вдруг заблестело в его синих глазах.
— Нет, я думаю, ты не будешь таким, — сказал он. — Может быть, ты совершишь не меньшие подвиги и даже более великие, но, конечно, в последний раз ты ляжешь, завернутый не в кольчугу, а в монашескую рясу, если только женщина не помешает тебе пойти по этой кратчайшей дороге к небесам. Скажите же мне, о чем вы думаете оба? Я спрашивал себя об этом, и мне любопытно узнать, насколько я был далек от истины? Говорите первая вы, Розамунда. Ну, конечно, не всю правду — мысли девушки принадлежат только одной ей, — откройте лишь сливки их, то есть те думы, которые можно, так сказать, снять.
Розамунда вздохнула.
— Я, я думала о Востоке, где вечно светит солнце, небо голубое, как камни на моем поясе, а умы людей полны странной ученостью.
— И где женщины — рабыни мужчин, — прервал ее Вульф. — Однако естественно, что вы думали о Востоке, ведь в ваших жилах течет отчасти восточная кровь, и кровь очень благородная, если рассказывают правду. Скажите, принцесса… — И он немного насмешливо преклонил перед ней колено, хотя насмешка не могла скрыть его серьезного почтения. — Скажите, принцесса, моя кузина, внучка Эюба и племянница могучего монарха Салахеддина, не желаете ли вы покинуть нашу бедную страну и осмотреть ваши владения в Египте и Сирии?
Она выслушала его, и ее глаза загорелись пламенем, статная фигура выпрямилась, грудь начала высоко подниматься, а тонкие ноздри расширились, точно вдыхая сладкий, знакомый аромат. Действительно, в эту минуту Розамунда казалась настоящей королевой.
На вопрос Вульфа она ответила вопросом:
— А как, Вульф, встретят там меня, нормандку д'Арси и христианку?..
— Первое они простят вам, потому что ваша нормандская кровь совсем уж не так дурна; что же касается до второго… Ну, ведь веру можно и переменить.
Теперь заговорил Годвин, заговорил в первый раз.
— Вульф, Вульф, — сурово произнес он, — следи за тем, что болтает твой язык, потому что некоторых вещей нельзя говорить даже в виде глупой шутки. Видишь ли, я люблю нашу двоюродную сестру больше, чем кого бы то ни было на земле…
— По крайней мере, в этом мы сходимся, — перебил его Вульф.
— Больше, чем кого бы то ни было на земле, — продолжал Годвин, — но клянусь святой кровью и святым Петром, близ церкви которого мы стоим, я убил бы ее собственной рукой, раньше чем ее губы коснулись бы книги лжепророка.
— Вы понимаете, Розамунда, — насмешливо сказал Вульф, — что вам нужно быть осторожной; Годвин всегда держит данное слово, а такая смерть была бы жалким концом для существа высокого рождения, одаренного большой красотой и умом.
— О, перестаньте насмехаться, Вульф, — заметила молодая девушка, касаясь его туники, под которой скрывалась кольчуга. — Перестаньте смеяться и попросите святого Чеда, строителя этой церкви, чтобы ни мне, ни вашему любимому брату, который действительно хорошо поступил бы, убив меня в подобном случае, не представилось бы такого ужасного выбора.
— Ну, если бы это случилось, — ответил Вульф, и его красивое лицо вспыхнуло. — Я думаю, мы знали бы, как поступать. Впрочем, разве уж так трудно сделать выбор между смертью и долгом?
— Не знаю, — ответила она, — часто жертва кажется легкой, пока смотришь на нее издали… А потом ведь иногда теряешь именно то, что дороже жизни…
— Что именно? Вы говорите о землях, богатстве или… любви?
— Скажите, — спросила Розамунда, меняя тон, — что там за лодка, которая идет в устье реки? Несколько времени тому назад она не двигалась; весла были подняты, казалось, пловцы наблюдали за нами.
— Рыбаки, — беспечно ответил Вульф. — Я видел их сети.
— Да, но под сетями что-то ярко блестело, точно мечи.
— Рыбы, — сказал Вульф, — у нас в Эссексе мир. — И, хотя Розамунда не казалась убежденной, он продолжал: — Ну а о чем думал Годвин?
— Если тебе угодно знать это, брат, я тоже думал о Востоке и о восточных войнах.
— Они не принесли нам большого счастья, — сказал Вульф. — Ведь наш отец был убит там, и сюда вернулось только его сердце, которое лежит там, в Стенгете.
— Разве он мог бы умереть лучшей смертью, — спросил Годвин, — нежели сражаясь за крест Христов? Разве о его кончине не рассказывают до сих пор? Клянусь Богоматерью, я молю Бога, чтобы он послал мне хотя бы вполовину такой же славный конец!
— Да, он умер хорошо, — сказал Вульф, и его синие глаза блеснули, а рука потянулась к рукоятке меча. — Но, брат, в Иерусалиме такой же мир, как и в Эссексе.
— Мир? Да, но, думаю, на Востоке снова вспыхнет война.
Монах Петр, тот, которого мы видели в прошедшую субботу в Стенгете, покинул Сирию шесть месяцев тому назад, он сказал мне, что дело быстро подвигается к этому. Уже и теперь султан Саладин, засевший в своем Дамаске, отовсюду созывает войска, а его священники проповедуют войну племенам Востока и восточным баронам. А неужели, брат, если начнется борьба за крест, мы не примем в ней участия, как наши деды, отцы, дядя и столько членов нашего рода? Неужели останемся прозябать здесь, в этой тусклой стране, как прозябали многие годы по желанию нашего дяди со дня возвращения из Шотландии, будем считать наш скот, возделывать пахотные поля, как крестьяне, зная, что в это время люди, равные нам, бьются с язычниками, знамена развеваются и красная кровь орошает святые пески Палестины?
Теперь вспыхнула душа Вульфа.
— Клянусь Богоматерью на небе и нашей дамой на земле, — сказал он, взглянув на Розамунду, которая смотрела на братьев спокойным, задумчивым взглядом, — иди на войну, когда тебе вздумается, Годвин, я тоже пойду с тобой, и как мы родились в один и тот же час, так пусть и умрем в одну и ту же минуту.
Его рука, игравшая мечом, быстро обнажила длинное тонкое лезвие и высоко подняла его, сталь вспыхнула в лучах солнца, и Вульф голосом, который заставил диких птиц тучей подняться с воды, повторил старинный боевой клич д'Арси, звучавший на стольких полях битв: «Д'Арси, д'Арси! Против д'Арси — против смерти». Потом он снова спрятал меч в ножны и прибавил смущенным голосом:
— Разве мы дети, что бьемся там, где нет врагов? А все же, брат, хотелось бы поскорее встретиться с неприятелем! — Годвин мрачно улыбнулся, но ничего не ответил, зато Розамунда сказала:
— Значит, кузены, вы хотели бы уехать, чтобы, может быть, не вернуться больше? И разлучиться со мной! Но, — ее голос слегка дрогнул, — таков удел женщины, мужчина любит обнаженный меч больше всего; впрочем, будь иначе, я думала бы о вас хуже. А между тем, не знаю почему, — и она слегка вздрогнула, — я сердцем чувствую, что небо часто исполняет такие молитвы. О, Вульф, сейчас в свете заката ваш меч казался красным.
Я говорю, что он казался очень красным в свете солнца. Мне страшно, я сама не знаю чего. Ну, пойдемте, ведь до Стипля девять миль, а скоро стемнеет. Только прежде, братья, войдемте в церковь и помолимся святому Петру и святому Чеду, чтобы они охраняли нас во время нашего пути.
— Путь? — спросил Вульф. — Чего вы можете бояться во время девятимильной поездки по берегу черной реки?
— Я говорила о пути, Вульф, который окончится не в Стипле, а там. — И она подняла руку, указывая на спокойно темневшее небо.
— Хороший ответ, — сказал Годвин, — особенно хорошо звучит он здесь, в этом старинном месте, откуда столько людей отправилось на покой: множество римлян, которые умерли, когда эти стены были их крепостью, множество саксонцев, явившихся после них, и еще многие, многие, многие…
Они вошли в старинную церковь, в один из первых храмов, выстроенных в Британии, сложенную из римских глыб руками Чеда, саксонского святого, который жил более чем за сто лет до дней Розамунды и ее двоюродных братьев. Все трое опустились на колени перед простым алтарем; молодые люди и Розамунда помолились каждый по-своему, потом перекрестились и пошли к лошадям, привязанным под соседним навесом.
В Гол-Стипль шли две дороги, вернее, две тропинки: одна уходила на милю в глубь страны и вела через деревню Бредуель, другая, более краткая, бежала по берегу Сальтингса, в полосе воды, известной под именем бухты Смерти; ехавшему в Стипль этой дорогой приходилось повернуть от залива, оставив справа аббатство Стенгет. Братья-близнецы и Розамунда выбрали последний путь, потому что во время отлива он был удобен для лошадей. Им также хотелось вернуться домой к ужину, чтобы старый рыцарь, сэр Эндрю д'Арси, отец Розамунды и дядя близнецов, не имевших ни отца, ни матери, не стал тревожиться и, чего доброго, не выехал бы искать их.
С полчаса или больше они двигались по берегу Сальтингса, большею частью молча, тишина прерывалась только криками морской птицы да плеском волн. Нигде не виднелось ни одного человеческого существа: это было унылое, уединенное место, и только рыбаки время от времени показывались в нем. Как раз в ту минуту, когда солнце уже стало погружаться в море, трое д'Арси подъехали к берегу бухты Смерти, во время прилива вдававшейся в сушу мили на две; она постепенно сужалась, но при основании достигала приблизительно трех ярдов ширины. Молодая девушка и ее двоюродные братья ехали на отличных лошадях. Большой серый конь Розамунды, подарок ее отца, славился в окрестностях быстротой, силой и таким послушанием, что любой ребенок мог ездить на нем; лошади Годвина и Вульфа, тяжелые, прекрасно выезженные боевые кони, были приучены стоять там, где их оставили, бросаться вперед, когда этого требовали их седоки, не страшась ни криков людских, ни блещущей стали.
Вот как располагалась местность. Приблизительно в семидесяти ярдах от берега бухты Смерти и параллельно ему тянулась коса, покрытая кустами и немногими редкими дубами. Она выходила в Сальтингс, и ее мыс кончался тропинкой, по которой ехали д'Арси. В промежутке между косой и берегом бухты Смерти дорога сворачивала к холмам. Этот старинный путь был проложен римлянами или другими давно умершими работниками и подводил к выстроенному ими узкому молу длиной ярдов в пятьдесят и сложенному из неотесанного камня в воде бухты, вероятно, для удобства рыбачьих лодок, которые могли стоять вдоль этой насыпи даже во время отлива. Мол сильно пострадал; в течение столетий волны размывали его, и теперь его конец лежал под водой, часть же, примыкавшая к суше, хорошо сохранилась и была достаточно высока. Когда всадники проезжали через маленькую возвышенность в конце покрытой лесом косы, быстрые глаза Вульфа, который двигался впереди всех (здесь тропинка шла по болоту и была так узка, что пришлось ехать гуськом), заметили большую пустую рыбачью лодку, привязанную к железному кольцу в стенке мола.
— Ваши рыбаки высадились, Розамунда, — сказал он, — и, конечно, отправились в Бредуель.
— Странно, — с беспокойством заметила она, — сюда никогда не приезжают рыбаки. — И она остановила свою лошадь, точно собираясь повернуть ее.
— Так это или нет, но они ушли, — сказал Годвин, наклоняясь вперед, чтобы оглядеться, — во всяком случае, нам нечего бояться пустой лодки, поедем же дальше.
Они без труда достигли каменной насыпи или мола, но в этом месте какой-то шум, раздавшийся позади, заставил оглянуться всех троих. Д’Арси увидели картину, от которой кровь прилила им к сердцу. На узкую тропинку, один за другим, вышло человек восемь с обнаженными мечами в руках; у всех, как заметили путники, лица были закрыты надетыми под шлемы или кожаные шапки полотняными полосами с прорезями для глаз.
— Засада, засада! — крикнул Вульф, обнажая меч. — Скорее за мной на дорогу в Бредуель! — И он пришпорил лошадь. Конь бросился вперед, но в следующее мгновение сильная рука заставила его присесть. — Помилуй Бог, — вскрикнул Вульф, — тут еще!
И действительно, другой отряд воинов с оружием и с закрытыми лицами выбежал на бредуельскую тропинку, во главе их виднелся плотный человек, по-видимому, вооруженный только длинным кривым ножом, висевшим на его поясе, и одетый в цепную кольчугу, которая проглядывала через открывшуюся тунику.
— К лодке, — крикнул Годвин, но, услышав это, толстый человек засмеялся резким, пронзительным смехом. Даже в эту минуту все трое расслышали его.
Они поехали по молу, потому что им некуда было больше свернуть: обе дороги преграждали люди. Когда они подъехали к лодке, им стало понятно, почему смеялся плотный воин: она стояла на толстой цепи, которую нельзя было перерубить; кроме того, парус и весла исчезли из нее.
— Плывите в ней, — прозвучал насмешливый голос одного из спутников толстяка, — или, по крайней мере, пусть ваша дама войдет в нее; тогда нам не придется нести ее в ладью…
Розамунда страшно побледнела, лицо Вульфа то вспыхивало, то бледнело, его рука сжимала меч. Годвин, спокойный, как всегда, проехал несколько шагов вперед и произнес:
— Скажите, чего вы хотите от нас? Денег? У нас их нет, с нами только лошади и оружие, но то и другое будет дорого стоить вам.
Человек с кривым ножом вышел немного вперед в сопровождении высокого гибкого слуги или оруженосца, которому шепнул несколько слов на ухо.
— Мой господин находит, — ответил высокий воин, — что у вас есть нечто драгоценнее королевского золота — красавица, которую с нетерпением ждут в одном месте. Отдайте ее нам, а потом уезжайте на ваших конях и с вашим оружием, вы — храбрые молодые люди, и мы не желаем проливать вашу кровь.
Теперь наступила очередь братьев рассмеяться.
— Отдать вам ее, — воскликнул Годвин, — и с бесчестьем продолжать наш путь? Хорошо, мы отдадим ее с нашим последним вздохом, но не раньше. Куда же вы хотите отвезти леди Розамунду?
Те снова шептались.
— По словам моего господина, — послышался ответ, — всякий, кто ее видит, поддается очарованию, но особенно ее ждут в доме рыцаря Лозеля.
— Рыцарь Лозель! — прошептала Розамунда и побледнела еще сильнее.
Этот Лозель был очень могущественным человеком и уроженцем Эссекса. Он владел кораблями, о его подвигах на море и на Востоке рассказывали нехорошие вещи. Он однажды просил руки Розамунды и, получив отказ, наговорил таких угроз, что Годвин, как старший из близнецов, вызвал его на бой, бился с ним и ранил его. После этого Лозель исчез неизвестно куда.
— Значит, сэр Гюг Лозель среди вас? — спросил Годвин. — И замаскирован, как все вы, обыкновенные трусы? Если так, я желаю встретиться с ним лицом к лицу и закончить дело, которое начал в снегу, на Рождество, двенадцать месяцев тому назад.
— Узнайте его, если можете, — ответил высокий человек.
Вульф же произнес сквозь сжатые зубы:
— Брат, я вижу только одну возможность прорваться. Мы должны поставить серого Розамунды между нашими конями и ударить на врагов.
Предводитель отряда как бы угадал их мысль; он снова наклонился к уху своего спутника, и тот громко произнес:
— Мой господин говорит, что с вашей стороны безумно стараться пробиться сквозь наши ряды; мы будем бить ваших лошадей и ловить их петлями, а между тем жаль губить таких славных коней. Когда же вы упадете, мы без труда захватим вас. Лучше сдайтесь, вы можете сделать это без стыда, ведь вам спасения нет, и два рыцаря, хотя бы очень храбрых, не в состоянии выдержать борьбу с целой толпой. Мой господин дает вам одну минуту.
Розамунда в первый раз заговорила:
— Двоюродные братья, прошу вас, не отдавайте меня живой в руки сэра Гюга Лозеля и этих людей. Лучше пусть Годвин убьет меня, чтобы избавить от ужасной участи, как он хотел сделать это ради спасения моей души, сами же постарайтесь прорваться сквозь ряды врагов и живите, чтобы отомстить за меня.
Братья ничего не ответили: они только посмотрели на воду, потом переглянулись между собой, слегка кивнув друг другу головами. Снова заговорил Годвин, потому что теперь, когда дело дошло до борьбы за жизнь и за даму, язык Вульфа, который обыкновенно двигался с такой легкостью, стал странно молчалив.
— Слушайте, Розамунда, — сказал Годвин. — Вы можете спастись только одним способом, я предложу вам отчаянное средство, но вам придется выбирать или его, или плен, так как убить вас мы не можем. Ваш серый конь верный и сильный. Поверните его, пришпорьте и заставьте войти в воду бухты Смерти. Пустите лошадь вплавь. Залив широк, но волны помогут вам, и, может быть вы не утонете.
Розамунда, слушая, взглянула на лодку. Тогда Вульф обратился к ней с решительными словами:
— Поезжайте, мы задержим ладью.
Она услышала, ее темные глаза наполнились слезами, ее гордая головка на мгновение склонилась почти к самой гриве серого.
— О, мои рыцари, мои рыцари, — сказала она. — Вы умрете за меня! Хорошо. Если так угодно Господу Богу — да свершится! Но клянусь, если вы умрете, я не взгляну ни на кого, я буду жить воспоминанием о вас. Если же вы…
— Благословите нас, и в путь, — сказал Годвин.
Тихими святыми словами она благословила братьев, круто повернула серую лошадь, вонзила шпору в ее бок и помчалась в глубокую воду. На мгновение конь остановился, потом сделал большой прыжок. Он погрузился глубоко, но ненадолго; вот голова его наездницы показалась на поверхности, и, снова сев в седло, с которого волна смыла ее, Розамунда направила лошадь к далекому берегу. Крик изумления сорвался с губ грабителей; они не думали, что молодая девушка решится на такой отважный поступок. А братья засмеялись, видя, что серый плывет хорошо, соскочили с седел, пробежали шагов восемьдесят по молу, к самому узкому его месту, по дороге сорвав с себя плащи и обернув ими левые руки вместо щитов. В отряде -послышались мрачные проклятия, предводитель дал шепотом какое-то приказание своему переводчику, и тот громко закричал:
— Убейте их и в лодку! Мы должны догнать ее раньше, чем она доберется до берега или утонет.
Нападающие колебались; глаза воинов, преграждавших путь, говорили о ранах и смерти. Наконец замаскированные стали карабкаться на необделанные камни. Но мол был так узок, что, пока силы двух братьев не истощились, они могли биться, как двадцать человек; к тому же топь и вода мешали напасть на них с той или другой стороны. Итак, разбойникам в конце концов пришлось биться по двое против двоих д'Арси, и Вульф с Годвином были наиболее сильными из сражающихся. Их длинные мечи блеснули, взвились и опустились, и, когда Вульф поднял свое лезвие, оно было красно, как в ту минуту, когда он взмахнул им в багровых лучах заката. Раздался плеск воды, человек упал в тину и лежал там, умирая.
Противник Годвина тоже упал, как казалось, убитый.
После этого, шепнув друг другу несколько слов, братья, не дожидаясь нового нападения, сами бросились вперед. Волнующаяся толпа увидела, что они приближаются, двинулась прочь, но раньше, чем замаскированные прошли ярд, у них в тылу заработали мечи. Раздались страшные проклятия; ноги нескольких воинов попали в расщелины между камнями, и они упали ничком. В смятении троих столкнули в воду; двое утонули в тине, третий еле-еле добрался до берега, остальные бежали с мола. Двое были убиты, трое лежали на земле, пробовали встать и начать биться, но полотняные маски спустились им на глаза, и их удары не могли попасть в цель, между тем длинные мечи братьев падали на шлемы и кольчуги, точно молоты кузнецов на наковальни. Наконец их противники, умолкшие и неподвижные, замерли навсегда…
— Назад! — крикнул Годвин. — Здесь мол слишком широк, и они могут обойти нас.
И д'Арси стали медленно отступать лицом к врагу, остановились они против первого человека, которого, казалось, убил Годвин. Он лежал лицом кверху, с раскинутыми руками.
— До сих пор все шло хорошо, — с коротким смехом заметил Вульф. — Ты ранен?
— Нет, — ответил Годвин. — Только не хвались до конца битвы; их еще много, но они, конечно, не пойдут сюда. Дай
Бог, чтобы у них не было копий или луков.
Он оглянулся; вдали от берега спокойно плыл серый, а на нем сидела Розамунда. Молодая девушка видела все, потому что ее лошадь плыла немного наискось, и вот она сняла с шеи платочек и махнула им братьям. Они поняли, что она гордится их подвигом и благодарит святых за то, что они уже успели совершить такие деяния ради нее.
Годвин был прав: хотя начальник давал суровые приказания своим людям, отряд не подходил близко к ужасным мечам, замаскированные искали валунов, чтобы осыпать ими д'Арси. Но на земле лежало больше ила. чем булыжников, а камни, служившие материалом для мола, были слишком тяжелы и велики. Воины нашли только несколько валунов, бросили ими в д'Арси. но булыжники или не попадали в братьев, или не приносили им большого вреда. Немного времени спустя человек, которого звали начальником, что-то сказал солдатам через своего помощника. Несколько воинов отбежали в заросли терниев и вернулись оттуда с длинными веслами.
— Они хотят бить нас веслами. Что нам делать, брат? — спросил Годвин.
— Сделаем все, что возможно, — ответил Вульф. — Впрочем, то, что случится дальше, теперь неважно, если только воды моря пощадят Розамунду. Вряд ли враги настигнут ее: после того, как убьют нас, им еще придется отвязать лодку, сесть в нее и отчалить.
Вдруг Вульф услышал за собой какой-то шорох: Годвин внезапно вскинул руки и упал на колени. Вульф отступил: человек, которого они считали мертвым, живой и здоровый, стоял, держа окровавленный меч. Вульф кинулся на него и нанес ему несколько ожесточенных ударов, первый же из них отделил лезвие его меча от рукоятки, второй разорвал кольчугу и глубоко вонзился в его бок, на этот раз он упал, чтобы уже никогда не подняться. Вульф взглянул на брата, кровь заливала лицо Годвина, слепила его глаза.
— Спасайся, Вульф, мне же пришел конец, — прошептал он.
— Нет, тогда бы ты не говорил. — И Вульф, обняв брата, поцеловал его в лоб.
Новая мысль пришла ему в голову. Он, как ребенка, поднял Годвина, подбежал к тому месту, где стояли лошади, и вскинул его на седло.
— Держись крепче, — крикнул он, — держись за гриву и луку. Сохрани присутствие духа, держись крепче, я все-таки спасу тебя.
Накинув поводья на левую руку, Вульф вскочил на свою собственную лошадь и повернул ее. Прошло секунд десять, вооруженные веслами пираты, которые собрались к месту разветвления двух тропинок, вдруг увидели больших коней, безумно мчавшихся прямо на них.
На одном покачивался жестоко раненный человек со светлыми волосами, запятнанными кровью, держась руками за гриву и седло, на другом сидел воин Вульф, с расширенными глазами, с лицом, похожим на лик огня. Он потрясал своим красным мечом и вторично в этот день выкрикивал:
— Д'Арси, д'Арси! Против д'Арси — против смерти!
Враги увидели братьев, закричали, столпились и подняли весла, чтобы встретить всадников. Но Вульф ожесточенно пришпорил коня и хоть путь был короток, тяжелые лошади, выдрессированные для турниров, уже скакали с огромной скоростью. Вот они близко. Весла откачнулись в сторону, точно тростники; засверкали мечи, и Вульф почувствовал, что он ранен, но куда, не понял. Его меч тоже блеснул, блеснул всего раз; второго удара не успел он нанести — его противник упал, как пустой мешок.
Святой Петр! Они промчались через толпу. Годвин все еще качался наседле, а там вдали, приближаясь к берегу, серая лошадь боролась с волнами. Они пробились. Перед глазами Вульфа расплывалось красное пятно, ему казалось, будто земля поднимается им навстречу, и все кругом пылает, как огонь.
Позади затихли крики, теперь слышался только один звук: конский топот. Потом и топот ослабел, замер в отдалении — и молчание и тьма окутали сознание Вульфа.
II. СЭР ЭНДРЮ Д'АРСИ
Годвину сниться, что он умер, что где-то внизу, под ним, плывет мир, что сам он, распростертый на ложе из черного дерева, несется в черной мгле и что его охраняют двое светлых стражей.
«Это ангелы-хранители», — думается ему.
Время от времени появляются и другие духи и спрашивают ангелов, сидящих у него подле изголовья и в ногах:
— Грешила ли эта душа?
И слышится ответ ангела, сидевшего при изголовье:
— Грешила.
И снова спросил голос:
— Умер ли он, свободным от грехов?
— Он умер несвободным, с красным поднятым мечом, но погиб во время славной битвы.
— Во время битвы за крест Христов?
— Нет, за женщину.
— Увы, бедная душа, грешная, несвободная, она погибла ради земной любви. Может ли он заслужить прощение? — несколько раз повторил с грустью вопрошающий голос, становясь все слабее и слабее; наконец он затерялся вдали.
Зазвучал новый голос, голос отца Годвина, никогда не виданного им воителя, который пал в Сирии. Годвин тотчас же узнал его; у видения было лицо, высеченное из камня, как на гробнице в церкви Стенгет, на его кольчуге виднелся кроваво-красный крест, на щите красовался герб д'Арси, а в руках блестел обнаженный меч.
— Это ли душа моего сына? — спросил он у стражей, облаченных в белые одежды. — Если да, то как умер он?
Тогда ангел, бывший в ногах ложа, ответил:
— Он умер с красным поднятым мечом, умер во время честного боя.
— Он бился за крест Христов?
— Нет, за женщину.
— Он бился за женщину, когда должен был пасть в святой войне! Увы, бедный сын! Увы, значит, нам нужно снова расстаться, и теперь навсегда.
Этот голос тоже замер.
Что это? Сквозь тьму двигалось великое сияние, и ангелы, сидевшие в ногах и при изголовье ложа, поднялись и приветствовали великий свет своими пламенными копьями.
— Как умер этот человек? — спросил голос, звучавший из сияния, голос глухой и страшный.
— Он умер от меча, — ответил ангел.
— От меча врагов небес? Он бился в войне небес?
Но ангелы молчали.
— Нет до него дела небу, если он бился не за небо, — снова сказал голос.
— Пощади его, — заступились хранители, — он был молод и храбр и не знал истины! Верни его на землю, чтобы он очистился от грехов, позволь нам снова охранять его.
— Да будет так, — провещал голос. — Живи, но живи, как рыцарь небес, если ты хочешь достигнуть неба!
— Должен ли он отказаться от земной любви и земных радостей? — спросили ангелы.
— Этого я не сказал, — ответил голос, вещавший из сияния.
И странное видение исчезло.
Полное отсутствие сознания, потом Годвин очнулся и услышал другие голоса, голоса человеческие, горячо любимые, хорошо памятные. Увидел он также наклонившееся над ним лицо — лицо самое человеческое, самое любимое, самое памятное, с чертами Розамунды. Он пролепетал несколько вопросов, ему принесли поесть и велели заснуть, и он заснул. Так продолжалось много времени. Пробуждение и сон, сон и пробуждение. Наконец однажды утром Годвин проснулся по-настоящему в маленькой комнате, которая приходилась рядом с соларом, гостиной Холля в Стипле; здесь братья спали с тех пор, как дядя взял их к себе. Против Годвина на кровати-козлах сидел Вульф с перевязанными рукой и ногой; подле него стоял костыль. Он немного побледнел и похудел, но это был все тот же веселый, беспечный Вульф, лицо которого по временам умело принимать ожесточенное выражение.
— Я все еще грежу, брат, или это действительно ты?
Лицо Вульфа просветлело, и он счастливо улыбнулся: теперь он знал, что Годвин действительно пришел в себя.
— Ну, конечно, я, — ответил Вульф, — у привидений не бывает хромых ног; раны — дары мечей и людей.
— А Розамунда? Что сталось с Розамундой? Переплыл ли серый через залив, и как мы вернулись сюда? Расскажи мне обо всем скорее, скорее!
— Она сама скажет тебе все. — И, проковыляв до занавеси в двери, Вульф крикнул: — Розамунда, моя… нет, наша кузина Розамунда, Годвин очнулся. Слышите, Годвин очнулся и хотел бы поговорить с вами.
Зашелестело платье, зашуршали камыши, которые устилали пол, и вот Розамунда, по-прежнему красивая, но в эту минуту от радости забывшая всю свою важность, вошла в комнату. Она увидела исхудавшего Годвина, который сидел на постели с блеском в серых глазах, сверкавших на бледном лице. У Годвина были серые глаза, у Вульфа — голубые; только это одно различие между братьями заметил бы посторонний человек, хотя, в сущности, губы Вульфа были полнее, чем у Годвина, а подбородок очерчен более резко; кроме того, он был ростом гораздо выше брата. Розамунда с легким восклицанием восторга подбежала к Годвину, обвила руками его шею и поцеловала в лоб.
— Осторожнее, — резко сказал Вульф, отворачиваясь. — Не то, Розамунда, перевязки ослабеют, и он снова начнет страдать; он и так достаточно потерял крови.
— Тогда я поцелую руку, которая спасла меня, — произнесла она и, исполнив сказанное, прижала бледную кисть Годвина к своему сердцу.
— Моя рука тоже принимала некоторое участие в этом деле, только, помнится, вы не целовали ее, кузина. Ну, ничего, я тоже поцелую его. Слава Господу, святой Деве, святому Петру, святому Чеду и всем другим святым, имен которых я не помню, слава за то, что они с помощью Розамунды, молитв приора Джона, братии стенгетского монастыря и Матью, деревенского священника, спасли моего брата. Мой горячо любимый брат!
И, подойдя к кровати Годвина, Вульф обнял и несколько раз поцеловал его.
— Осторожнее, — сухо заметила Розамунда, — не то, Вульф, вы сдвинете повязки, а он и так уже потерял достаточно крови.
Раньше чем Вульф успел ответить, раздался звук медленных шагов, занавесь откинулась в сторону, и высокий рыцарь с благородной осанкой вошел в маленькую комнату. Он был стар, но казался еще старше своих лет, так как горе и болезни истощили его. Снежно-белые волосы падали ему на плечи. Его лицо было бледно, заострившиеся черты казались как бы тонко выточенными и, несмотря на разницу в возрасте, изумительно напоминали черты Розамунды. Это был ее отец, знаменитый лорд сэр Эндрю д'Арси. Розамунда повернулась и присела перед ним с восточной грацией; Вульф наклонил голову, Годвин, шея которого слишком окаменела, просто протянул ему руку. Старик посмотрел на него с гордостью в глазах.
— Итак, ты останешься жив, мой племянник, — сказал он, — и я благодарю за это Подателя жизни и смерти! Клянусь Богом, ты храбрец, достойный отпрыск рода норманна д'Арси и Улуина-саксонца. Да, ты один из лучших потомков их.
— Не говорите так, дядя, — сказал Годвин, — здесь есть более достойный человек. — И своими худощавыми пальцами он погладил руку Вульфа. — Ведь Вульф провез меня через ряды нападающих. О, я помню, как он вскинул меня на вороного и приказал крепко держаться за гриву коня и седельную луку. Да, я помню наше нападение и его крик: «Против д'Арси — против смерти!», помню блеск вражеских мечей, но больше — ничего.
— Я жалею, что не был с вами и не помогал вам в этой битве, — сказал Эндрю. — О дети, грустно быть больным и старым. Я обрубок, только тлеющий обрубок, но знай я…
— Отец, отец, — сказала Розамунда, обнимая его, — вы не должны так говорить. Вы уже выполнили вашу задачу.
— Да, мою часть дела, но мне хотелось бы сделать больше! О, мой святой, попроси Господа дать мне умереть с обнаженным мечом, с военным кличем наших дедов на губах. Да, я не хотел бы угаснуть, как старая, изъезженная боевая лошадь в конюшне! Простите меня, дети, но я поистине завидую вам. Когда я увидел, что вы лежите в объятиях друг друга, я чуть не заплакал от злости при мысли, что горячий бой происходил в какой-нибудь миле от моих дверей, а я не участвовал в нем.
— Я не знаю, что случилось, — сказал Годвин.
— Конечно, не знаешь, ведь ты больше месяца лежал без чувств. Но Розамунда знает все и расскажет тебе. Ляг, Годвин, и слушай.
— Вы приказали мне плыть, и, пришпорив коня, я заставила его броситься в воду. На мгновение волны сомкнулись над моей головой, потом я всплыла на поверхность, но вода смыла меня с седла; тем не менее мне удалось снова сесть на коня. Он послушался моего голоса и поводьев и покорно поплыл к отдаленному берегу. Волны помогали ему, поэтому я повернула голову и увидела все, что происходило на моле. На моих глазах враги кидались на вас и падали от ваших мечей, а потом вы напали на них и бегом вернулись обратно. Наконец, как мне казалось, после долгого времени и когда я была уже далеко, я заметила, что Вульф вскинул Годвина на коня. Я поняла, что это Годвин, потому что его посадили на вороного, следила я также, как вы неслись по молу, как исчезли.
К этому времени я уже была подле берега, серый страшно устал и глубоко ушел в воду, но ласковыми словами я подбодрила его, и, хотя его голова дважды погружалась под воду, он все-таки нашел опору для усталых ног. Отдохнув немного, мой конь бросился вперед и короткими переходами двинулся через топь. Наконец мы благополучно достигли земли, тут он остановился, дрожа от страха и усталости. Едва серый отдышался, я пустилась в путь, так как увидела, что враги отвязывают лодку… В Стипль я приехала, когда уже стемнело; отец стоял у ворот. Теперь рассказывайте вы, отец.
— Немного остается досказать, — заметил сэр Эндрю. — Вы, дети, помните, что я был против поездки за цветами или за чем-то там еще к церкви святого Петра, за девять миль от дома, но так как Розамунде очень хотелось этого, а у нее немного развлечений, то я и отпустил ее с вами. Помните также, что вы отправились без кольчуг и сочли меня неразумным, когда я вернул вас и заставил надеть их. Вероятно, мой святой покровитель или ваши ангелы вселили в меня мысль сделать это, ведь без такой предосторожности вы теперь были бы мертвы. В то утро я почему-то много думал о сэре Гюге Лозеле (если только такой предатель и пират может называться сэром и рыцарем, хотя от него нельзя отнять стойкости и храбрости) и о том, что он грозил, несмотря на все наши старания, украсть Розамунду. Правда, мы слышали, что он отплыл на Восток, на войну против Саладина или заодно с ним, потому что он всегда был предателем. Но разве люди не возвращаются с Востока? Вот почему я велел вам вооружиться: смутное предчувствие говорило мне, что Лозель совершит попытку привести в исполнение свои слова, и я не ошибся: ведь, конечно, это нападение было его делом.
— Я так и думал, — сказал Вульф, — Розамунда знает, что высокий оруженосец, переводчик чужеземца, которого он называл господином, сказал, что именно рыцарь Лозель желает увезти ее.
— Этот господин — мусульманин, спросил сэр Эндрю.
— Не знаю, дядя, разве я могу сказать, ведь его лицо было замаскировано, как и у всех остальных, а говорил он только через посредника. Но, пожалуйста, продолжайте рассказ, которого Годвин еще не слыхал.
— Он короток. Розамунда рассказала мне о том, что случилось, хотя немного понял я из ее слов, потому что она совсем обезумела от печали, холода и страха, я узнал только, что вы бились на старом моле и что она сама переплыла через бухту Смерти, что казалось невероятным; я созвал всех людей, которых мог достать, и приказал ей остаться дома с несколькими слугами, на что она согласилась с неохотой, сам же я отправился отыскивать вас или ваши трупы. Ночь мешала двигаться вперед, но мы освещали путь фонарями и наконец увидели место, где соединяются две дороги. Там стояла вороная лошадь — твой конь, Годвин. Он был ранен так сильно, что не мог идти дальше: я громко застонал, думая, что ты погиб. Но мы все же пустили коней вперед; вдруг раздалось ржание другой лошади, и мы увидели чалого, тоже без седока; он стоял у края дороги с печально опущенной головой.
«Поводья держит кто-то лежащий на земле!» — закричал один из моих спутников. Я соскочил с седла, наклонился и увидел вас обоих. Вы лежали, сжимая друг друга в объятиях, или мертвые, или без памяти. Я приказал одним из людей поднять вас и отнести домой, других же послал в Стенгет за приором и монахом Стефаном, доктором, сам же с немногими слугами двинулся дальше, чтобы, если возможно, отомстить врагу. Мы доехали до залива, но не увидели ничего, кроме пятен крови и — странная вещь — твоего меча, Годвин. Его рукоятка сидела между камнями, а на острие было письмо.
— Какое? — спросил Годвин.
— Вот оно, — ответил старик, вынимая из складок платья кусок пергамента. — Пусть кто-нибудь из вас прочтет его, ведь вы все ученые, а мое зрение плохое.
Розамунда взяла пергамент. Торопливым, но отчетливым почерком на французском языке на нем стояло: «Меч храбреца. Если он умер, заройте оружие вместе с ним. Если же он, как я надеюсь, остался, жив, верните ему меч. Мой господин пожелал бы оказать такую честь храброму врагу, которого, если он жив, он, может быть, встретит когда-либо». Подпись: «Гюг Лозель или другой».
— Значит, «другой», — сказал Годвин, — потому что Лозель не умеет писать, а если бы и умел, то никогда не начертал бы таких рыцарских слов.
— Может быть, слова эти звучат по-рыцарски, но деяния писавшего были достаточно низки, — возразил сэр Эндрю. — Поистине, я не понимаю этого письма.
— Переводчик называл своим господином низкорослого человека, — заметил Вульф.
— Да, племянник, но ведь вы его видели, а в пергаменте говорится о господине, которого Годвин может увидеть, о господине, который мог бы пожелать, чтобы пишущий оказал честь раненому или павшему противнику.
— Может быть, он написал все это для отвода глаз?
— Может быть, может быть, но все это меня изумляет. Кроме того, мне не удалось узнать, чьи люди бились с вами. Многие видели, как лодка шла к Бредуелю; кажется, и вы видели ее, потом ночью она на парусах направилась к кораблю, стоявшему на якоре за мысом Фоульнес. Но что это был за корабль, откуда он пришел, куда скрылся, не знал никто, хотя весть о вашей стычке вызвала большое волнение.
— По крайней мере, — сказал Вульф, — мы больше не увидим этих похитителей женщин. Если бы они задумали еще какое-нибудь злодейство, то уже успели бы показаться.
Сэр Эндрю ответил с серьезным лицом:
— Я надеюсь, но все это очень странно. Как они узнали, что вы и Розамунда в этот день поехали в церковь святого
Петра на стенах? Конечно, их предупредил какой-нибудь шпион. Во всяком случае, они не обыкновенные пираты, потому что говорили о Лозеле, просили вас уйти до боя и желали захватить только Розамунду. А дело с мечом, который выпал из рук Годвина, когда его ранили, и был возвращен таким странным образом? Такие рыцарские поступки в мое время часто совершались на Востоке.
— Розамунда наполовину восточного происхождения, — беспечно перебил его Вульф, — и, может быть, наша схватка связана с этим?
Сэр Эндрю вздрогнул, его бледное лицо вспыхнуло.
Потом голосом, который показывал, что ему хочется переменить разговор, он заметил:
— Довольно, довольно. Годвин еще очень слаб; он утомляется, между тем мне еще хочется сказать несколько слов, которые, конечно, понравятся вам обоим. Племянники, в вас течет моя кровь, после Розамунды вы самые близкие мне люди, сыновья благородного рыцаря, моего брата. Я всегда горячо любил вас, гордился вами. И если это было так прежде, насколько же усилились мои чувства теперь, когда вы оказали такую высокую услугу моему дому? Вдобавок вы совершили храброе и великое деяние. В Эссексе уже много-много лет не слыхали о более рыцарском поступке; люди, сделавшие такой подвиг, должны быть непростыми джентльменами, а настоящими рыцарями. Согласно старинному обычаю я могу дать вам этот дар. Однако, чтобы никто не возражал против посвящения, я, пока вы лежали больные, отправился в Лондон и попросил аудиенции у нашего господина короля. Рассказав ему все, я обратился к нему с просьбой написать приказ посвятить вас в рыцари.
Племянники, он был очень доволен, и у меня есть его письмо, запечатанное королевской печатью, в котором говорится, чтобы я от его имени и своего собственного публично посвятил вас в рыцари в церкви приорства в Стенгете, когда мы найдем это удобным. Итак, Годвин-оруженосец, торопись выздороветь, чтобы поскорее сделаться сэром Годвином — рыцарем: я обращаюсь к тебе, потому что ты, Вульф, уже здоров, у тебя только еще не зажила рана на ноге.
Бледное лицо Годвина вспыхнуло от гордости, Вульф опустил свои смелые глаза скромно, как девушка.
— Говори ты, — обратился он к брату, — потому что мой язык неповоротлив и неловок.
— Сэр, — слабым голосом произнес Годвин, — мы не знаем, как и благодарить вас за такую большую честь; мы не думали заслужить ее, отбив только шайку разбойников. Сэр, мы можем лишь сказать, что до конца жизни постараемся быть достойными и нашего имени, и вас.
— Хорошо сказано, — заметил сэр Эндрю и прибавил точно про себя: — Он так же вежлив, как и храбр.
Вульф поднял глаза: на его открытом лице лежала печать нескрываемого веселья.
— Хотя моя речь и не очень изысканна, дядя, но я тоже благодарю вас и прибавлю, что мне кажется, нашу леди кузину тоже следовало бы посвятить в рыцари, если бы это было возможно для молодой девушки, ведь переплыть верхом через бухту Смерти больший подвиг, чем отбиться от нескольких мошенников на берегу.
— Розамунду? — ответил старик странным мечтательным голосом. — Ее положение достаточно высоко, слишком высоко для полной безопасности.
Он медленно повернулся и вышел из комнаты.
— Ну, кузина, — сказал Вульф, — если вам невозможно сделаться рыцарем, то вы, по крайней мере, можете уменьшить высоту вашего опасного положения, став женой рыцаря.
Розамунда посмотрела на него с негодованием, которое как бы боролось с улыбкой, светившейся в ее темных глазах. Она шепотом сказала, что ей еще нужно посмотреть, как приготовляют бульон для Годвина, и ушла вслед за отцом.
— Было бы добрее, если бы она сказала, что нам обоим, — заметил Вульф, когда за ней закрылась драпировка.
— Может быть, она и сделала бы это, — ответил ему брат, — но только без твоих грубых шуток, ведь в них она могла увидеть скрытое значение.
— Нет, я говорил, ничего не подразумевая. Почему бы ей и не выйти замуж за рыцаря?
— Да, но за какого рыцаря? Разве нам было бы приятно, брат, если бы ее мужем сделался чужой для нас человек?
Вульф проворчал какое-то проклятие, потом вспыхнул до корней волос.
— Ах, — заметил Годвин, — ты говоришь, не подумав, а это нехорошо.
— Там, на берегу,, она поклялась… — вставил Вульф.
— Забудь об этом. Слов, сказанных в такой час, нельзя помнить, нельзя связывать молодую девушку.
— Ей-Богу, брат, ты прав, как всегда. Мой язык болтает помимо воли, а все-таки я не могу забыть ее слов; только которого из нас?..
— Вульф!
— Я хотел сказать, что сегодня мы на дороге к счастью, Годвин. О, это была счастливая поездка. Я никогда не мечтал о таком бое и никогда не видывал ничего подобного!
И мы победили! И мы оба живы, и оба сделаемся рыцарями.
— Да, мы живы благодаря тебе, Вульф. Не возражай, это так; впрочем, меньшего нельзя было и ждать от тебя. Что же касается до пути к счастью, то на нем много поворотов, и, может быть, в конце концов, он приведет нас совсем в другую сторону.
— Ты говоришь как священник, а не как оруженосец, который скоро сделается рыцарем, заплатив за это раной на голове. Я же поцелую фортуну, улучив первую удобную минуту; если же потом она оттолкнет меня…
— Вульф, — позвала Розамунда из-за занавеси, — перестаньте так громко говорить о поцелуях и дайте Годвину заснуть, ему нужен отдых.
И она вошла в комнату с чашкой бульона в руках.
Вульф заметил, что дамы и молодые девушки не должны слушать того, что их не касается, схватил свой костыль и ушел.
III. ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ
Снова прошел целый месяц, и, хотя Годвин все еще был слаб и по временам, страдал головными болями, раны братьев зажили, и они поправились.
В последний день ноября около двух часов пополудни по дороге, которая вилась из старого Холля в Стипль, появилась величавая процессия. Во главе ее ехало несколько рыцарей в полном вооружении, а перед ними двигались их знамена; далее сэр Эндрю д'Арси тоже во всех доспехах и окруженный оруженосцами-наемниками. Рядом с ним была его красивая дочь, леди Розамунда, в великолепном платье, прикрытом меховым плащом; она ехала по правую руку одна на том самом коне, который переплыл через бухту Смерти. Молодые братья д'Арси в скромных одеждах простых джентльменов следовали за дядей в сопровождении своих оруженосцев, членов благородных домов Солькот и Денджи. Позади них виднелись еще рыцари, оруженосцы, арендаторы различных степеней и слуги, окруженные многочисленной бегущей толпой крестьян и простолюдинов, спешивших за остальными вместе со своими женами, сестрами и детьми.
Миновав деревню и достигнув большой арки, которая обозначала границу монастырских земель, процессия свернула влево и направились к аббатству Стенгет, отстоявшему мили на две от этого места, дорога шла между пахотными полями и солончаковыми зарослями, во время прилива исчезавшими под водой. Наконец показались каменные ворота аббатства, от которого оно и получило свое название «Стенгет» [317]. Здесь шествие встретили монахи, жившие на этом уединенном диком берегу со своим приором Джоном Фиц-Бриеном. Настоятель, беловолосый человек, одетый в черное платье с широкими рукавами, шел вслед за священником, державшим серебряный крест. Процессия разделилась; Годвин и Вульф с несколькими рыцарями и их оруженосцами отправились в аббатство, остальные же вошли в церковь или остались подле нее.
Двух будущих рыцарей отвели в комнату, где брадобрей коротко обрезал их длинные волосы. Потом под руководством двух старых рыцарей, сэра Антони де Мандевиля и сэра Роджера де Мерси, их провели в ванны, окруженные богатыми занавесями. Оруженосцы раздели их, и Вульф с Годвином погрузились в воду; сэр Антони и сэр Роджер разговаривали с ними через занавеси, напоминая о высоких обязанностях их призвания, а под конец облили их водой и перекрестили их обнаженные тела. После этого братьев снова одели, и, предшествуемые менестрелями, они прошли в церковь, там при входе их оруженосцам поднесли вина.
В присутствии всего общества молодых д'Арси облекли сначала в белые туники в знак чистоты их сердец, потом в красные одеяния, служившие символом крови, которую они, может быть, будут призваны пролить ради Христа, и, наконец, в длинные черные плащи — эмблемы смерти, неизбежной для всех. Когда все это было исполнено, принесли доспехи Годвина и Вульфа и сложили перед ними на ступенях алтаря. После этого все разошлись, оставив молодых людей с их оруженосцами и священниками для бдения и молитвы в течение долгой зимней ночи.
Действительно, бесконечно тянулась она в этой церкви, освещенной лишь лампадой, которая качалась перед алтарем. Вульф долго молился, наконец так устал, что его губы перестали шептать святые слова, и он впал в полусонное состояние; ему виделось лицо Розамунды, хотя здесь следовало забыть даже ее черты. Годвин же оперся локтем о могилу, скрывавшую в себе сердце его отца, и тоже молился, наконец и его серьезная душа утомилась, и он стал раздумывать о многом и многом.
Между прочим о странном сне, который приснился ему, когда он лежал больной и казался мертвым, потом об истинных обязанностях человека. Что нужно? Быть храбрым и справедливым? Конечно. Биться ради креста Христова против сарацин? Конечно, — если возможность этого встретится на его пути. Что еще? Покинуть мир и проводить жизнь, бормоча молитвы, как священники, стоящие во тьме перед ним? Необходимо ли это для Бога или человека? Для человека может быть, потому что монахи и священники ухаживают за больными, дают пищу голодным. Но для Бога? Разве он, Годвин, не послан в мир, чтобы взять на себя свою часть житейских тягот, чтобы жить полной жизнью? Ведь монашеское отречение было бы полужизнью, жизнью без жены, без ребенка, без всего, что освятило небо!
Тогда, например, ему нужно не думать больше о Розамунде? Разве он может это сделать, хотя бы ради блаженства своей души в будущей жизни?
При мысли о таком отречении даже в этом святом месте, даже в час посвящения его дух возмутился, потому что именно теперь он в первый раз почувствовал, что любит свою кузину больше всего в мире, больше жизни, может быть, больше своей души. Он с радостью умер бы за нее, охотно и спокойно. Что, если другой…
Рядом с ним, опершись руками на ограду алтаря, устремив глаза на блестящее вооружение, стоял Вульф, его брат, человек могучий, рыцарь из рыцарей, бесстрашный, благородный воин с открытым сердцем; такого рыцаря могла полюбить каждая девушка. И он тоже любил Розамунду! Годвин был уверен в этом. А Розамунда? Разве она не любит Вульфа? Ревность охватила душу Годвина. Да, даже здесь черная зависть, зашевелилась в его сердце, и ему стало так больно, что холодный пот оросил его лицо и тело.
Оставить надежду, бежать, боясь поражения? Нет, он будет действовать честно и, если потерпит неудачу, встретит свою судьбу, как это подобает храброму рыцарю: без горечи, но и без стыда. Пусть судьба решает. Все в ее воле. И, протянув руки, он обнял коленопреклоненного брата и не выпускал его из объятий, пока голова усталого Вульфа не склонилась к его плечу, точно головка ребенка к груди матери.
«О, Иисус, — простонало бедное сердце Годвина, — дай мне силу победить грешную любовь, которая может довести меня до ненависти к любимому брату. О, Иисус, дай мне силу вынести горе, если она предпочтет его мне! Сделай меня совершенным рыцарем, сильным против страданий и в случае нужды способным радоваться радостью того, кто победит его».
Началось серое утро, свет солнца упал сквозь восточное окошко и, как золотое копье, пронизал продолговатую церковь, выстроенную в форме креста, теперь сумрак наполнял только ее приделы. Вот послышался звук пения, и в западную дверь вошел приор в полном облачении, окруженный монахами и аколитами, которые раскачивали кадила. В средней части церкви он остановился и прошел в исповедальню, позвав за собой Годвина.
Молодой человек преклонил колено перед аббатом и излил перед ним всю душу, исповедался во всех своих грехах. Их было немного. Рассказал он также о своем видении, которое заставило приора задуматься; открыл свою глубокую любовь к Розамунде, свои надежды, опасения, желание быть воином, хотя раньше, в юношестве, он стремился сделаться монахом, прибавив, что он желает не просто проливать кровь, а биться с неверными во имя креста Господня, и закончил восклицанием:
— Дайте мне совет, отец мой, дайте мне совет!
— Лучший советник ваше собственное сердце, — был ответ священника. — Идите, куда оно зовет вас, и знайте, что через него вами руководит Господь. Не бойтесь неудач. Однако, если любовь и радости жизни покинут вас, вернитесь сюда, и мы снова поговорим. Идите, чистый рыцарь Христов, ничего не бойтесь, и да будет над вами благословение Христа и Его церкви!
— Какую епитимью должен я выполнить, отец мой?
— Такие души, как ваша, сами налагают на себя епитимьи.
Святые не дозволяют мне прибавить что-нибудь, — послышался кроткий ответ.
С облегченным сердцем вернулся Годвин к решетке алтаря, а Вульф, в свою очередь, занял его место в исповедальне. Нам нечего говорить о грехах, в которых признался он. Такие прегрешения бывают у всех молодых людей, и ни одно из них не было слишком тяжело. Но все же раньше, чем дать Вульфу отпущение, добрый приор велел ему меньше думать о теле и больше о душе, меньше о славе, подвигах с оружием в руках, больше об истинных целях этих подвигов. Кроме того, он посоветовал ему смотреть на своего брата Годвина как на земного руководителя и пример, потому что, по его мнению, на земле не было лучшего или более мудрого молодого человека. Наконец Джон отпустил Вульфа, сказав ему, что, если он последует данным ему советам, он достигнет великой славы на земле и на небе.
— Отец, я буду стремиться к этому всеми силами, — смиренно ответил Вульф, — но на земле не может быть двух Годвинов; иногда, отец, я боюсь, что наши пути столкнутся, потому что худо, когда два человека добиваются любви одной и той же девушки.
— Я знаю все, — тревожно сказал приор, — и если бы вы были людьми менее благородными, это могло бы казаться серьезным. Но когда дело дойдет до минуты решения, пусть благородная леди поступит согласно желаниям своего сердца, и да останется потерявший ее таким же честным в печали, каким он был в радости. Конечно, вы не воспользуетесь преимуществом в час искушения и не будете питать горечи против брата, если она сделается его невестой.
— Мне кажется, я могу быть уверен в этом, — сказал Вульф. — А также и в том. что мы, любившие друг друга с самого рождения, скорее умрем, чем изменим один другому.
— Я тоже думаю это, — ответил приор. — Но сатана силен!
Вульф тоже вернулся к решетке алтаря. Служили мессу, неофиты приняли святое таинство, потом были сделаны приношения во всем порядке. После обедни молодых людей отвели в приорство, чтобы они могли отдохнуть и немного поесть после долгого ночного бдения в холодной церкви. Братья сидели в комнате приора, и каждый думал о своем. Наконец Вульф, который, казалось, чувствовал себя неспокойно, поднялся с места, положил руку на плечо Годвина и сказал:
— Не могу больше молчать. Со мной всегда так: то, что у меня на уме, должно вылиться в словах. Мне нужно поговорить с тобой.
— Говори, Вульф, — сказал Годвин.
Вульф снова опустился на стул и несколько мгновений не двигался, устремив взгляд куда-то в пространство; ему трудно было начать говорить. Годвин читал в уме брата, как по книге, но Вульф не умел угадать мыслей Годвина, хотя обыкновенно они понимали друг друга без слов, и их сердца бывали открыты одно для другого.
— Поговорить о нашей кузине Розамунде, не правда ли? — спросил наконец Годвин.
— Да, о чем же иначе?
— И ты хочешь сказать мне, что любишь ее, что теперь, когда ты рыцарь… почти… и тебе скоро минет двадцать пять лет, ты попросишь ее сделаться твоей невестой?
— Да, Годвин, любовь пришла мне в сердце, когда она пустила своего серого в воду… и мне казалось, что я уже никогда не увижу ее больше. Скажу тебе, я почувствовал, что без нее не стоит жить.
— Тогда, Вульф, — медленно ответил Годвин, — о чем еще говорить? Спроси ее — и будь счастлив. Почему бы нет?
У нас есть земли, хотя и небольшие, а у Розамунды не будет недостатка в них. Я думаю также, что и дядя не откажет тебе, если она захочет этого, так как ты самый благородный и храбрый человек во всем нашем округе.
— За исключением моего брата Годвина, который совершенно так же отважен, да вдобавок еще добр и учен, чего нельзя сказать обо мне, — задумчиво ответил Вульф.
Несколько мгновений оба молчали. Наконец он снова заговорил:
— Годвин, несчастье в том, что ты тоже любишь ее, и там, на насыпи, у тебя были те же самые мысли.
Годвин слегка покраснел, и его тонкие длинные пальцы сильнее сжали колено.
— Ты угадал, — спокойно ответил он. — К сожалению, ты угадал. Но Розамунда не знает ничего об этом и никогда не узнает, если ты сумеешь удержать свой язык. Тебе не придется также никогда ревновать…
— Что же ты посоветуешь мне делать? — горячо спросил Вульф. — Постараться завоевать ее сердце и, может быть, хотя я в этом сомневаюсь, позволить ей отдать его мне, так как она думает, что тебе до нее нет дела?
— Почему бы и нет? — снова повторил Годвин со вздохом. — Может быть, это избавит ее от печали, тебя от сомнений и яснее наметит мой путь. Брак для тебя больше, чем для меня, Вульф, я иногда думаю, что меч должен быть моим единственным спутником жизни, а долг — моей единственной целью.
— У тебя золотое сердце, и даже теперь ты не хочешь преградить путь брату, которого ты любишь! Нет, Годвин, так же верно, как то, что я грешник или что я ее люблю больше всего на свете, я не хочу вести такую трусливую игру и победить человека, не желающего поднять меча из опасения меня ранить.
Скорее я прощусь со всеми вами и отправлюсь искать счастья или смерти в боях, не сказав ей ни слова.
— И может быть, оставишь Розамунду в печали? О, если бы мы знали… наверно, что она не думает ни об одном из нас, нам обоим было бы лучше уехать. Но, Вульф, мы не знаем этого.
По чести, мне казалось иногда, что она любит тебя.
— А иногда, говоря по чести, Годвин, я был уверен, что она любит тебя, хотя мне хотелось бы попытать счастья и узнать все из ее собственных уст. Но при таких условиях я этого не сделаю.
— Чего же ты хотел бы, Вульф?
— Попросить нашего дядю позволить нам обоим поговорить с нею, ты, как старший, пошел бы к ней первый и предложил ей подумать о твоих словах и через день дать тебе ответ.
Потом, раньше чем окончился бы этот день, я тоже поговорил бы с нею, чтобы она узнала всю правду и приступила к решению с открытыми глазами, с ясным умом, ведь в противном случае она могла бы подумать, что мы знаем намерения друг друга и что ты просишь ее руки, так как я не хочу сделать этого.
— Это честно, — ответил Годвин, — и достойно тебя, честнейшего им людей; а между тем. Вульф, я смущен. Видишь ли, мне кажется, на свете еще не было братьев, которые так любили бы друг друга, как мы с тобой. Неужели тень земной любви падет на нас и омрачит нашу дружбу, такую ясную, такую драгоценную?
— Почему? — спросил Вульф. — Полно, Годвин, решим, что этого никогда не случится и с помощью небес покажем миру, что два человека могут любить одну и т\ же даму и оставаться друзьями, не зная, которого из них она изберет (если она захочет избрать одного). Ведь, Годвин, не мы одни смотрели или будем смотреть на высокорожденную, богатую и красивую леди Розамунду. Хочешь заключить такой договор?
Подумав немного, Годвин сказал:
— Да, но это будет серьезный договор, который ради Розамунды и ради нас самих мы никогда не нарушим, не обесчестив себя.
— Так и будет, — ответил Вульф. — Ведь мы взрослые люди, а не дети, которые забавляются шуточными выдумками.
Годвин поднялся, подошел к двери, приказал своему оруженосцу, ждавшему снаружи, позвать приора Джона, сказать, что они с братом хотят посоветоваться с настоятелем об одном деле. Джон пришел; тогда, стоя перед ним с опущенной головой, Годвин рассказал ему все, и старик, знавший уже многое, быстро понял остальное; сообщил ему молодой человек также и то, что они с братом задумали. На вопрос приора Вульф ответил, что все сказанное верно и что Годвин ничего не утаил. Потом братья спросили аббата, законно ли принести такую клятву, и он ответил, что это не только законно, но и хорошо.
В конце концов братья рука об руку опустились на колени перед святым крестом, стоявшим в комнате, и в один голос слово за словом повторили клятву, которую произнес приор.
— Мы братья, Годвин и Вульф д'Арси, клянемся святым крестом Христовым, святым патроном этого места святой Марией Магдалиной и нашими собственными покровителями, святыми Петром и Чедом, стоя перед лицом Бога, нашим ангелом-хранителем и вашим, Джон, что, любя нашу двоюродную сестру Розамунду д'Арси, мы оба попросим ее руки в тех словах, как согласились сделать это, что мы подчинимся ее решению, и если она изберет кого-нибудь из нас, то не будем стараться увлечь ее или изменить ее намерения при помощи каких-либо других средств ни тайно, ни открыто, что тот из нас, кому она откажет, сделается для нее только братом, не более, хотя бы сатана старался искушать его, что, насколько это возможно для нас, простых грешных людей, мы не позволим ни горечи, ни ревности заползти в наши сердца и разделить нас, что во время воины или мира мы останемся друг для друга верными товарищами и братьями. В этом мы клянемся с открытым сердцем и твердо; в знак святости и соглашения, зная, что тот, кто нарушит клятву, будет обесчещенным рыцарем и сосудом гнева Божия, целуем распятие и друг друга.
Братья исполнили сказанное и с легким сердцем и радостными лицами стали под благословение приора, крестившего их во младенчестве, а потом отправились навстречу обществу, которое выехало, чтобы проводить их в Стипль, где должно было совершиться самое посвящение.
Итак, д'Арси наконец двинулись в Стипль. Перед ними ехали их оруженосцы с непокрытыми головами и держали за концы ножен их мечи, на рукоятках которых висели золотые шпоры. Главная нижняя зала Холля была убрана для большого пира. Между столами и помостом оставили свободное пространство, и братьев провели туда. Вперед выступили вооруженные с ног до головы сэр Антони де Мандевиль и сэр Роджер де Мерси и поднесли сэру Эндрю д'Арси, стоявшему на краю возвышения тоже в полных доспехах, мечи его племянников и шпоры; — шпоры он отдал обратно, попросив прикрепить их к обуви кандидатов. Когда это было сделано, приор Джон благословил мечи, а сэр Эндрю, привесив их к поясам своих племянников, сказал:
— Возьмите обратно мечи, которыми вы действовали так хорошо.
И он обнажил свое собственное оружие с серебряной рукояткой, оружие, принадлежавшее его отцу и деду, и, когда Вульф и Годвин преклонили перед ним колени, каждого троекратно ударил им по плечу, произнося громким голосом:
— Во имя Бога, святого Михаила и святого Георгия, посвящаю вас в рыцари. Да будете вы рыцарями доблестными!
Теперь в качестве ближайшей родственницы новопосвященных рыцарей вышла Розамунда и с помощью других дам надела на них их кольчуги, стальные шлемы, щиты в форме летучих змеев и украшенные гербовым черепом — эмблемой их рода. Когда и это было сделано, они, предшествуемые музыкантами, прошли в церковь Стипль, отстоящую от Холля сотни на две шагов, там братья положили свои мечи на алтарь и вскоре снова взяли их, произнеся клятву быть верными слугами Христа и защитниками церкви. При выходе из церковных дверей кто встретил их? Повар со своим ножом; он потребовал себе столько денег, сколько стоили их шпоры, а в заключение громко произнес:
— Если кто-нибудь из вас, молодые рыцари, совершит поступок, недостойный чести и произнесенных вами клятв (да сохранит вас от этого Бог и Его святые), я моим ножом отрублю шпоры от ваших каблуков.
Таким образом закончилась длинная церемония, и начался пышный пир; за высоким столом сидело много благородных рыцарей и дам, за столом нижним пировали оруженосцы и другие джентльмены, вне замка — арендаторы и крестьяне; детей и стариков угощали в средней части самой церкви. Когда наконец последнее кушанье было подано, расчистили середину залы Стипля; мужчины пили, менестрели играли и пели. Вино и крепкое пиво развеселили всех, между гостями начались толки, кто из двух братьев — сэр Годвин или сэр Вульф — храбрее, красивее, ученее и вежливее другого.
Один рыцарь, сэр Сюрин де Солькот, заметив, что спор делается жарким и может довести до ударов мечами, поднялся с места и объявил, что спорный вопрос должна решить красавица и что лучше всех об этом может судить та прекрасная дама, которую молодые д'Арси спасли от грабителей на моле бухты Смерти, и все закричали: «Да, пусть она скажет свое слово». Так было решено, что Розамунда отдаст свой шейный платок храбрейшему из двух, кубок вина самому красивому, а книгу молитв самому ученому.
Розамунда увидела, что ей ничего не остается делать; за исключением сэра Эндрю, Годвина и Вульфа, большей части дам и ее самой, пившей только воду, все благородные рыцари и простые люди уже разгорячились от вина и стали требовательны. Она сняла шелковый платочек с шеи и, подойдя к краю помоста, на котором сидели молодые д'Арси, в нерешительности остановилась перед своими двоюродными братьями; бедняжка не знала, кому из них отдать платок. Но Годвин что-то шепнул Вульфу; они оба протянули правые руки, схватили за два края платок, который она поднесла теперь к ним, и, разорвав его пополам, обвили этими обрывками рукоятки своих мечей. Видя их находчивость, все засмеялись и закричали:
— Вина красивейшему из двух. Уж его-то они не поделят!
Розамунда подумала с минуту, потом подняла большой серебряный кубок, самый широкий из стоявших на столе, наполнила его до краев вином, снова подошла к помосту, как бы в раздумье, и поднесла чашу братьям. Годвин и Вульф в одно мгновение наклонились к ней, и оба коснулись губами вина. Снова послышался громкий смех, и даже Розамунда улыбнулась.
— Книга, книга! — закричали гости. — Книгу молитв они не посмеют разорвать.
В третий раз с книгой в руках подошла Розамунда.
— Рыцари, — сказала она, — вы разорвали платок, вы выпили вино. Теперь я предлагаю святую книгу тому из вас, кто читает лучще.
— Отдайте ее Годвину, — сказал Вульф. — Я воин, а не писец!
— Хорошо сказано, хорошо сказано, — закричали пирующие. — Нам нужен меч, а не перо.
Но Розамунда повернулась к ним и ответила:
— Тот, кто поднимает меч, храбр; тот, кто владеет пером, мудр, но лучше всех человек, который: может управлять и пером, и мечом, как мой двоюродный брат Годвин, храбрый и ученый.
— Слушайте, слушайте ее, — закричали гости, ударяя рогами, полными вина, о стол. Когда же наступила тишина, один женский голос произнес:
— Велико счастье сэра Годвина, но мне милее сильные руки сэра Вульфа.
После этого снова начались возлияния, и Розамунда и другие дамы ушли из зала. То были грубые, жестокие времена.
На следующий день, когда большая часть гостей разъехалась, причем многие с головной болью, Годвин и Вульф прошли в солар к дяде, сэру Эндрю. Братья знали, что Розамунда была в церкви с двумя служанками и уфирала ее после крестьянского пира, происходившего в средней ее части. Братья подошли к дубовому креслу старика, которое стояло против открытого очага, снабженного трубой (это было редкостью в те времена), и преклонили колени.
— В чем дело, племянники? — с улыбкой спросил сэр Эндрю. — Вам, кажется, хочется, чтобы я снова посвятил вас в рыцари.
— Нет, сэр, — ответил Годвин. — Мы думаем о гораздо большей милости.
— Напрасно думаете, такой не существует.
— О милости другого рода, — заметил Вульф.
Сэр Эндрю подергал себя за бороду, глядя на молодых людей. Может быть, приор Джон уже шепнул ему словечко, и он угадывал, о чем заговорят они.
— В чем дело? — спросилон Годвина. — Я дам вам любой дар, если это будет в моей власти.
— Сэр, — сказал Годвин, — мы хотим попросить вас позволить нам посвататься к вашей дочери.
— Как? Обоим?
— Да, сэр.
Тут сэр Эндрю, который смеялся, редко, громко расхохотался.
— Ну, признаюсь, — сказал он, — много странностей видывал я на свете, а о такой и не слыхал. Как! Два рыцаря сразу хотят предложить свою руку одной девушке.
— Это только кажется странным, — заметил Годвин, — но вы поймете все, выслушав нас.
И старый д'Арси выслушал рассказ о том, что произошло между двумя братьями и об их торжественной клятве.
— Вы были благородны и в этом случае, как во всех других, — заметил сэр Эндрю, когда они умолкли, — но, может, принесенный обет одному из вас покажется трудным для исполнения. Клянусь всеми святыми, племянники, вы были вполне правы, говоря, что просите у меня большой милости. Знаете ли (хотя я ничего не говорил вам об этом), что, не упоминая о низком Лозеле, двое из важнейших людей нашей страны уже искали руки моей дочери, леди Розамунды?
— Это легко могло быть, — сказал Вульф.
— Так и было, а теперь я скажу вам, почему ни тот, ни другой не сделался ее мужем, хотя до известной степени я желал этого. По очень простой причине. Я сказал Розамунде об их просьбе, но она не пожелала принять предложения того или другого… А я… Ее мать вышла замуж по влечению сердца, и я поклялся, что и дочь поступит так же, потому что лучше сделаться монахиней, чем вступить в брак без любви.
Теперь посмотрим, что вы можете дать ей. Вы хорошего рода; со стороны матери в ваших жилах течет кровь Улуина, с отцовской — моя, следовательно, ее собственная. В качестве оруженосцев при ваших воспреемниках, рыцарях сэре Антони де Мандевиле и сэре Роджере де Мерси, вы храбро держались во время шотландской войны; наш господин, король Генрих, вспомнил об этом и потому так охотно согласился на мою просьбу. Позже, несмотря на вашу нелюбовь к мирной жизни, вы исполнили мое желание — отдыхали здесь со мной и не совершали других военных подвигов, кроме того, который прославил вас два месяца тому назад, дал вам возможность сделаться рыцарями, а теперь дает некоторые права на Розамунду.
С другой стороны, у вас немного земель и других богатств, так как ваш отец был младшим сыном. За пределами нашего графства вы неизвестны, ваши подвиги еще впереди; я не считаю шотландских битв; вы тогда были еще мальчиками. Между тем девушка, руки которой вы ищете, принадлежит к числу самых красивых, благородных и ученых дам в округе, потому что я, имея некоторые познания, сам учил ее. Кроме того, у меня нет наследника, и, следовательно, она будет богата. Ну, что же можете вы предложить за все это?
— Себя! — смело ответил Вульф. — Мы истинные рыцари, вы знаете все хорошее и все дурное, что в нас есть… и мы любим ее. Мы узнали это на берегу бухты Смерти, хотя до тех пор смотрели на нес только как на сестру.
— Да, — прибавил Годвин, — когда она благословила нас обоих, в наших сердцах как бы вспыхнул свет.
— Встаньте, — сказал сэр Эндрю, — и дайте мне взглянуть на вас.
Братья поднялись и остановились рядом, освещенные пылающим камином, потому что свет солнца скудно проходил сквозь узкие окна.
— Молодцы, молодцы, — сказал старый рыцарь. — Вы похожи друг на друга, как два зернышка пшеницы из одного колоса. Оба ростом в шесть футов, оба широкоплечие, хотя Вульф выше и сильнее. У обоих светлые, волнистые волосы, только там, где тебя ранил меч, Годвин, виднеется белая прядь. У Годвина серые грезящие глаза, у Вульфа синие, блестящие, как мечи. Ах, Вульф, у твоего дедушки были такие же глаза, и мне рассказывали, что в тот день, когда при взятии Иерусалима он соскочил с башни на стену, сарацинам не понравился свет, сверкавший в них. Не любил этого блеска и я, его сын, когда он бывало сердился. Вы оба молодцы; но сэр Вульф более воинственен, а сэр Годвин более мягок. Ну, скажите, что должно больше нравиться даме?
— Это зависит от женщины, — ответил Годвин, и в его глазах сразу появилось мечтательное выражение.
— Это мы постараемся узнать до наступления ночи, если вы позволите нам, — прибавил Вульф, — хотя у меня мало надежды на успех.
— Да, да, перед нами загадка. И я не завидую той, которой придется отвечать на нее, потому что разрешение вопроса может смутить девичий ум. Когда она выскажется, никто не будет знать, выбрала ли она то, что даст ей мир душевный. Не лучше ли мне запретить им задать эту загадку? — прибавил он, как бы говоря с собой.
И старик задумался, братья вздрогнули, им показалось, что ему хочется отказать им.
Наконец сэр Эндрю снова поднял голову и сказал:
— Нет, пусть будет, как желает Господь, держащий грядущее в своих руках. Племянники, вы хорошие, верные рыцари, и каждый из вас может прекрасно охранять ее, а ей нужна охрана, вы — сыновья моего единственного брата, которому я обещал заботиться о вас, главное же — я люблю вас обоих одинаково сильно, а потому пусть будет по-вашему; идите, попытайтесь получить счастье из рук моей дочери Розамунды, как вы согласились сделать это. Пусть первым идет Годвин, потом ты, Вульф. Нет, не благодарите меня. Идите же скорее. Мои часы сочтены, и я хочу узнать, как она решит эту задачу.
Братья поклонились и вышли из солара. В дверях холла Вульф остановился и сказал:
— Розамунда в церкви. Иди за ней и… О, я хотел бы пожелать тебе счастья, но прости, Годвин, не могу… Боюсь, что край тени земной любви, о которой ты говорил, уже касается моего сердца, леденит его.
— Тени нет, — ответил Годвин, — повсюду свет и теперь, и в будущем, как мы поклялись в том.
Было три часа пополудни; снежные облака затемняли последний серый свет декабрьского дня, когда Годвин, желая удлинить путь, шел через луг Стипльской церкви. В ее дверях он встретил двух служанок, которые вышли на паперть со щетками в руках, неся корзину, полную остатков еды и всякого сора. Молодой человек спросил у них, в церкви ли еще леди Розамунда, и они ответили с поклоном:
— Да, сэр Годвин, леди Розамунда приказала нам попросить вас прийти за нею и, когда она окончит молиться перед алтарем, проводить ее в Холль.
«Кто знает, — подумал Годвин, — провожу ли я ее от алтаря в Холль или останусь один в церкви?»
И все-таки ему показалось хорошим признаком, что Розамунда попросила его прийти, хотя другие, может быть, придали бы другое значение этой просьбе.
Годвин вошел в церковь; он осторожно ступал по тростнику, которым был усеян пол средней церковной части, и при свете неугасимой лампады увидел Розамунду; она стояла перед небольшой ракой, ее грациозная головка склонилась на руки, и она горячо молилась. «О чем? — подумал он. — О чем?»
Она не слышала ничего, и, подойдя к алтарю, д'Арси остановился в терпеливом ожидании. Наконец Розамунда глубоко вздохнула, поднялась с колен и повернулась к нему; при свете лампады он увидел на ее лице следы слез. Может быть, и она говорила с приором Джоном, который был также и ее духовником. Кто знает? По крайней мере, взглянув на Годвина, как статуя, стоявшего перед ней, она вздрогнула, и с ее губ сорвались слова:
— О, как скоро! — Но, овладев собой, она прибавила: — Как скоро вы пришли по моей просьбе, кузен.
— Я встретил служанок у дверей, — сказал он.
— Как хорошо, что вы пришли, — продолжала Розамунда. — Но, право, после того дня на моле мне страшно пройти хотя бы расстояние полета стрелы с одними женщинами, с вами же я чувствую себя в безопасности.
— Со мной или с Вульфом?
— Да, и с Вульфом, — повторила она, — то есть когда он не говорит о войнах или приключениях в далеких странах.
Они подошли к порталу церкви и увидели, что на землю падают большие хлопья снега.
— Останемся здесь с минуту, — сказал Годвин. — Это только проходящее облако.
И они остановились в полутьме, и несколько времени никто из них не говорил; наконец Годвин сказал:
— Розамунда, двоюродная моя сестра и леди, я пришел, чтобы задать вам один вопрос, но прежде (почему я говорю это, вы поймете потом) я обязан попросить вас ответить мне на него не раньше, чем через сутки.
— Это легко обещать, Годвин. Но что это за удивительный вопрос, на который нельзя ответить?
— Вопрос короток и прост. Согласитесь ли вы быть моей женой, Розамунда?
Она отшатнулась к стенке портика.
— Мой отец…
— Розамунда, я говорю с его позволения.
— Могу ли я ответить, раз вы сами запретили мне говорить?
— Только до завтрашнего дня. Тем не менее прошу вас выслушать меня, Розамунда. Я ваш двоюродный брат, и мы росли вместе; ведь за исключением того времени, когда я был на войне в Шотландии, мы никогда не расставались. Поэтому мы хорошо знаем друг друга, так хорошо, как обыкновенно не знают люди, не соединенные браком. Поэтому также для вас не тайна, что я всегда любил вас, сначала как брат любит сестру, теперь же как жених любит невесту.
— Нет, Годвин, я этого не знала, напротив, я всегда думала, что ваше сердце совсем в другом месте.
— В другом месте? Какая же дама…
— Нет, я думала, что оно приковано не к даме, а к вашим мечтам.
— Мечтам? Мечтам о чем?
— Я не знаю этого. Может быть, о том, что не связано с землей, о том, что выше бедной девушки.
— До известной степени вы правы, кузина, потому что я не только люблю земную девушку, но и ее дух. Да, вы моя мечта, поистине мечта, символ всего благородного, высокого, чистого. В вас и через вас, Розамунда, я поклоняюсь небу, которое надеюсь разделить с вами.
— Мечта? Символ? Небеса? Разве такими блестящими одеждами можно украшать образ женщины? Право, когда обнаружится действительность, вы увидите, что мое лицо только череп в украшенной камнями маске, и возненавидите меня за обман, хотя не я обманула вас, а вы сами, Годвин. Только ангел может явиться в том образе, который рисует ваше воображение.
— Ваше лицо станет ликом ангела.
— Ангела? Почем вы знаете? Я наполовину восточного происхождения, и по временам во мне клокочет кровь. Мне тоже являются видения. Кажется, я люблю власть, прелести и восторги жизни, жизни, непохожей на нашу. Уверены ли вы, Годвин, что мое бедное лицо сделается ангельским ликом?
— Я хотел быть уверенным в чем-нибудь. Во всяком случае, я хотел бы подвергнуть себя и вас такому испытанию.
— Подумайте о вашей душе, Годвин. Она может поблекнуть. Этой опасности вы не решитесь подвергнуть себя ради меня. Правда?
Он задумался, потом ответил:
— Нет, ваша душа часть моей, и поэтому я не хотел бы подвергнуться опасности, Розамунда.
— Мне мил этот ответ, — сказала она. — Да, милее всего, что вы говорили раньше, потому что в нем звучала правда.
Вы вполне честный рыцарь, и я горжусь, очень горжусь вашей любовью, хотя, может быть, было бы лучше, если бы вы не полюбили меня.
И она слегка преклонила перед ним колено.
— Что бы ни случилось, перед лицом жизни или смерти, эти слова будут для меня счастьем, Розамунда.
Она порывисто схватила его за руку.
— Ах, что случится! Мне кажется, грядут великие события для вас и для меня. Вспомните, в моих жилах наполовину восточная кровь, а мы, дети Востока, чувствуем тень будущего раньше, чем оно налагает на нас свою руку и делается настоящим. Я боюсь того, что наступит, Годвин, повторяю, боюсь.
— Не бойтесь, Розамунда, зачем бояться? В руках Божьих лежит свиток наших жизней и Его намерений. Образы, которые мы видим, слова, которые мы угадываем, могут быть ужасны, но Тот, Кто начертал их, знает конец всего — знает, что этот конец — благо. Поэтому не бойтесь, читайте без смущения, не думая о завтрашнем дне.
Она с удивлением взглянула на него и спросила:
— Это речь жениха или святого в одежде брачной? Не знаю. И знаете ли вы сами? Но вы сказали, что любите меня, что хотели бы обвенчаться со мной, и я верю вам; знаю я также, что женщина, которая сделается женой Годвина, будет счастлива, потому что таких людей очень мало. Но мне запрещено отвечать до завтра. Хорошо же, я отвечу в свое время. До тех пор будьте тем, чем были прежде… Снег перестал падать, проводите меня до дому, мой двоюродный брат Годвин.
В темноте, среди холода они направились домой, окруженные стонущим ветром, и, не говоря ни слова, вошли в большую переднюю залу, где посредине в очаге горел огонь и пламя с шумом взвивалось к отверстию в крыше, через которое выходил дым. Приятно было смотреть на огонь после зимней ночи.
Перед очагом стоял Вульф, жизнерадостный, как всегда, и веселый, хотя брови его были нахмурены. При виде брата Годвин повернулся к большой двери и, пробыв несколько мгновений в свете, снова исчез в темноте. За ним затворилась тяжелая створка. Розамунда подошла к очагу.
— Вы, кажется, озябли, кузина? — сказал Вульф, всматриваясь ей в лицо. — Годвин слишком долго задержал вас в церкви, попросив молиться вместе с ним. Такая уж у него привычка!
Я сам страдал от нее. Присядьте же, согрейтесь.
Не говоря ни слова, Розамунда повиновалась и, распахнув свой меховой плащ, протянула руки к пламени, которое играло на ее смуглом красивом лице. Вульф оглянулся. В комнате не было никого; тогда он снова посмотрел на Розамунду.
— Я рад случаю поговорить с вами наедине, кузина, потому что мне нужно задать вам один вопрос. Но я должен попросить вас не отвечать мне на него, пока не пройдут двадцать четыре часа.
— Согласна, — сказала она. — Я уже дала одно такое обещание, пусть оно послужит для обоих. Теперь я жду вопроса.
— Ах, — весело произнес Вульф, — я рад, что Годвин пошел первый, так как это избавляет меня от необходимости говорить; ведь он говорит лучше, чем я.
— Не знаю, Вульф; во всяком случае, у вас больше слов, чем у него, — с легкой улыбкой заметила Розамунда.
— Может быть, и больше, только другого качества; вот что вы хотите сказать. Ну, к счастью, в настоящую минуту дело не касается слов.
— А чего же, Вульф?
— Сердец. Вашего сердца, и моего сердца, и, полагаю, сердца Годвина, если оно у него есть… То есть в этом смысле.
— Почему же можно думать, что у Годвина нет сердца?
— Почему? Ну, видите ли, теперь я ради себя должен умалять достоинства Годвина, а потому объявляю — хоть вы сами знаете это лучше, чем я, — что сердце Годвина похоже на сердце старого святого в хранилище реликвий в Стенгете, которое могло биться когда-то и, может быть, будет снова биться на небесах, но теперь мертво для всего земного.
Розамунда улыбнулась и подумала, что это мертвое сердце не особенно давно выказало признаки жизни; вслух же она сказала только:
— Если вам нечего больше сказать о сердце Годвина, я пойду почитать отцу, который ждет меня.
— Нет, нет, мне еще нужно сказать многое о моем собственном. — И Вульф внезапно сделался очень серьезен, так серьезен, что все его большое тело задрожало. Стараясь заговорить, он только бормотал что-то несвязное. Наконец его мысли вылились в потоке горячих слов:
— Я люблю вас, Розамунда, люблю! Я люблю все в вас и всегда любил, хотя и не знал этого до дня… до дня боя… И я всегда буду любить вас и прошу вас быть моей женой… Я знаю: я грубый воин с массой грехов, совсем не святой и не ученый, как Годвин… Но, клянусь, я буду всю жизнь вашим верным рыцарем, если святые даруют мне милость и силу, я совершу великие подвиги в вашу честь и буду хорошо охранять вас. О, что еще можно сказать?
— Ничего, Вульф, — ответила Розамунда, поднимая опущенные глаза. — Вы не хотели, чтобы я ответила вам, поэтому я только благодарю вас. Да, от всего сердца, хотя, право, мне грустно, что мы не можем больше быть братом и сестрой, как все эти долгие годы… Теперь уйдите.
— Нет, Розамунда, нет еще. Хотя вы ничего не можете говорить, вы могли бы знаком дать мне понять, что вы думаете…
Я так мучаюсь и должен страдать до завтрашнего дня. Например, вы могли бы позволить мне поцеловать вашу руку… Ведь в договоре не говорилось о поцелуях.
— Я ничего не знаю о договоре, Вульф, — строго ответила Розамунда, хотя улыбка првкралась в уголки ее губ. — Во всяком случае, я не могу позволить вам дотронуться до моей руки.
— Тогда я поцелую ваше платье. — И, схватив уголок ее плаща, Вульф прижал его к своим губам.
— Вы сильны, Вульф, я слаба и не могу вырвать своей одежды из ваших рук, однако скажу вам, что этот поступок нисколько не поможет вам.
Плащ упал из его пальцев.
— Простите. Я должен был помнить, что Годвин не зашел бы так далеко.
— Годвин, — сказала она, топнув ногой о пол, — дав обещание, держит его не только буквально, но и в душе.
— Думаю, что так. Видите ли, каково грешному человеку иметь братом и соперником святого. Нет, не сердитесь на меня, Розамунда, я не могу идти путями святых.
— Вам, Вульф, по крайней мере, незачем смеяться над тем, кто вступил на дорогу к совершенству.
— Я не насмехаюсь над ним. Я его люблю так же сильно… как вы. — И он пристально посмотрел ей в лицо.
Ее черты не изменились, потому что в сердце Розамунды крылась тайная сила и способность молчать, унаследованная ею от предков аравитян, которые могут накидывать непроницаемую маску на свои черты.
— Я рада, что вы любите его, Вульф. Постарайтесь же никогда не забывать о своей любви и долге.
— Так и будет, да, будет, даже если вы оттолкнете меня ради него.
— Какие честные слова. Я ждала их от вас, — мягко сказала она. — А теперь, дорогой Вульф, прощайте. Я устала…
— Завтра… — начал он.
— Да, — ответила она глубоким голосом. — Завтра я обязана говорить, а вы должны меня слушать.
Солнце снова совершило свой круговорот, снова время подошло к четырем часам пополудни. Два брата стояли подле огня, пылавшего в холле, и с сомнением смотрели друг на друга; такими же взглядами они обменивались в часы ночи, в течение которой ни один не смыкал глаз.
— Пора, — сказал наконец Вульф.
Годвин кивнул головой.
В это время по лесенке из солара сошла служанка, и д'Арси без слов поняли, зачем она приближается к ним.
— Кто? — спросил Вульф, Годвин только покачал головой.
— Сэр Эндрю приказал мне сказать, что он желает поговорить с вами обоими, — сказала служанка и ушла.
— Клянусь святыми, мне кажется, не избран ни тот, ни другой, — с отрывистым смехом произнес Вульф.
— Может быть, — сказал Годвин, — и, может быть, это будет лучше для всех нас.
— Не нахожу, — ответил Вульф, вслед за братом поднимаясь по ступенькам.
Они прошли по коридору и закрыли за собой дверь. Перед ними был сэр Эндрю: он сидел в своем высоком кресле перед камином. Подле него, положив руку на его плечо, стояла Розамунда. Годвин и Вульф заметили, что она была одета в свое нарядное платье, и у обоих в голове шевельнулась горькая мысль, что она надела роскошные уборы, желая показать им, как хороша девушка, которую они должны потерять. Подходя, молодые д'Арси поклонились сначала ей, а потом дяде; Розамунда, подняв опущенные глаза, слегка улыбнулась им в виде приветствия.
— Говори, Розамунда, — произнес ее отец. — Этих рыцарей мучит неизвестность, и они страдают…
— Теперь последний удар, — пробормотал Вульф.
— Двоюродные братья, — начала Розамунда низким спокойным голосом, точно отвечая заученный урок. — Я посоветовалась с отцом о том, что вы мне сказали вчера, с отцом и со своим собственным сердцем. Вы сделали мне большую честь, а я любила вас с детства, как сестра братьев. Не буду говорить много, скажу только, что, к сожалению, я ни одному из вас не могу дать того ответа, которого он желает.
— Действительно, решительный удар, — пробормотал Вульф. — Сквозь латы и кольчугу он попал прямо в сердце.
Годвин только побледнел больше прежнего и ничего не сказал.
Несколько мгновений стояла тишина, и старый рыцарь исподлобья смотрел на лица братьев, освещенные пламенем сальных свечей.
Наконец Годвин заговорил:
— Мы благодарим вас, кузина. Пойдем, Вульф, мы выслушали ответ.
— Не весь, — быстро перебила его Розамунда, и они снова вздохнули свободнее.
— Слушайте, — продолжала она. — Если угодно, я дам вам одно обещание, которое одобряет и мой отец. Ровно через два года, в этот же самый день, если мы все трое будем еще живы и ваши намерения не изменятся, я скажу вам имя моего избранника и тотчас же обвенчаюсь с ним, чтобы никто не страдал больше…
— А если один из нас умрет? — спросил Годвин.
— Тогда, — ответила Розамунда, — я выйду замуж за другого, если он не посрамит своего имени и не совершит нерыцарского поступка.
— Извините меня, — начал Вульф, но, подняв руку, она остановила его и сказала:
— Вы находите, что я говорю странные вещи, и, может быть, вы правы. Но ведь все странно, и я в большом затруднении. Помните: вопрос идет о всей моей жизни, и я могу желать, чтобы мне дали время обдумать свое решение. Ведь выбирать между такими двумя людьми, как вы, нелегко. Кроме того, мы все трое слишком молоды для брака. В течение двух лет я, может быть, узнаю, кто из вас наиболее достойный рыцарь. Итак, ни один из нас не значит для вас больше, чем другой? — прямо спросил Вульф. Розамунда вспыхнула, говоря:
— Я не отвечу на этот вопрос.
— И Вульф не должен был задавать его, — вставил Годвин. — Брат, я понял Розамунду. Ей трудно сделать выбор между нами, а если она в сердце, тайно, уже и знает имя избранника, то по доброте своей не хочет нам показать этого и тем огорчить одного из нас. Вот почему она говорит: идите, рыцари, совершайте подвиги, достойные такой дамы, как я, и, может быть, тот, кто сделает величайшее деяние, получит великую награду. Я считаю ее решение мудрым и справедливым и подчиняюсь ему. Оно даже радует меня, ибо дает нам возможность показать нашей дорогой кузине и всем нашим товарищам материал, из которого мы сделаны, и случай постараться затмить друг друга подвигами, которые мы, как и всегда, будем совершать рука об руку.
— Хорошие мысли, — произнес сэр Эндрю. — Ну, что скажешь ты, Вульф?
Чувствуя, что Розамунда наблюдает за ним из-под тени своих длинных ресниц, Вульф ответил:
— Небо видит, я тоже доволен. В течение двух лет мы оба можем пасть на войне, по крайней мере, в эти два года любовь к женщине не разделит нас. Дядя, прошу отпустить меня на службу к моему возлюбленному господину в Нормандию.
— Я прошу о том же, — сказал Годвин.
— Весной, весной, — поспешно ответил сэр Эндрю. — Тогда король Генрих двинет в бой свои силы. До тех же пор оставайтесь здесь. Кто знает, что еще случится. Может быть, ваши руки понадобятся нам, как это было недавно. Надеюсь, теперь я не услышу больше ничего о любви и браке, Словом, речей, которые смущают мой ум. Не скажу, чтобы все устроилось согласно моему желанию, но так хотела Розамунда, и этого достаточно для меня. Теперь, конечно, Розамунда, отпусти своих рыцарей; будьте все трое как братья и сестра, пока не окончится двухлетний срок; тогда оставшиеся в живых узнают разрешение загадки.
Розамунда вышла вперед и, не говоря ни слова, подала правую руку Годвину, а левую Вульфу, позволила им прижать губы к своим пальцам. Так на время окончилось сватовство двоих д'Арси.
IV. ПРОДАВЕЦ ВИНА
Братья вышли из солара. Теперь в их жизни явилась новая цель, которая вселяла в них стремление совершить великие подвиги и достигнуть желанного конца. И у них на сердце было веселее, чем утром; в обоих горела надежда, для обоих открывалась будущность…
Когда молодые рыцари спустились со ступеней, они увидели высокого человека, по-видимому, пилигрима, в низкой шляпе с полями, спереди загнутыми вверх, с пальмовым посохом в руке и с флягой для воды на веревочном поясе.
— Чего вы ищите, святой пилигрим? — спросил Годвин, подходя к нему. — Вы просите ночлега в доме дяди?
Паломник поклонился и, подняв на него свои темные, похожие на бисерины глаза, которые почему-то показались Годвину знакомыми, скромно ответил:
— Именно так, благородный рыцарь. Я прошу приюта для себя и моего мула, который стоит у порога. А также мне хотелось бы видеть сэра Эндрю д'Арси, мне нужно передать ему кое-что.
— Мул? — с удивлением спросил Вульф. — Я всегда думал, что пилигримы странствуют пешком.
— Это верно, сэр рыцарь, но со мною кладь. О, конечно, не мои собственные вещи — все мое достояние на мне. Нет, я везу ящик, в котором лежит что-то не известное мне.
Мне поручено передать его сэру Эндрю д'Арси, владельцу замка Стипль, а в случае смерти этого рыцаря — леди Розамунде, его дочери.
— Поручено? Кем? — спросил Вульф.
— Это, сэр, — сказал пилигрим с поклоном, — я скажу сэру Эндрю, который, как я слышал, еще жив. Позволите ли вы мне внести ящик, а если позволите, не поможет ли мне один из ваших слуг; он очень тяжел.
— Мы сами поможем вам, — сказал Годвин.
Они втроем прошли во двор и там при слабом свете звезд увидели красивого мула, которого держал один из стипльских конюхов; на спине животного виднелся длинный ящик, обшитый полотном. Пилигрим отвязал его, взялся за один его конец, а Вульф, приказавший конюху поставить мула в конюшню, поднял другой. Так они пошли в замок. Годвин двинулся впереди, чтобы предупредить дядю. Старик вышел из солара.
— Как вас зовут, пилигрим, и откуда этот ящик? — спросил он, пристально глядя на паломника.
— Мое имя, сэр Эндрю, — сказал тот с низким поклоном, — Никлас из Солсбери: кто же послал меня, я прошепчу вам на ухо.
Он наклонился к старому д'Арси и шепнул ему что-то. Сэр Эндрю отшатнулся, точно пронзенный стрелой.
— Как? — произнес он. — Вы, святой пилигрим, посланец… — И он внезапно умолк.
— Он держал меня в плену, — ответил паломник, — и человек, который никогда не нарушает данного слова, даровал мне жизнь (я был приговорен к смерти), с тем чтобы я отнес вам это и вернулся к нему с вашим… или с ее ответом.
И я поклялся исполнить его желание.
— С ответом? На что?
— Я ничего не знаю. Мне известно только, что в ящике лежит письмо, его содержание мне не сообщили; ведь я только гонец, давший клятву исполнить данное мне поручение. Откройте ящик, лорд… И если у вас есть что-нибудь съестное…
Я долго путешествовал…
Сэр Эндрю подошел к двери, позвал слуг, велел им накормить пилигрима и побыть с ним, пока он будет утолять голод. Потом сказал, чтобы Годвин и Вульф отнесли ящик в солар, захватив с собой молоток и долото. Братья исполнили его приказание и поставили свою ношу на дубовый стол.
— Откройте, — приказал старый д'Арси.
Братья распороли полотно; под ним оказался ящик из темного, незнакомого им дерева, окованный железом; им пришлось долго работать, прежде чем они подняли крышку. Наконец ее сняли; в ящике скрывалась шкатулка, сделанная из полированного черного дерева и запечатанная по краям странными печатями. На ней висел серебряный замок с серебряным же ключом.
— По крайней мере, видно, что ее не открывали, — заметил Вульф, осматривая целые печати, но сэр Эндрю только повторил:
— Откройте. Торопитесь. Годвин, возьми ключ… У меня руки дрожат от холода.
Ключ легко повернулся в замке; печати сломались: крышка откинулась на петлях, и в ту же минуту кодщата наполнилась тонким ароматом. Под крышкой лежал продолговатый кусок расшитой шелковой материи; поверх ткани виднелся пергамент.
Сэр Эндрю оборвал нитку, которая сдерживала свернутый в трубку пергамент, снял с него печать и расправил лист, покрытый странными буквами. В шкатулке лежал и другой сверток, без печати, написанный на норманнско-французском языке. В начале его стояла надпись: «Перевод письма на тот случай, если рыцарь сэр Эндрю д'Арси позабыл арабский язык или его дочь леди Розамунда не научилась владеть им».
Сэр Эндрю пробежал оба заглавия и заметил:
— Нет, я не позабыл арабского языка; пока была жива моя леди, мы почти всегда говорили с ней на ее родном наречии и передали наши знания Розамунде. Но уже темно… Ты, Годвин, ученый; прочти мне французское письмо. После можно будет сличить рукописи.
В эту минуту из своей комнаты вышла Розамунда и, увидев, что ее отец и двоюродные братья заняты каким-то странным делом, спросила:
— Вам угодно, чтобы я ушла, отец?
— Нет, дочь моя, — ответил сэр Эндрю. — Останься. Мне кажется, это дело касается тебя столько же, сколько и меня. Читай, Годвин.
И Годвин прочел:
— «Во имя Бога, милосердного и сострадательного, я Салахеддин Юсуп Ибн Эйюб, повелитель верных, приказываю написать письмо, которое, запечатав собственной рукой, направлю к франкскому лорду, сэру Эндрю д'Арси, супругу моей сестры от другой матери, Зобеиды, красивой и неверной, которой Аллах отомстил за ее грех. Если он тоже умер, то к его дочери, моей племяннице по праву крови, принцессе Сирии и Египта, которую англичане зовут леди Розой Мира.
Сэр Эндрю, помните ли, как много лет тому назад, когда мы были еще друзьями, вы, отягченный болезнью и неволей, познакомились с сестрой моей Зобеидой, как сатана вложил в ее сердце желание слушать ваши слова любви и она сделалась поклонницей креста, обвенчалась с вами по франкскому обряду и бежала в Англию? Помните, что, хотя я не мог в то время увезти ее с вашего корабля, я послал вам письмо, говоря в нем, что рано или поздно я вырву ее из ваших рук и поступлю с нею так, как поступают у нас с неверными женщинами? Через шесть лет до меня дошли верные вести, что Аллах взял ее к себе, а потому я оплакал мою сестру и ее судьбу и позабыл о ней и о вас.
Знайте, что рыцарь по имени Лозель, который живет в той части Англии, где стоит и ваш замок, сказал мне, что после Зобеиды осталась дочь-красавица. Мое сердце, которое любило Зобеиду, стремится теперь к этой никогда не виданной мною племяннице, потому что, хотя она и поклонница креста, вы (за исключением поступка с ее матерью) всегда были храбрым и благородным рыцарем высокой крови, каким, насколько я помню, был и брат ваш, который пал в битве при Харенке.
Знайте теперь, что, достигнув по воле Аллаха высокого положения здесь, в Дамаске, и на всем Востоке, я желаю оказать вашей дочери честь и сделать ее принцессой моего дома. Я приглашаю ее приехать в Дамаск, а вместе с нею и вас, если вы еще живы. Кроме того, чтобы вы не боялись какого-нибудь обмана с моей стороны или со стороны моих наследников и советников, я именем Бога и словом Салахеддина, еще никогда не нарушавшимся, обещаю вам не принуждать ее силой принять магометанство и не заставлять вступить в нежелательный для нее брак, хотя я и надеюсь, что милосердный Бог изменит ее сердце, и она добровольно перейдет в нашу веру. Также я не буду мстить вам, сэр Эндрю, за ваш прошлый поступок, не потерплю, чтобы и другие причинили вам зло; напротив, я подниму вас до высоких почестей и буду жить с вами в дружбе, как в былое время.
Если же мой гонец вернется и скажет, что моя племянница отказывается от этого предложения, предупреждаю: рука моя длинна, и я, конечно, достану ее.
Поэтому через год от того дня, в который я получу ответ леди, моей племянницы, называемой Розой Мира, мои посланцы явятся туда, где она будет жить, замужней или девицей, и привезут ее ко мне; если она согласится, то с почетом, а если не согласится — все-таки привезут. Теперь в знак моей любви я посылаю ей достойные ее дары и грамоту на титул принцессы и госпожи города Баальбека; этот титул и связанные с ним доходы и преимущества занесены в архивы моего государства и связывают меня и моих преемников.
Мое письмо и дары доставит поклонник креста по имени Никлас. Ему же передайте и ваш ответ; он привезет его ко мне, так как дал клятву исполнить это, и исполнит, зная, что, если он нарушит данное слово, его настигнет смерть.
Подписано: Салахеддин, повелитель верных в Дамаске, и запечатлено его печатью в весеннее время года Хиджры 581-го.
Заметьте также следующее: раньше чем я подписал и запечатал это письмо, мне пришло на мысль, что вы, сэр Эндрю, или вы, леди Роза Мира, можете найти странным, что я не жалею ни трудов, на расходов ради девушки, не принадлежащей к моей вере, никогда не виданной мною, и усомнитесь в моей честности. Узнайте же истинную причину моего стремления увидеть ее: с тех пор, как я услышал, что на свете живете вы, леди Роза Мира, один и тот же сон, посланный мне Богом, трижды посетил меня; в грезе я трижды видел вас.
И этот сон обозначил, что клятва, которую я произнес после бегства вашей матери, перешла на вас; дальше, что каким-то путем, еще не открытым мне, ваше присутствие здесь удержит меня от пролития моря крови и избавит мир от несчастий и бедствий. Итак, вы должны приехать и остаться в моем доме. Да будет Аллах и его пророк свидетелями, что все это верно».
Годвин опустил письмо, и все с изумлением переглянулись.
— Ну, конечно, — сказал Вульф, — кто-то захотел сыграть с нашим дядей недобрую шутку.
Вместо ответа сэр Эндрю приказал ему поднять шелковую ткань, которая закрывала вещи, спрятанные в шкатулке, и осмотреть их. Вульф исполнил его приказание и откинул голову, точно ослепленный внезапным светом; из ящика ярко сверкнули драгоценности. Красные, зеленые и синие лучи рассыпались во все стороны; посреди камней тускло горело золото и матовым светом переливались белые жемчужины.
— О, какая красота, — прошептала Розамунда.
— Да, — сказал Годвин, — это достаточно красиво, чтобы смутить женский ум и заставить его перестать отличать хорошее от дурного.
Вульф же ничего не сказал. Он молча вынимал из ящика сокровища; корону, жемчужное ожерелье, шейное рубиновое украшение, сапфировый пояс, драгоценные браслеты для щиколоток ног, покрывало, сандалии, платья и другие одежды из лилового шелка, вышитого золотом. Между ними, тоже запечатанная печатями Саладина, его визирей, сановников и секретарей, лежала грамота с титулами баальбекской принцессы, с определением размера и границ ее больших владений, с суммой ее неслыханно большого ежегодного дохода.
— Я ошибся, — сказал Вульф. — Даже восточный султан не мог бы позволить себе такой дорогой шутки.
— Шутка! — перебил его сэр Эндрю. — С первых же строк письма я понял, что это не шутка. Оно дышит духом Саладина, самого великого человека на земле, хотя он и сарацин; я, друг его юности, хорошо знаю его. Да, он прав. С его точки зрения, я погрешил против него, также и его сестра под влиянием нашей любви. Шутка? Нет, он не шутит; ночное видение, которое он считает голосом Бога, или слова звездочетов глубоко взволновали его великую душу, и это заставило его сделать такой странный шаг.
Он замолчал, потом поднял голову и продолжал:
— Знаешь ли ты, дитя, чем тебя сделал Саладин? В Европе много королев, которые были бы рады приобрести титул принцессы Баальбека и роскошные земли близ Дамаска. Я знаю и замок, о котором он говорит. Это величавое строение на берегу Оронта, и после военного губернатора (потому что этой власти Саладин не отдаст христианину) ты будешь первой во всей стране. Печать Саладина самый верный залог в мире. Скажи, хочешь ты туда уехать и царить там?
Розамунда посмотрела на сверкающие драгоценности, на пергамент, который давал царское достоинство, и ее глаза вспыхнули, а грудь поднялась, как тогда, подле церкви на эссекском берегу. Все наблюдали за ней; она трижды посмотрела на привлекательные вещи, потом отвернулась, точно от великого искушения, и ответила только:
— Нет.
— Хорошо сказано, — сказал сэр Эндрю, знавший ее характер и стремления. — Но если бы ты сказала не нет, а да, ты отправилась бы одна. Дай мне чернила и пергамент, Годвин.
То и другое принесли. Старик написал:
«Султану Саладину от Эндрю д'Арси и его дочери Розамунды.
Мы получили ваше письмо и отвечаем, что останемся там, где живем, и сохраним то положение, которое Господь даровал нам. Тем не менее мы благодарим вас, султан, потому что считаем вас честным и желаем вам всякого добра и удачи во всем, за исключением ваших войн против креста. А ваши угрозы постараемся разбить. Зная обычаи Востока, мы не отсылаем вам обратно ваших даров, потому что, сделав это, мы нанесли бы оскорбление одному из величайших людей во всем мире; но если вы пожелаете потребовать их обратно, они ваши, а не наши. Ваше сновидение мы считаем пустой ночной грезой, о которой мудрый человек забыл бы.
Ваш слуга и ваша племянница».
Под этими строками сэр Эндрю поставил свое имя; вслед за ним подписалась Розамунда; пергамент свернули, окружили шелковой материей и запечатали.
— Теперь, — сказал старик, — спрячьте все это богатство, потому что, если люди узнают, что мы храним такие сокровища, все воры Англии посетят нас, и думаю, в числе их окажутся люди с громкими именами.
Они сложили вышитые золотом одежды и бесценные золотые вещи и камни обратно в ларец, заперли его и поставили в окованный железом сундук, который стоял в спальне старого д'Арси.
Когда все это было окончено, сэр Эндрю сказал:
— Теперь выслушай меня, Розамунда, и вы тоже, племянники. Я никогда не рассказывал вам, как сестра Саладина Зобеида, дочь Эюба, впоследствии окрещенная в нашу веру под именем Марии, сделалась моей женой. Но вы должны узнать все, хотя бы для того, чтобы увидеть, как сделанное зло обращается против человека. После того, как великий Нуреддин взял Дамаск, Эюб сделался губернатором этого города; потом, двадцать три года тому назад, был занят Харенк, и при этом пал мой брат. Во время битвы меня ранили, взяли в плен, отвезли в Дамаск и поместили во дворце Эюба, где со мной обходились хорошо. И пока я лежал больной, я подружился с молодым Саладином и с его сестрой Зобеидой, которую позже тайно встречал в садах дворца. Остальное легко угадать, хотя я и был вдвое старше ее… Она любила меня так же, как я любил ее, и ради любви предложила переменить веру и бежать со мной в Англию, если представится удобный случай, что трудно было предполагать.
Случайно у меня был друг, таинственный человек по имени Джебал, молодой шейх ужасного племени, страшные обряды которого непонятны для христиан. Эти люди — подданные персиянина Магомеда — живут в замках в ливанских горах. Джебал был в союзе с франками, и раз во время битвы я с опасностью для жизни спас его от сарацин; тогда он поклялся, что, если я когда-нибудь призову его к себе на помощь, он с конца земли явится. В знак этого Джебал подарил мне свое кольцо-печать. Чудный перстень, по его словам, мог дать власть, равную его собственной в его владениях, хотя я никогда не посещал их. Вы знаете это кольцо, — прибавил сэр Эндрю и, протянув руку, показал тяжелый золотой перстень с черным камнем, по которому бежали красные жилки, расположенные в форме кинжала; под кинжалом были вырезаны неизвестные буквы.
— В тяжелую минуту я подумал о Джебале и нашел возможность послать ему письмо, запечатав этим перстнем. Он не забыл о своем обещании: через двенадцать дней мы с Зобеидой мчались к Бейруту на двух таких быстроногих конях, что все всадники Эюба не могли догнать их. Мы доехали до этого города и обвенчались там. Розамунда, там же твоя мать приняла христианство. Нам нельзя было оставаться на Востоке, и мы сели на корабль, который благополучно донес нас до дому. Я увез с собой кольцо Джебала, не отдав его слугам этого человека; я хотел вручить его только ему лично. Перед отходом корабля посланец, переодетый рыбаком, принес мне письмо от Эюба и его сына Саладина; в нем они клялись, что все же вернут к себе Зобеиду, дочь одного и сестру другого.
Вот вся правда. Вы видите, что они не забыли данной клятвы, хотя, узнав впоследствии о смерти моей жены, ничего не предприняли. С тех пор Саладин, который во времена дружбы со мной был только благородным юношей, сделался величайшим султаном, когда-либо царившим на Востоке, и, узнав о тебе, Розамунда, от предателя Лозеля, он хочет взять тебя к себе вместо твоей матери… И дочь моя, откровенно сознаюсь, что мне страшно за тебя.
— Ну, по крайней мере перед нами еще год или больше.
За это время мы можем приготовиться или скрыться, — сказала Розамунда. — Паломник не скоро доберется на Восток к Саладину.
— Да, — сказал сэр Эндрю, — может быть, перед нами есть еще год.
— А это нападение на моле? — спросил Годвин, который сидел задумчиво. — Там упоминали о Лозеле… Однако, если в это нападение был замешан султан, странно, что удар был нанесен раньше, чем пришли письма.
Сэр Эндрю задумался, потом сказал:
— Приведите сюда пилигрима; я хочу расспросить его.
Никласа, который все еще ел, точно не мог утолить своего голода, привели в комнату. Он низко поклонился старому рыцарю и Розамунде, в то же время окидывая острым взглядом старика, молодую девушку, потолок, пол и все подробности комнаты. Казалось, его хитрые глазки все замечали, все видели.
— Вы издалека принесли мне письмо, сэр пилигрим, по имени Никлас, — сказал старый д'Арси.
— Я привез вам ящик из Дамаска, сэр рыцарь, но совсем не знаю, что было там. По крайней мере, вы сами можете засвидетельствовать, что до него никто не дотронулся, — ответил Никлас.
— Странно, — продолжал старый рыцарь, — что человек в вашем священном платье сделался избранным гонцом Саладина, до которого христианам мало дела.
— Но Саладину много дела до христиан, сэр Эндрю, а потому он даже в мирное время уберет их в плен, как это случилось и со мной.
— Значит, он взял в плен и рыцаря Лозеля?
— Рыцаря Лозеля? — повторил пилигрим. — Лозель — высокий краснолицый человек с рубцом на лбу, который всегда носил черный плащ поверх кольчуги?
— Может быть.
— Тогда его не взяли в плен; он просто приехал в Дамаск навестить султана в то время, когда я был там; я видел его два или три раза, хотя не знаю, зачем он приезжал. Потом он исчез, и в Яффе я слышал, что он отплыл в Европу на три месяца раньше меня.
Теперь братья переглянулись. Итак, Лозель был в Англии! Но сэр Эндрю только сказал:
— Расскажите мне, что было с вами, но говорите правду.
— Зачем буду я выдумывать? Ведь мне нечего скрывать, — ответил Никлас. — Когда я шел паломником к Иордану, меня захватили арабы и, увидев, что я небогат, хотели меня убить. Да, я погиб бы, если бы мимо не проходили воины Саладина и не приказали разбойникам передать меня в их власть. Арабы повиновались, и они отвели меня в Дамаск. Там меня держали в плену, но не строго, и вот тогда-то я и видел Лозеля или, по крайней мере, христианина, носившего это имя. Казалось, он был в милости у сарацин, а потому я попросил его заступиться за меня. Позже меня отвели ко двору Саладина; расспросив меня, султан сказал, что я должен поклониться лжепророку, что в противном случае меня казнят; вы угадываете мой ответ. Меня увели, как я думал, на смерть, но никто не сделал мне вреда.
Через три дня Саладин снова послал за мною и сказал, что он дарует мне жизнь, если я дам ему клятву отвезти одну вещь вам иливашей дочери, леди Розамунде, в замок Стипль в Эссексе и привезти ваш ответ в Дамаск.
Мне не хотелось умирать, и я сказал, что исполню его повеление, если султан даст мне слово оставить меня в живых и освободить; я знал, что он никогда не нарушает обещаний.
— А теперь, когда вы благополучно достигли Англии, вы думаете вернуться в Дамаск с ответом? И если думаете, то почему? — спросил старый д'Арси.
— По двум причинам, сэр Эндрю. Прежде всего я поклялся сделать это и так же, как Саладин, не нарушу данного слова. Во-вторых, мне все еще хочется жить, а за нарушение клятвы султан обещал покарать меня смертью, найти, где бы я ни был. О, я уверен, что волшебством или иным способом он может сделать это. Ну, мне остается досказать немногое. Мне вручили ящик в том виде, как я привез его к вам, дали достаточно денег для путешествия туда и обратно и даже больше, чем надо. Потом меня проводили до Яффы, где я вошел на корабль, который направлялся в Италию. Там я сел на другой корабль под именем «Святая Мария», плывший в Кале, и мы достигли этой гавани, хотя перед тем буря чуть не выбросила нас на землю. Из Кале до Дувра я плыл в рыбачьей лодке, высадился на сушу неделю тому назад, купил себе мула, пристал к обществу путешественников, направлявшихся в Лондон, и, наконец, приехал сюда.
— А как вы будете путешествовать обратно?
Пилигрим пожал плечами.
— Постараюсь как можно лучше и как можно скорее. Ваш ответ готов, сэр Эндрю?
— Да, вот он.
И старик передал ему свиток. Никлас спрятал его в складки своего большого плаща.
— Вы говорите, что вам ничего не известно о том деле, в котором вы замешаны? — спросил его сэр Эндрю.
— Ничего или, вернее, вот что: офицер, который провожал меня до Яффы, сказал» что ученые доктора и придворные прорицатели волнуются из-за одного сновидения, которое трижды возвращалось к султану. В грезах ему явилась дама, в жилах которой отчасти течет кровь Эюба, отчасти кровь английская, и все говорят, будто поручение, данное мне, касается ее. Теперь я вижу, что глаза благородной дамы, которая стоит передо мной, необыкновенно похожи на глаза султана Саладина.
Он протянул руки и замолчал.
— Мне кажется, вы видите очень многое, друг Никлас, — заметил старый д'Арси.
— Сэр Эндрю, — ответил паломник, — бедный пилигрим, который не хочет, чтобы ему перерезали горло, должен смотреть во все глаза. Но я хорошо поел и устал. Не найдется ли у вас местечка, где бы я мог поспать? На заре мне нужно уйти, потому что люди, исполняющие поручения Саладина, не смеют медлить, а ваше письмо уже в моих руках.
— Место для ночлега найдется, — ответил сэр Эндрю. — Вульф, уложи его, а завтра перед его отъездом мы снова поговорим. Пока до свидания, святой Никлас!
Снова бросив испытующий, проницательный взгляд, пилигрим поклонился и ушел вместе с Вульфом. Когда за ними закрылась дверь, сэр Эндрю знаком подозвал Годвина и шепнул:
— Завтра возьми несколько человек и проследи за Никласом, чтобы узнать, куда он направится и что будет делать; говорю тебе, я ему не верю… Да, я очень боюсь его. Такие путешествия к султану и от султана — странное дело для христианина. И, хотя он говорит, что от этого зависит его жизнь, мне кажется, честный пилигрим, приехав в Англию, остался бы на родине, потому что первый встречный священник освободил бы его от клятвы, которую неверный силой вырвал у него.
— Будь он бесчестен, он, вероятно, украл бы эти драгоценности, — сказал Годвин. — Разве они не стоят того, чтобы из-за них подвергаться опасности? Как вы думаете, Розамунда?
— Я? — ответила она. — О, мне кажется, все это имеет больше значения, чем мы думаем. Мне кажется, — продолжала она голосом, полным печали, и невольно слегка заламывая руки, — что для этого дома и для всех, кто в нем живет, времена насыщены смертью, а этот пилигрим с проницательными глазами — ее посредник. Какая странная судьба окутывает всех нас! Меч Саладина высекает ее; рука Саладина лишает меня моего скромного положения, возносит на высоту, которой я не искала. А сны Саладина, к роду которого я принадлежу, перевивают мою жизнь с кровавой политикой Сирии, с бесконечной войной между крестом и полумесяцем, составляющими мое наследие!
И, сделав печальное движение рукой, Розамунда ушла.
Старик посмотрел вслед дочери и сказал:
— Она права. Готовятся великие события, и каждый из вас примет в них участие. Из-за безделицы Саладин не стал бы так волноваться, тем более, я знаю, он готовится к последней борьбе, во время которой будет опрокинут или крест, или полумесяц. Розамунда права. На ее челе блистает венец полумесяца дома Эюбова, а на ее сердце висит черный крест христиан; кругом же нее кипит борьба верований и племен! Как, это ты, Вульф? Разве он уже заснул?
— Как собака; кажется, он очень устал с пути.
— Может быть, он спит, как собака, открыв один глаз? Я не хотел бы, чтобы он убежал от нас ночью, я желаю потолковать с ним обо многом, как я уже сказал Годвину, — заметил старый д'Арси.
— Не бойся, дядя, дверь конюшни я закрыл на ключ, а святоша пилигрим вряд ли подарит нам такого мула, — ответил Вульф.
— Конечно, нет, если я не ошибаюсь в характере подобных людей, — сказал сэр Эндрю. — Поужинаем, потом отдохнем. Нам это очень нужно.
На следующее утро, за час до зари, Годвин и Вульф поднялись, вместе с ними встали и доверенные слуги, которых накануне предупредили, что их руки понадобятся. Вскоре Вульф с зажженным фонарем в руке подошел к камину в нижней зале; у огня грелся его брат.
— Где ты был? — спросил Годвин. — Ты ходил будить пилигрима?
— Нет, я поставил караульного на дороге к горе Стипль, другого на тропинке к заливу, потом задал корм мулу. Прекрасное это животное, слишком хорошее для паломника. Он, вероятно, скоро тронется в путь, так как сказал, что ему надо проснуться рано.
Годвин кивнул головой, и оба уселись на скамейку подле камина. Стояла холодная погода. Они задремали и не просыпались до рассвета. Наконец Вульф встал, стряхнул с себя сонливость и сказал:
— Он не сочтет невежливостью, если мы теперь поднимем его. — И, подойдя к краю залы, отдернул занавесь в нише и крикнул. — Проснитесь, святой Никлас, проснитесь! Вам пора прочитать молитвы, а скоро приготовят и завтрак. Но Никлас не ответил.
— Право, — проворчал Вульф, возвращаясь за своим фонарем, — этот пилигрим спит, точно Саладин уже перерезал ему горло.
Он засветил фонарь и снова подошел к нише гостя.
— Годвин, — вдруг вскрикнул он, — иди сюда, он ушел!
— Ушел? — повторил Годвин, подбегая к занавеси. — Куда?
— Я думаю, обратно к своему другу Саладину, — ответил Вульф. — Видишь?
И он указал на широко открытый ставень в чуланчике и на дубовый стул, который помещался внизу. С его помощью Никлас поднялся на подоконник и проскользнул в узкое окошко.
— Вероятно, он чистит и кормит мула, которого ни за что не оставил бы, — сказал Годвин.
— Честные гости не расстаются так с хозяевами, — заметил Вульф, — но пойдем, посмотрим.
Они побежали к конюшне; она была заперта, мул благополучно стоял в ней; хотя они пристально всматривались, им не удалось найти каких-нибудь следов пилигрима, хотя бы отпечатка ноги на изморози. Только осматривая дверь конюшни, братья увидели следы попытки поднять засов каким-то острым инструментом.
— Очевидно, он твердо решил уйти, — сказал Вульф. — Ну, может быть, нам все-таки удастся его поймать. — И он приказал слугам оседлать лошадей и ехать вместе с ним обыскивать местность.
Полных три часа они скакали взад и вперед, но не увидели Никласа.
— Мошенник ускользнул, как ночной коршун, и, точно птица, не оставил следов, — сказал Вульф старому д'Арси.
— Я знаю только, — тревожно ответил старик, — что все это одно к одному; и мне не нравится, что ценность мула не остановила его: ему было важно только бежать так, чтобы никто не мог проследить за ним или узнать, куда он отправился. На нас наброшена сеть, племянники, и я думаю, что Саладин держит в руках ее концы.
Еще более был бы недоволен сэр Эндрю, если бы он видел, как пилигрим Никлас полз кругом замка, пока все спали, а потом подобрал свое длинное одеяние и, как заяц, побежал по направлению к Лондону. Он спешил, при свете ярких звезд замечая каждое окошко замка, в особенности окна солара; запомнил он также расположение пристроек и поворот на тропинку, которая шла к заливу Стипль.
С этого дня в старый дом вошел страх — опасение перед каким-то ударом, которого никто не мог предвидеть, от которого никто не мог защититься. Сэр Эндрю поговаривал даже о переселении в Лондон, где, как он думал, они были бы в большей безопасности, но дурная погода сделала дороги непроезжими, еще менее можно было думать о путешествии по морю. Итак, было, решено, что если они и двинутся в путь (а многое говорило против этого плана, между прочим, слабость здоровья сэра Эндрю и отсутствие дома в Лондоне, в котором они могли бы поместиться), то лишь после дня нового года.
Так время шло. Старый рыцарь посоветовался с некоторыми из своих соседей и друзей, но те посмеялись над его предчувствиями, говоря, что, пока д'Арси не будут путешествовать без оружия, вряд ли на них снова нападут. В случае же нападения на старый замок рыцарь и его племянники с помощью своих людей могли выдержать осаду до появления окрестных жителей.
Теперь д'Арси ночью ставил стражу, с некоторых пор двадцать вооруженных людей спали в замке. Кроме того, было условлено, что, когда на башне Стипльской церкви загорится сигнальный костер, соседи явятся на помощь.
Перед Рождеством погода изменилась, ветер стих, и наступили большие морозы.
В самый короткий день года в замок приехал приор Джон и сказал, что он едет в Соусминстер, чтобы закупить вина для рождественских праздников. Сэр Эндрю спросил, какое вино в Соусминстере, а приор ответил, что ему говорили, будто в реку Кроуч зашел корабль, нагруженный разными товарами, между прочим, изумительным кипрским вином, и остался в устье, так как его руль был сломан. Он прибавил, что до Рождества нельзя было найти корабельных плотников, а потому главный распорядитель, который заведывал вином, по дешевой цене распродавал его в Соусминстере и в окрестных домах, рассылая в нанятых телегах.
Сэр Эндрю ответил, что это прекрасный случай достать хороший напиток, который редко привозили в те времена в Эссекс. И он попросил Вульфа, который отлично знал толк в винах, отправиться с приором в Соусминстер и, если ему понравится вино, купить несколько бочонков, чтобы повеселиться на Рождество, хотя лично он, старый Эндрю, по болезни пил только воду.
Вульф поехал без всякого неудовольствия. В это мертвое время года, когда нельзя было ловить рыбу, он скучал, бродя кругом замка (молодой человек не любил читать, как Годвин), или, сидя по вечерам подле камина, смотрел, как Розамунда ходит взад-вперед, почти не разговаривая с нею. Ведь несмотря на то, что все они делали вид, будто забыли о происшедшем, какая-то завеса точно упала между двумя братьями и Розамундой, и их обращение перестало быть так открыто и просто, как прежде. Она не могла не вспоминать, что они были теперь не только ее двоюродными братьями, но и влюбленными, что ей нужно следить за собой и не выказывать своего предпочтения одному из них.
Со своей стороны, и братья тоже помнили, что они обязаны скрывать свою любовь к ней, а также, что она не только знатная англичанка, но по рождению, по крови и титулу принцесса Востока, которую судьба могла поднять гораздо выше их обоих.
И, как уже сказано, страх воцарился под этой крышей, точно мрачный, каркающий ворон, обитал он в Стипле, и никто не мог спастись от тени его зловещих крыльев. Далеко-далеко на Востоке могучий властелин обратил мысли к этому английскому дому и к девушке царской крови, жившей в нем, к девушке, связанной с его видениями и мечтами о торжестве его веры. Увлеченный не мертвой клятвой, не простым желанием или фантазией, но духовной надеждой, он решил привлечь ее к себе, если можно — честным мирным путем, если нет, то хотя бы нечестным. И честное, и нечестное средство не удалось, потому что битва в бухте Смерти, конечно, имела отношение к его желаниям, в этом никто уже не сомневался больше. Было ясно также, что Саладин будет повторять такие попытки до тех пор, пока не достигнет своей цели или пока Розамунда не умрет, так как даже брак не мог бы защитить ее.
В доме виднелись только печальные лица, и грустнее всех был сэр Эндрю, которого осаждали недуги, воспоминания и опасения. Вот почему Вульф был доволен, что его послали в Соусминстер за вином, к тому же он с наслаждением думал, что, выпив его, на время освободится от тяжких дум.
Он ехал с приором по горной дороге и смеялся, как бывало до того дня, в который Розамунда отправилась с ним и с Годвином к церкви святого Петра за цветами.
Они спросили, где живет купец-иностранец, продававший вино, и их направили в гостиницу близ монастыря. В задней комнате между двумя бочонками на подушке сидел невысокий, плотный человек в красной суконной феске. Перед ним стояла маленькая группа людей, дворян и простолюдинов, которые пробовали его вино и рассматривали шелковые ткани и вышивки.
— Чистые кубки, — на ломаном французском языке сказал купец приказчику, который стоял подле него. — Чистые кубки; я вижу, к нам подходит святой человек и храбрый рыцарь, и они, конечно, хотят отведать вина. Нет, нет, наливай доверху, на вершине горы зимой не так холодно, как в этом проклятом месте, уже не говоря о сырости, которая напоминает тюрьму. — И он вздрогнул и плотнее закутался в свою драгоценную шаль. — Сэр аббат, какого вина хотите вы попробовать раньше, красного или белого? Красное крепче, а белое дороже, сущий напиток для святых в раю и для монастырских настоятелей на земле. Вы говорите, что белое вино кипрское? Да, да, вы мудры. Говорят, моя покровительница святая Елена любила пить его, когда она навестила Кипр и привезла с собой знаменитый крест.
— Значит, вы христианин? — спросил приор. — Я принял вас за последователя лжепророка.
— Разве я приехал бы в вашу туманную страну продавать вино, напиток, запрещенный мусульманам, если бы я не был христианином? О, — ответил купец, раздвигая складки своей шали и показывая серебряное распятие, которое блестело на его широкой груди, — я купец из кипрского города Фамагусты. Мое имя — Георгий, и я принадлежу к греческой церкви, которую вы, люди Запада, считаете еретической. Но что вы скажете о вине, святой аббат?
Аббат прищёлкнул языком.
— Брат Георгий, это действительно напиток святых, — заметил он.
— Да, а до сих пор его пили грешники, ведь именно им и наслаждались Клеопатра, царица египетская, и римлянин Антоний, о котором вы, как человек ученый, могли слышать. А вы, сэр рыцарь, что скажете о темном напитке? Мы зовем его «Мавро». Это вино необыкновенное, оно простояло в бочонке двадцать лет.
— Я пивал худшее, — сказал Вульф и снова протянул свой рог, чтобы его наполнили.
— И если будете жить так долго, как вечный жид, не отведаете лучшего. Итак, сэры, купите ли вы вина? Если вы благоразумны, то запасетесь большим его количеством, потому что вряд ли вам когда-нибудь представится такой хороший случай, а это вино, белое ли, красное ли, продержится целое столетие.
Тут поднялся торг и продолжался долго. Раз англичане уже совсем собрались уйти, не купив ничего, но виноторговец позвал их обратно и предложил уступить им вино по их цене, если они согласятся взять столько бочонков, чтобы это составило полный груз телеги; он обещал доставить его ко дню Рождества. Наконец д'Арси и Джон согласились на это, довольные тем, что продавец по восточному обычаю поднес им подарки. Приору он дал сверток аграманта, который можно было употребить на отделку для алтарного покрова или хоругви, Вульфу оливковую рукоятку в виде ползущего льва. Вульф поблагодарил его и, немного смущаясь, спросил, есть ли у него еще продажные вышивки; услышав это, приор улыбнулся; быстроглазый киприот подметил его улыбку и спросил, нужна ли вышивка для дамской одежды; тут окружающие громко рассмеялись.
— Не смейтесь надо мной, джентльмены, — сказал купец, — как могу я, иностранец, знать дела этого молодого рыцаря? Могу ли спросить, есть ли у него мать, сестры, жена или невеста? Для всех у меня найдутся вышивки.
Он приказал слуге принести сверток, открыл его и начал выкладывать товары, действительно замечательно красивые. Наконец Вульф выбрал для рождественского подарка Розамунде покрывало из легкого шелкового газа, покрытое вышитыми золотыми звездами. Потом, вспомнив, что даже в таком деле он не должен пользоваться преимуществами перед Годвином, взял также тунику, вышитую золотыми и серебряными цветами, никогда не виданными им, потому что это были восточные, тюльпаны и анемоны. Ее он решил передать Годвину, чтобы тот, когда захочет, подарил ее двоюродной сестре.
Эти шелковые материи были очень дороги, и Вульф попросил у приора денег взаймы, но старый Джон уже истратил все, что у него было; тогда виноторговец Георгий сказал, что он возьмет в городе проводника, сам привезет вино в замок и тогда получит плату за вышивки, надеясь продать еще какой-нибудь товар знатным дамам.
Он предложил также провести приора и Вульфа к устью реки, в котором стоял корабль, и показать им товары, бывшие, по его словам, собственностью компании кипрских купцов, которые пустились в странствия вместе с ним. Они отказались, так как уже подходил вечер. Зато Вульф сказал, что после Рождества он, вероятно, вернется в Соусминстер с братом, чтобы осмотреть судно, которое совершило такое длинное плавание. Георгий ответил, что он с удовольствием принял бы у себя рыцарей, но что, вероятно, руль поправят очень скоро, так как ему хочется отплыть в Лондон, пока стоит спокойная погода, с целью продать в столице главную часть своего груза. Он прибавил, что думал провести Рождество в Лондоне, но что благодаря порче руля ветер пронес их мимо устья Темзы, и, не войди корабль в реку Кроуч, они, вероятно, погибли бы.
И он простился со своими покупщиками, предварительно испросив у приора благословения.
Аббат Джон и Вульф уехали, очень довольные своей покупкой и Георгием, который показался им приветливым и любезным купцом. В этот вечер приор поужинал в замке и за столом вместе с Вульфом рассказал о купце. Сэр Эндрю смеялся, доказывая, что житель Востока заставил их купить гораздо больше вина, чем им было нужно, и что таким образом в выгоде остались не они, а Георгий. Потом пустился в рассказы о богатом острове Кипр, на котором побывал за много лет перед тем, о пышном дворе кипрского императора, о богатстве граждан. По его словам, уроженцы Кипра были самыми хитрыми и ловкими купцами на свете, такими осторожными, что ни один еврей не мог обойти их, а также отличными мореплавателями, унаследовав свое искусство от финикиян; наконец, он прибавил, что все рассказанное о купце Георгии соответствовало характеру этого народа.
Таким образом в умах обитателей Стипля не зародилось ни малейших подозрений относительно киприота и его корабля, и в этом не было ничего странного, так как его история казалась вполне правдоподобной, и причина его пребывания в Соусминстере была ясна и проста.
V. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В СТИПЛЕ
Через четыре дня после поездки Вульфа в Соусминстер наступило рождественское утро. Стояла дурная погода, а потому ни сэр Эндрю и никто из его домашних не поехал в Стенгет; все присутствовали на мессе в церкви Стипля. Тут после богослужения старик по обычаю роздал своим арендаторам мелкие деньги, так называемые «„argesses“, и пожелал им счастья, предупредив, чтобы они не напивались в этот день, как это часто случалось в те времена.
— А вот нам и не представится случай напиться, — заметил Вульф по дороге в замок, — ведь этот купец Георгий не доставил нам вина, которого мне так хотелось выпить сегодня вечером.
— Может быть, он продал его кому-нибудь дороже, это часто делают его соотечественники, — с улыбкой ответил сэр Эндрю.
Они вошли в переднюю залу, и тут оба брата, по взаимному соглашению, поднесли свои рождественские подарки Розамунде. Она мило поблагодарила их обоих и, рассматривая красивые вышивки, восхищалась ими. Когда ей сказали, что за материю еще не заплачено, она засмеялась и ответила, что, как бы они ни добыли тунику и покрывало, она наденет их вечером.
Около двух часов пополудни в комнату вошел слуга и сказал, что приехала телега, заложенная тремя лошадьми и в сопровождении двух человек.
— Это наш виноторговец, он все-таки приехал вовремя, — сказал Вульф и побежал к нему навстречу, остальные пошли за ним.
Действительно, это был Георгий, завернутый в большой овчинный плащ, какие киприоты носят зимой, и сидевший на одном из своих бочонков.
— Простите, рыцари, — сказал он, спускаясь на землю. — У вас такие дороги, что, хотя я оставил почти половину моего груза в Стенгете, мне пришлось ехать четыре часа от аббатства досюда, и большую часть этого времени мы провели в глубоких рытвинах, которые страшно утомили лошадей и, как я боюсь, попортили колеса. Но все же мы здесь наконец, и, благородный лорд, — прибавил он, кланяясь сэру Эндрю, — с нами то вино, которое ваш сын купил у меня.
— Мой племянник, — поправил его старик.
— Еще раз прошу прощения. Судя по сходству с вами, я думал, что эти рыцари ваши сыновья.
— Он купил все это вино? — спросил сэр Эндрю, потому что на телеге было пять бочек, кроме двух или трех бочонков меньшей величины, и несколько свертков, упакованных в овчины.
— Нет, к сожалению, — печально ответил купец и пожал плечами. — Только два бочонка «Мавро». Все остальное я вез в аббатство, так как, насколько я понял, святой приор купил шесть бочек, хотя, казалось, ему были нужны только три.
— Он сказал три, — вставил Вульф.
— Да, сэр. Тогда, конечно, я ошибся, ведь я так плохо говорю на вашем языке. Итак, мне придется тащить остальное вино по этим проклятым дорогам. — И он сделал гримасу. — Однако я попрошу вас, сэр, — прибавил купец, обращаясь к сэру Эндрю, — немного уменьшить груз, приняв в подарок вам этот небольшой бочонок старого сладкого вина из лоз, которые растут на откосах горы Труида.
— Я хорошо помню его, — с улыбкой ответил сэр Эндрю. — Но, друг, я не хочу брать вина без платы.
Георгий услышал, и его лицо засияло.
— Как, благородный сэр? — произнес он. — Вы знаете мою родину, Кипр? О, я целую вашу руку и прошу вас не обижать меня отказом от этого маленького дара. Право, говоря откровенно, я могу понести эту небольшую потерю, потому что хорошо торговал повсюду, даже здесь, у вас в Эссексе.
— Как вам угодно, — сказал сэр Эндрю. — Благодарю вас… А скажите, у вас на продажу есть что-нибудь еще?
— Да, конечно, вышивки; может быть, эта милостивая леди пожелает взглянуть на них? Есть и ковры, на которых, бывало, мусульмане молились своему лжепророку Магомету. — И, отвернувшись, он плюнул на пол.
— Вижу, что вы христианин, — сказал сэр Эндрю. — А все-таки, хотя я бился в ними, я знавал многих очень хороших магометан. И я не считаю нужным плевать при имени Магомета. Я нахожу, что он был великий человек, обольщенный хитрыми уловками сатаны.
— Я тоже, — задумчиво сказал Годвин. — Истинные слуги креста должны сражаться с его врагами и молиться за их души, а не плевать на них.
Виноторговец с любопытством посмотрел на старика и Годвина, играя серебряным крестом, который висел на его широкой груди.
— Завоеватели святого города думали иначе, — сказал он, — когда они ехали к мечети Эль Акса, и их лошади по колени утопали в крови; меня тоже учили другому. Но теперь настали времена свободы, и в конце концов, имеет ли право бедный торговец, ум которого, к сожалению, больше занят барышами, чем страданиями благословенного сына Марии (тут он перекрестился), судить о таких высоких вопросах? Простите меня, я принимаю ваш упрек, так как, может быть, я слишком набожен.
А между тем этот «упрек» в тот же вечер спас жизнь многих людей.
— Могу я попросить, чтобы мне помогли справиться с этими свертками? — продолжал Георгий. — Так как я не могу развернуть их здесь, а также увезти бочки. Нет, маленький бочонок я отнесу сам, надеясь, что вы отведаете из него вина во время рождественского пира. С ним нужно обращаться осторожно, впрочем, боюсь, что ваши ужасные дороги не улучшили его качества.
И, перекатив бочонок с края телеги к себе на плечо, так, чтобы он остался стоять отвесно, Георгий легкими шагами направился к открытой двери в переднюю залу.
«Для человека нерослого, он изумительно силен», — подумал Вульф, который шел за ним со свертком ковров.
Потом и остальные винные бочки доставили в каменный погреб под залой.
Оставив подле лошадей своего слугу, молчаливого, по-видимому, глупого черноглазого малого по имени Петрос, Георгий вошел в комнату и принялся распаковывать свои ковры и вышивки со всем искусством человека, воспитанного на базарах Каира, Дамаска или Никозии. Прекрасные вещи показал он: вышивки, слепившие глаза, циновки со множеством оттенков, но мягкие и блестящие, как мех выдры. Сэр Эндрю смотрел на них, и ему невольно вспомнились дни прошлого, и его лицо смягчилось.
— Я куплю ковер, — сказал он, — потому что, может быть, именно на нем я много лет тому назад лежал больной в доме Эюба в Дамаске. Нет, нет, я не буду торговаться, я куплю его.
И он задумался; старик вспомнил, как, лежа на таком ковре (и действительно, хотя он не знал этого, перед ним был тот самый ковер) и глядя сквозь резные рамы, он впервые увидел свою красавицу жену, которая ходила по апельсиновому саду со старым Эюбом. И, вспоминая о своей молодости, рыцарь заговорил о Кипре; так время прошло до темноты.
Наконец Георгий сказал, что ему пора ехать, так как в Соусминстере его приказчик хотел отпраздновать Рождество. Купцу уплатили по счету — очень большому, — и, пока лошадей запрягали, Георгий пробуравил бочонок вина и вставил в него втулку, так как, по его словам, был уверен, что в этот вечер обитатели замка отведают светлого вина. Пожелав всем д'Арси счастья за их доброту и щедрость, он откланялся по-восточному и уехал вместе с Вульфом.
Через несколько минут раздались крики; Вульф вернулся, говоря, что колесо телеги сломалось при первом же обороте, и теперь она лежала на боку во дворе. Сэр Эндрю и Годвин пошли посмотреть, в чем дело, и увидели Георгия, который так ломал руки, как на это способен только восточный купец, и сыпал проклятия на каком-то иностранном языке.
— Благородный рыцарь, — сказал он. — Что мне делать? Уже почти совсем стемнело! Как я проеду через этот крутой холм? Бесценные вышивки, мне кажется, должны остаться здесь на ночь, так как до завтрашнего утра колесо невозможно поправить…
— Да и вам тоже лучше остаться здесь, — ласково сказал ему сэр Эндрю. — Полно, полно, не печальтесь; тут у нас, в Эссексе, сломанные оси и колеса — дело обычное… Вы же и ваш слуга можете так же посидеть за рождественским столом здесь, как и в Соусминстере.
— Благодарю вас, сэр рыцарь, благодарю от души. Но могу ли я, простой купец, замешаться в ваше благородное общество? Позвольте мне с моим слугой Петросом пообедать с вашими слугами вот в этом сарае, где, как я вижу, они уже приготовили для себя стол.
— Ни за что, — ответил сэр Эндрю. — Пусть ваш слуга сядет с моими людьми, которые позаботятся о нем, вы же пойдите в залу и, пока нам не подадут обедать, что будет очень скоро, поговорите со мной о Кипре. И не беспокойтесь о ваших товарах. Их отнесут в сохранное место.
— Хотя я чувствую себя недостойным, я повинуюсь вам, — ответил почтительно Георгий. — Петрос, ты понимаешь? Этот благородный господин принимает нас к себе на ночь. Его люди покажут тебе, где можно поесть и выспаться, и помогут позаботиться о лошадях.
Петрос, который, по словам купца, тоже был уроженцем Кипра и летом занимался рыбной ловлей, а зимой служил погонщиком мулов, низко поклонился и, пристально взглянув на Георгия своими черными глазами, сказал ему несколько слов на непонятном языке.
— Слышите вы, что говорит этот глупый малый? — спросил Георгий. — Что? Вы не говорите по-гречески, а только по-арабски? Ну, он просит у меня денег, чтобы заплатить за обед и за ночлег. Простите его, ведь он простой крестьянин и не может себе представить, чтобы кто-либо мог дать даром ночлег и обед. Но я уверю эту свинью.
И, говоря на высоких нотах, он принялся объяснять что-то своему слуге, но никто, кроме Петроса, не понял его слов.
— Теперь, сэр рыцарь, не думаю, чтобы он посмел снова оскорбить вас таким образом. Ах, смотрите-ка, он уходит, он сердится: ну, оставим его. Он придет к обеду, этакая свинья! Сырость и ветер? В своей овчине киприот не боится ни того, ни другого; в ней он заснет хоть в снегу…
Все вернулись в замок; по дороге Георгий продолжал бранить глупость своего слуги. В зале разговор скоро перешел на другие предметы, между прочим, на различие между верованиями греческой и латинской церквей — вопрос, в котором купец, казалось, был очень силен, заметил он также, что кипрские христиане очень опасались, чтобы Саладин не завоевал их остров.
Наконец часы показали пять, Георгия отвели к умывальнику — простому каменному желобу, — где он умыл себе руки, а потом пригласили обедать, вернее, ужинать за столом, который стоял на помосте против входа в солар. Тут было шесть мест: для сэра Эндрю, его племянников, Розамунды, капеллана Матью, который по праздникам служил обедни в церкви, а ужинал в замке, и, наконец, для уроженца Кипра купца Георгия. Ниже помоста стоял другой стол, за которым уже собралось двенадцать гостей — главные арендаторы земель старого д'Арси и управляющие из его других имений. Обыкновенно слуги, охотники, свинопасы и другие служащие сидели за третьим столом, рядом с камином, но они непременно напивались хорошим пивом в праздничные дни, и, хоть многие дамы не обращали на это внимания, Розамунда особенно ненавидела пьянство, а потому теперь их всех отправили пировать в сарай, который стоял во дворе, близ рва.
Когда все уселись, капеллан прочел молитву, и начался пир. Кушанья были просты, но их подавали много. Прежде принесли приготовленную поваром на деревянном подносе большую треску, ее куски были розданы каждому по очереди; их раскладывали на ломти, то есть на большие куски хлеба; ели рыбу ложками, которые лежали у каждого. После рыбы принесли разного рода мясо на серебряных вертелах. Подавали кур, куропаток, уток, наконец, большого лебедя; арендаторы встретили его, постукивая своими ногами о пол, потом явились пирожные из теста, а вместе с ними орехи и яблоки. Нижнему столу подали пиво. Но на помосте пили темное вино, купленное Вульфом; его пили все, кроме сэра Эндрю и Розамунды; старый рыцарь воздерживался, боясь за свое здоровье, молодая девушка никогда не пила ничего, кроме воды, и ненавидела вино — это, вероятно, было у нее в крови в виде наследства от восточных предков.
Все развеселились. Гость оказался забавным малым; он рассказывал много историй о войне и любви. Даже сэр Эндрю, забыв свои тревоги и предчувствия, весело смеялся; Розамунда, которая казалась красивее, чем когда-нибудь, в своем покрывале, усеянном золотыми звездами, и в вышитой тунике, слегка улыбалась, немного рассеянно. Наконец пир подошел к концу; вдруг, точно неожиданно вспомнив о чем-то, Георгий вскрикнул:
— А вино? Жидкая амбра с горы Труидо. Я и позабыл о нем. Благородный рыцарь, вы позволите мне разлить его?
— Конечно, милый купец, — ответил сэр Эндрю, — конечно, вы можете раскупорить ваше собственное вино!
Георгий поднялся, взял большой кувшин и серебряный жбан с боковой полки, на которой была расставлена нарядная посуда, подошел к маленькому бочонку, стоявшему в углу на козлах, наклонился над ним, вынул из него затычку и наполнил до краев то и другое. Потом он знаком подозвал к себе одного из управителей, сидевших за нижним столом, и приказал подать ему кожаный ковш, тоже стоявший на полке. Налив его вином, он передал его вместе с кувшином этому человеку, предложив ему выпить за здоровье его господина. Серебряный жбан он отнес к высокому столу и собственноручно наполнил роговые— кубки всех присутствующих, за исключением Розамунды, которая ни за что не захотела дотронуться до вина, хотя купец долго уговаривал ее и, казалось, обиделся на ее отказ… И вот, не желая огорчить этого человека, всегда любезный сэр Эндрю сам налил немного вина в свой рог, но когда киприот отвернулся, дополнил кубок водой. Теперь все было готово; Георгий налил или сделал вид, что налил вино в свой собственный рог, и сказал:
— Выпьем все, решительно все за здоровье благородного рыцаря сэра Эндрю д'Арси, которому я, по обычаю, моих соотечественников, желаю жить веки вечные! Пейте, друзья, пейте до дна, потому что такое вино никогда больше не омочит ваших губ!
И, подняв кубок, он, по-видимому, пил его большими глотками; все последовали его примеру, даже сэр Эндрю, который отпил немного из своего кубка, на три четверти полного водой; раздался долгий ропот удовольствия.
— Да, это не вино, это нектар, — сказал Вульф.
— Правда, — согласился капеллан Матью, — такое вино мог пить сам Адам в райском саду!
С нижнего стола послышались веселые восторженные крики.
Конечно, это было и прекрасное, и крепкое вино: точно покров опустился на ум сэра Эндрю. Но завеса эта снова поднялась, ив его мозгу зашевелились воспоминания и предвидения. Различные забытые давнишние обстоятельства сразу нахлынули на него, точно толпа детей, стремящихся играть. Это прошло, и старику стало страшно. Но чего ему было бояться в эту ночь? Ворота через ров были закрыты, и их охраняла стража. Верные люди, человек двадцать или больше, сидели за столами в различных пристройках за воротами; другие, еще более верные, окружали его в зале; справа и слева от него были сильные и храбрые рыцари, сэр Годвин и сэр Вульф. Нет, тревожиться было нечего, а между тем он все-таки чувствовал страх. Вдруг старый д'Арси услышал голос, голос Розамунды, которая сказала:
— Почему все так смолкли, отец? Еще недавно я слышала, как слуги и лучники пели в сарае, теперь они молчат, точно мертвые. О, Боже, посмотри! Неужели все здесь опьянели? Годвин…
В эту минуту голова Годвина упала на стол. Вульф поднялся, обнажил свой меч до половины, потом обнял шею священника и вместе с ним свалился на стол. И со всеми повторилось то же самое; они покачивались взад и вперед, потом засыпали, остался трезвым только Георгий, который поднялся, чтобы предложить выпить еще за что-то.
— Чужестранец, — резко сказал сэр Эндрю, — ваше вино очень крепко.
— Как видно, сэр рыцарь, — ответил Георгий, — но я разбужу их. — И, соскочив с помоста, легко, как кошка, он побежал по зале с криком: — Им нужен воздух, воздух! — Он широко распахнул двери, быстро вытащил из складок платья серебряный свисток и пронзительно и громко засвистел, прибавив: — Как, они все еще спят? Ну, я предложу здравицу, от которой все проснутся.
Он схватил роговой кубок, взмахнул им и крикнул:
— Вставайте, вставайте вы, пьяницы, и выпейте за леди Розу Мира, принцессу Баальбекскую и племянницу моего царственного господина Юсупа Салахеддина, который послал меня, чтобы я привез ее к нему.
— О, отец, — вскрикнула Розамунда, — вино отравлено, и нас предали!
Едва она умолкла, как послышался топот бегущих ног, и через открытую дверь в дальнем конце залы хлынуло человек двадцать или больше с оружием в руках. В эту минуту сэр Эндрю наконец понял все.
С ревом раненого льва он обнял дочь и, постояв с ней минуту, бросился к входу в солар, где пылал камин и были зажжены свечи; он закрыл за собой дверь и задвинул ее засовом.
— Скорее, — сказал он, срывая с себя платье, — бежать нельзя, но я, по крайней мере, могу умереть, сражаясь за тебя. Дай мне кольчугу.
Она сняла со стены его доспехи и в то время, как раздался стук, надела на него кольчугу, стальной шлем, вложила в одну его руку длинный меч, а в другую щит.
— Теперь, — сказал он, — помоги мне.
Они вместе толкнули к двери дубовый стол, бросив по обе стороны стулья и кресла, чтобы нападающие споткнулись о них.
— Здесь лук, — сказал он, — стреляй из него, как я тебя учил. Отойди, чтобы мечи тебя не задели, и стреляй мимо меня. О, если бы Годвин и Вульф были здесь и мы могли бы дать урок этим мусульманским собакам!
Розамунда не ответила, ей представилось, как Годвин и Вульф будут страдать, когда они придут в себя и узнают, что случилось с нею и с сэром Эндрю. Она оглянулась; у стены стоял маленький письменный стол, за которым обыкновенно писал Годвин, на нем лежало перо и пергамент. Молодая девушка схватила их и, видя, что дверь стала медленно подаваться, написала:
«Поезжайте за мной к Саладину. В этой надежде я живу!
Розамунда».
Когда наконец тяжелая дверь распахнулась, Розамунда перевернула написанное и, схватив лук, наставила стрелу на тетиву.
Дверь упала, толпа ринулась в солар. остановилась. Перед нею со щитом, украшенным гербовым черепом, стоял старый рыцарь, подняв свой длинный меч. Ужасная злоба горела в его глазах, и он походил на затравленного волка; рядом с ним красавица Розамунда в своем праздничном наряде.
— Сдавайтесь! — крикнул голос.
Вместо ответа зазвенела тетива, и стрела пронзила горло говорившего, он упал и замолк навеки.
Когда убитый с шумом упал на пол, сэр Эндрю громко крикнул:
— Мы не сдаемся языческим собакам и отравителям. Д'Арси! Против д'Арси — против смерти!
Старый рыцарь снова издал военный клич своего рода, хотя недавно думал, что ему уже не суждено его произнести. Молитву старика услышало небо; оно судило умереть ему, как он того желал.
— Покончить с ним, схватить принцессу!
Кричал Георгий, но уже не с угодливым выражением виноторговца; он произносил эти слова тоном холодного приказания и по-арабски.
На мгновение смуглая толпа остановилась перед блистающим мечом, потом с криком «Салахеддин, Салахеддин!» двинулась вперед, взмахивая копьями и саблями. Перед воинами лежал опрокинутый стол; один из них перескочил через его край, но в эту минуту старый рыцарь, забыв о своих годах и болезнях, сверху вниз нанес ему такой удар, что посыпались искры. Сэр Эндрю отступил, чтобы замахнуться вновь, но стол обошли два человека с ожесточенными лицами. В одного из них выстрелила Розамунда, ее стрела пронзила ему ляжку, но, падая, он ударил своим острым палашом по краю лука и отсек его, сделав бесполезным. Второй попал ногой в перекладину дубового стула, которого он не заметил, и тоже упал; сэр Эндрю, не обратив на него внимания, с криком бросился в толпу, и, подставляя под удары сарацин щит, сам рубил их своим мечом с таким ожесточением, что они отступали перед ним.
— Защитите себя справа, отец! — крикнула Розамунда.
Д'Арси отскочил и увидел, что упавший сарацин поднялся.
Он двинулся к нему, тот быстро обернулся, собираясь бежать, и встретил смерть: тяжелый меч поразил его между шеей и плечами. Кто-то закричал:
— Нам плохо приходится от этого старого льва, и мы теряем людей. Сторонитесь его когтей, пронзите его копьями.
Но Розамунда, понимавшая их язык, заслонила собой отца и ответила по-арабски:
— Да, поразите его, но раньше убейте меня и расскажите об этом Саладину.
И вот зазвучала спокойная команда Георгия:
— Тот, кто дотронется хотя бы до одного волоса принцессы, умрет. Если можете, возьмите их обоих живыми, но на нее не поднимайте руку. Стойте!
Нападающие остановились и стали переговариваться.
Розамунда коснулась отца и показала на человека, лежавшего на полу, с ногой, пронзенной стрелой. Он старался подняться на колено и тянул к себе свой тяжелый палаш. Сэр Эндрю поднял свой меч, как слуга поднимает палку, чтобы убить крысу, но тотчас же опустил его со словами:
— Я не убиваю раненых. Брось оружие и иди к твоим.
Раненый повиновался и, отползая прочь, даже дотронулся лбом до пола в виде селима, он понял, что ему подарили жизнь и что это было великодушно относительно него, человека, собиравшегося нанести коварный удар.
Георгий выступил вперед, это уже был не тот человек, который продавал отравленное вино и восточные вышивки, а гордый сарацин с высоким челом, одетый в кольчугу, скрывавшуюся под его купеческим платьем. Теперь на его груди вместо распятия блестело украшение в виде звезды из драгоценных камней, знак его рода и положения.
— Сэр Эндрю, — сказал он, — выслушайте меня. Благороден был ваш поступок, — он указал на раненого, которого товарищи унесли, — и вы благородно защищались, защищались образом, достойным ваших предков и вашего рыцарского сана. Рассказ об этом понравится моему господину (говоря это, он поклонился), то есть если Аллах дозволит нам без помехи и в целости вернуться к нему. Вы же, конечно, сочтете, что я поступил бесчестно с вами, победив силу храбрых рыцарей, сэра Годвина и сэра Вульфа, не ударами мечей, а отравленным вином и сделав то же самое с вашими слугами, которые до завтрашнего утра не освободятся от дурмана. И вы правы, это поступок, достойный раба, я до конца жизни буду со стыдом вспоминать его, и, может быть, отмщение за это падет на мою голову и покроет меня кровью. Но подумайте о нашем положении и простите нас. Нас было очень немного в вашей обширной стране, и мы скрывались в пещере львов, которые убили бы нас без жалости, если бы узнали, кто мы. Это, конечно, было бы неважно; что такое наши жизни, из которых несколько уже пресек ваш меч, да и не только ваш, но и мечи близнецов-братьев там, на моле.
— Я так и думал, — презрительно произнес сэр Эндрю. — Поистине ваш поступок был достоин вас; двадцать или больше против двоих!
Георгий поднял руку.
— Не судите нас поспешно, — сказал он, медленно произнося слова, так как хотел выиграть время. — Ведь вы читали письмо нашего господина. Видите ли, мне было поручено взять в плен Розу Мира и, если возможно, без кровопролития. Я осматривал местность, взяв отряд моряков с моего корабля, они плохие бойцы; со мной было очень немного моих собственных солдат, когда разведчики донесли, что леди Роза выехала из замка в сопровождении двух человек. Понятно, я считал, что она уже в моих руках. Но рыцари победили меня искусством и силой, и вы знаете, чем кончилось дело. Тогда мой гонец привез вам письмо, которое, правда, следовало доставить к вам раньше. Письмо тоже не удалось, потому что ни вас, ни принцессу, — и он поклонился Розамунде, — нельзя было подкупить. Хуже, все окрестности насторожились; вы окружили себя вооруженнымилюдьми, братья-рыцари охраняли вас, и вы собирались бежать в Лондон, где нам было бы трудно уловить вас в сети. Поэтому я — принц и эмир, — который, хотя вы не помните этого, в молодости скрестил с вами меч, сделался продавцом отравленного вина. Послушайте меня, сэр Эндрю, сдайтесь, вы сделали достаточно, чтобы ваше имя воспевалось многими поколениями, примите любовь Салахедина; я, господин Эль Гассан — он не хотел выбрать человека менее значительного для этого поручения — снова подтверждаю слово моего властелина, говоря, что вам не сделают зла. Сдайтесь, спасите вашу жизнь, живите среди почестей, сохраняя собственную веру до тех пор, пока Азраиль не увлечет вас от прелестных долин Баальбека к источникам рая, если только в рай могут войти неверные, хотя бы славные и храбрые. Знайте — так должно совершиться. Если мы вернемся без принцессы Розы Мира, мы умрем все до одного, если же мы сделаем ей вред или оскорбим ее, нас постигнет такая ужасная смерть, что я вам и сказать не могу. Не прихоть великого властителя заставляет его украсть девушку, в жилах которой течет родственная ему благородная кровь. Ему повелел это голос самого
Бога устами ангела сна. Трижды Аллах говорил с ним в грезах, открывая нашему властелину с милосердным сердцем, что только руками вашей дочери и при помощи ее благородства может быть спасено бесчисленное количество человеческих жизней; поэтому он скорее согласился бы лишиться половины своих владений, чем дать ей ускользнуть. Перехитрите нас, разбейте, возьмите нас в плен, прикажите пытать, казните; явятся другие посланцы, чтобы исполнить его приказание; поистине они уже на пути сюда. Кроме того, бесполезно снова проливать кровь; ведь в книгах судьбы написано, что принцесса Роза Мира вернется на Восток, выполнит свою судьбу и спасет человеческие жизни.
— Тогда, эмир Эль Гассан, я вернусь на Восток только в виде духа, — гордо ответила Розамунда.
— Нет, принцесса, — с поклоном ответил он, — один Аллах имеет власть над вашей жизнью, и судьба постановила иное. Сэр Эндрю, время подходит к концу, я должен исполнить мое дело. Хотите ли вы примириться с Салахеддином или же принудите его слуг лишить вас жизни?
Старый рыцарь выслушал его, опершись руками на свой покрасневший меч, потом поднял голову и сказал:
— Я стар и близок к смерти, виноторговец Георгий или принц Эль Гассан, кто бы вы ни были. В молодости я поклялся не входить в мирные договоры с язычниками и в старости не нарушу этого обета. Пока я в силах держать оружие, я буду защищать мою дочь даже против могущества Саладина. Исполните ваше коварное дело, и пусть все будет, как пожелает Господь.
— Принцесса, — ответил Эль Гассан, — засвидетельствуйте на Востоке, что я неповинен в крови вашего отца! Да падет она на его и на вашу голову.
И он во второй раз засвистел в свисток, висевший у него на шее.
VI. ЗНАМЯ САЛАДИНА
Когда эхо свистка Гассана замерло, деревянные ставни окна, бывшего позади, затрещали, распахнулись, и в комнату вскочил высокий тонкий человек с поднятой секирой. Раньше, чем сэр Эндрю успел обернуться, посмотреть, откуда раздался шум, секира страшно ударила его между плечами, и хотя кольчуга осталась неразрубленной, удар упал на его хребет. Старик свалился навзничь; он не страдал, мог говорить, но был беспомощен, как ребенок. Его поразил паралич, и он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ни головой.
Среди наступившей тишины раздался его затрудненный голос, и он устремил глаза на человека, который так ужасно покалечил его.
— Рыцарский удар действительно и достойный христианина, который убивает по найму мусульман. Изменник перед
Богом и людьми, вы ели хлеб мой и теперь убиваете меня, как быка, подле моего собственного очага. Да будет ваш конец еще хуже, да погибнете вы от рук тех, кому теперь служите.
Пилигрим Никлас — это был он, одетый не в платье паломника, — отшатнулся от него, смущенно произнося какие-то слова, и исчез в толпе сарацин. И вот, горько зарыдав, Розамунда наклонилась, словно раненая птица, взмахнула мечом, которого ее отцу никогда уже не было суждено поднять, и, обратив рукояткой вниз к полу, бросилась на него. Но острие не коснулось ее груди, потому что эмир легко отклонил лезвие и поймал ее, когда она падала.
— Госпожа, — сказал он, тихонько отпуская Розамунду. — Аллах еще не требует вас к себе. Я сказал, что это не суждено. Теперь дайте мне слово — в ваших жилах течет кровь, родственная Салахеддину, и кровь д'Арси, а потому вы не можете солгать, — дайте слово, что никогда, ни теперь, ни после, вы не постараетесь лишить себя жизни. Если вы не дадите этого слова, мне придется связать вас, а противно сделать такое святотатство, и я молю вас не принуждать меня к нему.
— Обещай, Розамунда, — произнес глухой голос ее отца, — и да сбудется твоя судьба. Самоубийство — преступление, и он прав, так написано в книге судьбы. Приказываю тебе дать обещание!
— Повинуюсь и обещаю, — сказала Розамунда. — Наступил ваш час, мой лорд Гассан.
Низко поклонился сарацин и сказал:
— Я удовлетворен, и с этих пор мы ваши слуги, принцесса. Ночной воздух холоден. Вам нельзя ехать так. Где ваши одежды?
Она указала пальцем. Один из солдат Гассана взял свечу, еще двое двинулись за ним, и вскоре они вернулись со всеми вещами Розамунды, которые только могли найти. Они не забыли даже ее молитвенника и серебряного распятия, которое висело над ее постелью, а также кожаной шкатулки с безделушками.
— Накиньте на принцессу самый теплый плащ, — сказал Гассан, — остальное заверните в ковры.
Таким образом ковры, которые сэр Эндрю купил в этот день у купца Георгия, теперь послужили мешками для вещей его дочери. Даже тут, в минуту, когда приходилось спешить и бояться опасности, подумали о ее удобстве.
— Принцесса, — сказал Гассан с поклоном, — мой господин, а ваш дядя прислал вам драгоценности огромной стоимости. Желаете ли вы взять их с собой?
Не отрывая глаз от помертвевшего лица сэра Эндрю, Розамунда с трудом ответила:
— Пусть они остаются там, где лежат. Что мне делать с камнями и драгоценностями?
— Ваша воля — закон, — сказал эмир. — Мы найдем для вас другие. Принцесса, все готово. Мы ждем, что вам будет угодно.
— Что мне угодно? О, Господи, что мне угодно? — вскрикнула Розамунда надломленным голосом, продолжая смотреть на отца, который лежал перед ней на полу.
— Я не могу помочь, — сказал Гассан, отвечая на вопрос, светившийся в ее глазах, и печаль зазвучала в его голосе. — Он не хотел уехать, он сам навлек на себя гибель, хотя поистине я желал бы, чтобы этот проклятый франк не ударил его так искусно. Если вы желаете, мы унесем его с нами, но, госпожа, напрасно было бы скрывать от вас истину — он умрет. Я изучил медицину и знаю это.
— Нет, нет, сказал сэр Эндрю, — оставьте меня здесь. Дитя мое, мы должны расстаться. Как я украл дочь Эюба, так сын Эюба похищает у меня тебя. Дочь моя, храни нашу веру, чтобы мог снова могли встретиться.
— Успокойтесь, — сказал Гассан, — ведь Салахеддин дал вам слово, что, если только сама принцесса не пожелает переменить свою веру или Аллах не изменит ее сердца, она будет жить и умрет поклонницей креста. Леди, ради вас самой и ради нас не делайте прощанья слишком долгим! Уйдите, слуги, возьмите с собой на них мертвых и раненых. Некоторых вещей не должны видеть посторонние глаза.
Они повиновались, и в соларе остались только Розамунда, Гассан и умирающий. Розамунда опустилась на колени перед отцом, и они стали шептать что-то на ухо друг другу. Гассан повернулся к ним спиной и набросил край своего плаща себе на голову и глаза, чтобы ничего не видеть и не слышать в этот страшный и священный час прощанья.
Казалось, будто они нашли надежду и утешение, по крайней мере, когда Розамунда в последний раз поцеловала старика, сэр Эндрю улыбнулся и сказал:
— Да, да, может быть, все к лучшему. Господь храни тебя, и да свершится Его воля. Но я забыл, скажи мне, дочь моя, который?
Она опять шепнула ему что-то на ухо, и, подумав с минуту, он ответил:
— Может быть, ты права. Я думаю, это самое мудрое. А теперь да покоится мое благословение на вас троих и на детях детей ваших. Подойди сюда, эмир.
Гассан услышал его голос, несмотря на плащ, и, скинув его с себя, подошел.
— Скажите Саладину, вашему господину, что он сильнее меня и отплатил мне моей же монетой. Мы все равно скоро разлучились бы с моей дочерью, потому что смерть подходила ко мне. Это воля Бога, и я склоняюсь перед нею и верю, что, может быть, в сновидениях Саладина была истина, что наши горести, которых мы не ожидали, принесут благо нашим братьям на Востоке. Но скажите также ему, что чему бы ни учила его вера, а христиане и язычники встретятся за гробом, скажите, что если этой девушке нанесут оскорбление или вред, то я клянусь Богом, который создал нас обоих, что заставлю его дать мне в этом отчет. Теперь, раз уж так поставлено судьбой, берите ее и уезжайте, зная, что мой дух пойдет за вами и за ней и что даже в этом мире за нее найдутся мстители.
— Я выслушал вас и повторю властелину ваши слова, — ответил Гассан. — Больше — я верю им. Что же касается остального, то вы слышали клятву Салахеддина, а я также клянусь охранять принцессу, пока она со мной. Поэтому, сэр Эндрю д'Арси, простите нас, ведь мы только орудия в руках Аллаха, и умрите с миром.
— Я сам столько погрешил, что прощаю вас, — медленно сказал старый рыцарь.
Его глаза устремились на лицо дочери, остановились, глядя на нее долгим испытующим взглядом, и закрылись.
— Я думаю, что он умер, — сказал Гассан. v Пусть Господь милосердный и сострадательный успокоит его душу. — И, сняв белый плащ со стены, он набросил его на старика, прибавив: — Пойдемте, госпожа.
Розамунда три раза посмотрела на закрытую фигуру на полу, заломила руки и чуть не упала. Потом, казалось, в ее голове родилась какая-то мысль, она подняла меч отца и, собрав силы, как королева, прошла по залитой кровью лестнице из солара. Внизу, в зале, ждал отряд Гассана, и солдаты склонились перед этим видением печальной красоты. В зале же лежали отравленные люди, между ними Вульф и Годвин. Розамунда спросила:
— Они умерли или спят?
— Не бойтесь, — ответил Гассан, — клянусь моей надеждой войти в рай, они только, спят и проснутся еще до утра.
Розамунда указала на отступника Никласа, на человека, который нанес сзади удар ее отцу, а теперь с недобрым лицом стоял поодаль от всех остальных, держа в руках зажженный фонарь.
— Что делает этот человек с факелом? — спросила она.
— Если вам угодно знать, леди, — насмешливо ответил Никлас, — я жду, чтобы вы ушли, а потом подожгу дом.
— Принц Гассан, — спросила Розамунда, — пожелает ли великий Саладин, чтобы опоенные зельем люди погибли под своей собственной кровлей? Вы. ведь будете отвечать ему, и я, отпрыск его рода, именем Саладина приказываю вам вырвать факел из рук этого человека и при мне дать приказ, чтобы никто не посмел помыслить о таком позорном деянии!
— Как! — вскрикнул Никлас. — Позволить таким рыцарям, достоинства которых известны, — и он указал на братьев д'Арси, — двинуться вслед за нами и в виде мести убить нас? Да ведь это безумие.
— Кто здесь господин, а кто — предатель? — спросил Гассан с холодным презрением. — Пусть они гонятся за нами, если хотят, я охотно встречусь с такими храбрыми врагами в открытой битве и дам им возможность отомстить. Али, — прибавил он, обращаясь к человеку, который был переодет приказчиком и в свое время опоил слуг в сарае, как его господин опоил сидевших в зале, а потом открыл проход через ров. — Али, затопчи его факел и смотри за этим франком, пока мы не достигнем моря, чтобы безумец не поднял тревоги своими огнями. Вы довольны, принцесса?
— Да, я верю вашему слову, — сказала она. — Еще одно мгновение, прошу вас. Я хочу оставить моим рыцарям дары.
Она сняла с себя золотую цепь с золотом же крестом, отстегнула крест от цепочки, подошла к лежавшему Годвину и положила распятие на его груди. Потом быстрым движением обвила цепь вокруг серебряной рукоятки меча старого д'Арси и, подойдя большими шагами к Вульфу, широким размахом вонзила острие оружия между дубовыми досками стола так, что теперь меч подымался над столом.
— Его дед сражался им, — сказала она по-арабски, — в тот день, когда он взошел на стены Иерусалима. Это мой последний подарок ему.
Сарацины побледнели и что-то тихонько заговорили, услышав слова, служившие им недобрым предвестием.
Взяв за руку Гассана, который всматривался в ее бледное непроницаемое лицо, она, не говоря ни слова, не оглядываясь назад, пошла по длинной зале и вскоре, очутилась во тьме ночной.
— Лучше было бы послушаться моего совета да поджечь дом или, по крайней мере, перерезать горла всем, кто остался в замке, — сказал Никлас своему провожатому Али, идя вслед за остальными. — Если я не ошибаюсь в этих братьях, крест и меч скоро последуют за нами, и людские жизни заплатят за это мягкосердечное безумие! И он вздрогнул от страха.
— Может быть, и так, шпион, — ответил сарацин, глядя на него мрачными презрительными глазами. — Может быть, ваша жизнь заплатит за все!
Вульф спал, и ему снилось, что он стоит на голове на деревянной доске, как однажды при нем стоял жонглер, и что эта доска вертится в одну сторону, а он в другую. И вот наконец кто-то закричал на него, и он упал и ушибся. Он проснулся и услышал, что кто-то кричит почти ему на ухо, и узнал голос Матью, капеллана Стипльской церкви.
— Проснитесь, — кричал голос, — ради Бога, умоляю вас, проснитесь.
— Что такое? — спросил Вульф, сонливо поднимая голову и смутно чувствуя глухую боль во лбу.
— Смерть и дьявол побывали здесь, сэр Вульф, — сказал Матью.
— Они часто бывают вместе, — заметил Вульф. — Но мне хочется пить. Дайте воды.
Служанка, бледная, растрепанная, с опухшими веками, шатаясь и спотыкаясь, расхаживала по зале и зажигала то сальные свечи, то факелы, потому что было еще темно. Она услышала просьбу Вульфа и поднесла ему воды в ковше, а он с наслаждением утолил жажду.
— Теперь мне лучше, — сказал д'Арси и вдруг увидел окровавленный меч, который стоял над ним острием вниз, и вскрикнул: — Матерь Божья, что это такое? Дядин меч, весь красный от крови, и на его серебряной рукоятке золотая цепь Розамунды! Священник, где леди Розамунда?
— Исчезла, — со стоном ответил капеллан. — Служанки проснулись и увидели, что ее нет, а сэр Эндрю, мертвый или умирающий, лежит в соларе. Я только что натолкнулся на него… Боже мой, нас всех споили! Посмотрите на них, — и он рукой указал на лежавших. — Повторяю, здесь побывал сам дьявол.
Вульф с проклятием поднялся на ноги.
— Дьявол! — вскрикнул он. — Да, я понимаю, вы говорите о кипрском виноторговце, который привез нам вино.
— Отравленное вино, — повторил капеллан, — и он украл леди Розамунду.
Вульф точно обезумел.
— Украл Розамунду, унес ее через наши спящие тела! Украл Розамунду, и мы ни разу не ударили мечом, чтобы спасти ее! О, Христос, и такая вещь могла случиться. О, Христос, и я должен слушать это.
И могучий человек, рыцарь сильный и храбрый, зарыдал, как ребенок. Но недолго плакал он. Вульф собрался с силами и закричал громовым голосом:
— Просыпайтесь вы, пьяницы! Просыпайтесь и узнайте, что случилось с нами. Вашу госпожу Розамунду украли, пока вы лежали без чувств…
При звуке его громкого голоса поднялась высокая фигура и, шатаясь, подошла к нему, держа в руках золотой крест.
— Что за ужасные слова, брат мой? — спросил Годвин, весь бледный, с тусклыми глазами и пошатываясь взад и вперед.
Но он тоже увидел красный меч, взглянул сначала на него, потом на золотой крест в собственной руке. — Меч моего дяди, цепь Розамунды и ее крест? Где же сама она… Розамунда?
— Ее увели, увели! — крикнул Вульф. — Скажите ему все, священник.
И капеллан повторил Годвину то, что он узнал.
— Вот как мы сдержали нашу клятву, — продолжал Вульф. — О, что нам делать теперь? Мы можем только умереть от стыда!
— Нет, — задумчиво ответил Годвин; — мы должны жить, чтобы спасти ее. Видишь, она оставила нам знаки — крест мне, окровавленный меч тебе, а на его рукоятке цепь — символ ее рабства. Мы должны нести крест; оба должны размахивать мечом, оба должны разрубить цепь, а если нам не удастся это, то умереть.
— Ты бредишь, — сказал Вульф, — и немудрено! Выпей-ка воды. Если бы мы никогда не пили ничего другого, как она, которая запрещала и нам пить вино! Что вы сказали о моем дяде, священник? Он убит или только умирает? Нет, не отвечайте. Взглянем сами. Пойдем, брат.
И они пошли вместе, вернее, заковыляли к солару, держа факелы в руках.
Вульф увидел кровавые пятна на полу и дико расхохотался.
— Старик хорошо дрался, — сказал он, — а мы спали, как пьяные животные!
Они вошли в солар. Перед ними под белым, похожим на саван, плащом лежал сэр Эндрю. Стальной шлем закрывал его голову, и его лицо под ним было еще белее плаща. Услышав их шаги, он открыл глаза.
— Наконец-то, наконец, — слабо прошептал он. — О, сколько же я ждал вас! Нет, молчите, так как я не знаю, надолго ли у меня хватит силы… Ну, слушайте… Станьте на колени и слушайте.
Братья опустились на колени по обеим сторонам старика, и он кратко рассказал им, как опоили их дурманом, как он бился, как Гассан долго вел переговоры, чтобы дать время низкому предателю пилигриму вползти на окно, как предательски Никлас ударил его, передал также обо всем, что случилось после. Наконец, казалось, его силы истощились, тогда братья дали ему напиться, и он снова немного оживился.
— Скорее возьмите лошадей, — говорил он, то и дело останавливаясь, чтобы отдохнуть, — и поднимите всех окрестных жителей. Еще есть возможность догнать их!.. Нет, прошло семь часов, вы не догоните… Они слишком хорошо рассчитали… Они уже на море! Слушайте же. Отправьтесь в Палестину. В моем сундуке деньги на путешествие, но не берите отряда, потому что в мирное время это выдало бы вас; Годвин, сними с моего пальца перстень, с ним найдете Джебала, верного шейха горного племени, которое живет в ливанских горах. Напомните ему обет, который он дал Эндрю д'Арси, английскому рыцарю. Если кто-нибудь в состоянии помочь вам, то именно Джебал, который ненавидит род Нуреддина и Эюба. Говорю вам, племянники, ничто, повторяю, решительно ничто не должно помешать вам отыскать этого человека. Дальше поступайте, как Господь Бог укажет вам. Убейте этого предателя Никласа и Гюга Лозеля, если они еще живы, пощадите эмира Гассана, если не встретите его в открытом честном бою; этот человек только исполнял свой долг, как его понимают на Востоке, и был довольно милосерден; он мог убить или сжечь всех вас… Передо мной стояла трудная загадка, теперь, в час моей смерти, мне кажется, я сумел разгадать ее. Я думаю, Саладин недаром видел свое сновидение. Мужайтесь, мне представляется также, что там, в твердыне ливанских гор, у вас найдутся друзья, что все пойдет хорошо и что наши печали принесут добрые плоды. Что ты говоришь? Она оставила тебе меч моего отца, Вульф? Тогда храбро сражайся им и покрой славой наше имя. Она оставила тебе крест, Годвин? Носи его с достоинством, прославь Господа и спаси свою бессмертную душу! Помните то, в чем вы поклялись. Что бы ни случилось, не досадуйте друг на друга. Будьте верными друзьями один для другого, храните верность и ей, вашей даме, чтобы, когда вам наконец придется отвечать мне перед престолом небесным, я не стыдился бы за вас, мои племянники, Годвин и Вульф.
Несколько мгновений умирающий молчал; вдруг его лицо засияло, точно от счастья, и он вскрикнул громким, ясным голосом:
— О, дорогая жена, я слышу тебя. О Боже, Боже, я иду!
И, хотя его глаза не закрылись, а улыбка все еще покоилась на лице, нижняя челюсть старика опустилась.
Так умер сэр Эндрю д'Арсед.
Все еще стоя на коленях подле него, братья смотрели, как он умирал, когда же он вздохнул в последний раз, склонили головы в молитве.
— Мы видели великую смерть, — сказал Годвин, — пусть она будет уроком для нас, чтобы, когда наступит наш час, мы умерли, как он.
— Да, — вскрикнул Вульф, вскакивая, — но прежде всего отомстим за него. Что это? Почерк Розамунды. Прочти, Годвин.
Годвин взял в руки пергамент и прочитал:
— «Поезжайте за мной к Саладину. В этой надежде я живу».
— Да, да, Розамунда, мы отправимся за тобой, — вскрикнул он вслух, — пусть нам навстречу идут смерть или победа, мы не отступим от тебя.
Он бросил письмо, и, попросив капеллана побыть с телом, братья убежали в залу. К этому времени половина опоенных проснулась от неестественного сна, слуги, которых опьянил Али там, в сарае, входили теперь в залу с дикими глазами, бледными лицами, прижимая руки к голове и сердцу. Они были так слабы, больны, так испуганны, что с трудом уяснили себе случившееся, узнав же истину, по большей части могли только стонать и плакать. Впрочем, немногие нашли в себе достаточно умственной и телесной силы, чтобы броситься, несмотря на снежную метель, в аббатство Стенгет, в Соусминстер и в дома соседей, хотя никто из них не жил близко, прося всех вооружаться и помочь им догнать похитителей. Вульф, проклиная священника Матью и себя за то, что они с ним не подумали об этом раньше, поручил ему как можно скорее подняться на колокольню и зажечь сигнальный костер, который был приготовлен.
Матью ушел, захватив с собою кремень, огниво и кусочек трута, и через десять минут пламя бешено взвилось над крышей Стипльской церкви, предупреждая соседей, что их зовут на помощь. Слуги Стипля вооружились, оседлали всех лошадей, в том числе и коней, оставленных купцом Георгием: все бывшие в состоянии бежать или ехать верхом скоро собрались во дворе замка. Но поспешность ни к чему не повела, потому что луна заходила. Снег падал, и стояла ночь, темная, как смерть, такая темная, что трудно было видеть руку перед своим лицом. Приходилось ждать, и они ждали с досадой и печалью в сердце и охлаждали горящие головы ледяной водой.
Наконец занялась заря, и в сером рассвете показались верховые и пешеходы, двигавшиеся по снегу к замку, рассказывая друг другу, какое ужасное несчастье случилось в Стипле. Быстро разнеслась весть о том, что сэр Эндрю был убит, леди Розамунда украдена неверными, а пировавшие в замке заснули от отравленного вина, которое поднес им человек, считавшийся купцом. Едва собрался маленький отряд, всего человек в тридцать, и достаточно рассвело, как разведчики тронулись в путь, хотя и не знали, где следовало искать похитителей, так как снег покрыл все следы сарацин.
— Одно верно, — сказал Годвин, — они должны были приплыть по воде.
— Да, — ответил Вульф, — и конечно, высадились где-нибудь вблизи, потому что, если бы им предстояло идти далеко, они взяли бы лошадей, кроме того, подверглись бы опасности сбиться с пути в темноте. К Стесу! Попробуем проехать туда.
И они через луг отправились к заливу. До него было недалеко. Сперва они ничего не замечали, потому что слой снега покрывал камни маленькой набережной, но вот один из слуг крикнул, что замок прибрежного домика, в котором братья держали свою рыбачью лодку, сломан, через минуту он прибавил, что и лодки на месте нет.
— Она маленькая. В ней могли поместиться только шесть человек, — крикнул голос. — Столько народу она не выдержала бы.
— Глупый, — послышался ответ, — ведь могли быть и другие лодки.
Присмотрелись: под узким слоем снега нашли в иле оттиск от носа большого бота, а невдалеке отверстие в земле, в которое был вогнан большой кол. Теперь все достаточно выяснилось. Но скоро стало еще яснее, потому что, несмотря на падавший снег, Вульф заметил что-то блестящее, висевшее на сухих тростниках. По его приказанию один из слуг приподнял копьем блестящую вещь и подал ему.
— Я так и думал, — сказал он унылым голосом. — Это обрывок того вышитого звездами покрывала, которое я подарил Розамунде на Рождество; она оторвала от него часть и оставила здесь, чтобы указать нам, куда ее повезли. К святому Петру на стене! Говорю, там должны пройти лодки или корабль, и, может быть, благодаря темноте они еще не успели выйти в открытое море.
Братья повернули лошадей и поехали к церкви святого Петра по сухопутной дорожке, которая бежит между Стиплем, Лоуренсом и городком Бредуель; все верховые поскакали, пешеходы стали обыскивать местность вдоль залива и реки.
Они мчались среди падавшего снега; Годвин и Вульф были впереди; за ними с громом спешил все увеличивавшийся отряд рыцарей, оруженосцев, лучников, которые приехали, увидав огонь на стипльской башне или узнав от гонцов о том, что случилось, даже монахи из Стенгетского монастыря и купцы из Соусминстера призывали людей на помощь д'Арси.
Всадники спешили, но дороги были засыпаны снегом, под которым лежал слой грязи, и путь был не близок; прошел целый час, раньше чем Бредуель остался позади, а церковь, выстроенная святым Чедом, вырисовывалась на расстоянии мили. Вдруг снег прекратился, поднявшийся сильный северный ветер разорвал густой туман, и впереди из-за него показалось холодное и синее небо. Все еще окруженные клубами тумана, они подъехали к старой башне; тут Вульф и Годвин, натянув поводья, остановили лошадей.
— Что это? — со страхом спросил Годвин, указывая на что-то большое, смутно видневшееся в море сквозь пелену тумана.
Не успел еще его голос замолкнуть, как новый резкий порыв ветра разорвал, закрутил и унес последние покровы тумана и обнажил красный диск подымающегося солнца. И вот меньше чем в сотне ярдов перед ними — прилив был силен — они увидели высокие мачты галеры, которая медленно и плавно шла в открытое море; стройно шевелились ее длинные сильные весла. На их глазах ее подхватил ветер; на главной мачте надулся большой, выпуклый парус, и взрыв хохота, донесшийся с корабля, доказал д'Арси, что они тоже замечены.
Рыцари отлично поняли, кто плыл на этом нарядном судне, и, обезумев от бешенства и горя, взмахнули мечами. В это время на флаговом конце, на передней мачте, взвилось желтое знамя Саладина и в свете восходящего солнца заблестело, извиваясь, точно струящееся золото.
Но это еще было не все. На задней палубе поднялась высокая фигура самой Розамунды — по одну сторону от нее, одетый теперь в кольчугу и с тюрбаном на голове, стоял эмир Гассан, которого братья д'Арси знали под именем кипрского виноторговца Георгия, по другую — высокий плотный человек, тоже одетый в кольчугу, который на этом расстоянии походил на христианского рыцаря. Розамунда увидела Годвина и Вульфа; Розамунда протянула к ним руки. И вдруг бросилась вперед, точно желая кинуться в море, но Гассан удержал ее за руку, а другой рыцарь, бывший с нею, подошел к высокому бульверку.
Вульф был в полном отчаянии. Его ум мутился от бешенства, и, не помня себя, он пустил свою лошадь в воду, так, что волны дошли до половины ее тела; видя, что он не может ехать дальше, молодой рыцарь поднял свой меч, потрясая им в воздухе.
— Не бойтесь, не бойтесь! Мы бросимся за вами! — кричал он таким громовым голосом, что даже среди ветра и несмотря на все увеличивающееся пространство пенящейся воды его восклицание могло долететь до галеры.
И казалось, Розамунда услышала его, потому что в виде привета подняла руку.
Гассан, прижав одну руку к сердцу, а другую ко лбу, трижды поклонился рыцарю в знак последнего прощания.
Большой парус напрягся; весла спрятались внутрь галеры, она легла и быстро понеслась по танцующим волнам, становилась все меньше, все расплывчатее и, наконец, исчезла. Теперь Годвин и Вульф могли только видеть, как солнечный свет играл на золотом знамени Саладина, которое развевалось над нею.
VII. ВДОВА МАСУДА
Прошло много месяцев с тех пор, как братья в зимнее утро остановили коней подле церкви святого Петра на стене и с мукой в сердце смотрели на плывшую к югу галеру Саладина, на палубе которой стояла взятая в плен любимая ими девушка, их родственница Розамунда. У них не было корабля, чтобы помчаться за нею, да, впрочем, это было уже и бесполезно… Наконец, братья поблагодарили всех, кто пришел к ним на помощь, и поехали домой в свой замок Стипль, потому что там их ждало важное дело. По дороге они расспрашивали то того, то другого, и данные им сведения выяснили для них все.
Во время обратной поездки и позже братья узнали, что галеру, которую все считали купеческим судном, чужестранцы ввели в залив, сказав, будто ее руль поврежден, что накануне Рождества этот корабль отошел от города и остановился в трех милях от бухты Черной реки. На буксире он привел с собой большой бот, который позже бросили на произвол судьбы. В сумерки лодка двинулась вдоль отдаленного берега к Стиплю. Наполнявшие ее люди (человек тридцать или больше) под предводительством лжепаломника Никласа вскоре спрятались в роще, ярдах в пяти-десяти от дома старого сэра Эндрю; там были впоследствии найдены отпечатки их ног; они притаились и ждали сигнала напасть на Стипль и поджечь его во время пира. Но это оказалось ненужным: был приведен в исполнение план отравить вино, план, который мог задумать только уроженец Востока. Итак, сарацинам пришлось столкнуться только с одним вооруженным человеком, со старым рыцарем, и, вероятно, это обрадовало их; очевидно, они хотели избежать отчаянной схватки на жизнь и смерть, во время которой неизбежно пали бы многие из нападающих, а если бы подоспела помощь соседей д'Арси, может быть, решительно все.
Когда окончилась борьба, сарацины повели Розамунду к боту, выбрались в залив, ведя на буксире маленькую шлюпку, выкраденную из сторожки и уносившую теперь их убитых и раненых. Это было поистине самой опасной частью их предприятия, потому что стояла черная ночь, и падал снег; они дважды садились на илистые мели. Тем не менее под управлением Никласа, который изучал реку, бухту и залив, сарацины еще до рассвета добрались до галеры; с первыми лучами солнца они подняли якорь и осторожно выгребались в открытое море. Остальное известно.
Нельзя было терять времени, поэтому через два дня сэра Эндрю пышно похоронили в Стенгетском аббатстве, в той самой гробнице, где уже лежало сердце его брата, отца близнецов, со славой павшего на Востоке.
На похороны собралось множество народа, потому что слух о страшных происшествиях разошелся по всей округе; останки старого рыцаря положили на покой под звуки жалоб и молитв. Позже распечатали его завещание; оказалось, что он оставил известную часть денег своим племянникам, кое-что Стенгетскому аббатству, назначил суммы на поминальные обедни ради упокоения своей души, на дары слугам и на пожертвования в пользу бедняков; все же свои имения и земли завещал Розамунде. Оба брата (или тот из них, который останется в живых), в силу его воли, должны были служить опекунами владений Розамунды, охранять ее самое и управлять ее имуществом до того дня, пока она вступит в брак.
Имения двоюродной сестры, а также и свои собственные братья в присутствии свидетелей вручили Джону, приору Стенгета, прося его управлять ими, исполняя волю завещания, и брать за труды десятую часть всех барышей и доходов. Бесценные дорогие вещи, присланные Саладином, они тоже передали ему на хранение, а он дал им расписку и подробный список всех дорогих вещей, бумаги эти братья д'Арси отдали на хранение одному клерку в Соусминстере. Это было поистине необходимо, так как никто, кроме Годвина, Вульфа и приора, не знал о существовании драгоценностей султана, да благодаря их высокой стоимости было бы и небезопасно рассказывать о них. Устроив все дела, оба брата прежде всего сделали по завещанию: Вульф оставлял все Годвину, Годвин — Вульфу, так как трудно было предположить, что оба они вернутся живыми из далекой страны и после трудного предприятия. Потом близнецы приняли причастие и благословение приора Джона и на следующий день, рано утром, так рано, что никто не шевелился в доме и его окрестностях, не спеша поехали по направлению к Лондону.
На вершине холма Стипль братья отправили вперед слугу с мулом, нагруженным вещами, с тем самым мулом, которого оставил у них шпион Никлас, повернули назад лошадей, желая на прощание еще раз посмотреть на родной дом. С северной стороны билась Черная река, с западной лежало село Мейленд, и к нему ползли нагруженные барки по реке Стипль. Внизу расстилалась низина, окаймленная деревьями, и среди рощи, в которой скрывались сарацины, стоял замок Стипль, дом, где они росли, сделались из детей юношами, а из юношей взрослыми людьми, где жила прекрасная и теперь украденная врагами Розамунда, которую они оба отправились искать. Позади осталось прошлое; впереди темнело неизвестное будущее, и братья не могли проникнуть в его таинственность, угадать его окончания.
Взглянут ли они когда-нибудь снова на замок Стипль? Придется ли им, стоящим на холме, помериться силой и мужеством со всем могуществом Саладина? Осуждены ли они погибнуть или со славой добиться успеха?
Во тьме, которая обвивала путь, перед ними сияла только одна яркая звезда, звезда любви; но кому светила она? Может быть, ни тому ни другому? Они не знали этого. Им было ясно только, что они решились на отчаянное предприятие. Действительно, те немногие друзья, которым они говорили о нем, называли их безумцами. Но они помнили последний совет сэра Эндрю не терять мужества, так как все еще может окончиться хорошо! И им чудилось, что они не вполне одни, что его храбрый дух идет вместе с ними на поиски, дает им советы, недоступные для слуха.
И вспомнили братья также клятву, данную ему, друг другу и Розамунде, и в молчаливое доказательство того, что они сдержат ее до самой смерти, молча пожали руки один другому. Потом, повернув лошадей на юг, поехали вперед с легким сердцем, не заботясь о том, что может случиться с ними.
Сквозь дымку жаркого июльского утра, колебавшуюся над берегами Сирии, можно было видеть большой дромон, как называли в те времена купеческие суда известного рода; легкий ветерок тихо нес его в бухту святого Георгия подле Бейрута. Кипр, откуда отошел корабль, отстоял менее ста миль от этого берега, а между тем судно употребило на плавание до Сирии шесть дней, и не из-за бурь, которых не было, а из-за недостатка ветра. Тем не менее капитан и пестрая толпа пассажиров (большею частью восточных купцов со слугами и паломников различных народностей) благодарила Бога за благополучное путешествие, потому что в те отдаленные времена мореход, который пересекал моря, не потерпев кораблекрушения, считал себя счастливым.
В числе пассажиров были Годвин и Вульф, по приказанию покойного дяди пустившиеся в путь без оруженосцев и без слуг. На корабле они назвались братьями, носившими имена Петра и Джона, из Линкольна, города, о котором д'Арси знали кое-что, так как бывали в нем по дороге на шотландские войны; они выдавали себя за мелкопоместных фермеров, отправившихся на поклонение Святой Земле во имя епитимьи за грехи и ради упокоения душ своих родителей. Кое-кто из плывших с ними из Генуи слышал эти рассказы и только пожимал плечами, — потому что братья казались именно теми, кем они и были в действительности — рыцарями высокого происхождения; глядя на их высокий рост, длинные щиты, на кольчуги, которые они носили под волосяными туниками, все считали их знатными людьми, которые отправились в благочестивые странствия. И их прозвали сэр Петер и сэр Джон, и под этими именами они были известны во все время плавания.
Годвин и Вульф сидели поодаль от всех, на носу корабля; Годвин читал арабский перевод Евангелия, сделанный одним монахом-египтянином, а Вульф не без труда следил за ним по латинскому изданию. Арабский язык они узнали еще в ранней юности, благодаря урокам сэра Эндрю, но не могли говорить на нем так свободно, как Розамунда, лепетавшая по-арабски еще на руках матери. Понимая, что очень многое могло зависеть от их познаний в этом отношении, они во время долгого путешествия изучали язык арабов по всем книгам, которые только могли найти, для практики же разговаривали по-арабски со священником, который провел много лет на Востоке и теперь за известное вознаграждение занимался с ними, беседовали также и с сирийскими купцами и моряками.
— Закрой книгу, брат, — сказал Вульф. — Вот наконец и Ливан. — И он указал на линию гор, слабо темневших сквозь туманную пелену. — Я рад, что вижу его, с меня довольно тягостного учения.
— Да, — сказал Годвин, — это обетованная земля!
— И земля, которая много обещает нам, — ответил Вульф. — Слава Богу, пришло время действовать. Хотя, как мы примемся за дело, я не знаю; это выше моего понимания.
— Вероятно, время покажет нам все. Как приказал наш дядя, мы прежде всего отыщем шейха Джебала.
— Тс! — произнес Вульф, потому что в это время небольшая группа купцов и пилигримов подошла к носу корабля; лица всех этих людей сияли восторгом при мысли, что ужасы путешествия остались позади, что они скоро выйдут на землю, по которой ступал их Господь; им хотелось поскорее увидеть счастливый берег, они с жаром молились и пели благодарственные гимны. Один купец, известный под именем Томаса из Ипсвича, стоял поблизости от братьев и прислушивался к их разговору.
Годвин и Вульф вмешались в восторженную толпу, а тот же самый Томас из Ипсвича, по-видимому, раньше уже побывавший в Бейруте, указывал на достопримечательности города, на плодородные земли, окружения его, на поросшие кедрами далекие горы, со склонов которых Хирам, царь тирский, срубал бревна для постройки Соломонова храма.
— А вы бывали в этих горах? — спросил Вульф.
— Да, по делам, — Ответил купец, — я доезжал вот дотуда. — И он показал на высокую, покрытую снегом вершину на севере. — Очень немногие проникают дальше.
— Почему же? — спросил Годвин.
— Потому, что там начинаются владения аль-Джебала, — сказал он и, многозначительно взглянув на братьев, прибавил: — Ни христиане, ни сарацины не посещают его без приглашения, приглашения же он рассылает редко.
И снова они спросили, почему нужно ждать приглашений шейха.
— Потому что, — продолжал купец, по-прежнему пристально вглядываясь в лица близнецов, — большая часть людей любит жизнь, а этот человек — господин смерти и волшебства.
Странные вещи видишь в его дворце, окруженном чудесными садами; там среди восхитительных чащ живут красавицы женщины, но они злые духи и губят души людей. А Старец Гор — великий убийца, и все владыки Востока страшатся его, потому что стоит ему сказать одно слово своим посвященным федаям, чтобы они беспрекословно убили того, кого он ненавидит. Молодые люди, вы мне нравитесь, и я говорю вам: будьте осторожнее. Здесь, в Сирии, можно видеть много чудес; оставьте в покое чудеса страшного Господина Гор, если вам хочется снова взглянуть на… башни Линкольна.
— Не бойтесь, мы их увидим, — ответил Годвин, — ведь мы собираемся посетить святые места, а не приюты дьявола.
— Ну, конечно, — прибавил Вульф. — А все же Сирию стоит видеть.
С берега подошли лодки, полные встречавшими путников людьми, потому что в то время Бейрут принадлежал франкам, и среди смятения волновавшейся и кричавшей толпы купец Томас исчез. Да братья и не хотели отыскивать его; они находили, что было бы неблагоразумно выказывать слишком большое желание узнать что-либо о шейхе аль-Джебале. Впрочем, кто мог найти Томаса? Купец очутился на берегу на два часа раньше, чем остальным путникам позволили покинуть дромон; он отплыл с корабля один в Своей собственной лодочке.
Наконец-то братья вышли на набережную и остановились среди пестрой восточной толпы, рассуждая о том, где отыскать спокойную и недорогую гостиницу; им не хотелось, чтобы их считали богатыми или знатными людьми. Пока они, немного ошеломленные шумом, толковали об этом, к ним подошла высокая женщина в покрывале, которая долго смотрела на них. За нею двигался носильщик, державший за повод осла.
Этот человек без всяких предисловий схватил вещи Годвина и Вульфа и с помощью своих товарищей принялся быстро и ловко увязывать их на спину осла. Когда же братья вздумали остановить их, он только указал на женщину в покрывале.
— Простите, — сказал наконец Годвин, обращаясь к ней по-французски, — но этот человек…
— Нагружает ваши вещи на осла, чтобы переправить в мою гостиницу. Я беру недорого, у меня спокойно и удобно, а я слышала, как вы говорили, что именно этого-то вам и нужно, — ответила она тихим голосом и тоже на хорошем французском языке.
Годвин посмотрел на Вульфа; Вульф на Годвина, и они стали совещаться, что делать. Решив, что было бы неблагоразумно отдавать себя в руки незнакомой женщине, братья обернулись к ослу, но увидели, что носильщик уже увел его и увез все их вещи.
— Боюсь, что отказываться уже поздно, — со смехом сказала высокая женщина, — вам придется быть моими гостями, не то вы потеряете ваше добро. Пойдемте, после такого долгого пути вам следует вымыться и поесть. Пожалуйста, идите за мной.
И она пошла через толпу, которая, как заметили братья, расступалась перед нею. Высокая женщина подошла к красивому мулу, стоявшему на привязи у столба, и, отвязав его, вскочила в седло и поехала от пристани, время от времени оборачиваясь назад, чтобы видеть, идут ли за нею братья.
— Хотелось бы знать, куда мы идем, — сказал Годвин, шагая по бейрутскому песку под лучами знойного солнца, которое нестерпимо жгло его голову.
— Кто может сказать это, раз нас ведет стройная, незнакомая нам женщина, — со смехом ответил Вульф.
Наконец, мул повернул в дверь, проделанную в стене из необожженного кирпича, и братья очутились перед входом в белый старый дом, стоявший посреди сада, засаженного смоковницами, апельсиновыми и другими фруктовыми деревьями, незнакомыми им; а самый дом помещался, как заметили д'Арси, на окраине города.
Тут женщина сошла с мула, передала его ожидавшему у порога слуге-нубийцу, быстрым движением откинула с лица покрывало и повернулась к братьям, точно желая показать им», как она красива. И действительно, дна была хороша; в этом никто бы не усомнился: грациозная, стройная, с темными влажными глазами, со странно спокойным выражением лица, она казалась молодой; ей можно было дать не более двадцати пяти лет, и для восточной уроженки ее кожа была необыкновенно бела.
— Мой бедный дом годится для паломников и купцов, но, конечно, не для знатных рыцарей; тем не менее, сэры, приветствую вас, — сказала она, поглядывая на братьев.
— Мы только землевладельцы, которые отправились поклониться святым местам, — ответил Годвин и прибавил: — Что вы возьмете с нас в день за однухорошую комнату и за стол?
— Эти иностранцы, — по-арабски сказала она, обращаясь к носильщику, — не говорят правды.
— Не все ли тебе равно, госпожа, — ответил он, старательно отвязывая вещи. — Они будут платить за себя, а ведь в нашу страну приходит столько безумных людей, которые называют себя чужими именами. Кроме того, госпожа; ты пошла к ним, я не знаю зачем, а не они к тебе.
— Безумцы они или здоровы, но это порядочные люди, — точно про себя проговорила красивая женщина, потом прибавила по-французски: — Господа, повторяю, у меня очень скромная гостиница, которая едва ли годится для таких славных рыцарей, как вы, но, если вам угодно почтить ее вашим присутствием, я возьму с вас столько-то.
— Хорошо, — сказал Годвин и прибавил, низко кланяясь и снимая шляпу: — Вы привели нас сюда без нашей просьбы, и потому мы уверены, что вы будете хорошо обходиться с нами, чужестранцами.
— Так хорошо, как только вы пожелаете… то есть я доставлю вам все, за что вы будете в состоянии заплатить, — ответила она. — Постойте, я сама расплачусь с носильщиком, не то, пожалуй, он обсчитает вас.
Начался довольно длинный спор между странной красивой женщиной со спокойным лицом и носильщиком, который по восточному обыкновению дошел до бешенства из-за денег и, наконец, осыпал ее бранью.
Она невозмутимо стояла, глядя на него. Годвин, понимавший все, но делавший вид, что он ничего не понимает, удивлялся ее непонятному терпению. Вот наконец, совершенно потеряв голову от бешенства, носильщик выкрикнул:
— Немудрено, что ты, Масуда, шпионка, теперь стала на сторону этих христианских собак, а не защищаешь меня, правоверного, ах ты, дочь аль-Джебала!
Красавица вытянулась, все ее тело напряглось. Она в эту минуту походила на змею, готовую кинуться и укусить.
— Чья дочь? — холодно спросила она. — Ты говоришь о господине, который убивает?
И она бросила на носильщика взгляд, взгляд ужасный. В эту минуту весь гнев затих в нем.
— Прости, вдова Масуда, — сказал он, — я забыл, что ты христианка, а потому, конечно, станешь на сторону христиан.
На деньги, которые ты дала, не купишь новых подков для моего осла, истершихся по дороге сюда; но все равно заплати мне и отпусти меня, я пойду к паломникам, которые вознаградят меня лучше.
Она заплатила ему и прибавила спокойно:
— Иди, и если ты любишь жизнь, смотри, лучше выбирай слова.
Носильщик поехал прочь; теперь он казался до того приниженным, что в грязном тюрбане и длинной обтрепанной тунике, по мнению Вульфа, скорее походил на охапку лохмотьев, чем на человека, сидящего на осле. Вульфу также пришло в голову, что эта странная Масуда имела власть, которой не обладали обыкновенные содержатели и содержательницы гостиниц. Проводив глазами смирившегося носильщика, Масуда обернулась к, братьям и сказала им по-французски:
— Простите меня, но здесь, в Бейруте, сарацинские носильщики резки и грубы, особенно относительно нас, христиан. Его обманула ваша наружность. Он думал, что вы рыцари, а не простые пилигримы, одетые в рыцарские кольчуги под туниками и, — прибавила она, взглянув на прядь белых волос, выросшую на голове Годвина в том месте, где его ударил меч во время стычки в бухте Смерти, — носящие следы рыцарских ран; хотя, правда, такие шрамы могут остаться и после драки в какой-нибудь харчевне. Ну хорошо, вы будете платить мне большую цену, и я отведу вам лучшую комнату; живите в ней, сколько вам будет угодно. Ах, да ведь тут ваши вещи! Вы же не бросите их? Эй. невольник, сюда!
Нубиец, который отвел мула в сторону, быстро появился и взял несколько тюков, а Масуда провела братьев по коридору в большую комнату с высокими окнами, на цементном полу которой стояли две кровати, и спросила их, нравится ли им это помещение.
Они сказали: «Да, комната годится».
Казалось, молодая женщина прочитала их мысль и заметила:
— Не бойтесь за вещи. Будь вы так богаты, как, по вашим уверениям, бедны, будь вы так благородны, как по вашим словам, просты, и тогда вы были бы в полной безопасности в гостинице вдовы Масуды, о, мои гости. Но как зовут вас?
— Петер и Джон.
— Да, вы тут в безопасности, Петер и Джон, приехавшие навестить родину Петера и Иоанна, ваших покровителей, и других основателей нашей веры; повторяю, вам нечего опасаться, о, мои гости.
— Гости, которым посчастливилось быть захваченными Масудой, — с новым поклоном ответил Годвин.
— Погодите, еще рано говорить, посчастливилось вам или нет, сэр… Но кто говорит со мной, Петер или Джон? — заметила она с чем-то вроде улыбки на своем красивом лице.
— Петер, — ответил Годвин. — Помните; паломник с белой прядью в волосах — Петер.
— Вероятно, вы близнецы, вам действительно нужны отличительные знаки. Дайте-ка мне посмотреть: да, у Петера белая прядка и серые глаза. У Джона глаза синие. Джон также более воинственен (если только пилигрим может быть воином); я вижу это по его мышцам; но Петер больше думает.
Женщине трудно было бы выбирать между Петером и Джоном…
Однако, я думаю, оба голодны, а потому пойду и приготовлю им кушанье.
— Что за странная хозяйка гостиницы, — со смехом сказал Вульф, когда Масуда вышла из комнаты, — впрочем, несмотря на то, что она так ловко выловила нас на пристани, она мне нравится. Не понимаю только, зачем мы понадобились ей? А знаешь, брат Годвин, ты ей понравился, и это хорошо: она может нам принести пользу. Но смотри, друг Петер, я, как и этот носильщик, думаю, что она опасна. Помни: он назвал ее шпионкой и, очень вероятно, не ошибся.
Годвин обернулся, чтобы остановить его; в эту минуту у дверей послышался голос вдовы Масуды, которая сказала:
— Братья Петер и Джон, я забыла предупредить вас говорить тихо в этом доме; над его дверями отдушины для свежего воздуха. Но не бойтесь, я слышала только голос Джона, а не то, что он сказал.
— Надеюсь, нет, — пробормотал Вульф, и на этот раз он говорил действительно шепотом.
Молодые люди распаковали вещи и, вынув из дорожного мешка свежее платье, вымылись водой, приготовленной для них в больших кувшинах. И братьям действительно было необходимо освежиться, потому что на переполненном дромоне им редко удавалось мыться. К тому времени, когда они переоделись в свежее платье, надев кольчуги под туники, пришел нубиец и провел их в другую комнату, очень большую; в нее проникал свет через отдушины вверху; посередине ее пола, кругом большой циновки, виднелись подушки. Нубиец знаком пригласил сесть на них, ушел и вскоре вернулся вместе с Масудой и принес блюда и тарелки на медных подносах. Он поставил посуду перед братьями и предложил им начать есть. Годвин и Вульф не знали, какое кушанье подали им, потому что его скрывали соусы, наконец Масуда сказала, что это рыба. После рыбы принесли мясо; после мяса дичь, после дичи сладкое печенье, торты и другие сладости и плоды. Наконец, несмотря на то, что молодые люди долго питались только соленой свининой и заплесневелыми, червивыми сухарями, запивая все плохой водой, они попросили Масуду не давать им больше ничего.
— Тогда, по крайней мере, выпейте хоть вина, — сказала она с улыбкой, наливая в их кубки сладкого ливанского вина: и казалось, ей было приятно, что они ели с таким удовольствием.
Братья повиновались, смешав вино с водой. Вдруг она неожиданно спросила их, что они думают делать и долго ли намереваются прожить в Бейруте. Годвин и Вульф ответили, что несколько дней они не двинутся с места, так как им нужен отдых, и они хотят осмотреть город, его окрестности, а вдобавок считают необходимым купить хороших лошадей. Может быть, она может помочь им в этом деле? Масуда утвердительно кивнула головой и спросила, куда думают они отправиться верхами?
— Вот туда, — ответил Вульф, махнув рукой по направлению гор. — Перед нашим отправлением в Иерусалим мы хотим посмотреть на ливанские кедры и на высокие горы.
— Вы хотите видеть кедры Ливана? — сказала Масуда. — Это не совсем безопасно для двоих путешественников, потому что в горах живет множество свирепых диких зверей, а еще более лютых людей, которые нападают, убивают и грабят. Вдобавок ко всему Властелин Гор теперь в ссоре с христианами и захватывает в плен всех, кого настигает.
— Как имя этого властелина? — спросил Годвин.
— Сипан, — ответила Масуда. И братья заметили, что она быстро оглянулась.
— О, — сказал Вульф, — а мы думали, что его имя Джебал.
Теперь она посмотрела на него широко открытыми, изумленными глазами и произнесла:
— Это также его имя; но, сэр пилигрим, что можете вы знать о страшном господине аль-Джебале?
— Мы знаем только, что он живет в месте, которое называется Масиаф, и мы думаем побывать в этой крепости.
Масуда опять с изумлением взглянула на него.
— Вы, верно, безумцы, — сказала она, потом сдержалась и, захлопав в ладоши, призвала невольника, велев ему убрать блюда и тарелки.
Когда слуга ушел, братья высказали желание походить по городу.
— Хорошо, — ответила Масуда, — но с вами пойдет слуга. Да, да, вам лучше не ходить одним, потому что вы могли бы сбиться с дороги. Кроме того, здесь не всегда безопасно для иностранцев, как бы скромны ни казались они, — многозначительно прибавила она. — Не хотите ли зайти в замок губернатора? Там живет несколько английских рыцарей и несколько священников, которые дают добрые советы паломникам.
— Вряд ли мы зайдем к губернатору, — ответил Годвин, — мы недостойны такого знатного общества. Но почему вы смотрите на нас так странно?
— Я удивляюсь, сэр Петер и сэр Джон, почему вы находите нужным говорить неправду бедной вдове. Скажите-ка, там, у вас на родине, вы не слыхали о двух братьях-близнецах, которых зовут… Ах, да как же их зовут-то? Да, да, вспомнила! Одного сэр Годвин, другого сэр Вульф; они из рода д'Арси, и о них у нас ходят толки.
Нижняя челюсть Годвина опустилась, Вульф же громко расхохотался и, видя, что, кроме них троих, в комнате нет никого, в свою очередь, сказал Масуде:
— Конечно, этим близнецам было бы приятно узнать, что они так знамениты, но каким образом вы могли услышать о них, вдовая содержательница сирийской гостиницы?
— Я? Я узнала о них от человека, приплывшего на домоне, он пришел ко мне, пока я готовила кушанье, и рассказал странную историю, которую слышал в Англии; историю о том, как Салахеддин — да будет проклято его имя! — послал отряд с поручением украсть одну благородную даму; как двое братьев, Годвин и Вульф, вдвоем отбились от целого отряда, сделав истинно рыцарский подвиг, а молодая дама ускакала на коне; как позже они попались в такую ловушку, какие любит устраивать султан, и как на этот раз их благородную родственницу увезли.
— Странный рассказ, — сказал Годвин, — а не сказал вам этот человек, приехала ли в Палестину похищенная дама?
— Он ничего не сказал мне об этом, и я ничего ни от кого не слышала. Слушайте, мои гости. Вас удивляет, что я знаю слишком многое, но это не странно, потому что тут, в Сирии, многие из нас обязаны собирать сведения. Могли ли вы думать, о безумные дети, что такие два рыцаря, как вы, принимавшие участие в великих событиях, о которых слухи уже разошлись по всему Востоку, могли путешествовать по суше и морю и остаться неузнанными? Неужели вы думаете, что в Англии не было никого, кто наблюдал бы за вами, донося о каждом вашем движении могущественному человеку, выславшему военный корабль с известным вам поручением? Ну, то, что знает он, знаю и я. Ведь я же сказала вам, что знать — моя обязанность? Почему я говорю вам все это? Может быть, потому, что мне нравятся такие рыцари, как вы; нравится рассказать о двух людях, стоявших рядом на набережной, в то время как дама уплывала на коне; нравится, что они, израненные, пробили себе путь через ряды врагов. Мы на Востоке любим рыцарские подвиги. Может быть, также потому, что мне хочется предостеречь вас, посоветовать не тратить драгоценных жизней, пытаясь пробиться сквозь охраняемые ворота Дамаска ради самого безумного в мире предприятия. Как? Вы все еще с удивлением смотрите на меня и сомневаетесь? Хорошо же, я вам говорила неправду. Я не ждала вас на набережной, и носильщик, с которым я поссорилась, не получил от меня приказания схватить ваши вещи и привезти их в мой дом. На пути между Англией и Бейрутом за вами не наблюдали шпионы. Я просто зашла в вашу комнату, пока вы обедали, и прочитала бумаги, неосторожно оставленные вами на столе, просмотрела книги, помеченные не именами Петера или Джона, и обнажила лезвие меча, на котором увидела выгравированный девиз: «Против д'Арси — против смерти»; потом услышала, как Петер называл Джона Вульфом, а Джон Петера Годвином и так далее.
— Кажется, — по-английски сказал Вульф, — мы мухи на паутине, а наш паук носит имя вдовы Масуды, но, я не понимаю, зачем мы ей? Ну, брат, что нам теперь делать? Сделаться друзьями паука?
— Дурной союзник, — ответил Годвин и, посмотрев прямо в лицо Масуде, спросил: — Хозяйка, знающая так много, скажите мне, почему среди многих бранных слов, которыми осыпал вас рассерженный погонщик осла, он назвал вас дочерью аль-Джебала?
Она вздрогнула и сказала:
— Значит, вы понимаете по-арабски? Я так и думала. Почему вы спрашиваете, не все ли вам равно?
— Это, конечно, не очень важно, только мы хотим навестить аль-Джебала, а потому считаем себя счастливыми, что нам удалось встретить его дочь.
— Вы едете к аль-Джебалу? Да, вы говорили об этом на корабле. Правда, может быть, именно потому-то я и пришла к вам навстречу. Хорошо же: вам перережут горло раньше, чем вы успеете доехать до первого из его замков.
— Не думаю, — ответил Годвин, вынул из туники перстень и принялся беспечно играть им.
— Откуда у вас это кольцо? — спросила Масуда, и удивление и страх промелькнули в ее глазах. — Ведь это… — И она замолчала.
— Перстень дал нам тот, кто дал и поручение. Теперь, хозяйка, поговорим совершенно откровенно. Вы многое знаете о нас, однако, хотя нам было удобнее называть себя пилигримами Петером и Джоном, нам нечего стыдиться, тем более что, по вашим словам, наша тайна ни для кого не тайна. И я охотно верю этому. Теперь, раз она открылась, я предполагаю уйти из вашего дома и поселиться с нашими соотечественниками в замке; без сомнения, нас ласково примут там, особенно узнав, что мы не захотели жить у женщины, которую называют шпионкой и дочерью аль-Джебала. После этого, может быть, вы сами не пожелаете остаться в Бейруте, где, как мы полагаем, не любят шпионок и «дочерей аль-Джебала».
Она молча слушала его, и ни Один мускул не шевельнулся на ее бесстрастном лице.
— Вы, без сомнения, слыхали, что одну женщину, которую называли так, недавно сожгли, считая ее ведьмой?
— Да, — произнес Вульф, который теперь в первый раз услышал об этом. — Да, слыхали.
— И вы думаете, что навлечете на меня такую же судьбу? Ах вы, безумцы, я могу убить вас раньше, чем вы заговорите обо мне с кем-нибудь.
— Вы думаете? — заметил Годвин. — Но я уверен, что это не суждено судьбой, а также, что вы не пожелаете принести нам больше вреда, чем мы вам. Говоря откровенно, скажу: нам необходимо видеть аль-Джебала: раз уж случайность завела нас к вам, если это была случайность, не поможете ли вы нам добраться к нему; мне кажется, вы могли бы сделать это. Или нам нужно искать помощи в другом месте?
— Не знаю. Я отвечу через четыре дня. Если вам это не нравится — идите, донесите на меня, делайте самое худшее.
Тогда и я сделаю свое дело, но с большой грустью.
— А кто нам поручится, что вы не сделаете нам ничего дурного, если мы согласимся ждать четыре дня? — резко спросил Вульф.
— Вы должны поверить на слово дочери аль-Джебала. Другой поруки у меня нет, — ответила она.
— Ну, это может обозначать смерть, — сказал Вульф.
— Вы только что сказали, что смерть не суждена вам судьбой, и, хотя у меня были свои причины взять вас к себе, я не враждую с вами… пока. Решайтесь на что угодно. Тем не менее, говорю вам, если поедете к нему, вы, люди, которые, зная арабский язык, узнали и мою тайну, вы умрете; если же вы останетесь здесь, вы будете в безопасности, по крайней мере, пока живете в моем доме. Клянусь в этом на знаке аль-Джебала. — И, поклонившись низко, она дотронулась до перстня, который Годвин держал в руках. — Но помните, что за будущее я не могу отвечать.
Годвин и Вульф переглянулись; Годвин произнес:
— Я думаю, мы доверимся вам и останемся.
Услышав эти слова, Масуда слегка улыбнулась, видимо с удовольствием, и сказала:
— Ну, теперь, если вам хочется побродить по городу, мои гости Петер и Джон, я позову раба и велю ему проводить вас; через четыре дня мы снова потолкуем о нашем путешествии, а до тех пор лучше не будем вспоминать о нем.
На ее зов вошел человек, вооруженный мечом. Он вывел из дому братьев, одетых в пилигримские одежды, и пошел с ними по улицам восточного города. Тут все было так странно, так необыкновенно для Годвина и Вульфа, что они на время позабыли о своих затруднениях. Вскоре братья заметили, что в кварталах, где не встречалось ни одного франка, а свирепые слуги Пророка хмурились на них, один вид раба Масуды защищал их от всяких оскорблений: глядя на нубийца, даже сарацины с головами, обернутыми тюрбанами, подталкивали друг друга локтями и отворачивались. Наконец они снова вернулись в гостиницу. Кроме двух пилигримов, которые путешествовали на одном дромоне с ними, они не встретили никого знакомого. Пилигримы очень удивились, услышав от братьев, что они побывали в сарацинском квартале города, куда другие франки не входили без сильной охраны, хотя Бейрутом владели христиане.
Вернувшись домой, Годвин и Вульф пошли в свою комнату, сели в самом ее отдаленном конце и, говоря почти шепотом, чтобы никто не подслушал их, долго и серьезно совещались, как поступать дальше. Одно выяснилось вполне: их личность и отчасти их цель стали известны; без сомнения, вести о их прибытии вскоре дойдут и до султана Саладина. От короля и знатных христианских вельмож в Иерусалиме братья не могли ждать помощи, потому что содействие, им повлекло бы полный разрыв Иерусалимского королевства с Саладином, а франки очень боялись этого, чувствуя себя неготовыми к борьбе. Было вполне вероятно, что братьям помешали бы отправиться на поиски за племянницей Саладина, заключили бы их в тюрьму или отослали обратно в Европу. Правда, они могли попытаться отыскать путь к Дамаску одни, но предупрежденный султан, вероятно, приказал бы убить их по дороге или бросить в какое-нибудь подземелье. Чем больше рассуждали об этом близнецы, тем больше возрастала их тревога, наконец Годвин сказал:
— Брат, дядя настойчиво приказывал нам отыскать аль-Джебала, и хотя, по-видимому, свидание с шейхом — дело опасное, я думаю, нам лучше всего исполнить желание нашего старого воспитателя; кто знает, может быть, в последнюю минуту Господь дал ему дар провидения? Кроме того, если все тропинки тернисты, не все ли равно, которую из них избрать?
— Хорошая поговорка, — ответил Вульф. — Я устал сомневаться и беспокоиться. Исполним желание нашего дяди, поедем к этому Старику Гор; мне кажется, вдова Масуда может помочь нам добраться до него. Если на пути к горам мы умрем… Что же? Мы, по крайней мере, погибнем, исполним все, что могли.
VIII. КОНИ — ОГОНЬ И ДЫМ
Когда на следующее утро Годвин и Вульф вышли в столовую, другие гости уже сидели за утренним столом; в том числе: серьезный купец из Дамаска, другой из Александрии египетской, по-видимому, арабский начальник, иерусалимский еврей и, наконец, не кто иной, как английский торговец Томас из Ипсвича, который тепло поздоровался с братьями.
Странные и разнородные люди!
Пока Годвин смотрел на них, а молодая и стройная вдова Масуда переходила от одного своего постояльца к другому, разговаривая с ними и принося все, что было им нужно, ему пришло в голову, что, может быть, это собрание шпионов, которые обмениваются сведениями или рапортуют хозяйке гостиницы, состоя у нее на жалованье. Однако в них не замечалось ничего подозрительного. Почти все гости Масуды говорили по-французски, толкуя о самых обычных вещах, например, о знойной погоде, о цене за перевозку животных или товаров, о городах, которые они намеревались посетить.
Выяснилось, что купец Томас собирался в это же утро отправиться со своими товарищами в Иерусалим. Но его недавно купленный мул захромал, так как его копыто треснуло, а нанятые верблюды еще не пришли с гор; итак, по его словам, ему нужно было подождать день или два. И он предложил братьям побродить вместе с ним по городу; из благоразумия они решили не отказываться, хотя мало доверяли ему, думая, что именно он узнал их историю и истинные имена и открыл все Масуде или по болтливости, или с какой-нибудь определенной целью.
Как бы то ни было, этот Томас оказался полезным человеком: хоть он только что высадился на землю, но, по-видимому, знал все, что случилось в Сирии за его отсутствие, а также то, что в данное время происходило в этой стране. Он рассказал, что Гюи де Луизиньян только что сделался королем Иерусалима после смерти малолетнего Болдуина, и Раймунд Триполийский отказался признать его и был окружен в Тивериаде; что Саладин собирал большое войско в Дамаске, задумав двинуться войной на христиан; сказал еще много правды и неправды.
С Томасом и с другими гостями д'Арси часто беседовали; никто не расспрашивал братьев о них самих или из приличия, или по другим причинам, а Годвин и Вульф извлекли из разговоров с ними некоторую пользу.
На третье утро Масуда, с которой они до сих пор еще не вели разговора об аль-Джебале, заметила, что, кажется, они желали купить лошадей. Братья сказали «да», она прибавила, что недавно предложила одному человеку привести им напоказ двух коней и что теперь эти лошади стоят в конюшне, подле сада. Братья пошли туда вместе с Масудой. Подле двери в пещеру, служившую конюшней, как это часто делается на Востоке, где бывает так жарко, Годвин и Вульф увидели важного араба с копьем в руке и закутанного в бурнус, сотканный из верблюжьего волоса. Подходя к нему, Масуда сказала братьям:
— Если лошади понравятся вам, предоставьте мне сговориться с продавцом и сделайте вид, будто вы не понимаете ничего, что я говорю.
Араб, который не обратил внимания на братьев, поклонился Масуде и сказал ей по-арабски:
— Значит, мне было приказано привести моих двух бесценных для франков?
— Не все ли тебе равно, дядя мой. Сын Песка, — спросила Масуда. — Выведи их, я хочу посмотреть, тех ли коней ты привел, за которыми я посылала.
Араб повернулся и крикнул в отворенную дверь пещеры:
— Огонь, сюда!
В ту же минуту послышался стук копыт, и через низкую арку выбежала редкой красоты лошадь. Это был конь серой масти с развевающейся гривой и хвостом. На его лбу виднелась черная звездочка. Не слишком крупный, но статный, с маленькой головой, с большими глазами, с раскрытыми ноздрями, с очень тонкими ниже колен ногами и с круглыми копытами, он был замечательно красив. Конь выскочил, фыркая, но, увидев своего хозяина араба, вдруг остановился и замер подле него.
— Сюда, Дым! — снова закричал араб; тотчас же выбежала вторая лошадь и стала подле первой; ростом и сложением конь совершенно походил на первого, только был как уголь, и на его лбу блестела белая звездочка, да в глазах горело больше огня.
— Вот они, — заговорил араб. Масуда переводила братьям каждое его слово. — Они близнецы, им семь лет, и до шести на них не надевали узд; их мать самая быстрая кобылица во всей Сирии, и их род можно проследить в течение ста лет.
— Это действительно лошади, — сказал Вульф. — Действительно. Но что они стоят?
Масуда повторила этот вопрос по-арабски, и Сын Песка ответил, слегка пожав плечами:
— Не говори пустяков, ты знаешь, что тут нельзя толковать о цене, потому что эти кони бесценны. Спроси с них, сколько хочешь.
— Он спрашивает, — сказала Масуда, — сто золотых за обоих. Вы можете заплатить такие деньги?
Братья переглянулись. Это была большая сумма.
— Такие лошади, — продолжала Масуда, — спасали человеческие жизни, и мне кажется, я не могу потребовать, чтобы он спросил меньше, он продал бы их в Иерусалиме в три раза дороже. Но если вы хотите, я могу дать вам взаймы: без сомнения, у вас есть какие-нибудь драгоценные камни или другие дорогие вещи, которые вы можете оставить мне в заклад; например, то кольцо, которое вы носите у себя на груди, Петер.
— У нас есть золото, — ответил Вульф, который отдал бы за этих лошадей все до последней монеты.
— Они покупают, — сказала Масуда.
— Покупают-то покупают, но могут ли они усидеть на них? — спросил араб. — Эти кони не для детей и не для паломников; если только покупщики не умеют ездить верхом, они не получат их от меня, нет, нет, не получат, даже если ты потребуешь этого.
Годвин сказал, что, ему кажется, он усидит на лошади и, во всяком случае, попытает свои силы. Тогда араб, оставив коней, вошел в конюшню и с помощью двух прислужников из гостиницы принес узду и седла, не походившие на те, к которым привыкли братья. Это были просто толстые стеганые подушки, отходившие далеко на круп лошадей, с крепкими кожаными подпругами, с чеканными стременами в форме полуподков. Удила были прямы, без извилин.
Когда коней оседлали и стремена отпустили на нужную длину, араб знаком предложил братьям сесть в седла. Однако, когда они приготовились вскочить на коней, он шепнул какое-то слово, и вот эти кроткие, спокойные лошади превратились в дьяволов; они стали брыкаться, высоко взметать задние ноги, бросаться на братьев с оскаленными зубами, размахивали над ними копытами передних ног, подкованными тонкими железными пластинками. Годвин стоял и изумлялся, а Вульф, раздраженный этой уловкой, стал позади Дыма и, улучив минуту, положив руку на спину скакуна, одним прыжком очутился в седле. Масуда улыбнулась; даже араб, прошептал: «Хорошо», а Дым, почувствовав на спине всадника, опустился на все четыре ноги и сделался тих, как овечка. Тогда араб сказал слово лошади Огонь, и Годвин тоже вскочил в седло.
— Куда ехать? — спросил он.
Масуда сказала, что она покажет им дорогу; вместе с ней и с арабом братья поехали шагом; наконец город остался позади них, и они очутились на проезжей дороге. Слева расстилалось море, справа лежала большая низина, местами покрытая обработанными полями, дальше тянулась гряда крутых и каменистых невысоких гор. Пустили лошадей рысью и маленьким галопом, братья разъезжали взад и вперед и скоро совершенно освоились со странными седлами. Недаром еще в детстве скакали они на неоседланных лошадях по зарослям Эссекса; вскоре тоже научились рыцари управлять уздами. Когда они вернулись к Масуде и арабу, вдова сказала им, что, если они не боятся, продавец им покажет, что лошади сильны и быстры.
— Мы не боимся скакать так, как решится мчаться он сам, — сердито ответил Вульф; на это араб мрачно усмехнулся и шепотом сказал Масуде несколько слов, потом, положив руку на бок Дыма, вскочил на круп коня позади Вульфа, лошадь не пошевелилась.
— Скажите, Петер, вы соглашаетесь взять спутника? — спросила Масуда, и в ее глазах появился странный взгляд, взгляд дикий, незнакомый братьям.
— Конечно, — ответил Годвин, — но где же этот спутник?
Вместо ответа она повторила то же, что сделал араб, и, усевшись позади Годвина, обвила руками его стан.
— Ну, поистине в эту минуту ты пресмешной пилигрим, — со смехом сказал Вульф, и даже серьезный араб улыбнулся.
Годвин прошептал сквозь зубы старинную пословицу: «Женщина позади всадника — дьявол в луке». Но громко он сказал:
— Я считаю это за честь, но, мой друг Масуда, если случится что-нибудь — вините себя.
— Ничего не случится с вами, друг мой Петер, а я, рожденная в пустыне, так долго пробыла в гостинице, что мне хочется промчаться по горам, чувствуя под собою прекрасного скакуна и видя впереди храброго рыцаря. Послушайте, братья, вы говорите, что не боитесь, так ослабьте же поводья, и где бы вы ни мчались, что бы ни встретили, не старайтесь останавливать или поворачивать обратно лошадей. А теперь мы испытаем этих скакунов, которых ты, Сын Песка, так громко воспеваешь. Вперед, скачите далеко и быстро.
— Да падет это на твою голову, дочь, — ответил старик, — и моли Аллаха, чтобы они усидели в седлах.
Его темные глаза засверкали, и, схватив круглую седельную подпругу, он произнес какое-то слово, кони мгновенно закинули головы и крупным галопом пустились к горам. Сначала они мчались по возделанным полям, с которых только что сняли жатву, перескочили через несколько рвов и через низкую ограду, да так мягко, что братьям показалось, будто они несутся на ласточках. Потом потянулась полоса песчанистого грунта; тут лошади поскакали быстрее, и скоро начали подниматься по длинному склону горы, с ловкостью кошек ставя ноги между камнями.
— Путь становился все круче и круче; вскоре подъем сделался местами так отвесен, что Годвину пришлось схватиться за гриву Огня, а Масуде тоже схватить руками стан Годвина, чтобы не сползти вниз. Между тем, несмотря на двойную тяжесть, храбрые кони не задыхались, не уставали. В одном месте они бросились в горный поток. Годвин заметил, что справа не больше, как на расстоянии пятидесяти ярдов, поток этот падал в глубокую пропасть между двумя утесами, которые отстояли на восемнадцать футов один от другого; он мысленно сказал себе, что если бы они перерезали поток немного ниже, их поездка окончилась бы. На другом берегу простиралось около сотни ярдов совершенно плоской местности; дальше начинались еще более высокие горы, и кони понеслись к ним между кустами. Наконец они достигли вершины горы, мили на две ниже их лежала долина, с которой они начали свою поездку.
— Эти лошади карабкаются, как козы, — сказал Вульф, — но одно верно: спускаться нам придется пешком и вести их под уздцы.
На вершине горы была почти совершенно ровная площадка без камней; кони поскакали галопом, который все ускорялся, и, наконец, помчались во всю прыть. Вдруг они остановились, мгновенно поднявшись на дыбы: они были на самом краю глубокой пропасти, там низко у ее подножия крутилась и пенилась река. С мгновение Огонь и Дым стояли неподвижно, потом по одному слову араба повернули, держась влево, поскакали обратно по площадке и приблизились к краю склона горы, братьям казалось, что они сейчас остановятся. Но Масуда крикнула что-то арабу, араб крикнул что-то лошадям, а Вульф по-английски крикнул Годвину.
— Не бойся, брат, где не боятся ехать они, проедем и мы.
— Моли Бога, чтобы подпруги выдержали, — ответил Годвин, откидываясь назад.
В ту же минуту кони начали спускаться с горы сначала шагом, потом немного быстрее и, наконец, понеслись, как вихрь.
Как могли эти лошади ступать твердо? Конечно, ни одна лошадь, выращенная в Англии, не сделала бы этого. Между тем, не упав ни разу, даже не спотыкаясь, кони летели вниз, перескакивая через большие глыбы камней, и наконец, очутились над потоком или, вернее, над расщелиной шириной в восемнадцать футов, у подножия которой тек поток. Годвин видел все и похолодел. Не безумцы ли эти люди, желающие заставить лошадей, несущих на себе двойной груз, сделать такой прыжок? Откинься седок, споткнись конь, недостаточно далеко прыгни он — уделом их будет неминуемая смерть.
Старый араб, сидевший позади Вульфа, только громко вскрикнул, а Масуда немного крепче обняла Годвина, и ее тихий смех прозвучал над его ухом. Лошади услышали восклицание своего хозяина и, по-видимому, поняв, что предстоит им, вытянули свои длинные шеи и поскакали.
Вот они примчались к ужасной окраине, и точно во сне перед Годвином мелькнул острый разрез, страшные утесы, между ними пропасть и белая пена ярдах в двадцати внизу. Он почувствовал, что великолепный Огонь весь сжался, а в следующее мгновение взлетел на воздух, как птица. В ту же минуту, или это был действительно сон, когда они перелетали через бездну, он почувствовал, как мягкие женские губы прижались к его щеке. Он не знал, действительно ли случилось это; мог ли человек ясно сознавать что-нибудь, чувствуя рядом с собою смерть? Может быть, его поцеловал ветер или просто прядь кудрей Масуды прикоснулась к его щеке. И право, он не мог думать о поцелуях, когда страшная черная пасть пропасти зияла под ним.
Они пронеслись в воздухе, белая пена исчезла, всадники очутились в безопасности. Нет, одна из задних ног Огня потеряла опору. Они падают, они погибли! Борьба… Как крепко обнимают эти руки. Как близко это лицо. Ничего, опасность миновала…
Они помчались в горы; рядом с серым Огнем скакал вороной Дым. Глаза Вульфа, казалось, готовы были выскочить наружу, и он кричал: «Д’Арси! Д'Арси!» — за ним сидел старый араб; его тюрбан свалился, бурнус, как знамя, развевался в воздухе, и он тоже громко кричал.
Все скорее и скорее мчались кони. Скакали ли так когда-нибудь лошади? Быстрее, быстрее; теперь ветер свистел, • а земля, казалось, улетала из-под ног. Спуск окончился. Равнина; вот равнина осталась позади, теперь поля, поля тоже исчезли, и вот, опустив головы и высоко водя боками, Дым и Огонь рядом остановились на дороге; их покрытые потом тела искрились в лучах заходящего солнца.
Объятия перестали крепко сдавливать стан Годвина. А, верно, они были сильны: на обнаженных круглых руках Масуды остались отпечатки колец кольчуги, скрытой под его туникой. Молодая женщина соскользнула на землю, осматривала эти знаки. Потом она улыбнулась медленной, трепетной улыбкой, вздохнула полной грудью и сказала:
— Вы хорошо ездите верхом, пилигрим Петер, пилигрим Джон тоже, это хорошие лошади, и стоило поскакать, хотя бы в конце стояла смерть. Ну, Сын Песка, мой дядя, что скажешь ты?
— Что я уже состарился для таких скачек по двое на коне, когда в конце ничто не вознаграждает за это.
— Ничто? — спросила Масуда. — Ну, я не вполне уверена в этом. Что же, — прибавила она, — ты продал лошадей пилигримам, которые могут ездить, и они испытали коней; меня же это развлекло после приготовления кушаний в моей гостинице, в которую мне надо теперь вернуться.
Вульф отер увлажнившийся лоб, покачал головой и сказал:
— Мне всегда говорили, что Восток полон безумцами и дьяволами. Теперь я узнал, что мне говорили правду.
Годвин же молчал.
Лошадей отвели в гостиницу, братья прибрали их под присмотром араба, который хотел, чтобы животные привыкли к своим новым владельцам; после этой ужасной скачки кони охотно позволили Годвину и Вульфу подойти к себе. Братья задали им корм, состоящий из размельченного ячменя, колосьев и соломы, смешанных вместе, и напоили их водой, которая целый день грелась на солнце; араб подмешал в нее немного муки и белого вина.
На следующее утро д'Арси встали на заре, чтобы посмотреть, как Огонь и Дым чувствуют себя после скачки. Входя в конюшню, они услышали, что кто-то скрытый в тени плачет, и при слабом свете утра увидели старого араба; он стоял к ним спиной, обняв одной рукой шею Дыма, а другой голову Огня и попеременно целуя красивых скакунов, в то же время громко говорил по-арабски, называя их своими детьми.
— Но, — сказал он наконец, — она приказала — почему, я не знаю, — и я должен повиноваться! Что же? По крайней мере, вас возьмут храбрые люди, достойные таких скакунов, как вы. Я почти надеялся, что все мы, трое мужчин и моя племянница Масуда, женщина с тайной на лице и с глазами, видевшими ужасы, погибнем в расщелине. Но не такова была воля Аллаха. А потому прощай, мой Огонь, прощай, мой Дым, чудные дети пустыни, умеющие лететь быстрее стрелы…
Никогда не выйду я на вас в битву. Ну, все же у меня есть другие кони вашей же несравненной крови.
Тут Годвин дотронулся до плеча Вульфа, и оба брата потихоньку вышли из конюшни, они не хотели, чтобы араб увидел их, им казалось позорным смотреть на его печаль. Когда они вернулись в свою комнату, Годвин спросил Вульфа:
— Почему этот человек продал нам благородных коней?
— Потому что его племянница Масуда приказала ему сделать это, — ответил Вульф.
— А почему она приказала?
— Ах, — проговорил Вульф, — не назвал ли он ее женщиной с тайной на лице и с глазами, видевшими ужасы? Может быть, ею руководят какие-нибудь семейные причины или вопросы, касающиеся нас с тобой. Ведь с нами она затеяла непонятную игру, ни начало, ни конец которой не известны нам! Но, брат Годвин, ты мудрее меня. Зачем же ты просишь меня разгадать такие загадки? Мне совсем не хочется ломать над ними голову. Я знаю только, что это славная игра, и верю, что она в конце концов приведет нас к Розамунде.
— Только бы все это не привело нас к чему-нибудь гораздо худшему, — со стоном ответил Годвин. Он вспомнил сон, который пригрезился ему в воздухе над пропастью между черными утесами, под которыми кружилась журчащая пена, и ничего не сказал Вульфу.
Когда солнце высоко поднялось, братья стали снова собираться идти в конюшню, взяв с собою золото, приготовленное для араба; но, открыв дверь своей комнаты, увидели Масуду; красивая вдова, по-видимому, только что хотела постучаться к ним.
— Куда идете вы, друзья Петер и Джон, да еще так рано? — спросила она с улыбкой на своем красивом странном лице, казалось, скрывавшем какую-то глубокую тайну.
Годвин мысленно сказал себе, что точно такая улыбка была на лице каменного сфинкса, которого они видели на рыночной площади Бейрута.
— Посмотреть на наших лошадей и заплатить деньги арабу, — ответил Вульф.
— Неужели? Мне казалось, что час тому назад вы сделали первое, что же касается до второго — не трудитесь.
Сын Песка ушел.
— Ушел! И увел лошадей?
— Нет, они здесь.
— Значит, госпожа, вы заплатили ему? — спросил Годвин.
Было ясно, что Масуде понравилось его любезное обращение, потому что, когда она ответила, ее обыкновенно жесткий голос смягчился. И в первый раз она обратилась к Годвину, выговорив все его имя.
— Почему вы называете меня госпожой, сэр Годвин д'Арси? — сказала она. — Ведь я только содержательница гостиницы, и мне иногда дают жестокие названия. Да, может быть, я была дамой, раньше чем сделалась содержательницей гостинцы; но теперь я только вдова Масуда, как вы — пилигрим Петер. Тем не менее я благодарна вам за вашу ошибку.
И, отступив шага на два к двери, которую она закрыла за собой, Масуда поклонилась с таким достоинством, с такой грацией, что всякий понял бы, что красивая вдова воспитывалась не в гостиницах.
Годвин тоже поклонился ей, сняв шляпу. Их глаза встретились, и по ее взгляду он понял, что со стороны этой женщины ему нечего было бояться предательства. Как бы темен и неизвестен ни был путь перед ним, он теперь вверил бы свою жизнь ее рукам.
Вульф, заметивший все это, испугался. Он спросил себя, что подумала бы Розамунда, если бы она видела странный взгляд в глазах смуглой женщины, которая была когда-то знатной дамой, сделалась содержательницей гостиницы, которую называли шпионкой, дочерью сатаны, исчадием аль-Джебала?
Теперь вдова Масуда говорила своим обыкновенным резким тоном:
— Нет, я ему не заплатила. Он не захотел взять денег; не захотел также и нарушить слова, данного вам, рыцарям, которые так хорошо и храбро скачут на конях, но я заключила с ним условие от вашего имени и надеюсь, вы не откажетесь исполнить его, так как я поручилась за вас своим добрым именем, а этот араб глава рода и мой родственник. Вот в чем дело: если вы и эти ваши лошади останетесь в живых и придет время, когда они больше не понадобятся вам — на площади ближайшего города велите местному глашатаю выкрикнуть, что шесть дней будете ждать человека, одолжившего вам коней, если через шесть дней он не явится — продайте их. Только не раньше. Согласны вы?
— Да, — ответили оба брата, но Вульф прибавил:
— Только нам хотелось бы знать, почему араб, Сын Песка, ваш родственник, доверяет нам своих драгоценных коней?
— Завтрак подан, гости, — произнесла Масуда холодным голосом, прозвучавшим, как звон металла.
Вульф только покачал головой и пошел за ней в столовую, которая теперь снова опустела.
Большую часть дня они провели со своими лошадьми, вечером на этот раз вместе с Масудой немного проехались, хотя не были вполне уверены в лошадях, они думали, что, может быть, эти животные, по их мнению, одаренные почти человеческим умом, закусят удила и унесут их в глубину родной пустыни. Однако, хотя время от времени кони с легким ржанием и оглядывались, как бы желая отыскать своего прежнего хозяина-араба, они не сделали ничего дурного; лошади, выезженные для дам, не могли бы быть спокойнее. Поэтому братья вернулись обратно; прибрали, накормили и приласкали животных; и кони стояли смирно, только настораживали уши и обнюхивали их, точно зная, что с ними их новые хозяева, и желая подружиться с ними.
На следующий день было воскресенье, братья, опять-таки по желанию Масуды, в сопровождении ее невольника пошли к обедне в большую церковь, прежнюю мечеть, и, как всегда, накинули пилигримские одежды поверх кольчуг.
— А вы не пойдете с нами? Ведь вы же исповедуете нашу веру? — спросил Вульф.
— Нет, — ответила Масуда, — я сегодня не в таком расположении духа, чтобы исповедоваться. Сегодня я буду перебирать четки дома.
Итак, они пошли без нее. В задней части церкви, которая была просторна, но темна, д'Арси вмешались в толпу скромных прихожан и смотрели, как рыцари и священники различных народностей старались занять первенствующее место под куполом. Выслушали они проповедь епископа и многое узнали из нее. В конце своего поучения проповедник заговорил о предстоящей войне с Саладином, которого называл антихристом. Епископ просил христиан оставить личные распри и приготовиться к страшной борьбе. Говоря, что в противном случае, в конце концов, крест их Господа будет попран стопами сарацин, Его воины зарезаны, Его знамена осквернены, Его народ перебит или загнан в море. Глубокое молчание встретило эти предупреждения.
— Прошли четыре дня, спросим же нашу хозяйку, нет ли у нее каких-нибудь известий для нас? — сказал Вульф по дороге домой.
— Да, спросим, — ответил Годвин.
Но им не пришлось спрашивать. Войдя к себе, братья увидели Масуду, она стояла посреди комнаты, как видно, в глубоком раздумье.
— Я пришла поговорить с вами, — сказала вдова, поднимая голову. — Вы все еще хотите навестить шейха аль-Джебала?
И братья ответили:
— Да.
— Хорошо. Я имею разрешение отпустить вас, но советую вам остаться, потому что путешествие опасно. Будем откровенны. Я знаю, что вы задумали. Я знала еще за час до того, как вы ступили на наш берег, и потому привела вас в свой дом. Выхотите попросить помощи господина Сипана против Салахеддина, так как желаете спасти из рук султана одну знатную вашу родственницу, в жилах которой течет его кровь, руки которой оба вы ищете. Вы видите, я и это узнала. Ну, в нашей стране множество шпионов, которые путешествуют то из Европы, то в Европу и доносят обо всем людям, дающим им деньги. Например, — я могу это сказать теперь, потому что вы больше не увидите его, — купец Томас, с которым вы были здесь у меня в доме, шпион. Вашу историю рассказали ему другие английские шпионы, а он передал ее мне.
— А вы тоже шпионка, как вас назвал носильщик? — прямо спросил Вульф.
— Я то, что я есть, — холодно ответила она. — Может быть, я, как и вы, принесла какую-нибудь клятву и держу ее, как вы держите свой обет. Кто мой господин или почему я поступаю так, вам все равно. Но вы мне очень нравитесь, и мы скакали с вами вместе — это была дикая скачка! Поэтому предупреждаю вас, — хотя, быть может, мне не следует так откровенно говорить с вами, — что аль-Джебал всегда берет плату за оказанные им услуги, а также что, может быть, вы за подвиг поплатитесь жизнью.
— Вы предупреждали нас также относительно Саладина, — сказал Годвин, — что же остается нам, если мы не можем ехать ни к тому, ни к другому?
Она пожала плечами:
— Поступить на службу к одному из крупных франкских полководцев и ждать удобного случая, который никогда не представится. Или еще лучше — нашить несколько зубчатых раковин на шляпы и вернуться домой, там жениться на богатых женах, которых вы встретите на родине, забыть Масуду-вдову, и аль-Джебала, и Салахеддина, и ту девушку, которая явилась ему в грезах. Только тогда, — прибавила она изменившимся голосом, — вам придется оставить здесь этих коней.
— Мы желаем скакать на них, — весело вскрикнул Вульф, но Годвин обернулся к Масуде и сердито взглянул на нее.
— Вы знаете нашу историю, — сказал он, — вы знаете нашу клятву. Какими же рыцарями считаете вы нас, что даете совет, который более годится для шпионов, доставляющих вам вести! Вы говорили о наших жизнях? Они даны нам на время, и, когда их потребуют от нас, мы отдадим их, сделав все, что могли сделать.
— Хорошо сказано, — ответила Масуда. — Дурно думала бы я о вас, ответь вы иначе. Но почему вы хотите ехать к аль-Джебалу?
— Потому что в минуту смерти дядя велел нам отыскать его; у нас нет другого советника, и это заставляет нас исполнить его совет — будь что будет.
— Опять хорошо сказано. Ну, вы поедете к аль-Джебалу.
И будь что будет со всеми нами троими.
— С нами троими? — сказал Вульф. — Какое же участие примете вы в этом деле?
— Я буду вашей проводницей, я еду с вами, и вы увидите, принесу ли я вам пользу, — ответила Масуда.
На своих великолепных конях, в арабских бурнусах, с двумя мулами, нагруженными вещами и всем необходимым для путешествия, а также мехами вина, двинулись братья в путь в сопровождении Масуды; она ехала на одном из мулов.
Много уединенных диких мест миновали они, часто приходилось им карабкаться по крутизнам или спускаться в глубокие впадины, ехать то между чащами, то по выжженным знойным солнцем откосам гор, отдыхать то под ветрами могучих деревьев, то на открытых площадках под темным небом, усеянным звездами.
Раз в самый зной путники остановились среди гор, обнаженные утесы которых тянулись к небу. Утомленные люди раскинули лагерь подле журчащего маленького хрустально-чистого источника, который привлек их. Истомленный, хорошо закусивший взятыми Масудой припасами, Вульф заснул в тени большой скалы. Подле другого камня улегся Годвин, но не мог сомкнуть глаз. Масуда хлопотала подле костра, разложенного рядом с глубокой горной пещерой. Не прошло и пяти минут после того, как она подошла к огню, Годвин услышал ужасный крик молодой женщины, обернулся и увидел ее в зубах страшного желтого чудовища. Д’Арси поднялся, схватил меч и бросился к дикому зверю, который на мгновение остановился, но не выпустил из пасти свою жертву.
IX. НА ПАЛУБЕ ГАЛЕРЫ
С того самого дня, как галера под желтым флагом Саладина отошла от эссекского берега, украденная дочь старого сэра Эндрю казалась на ней не пленницей, а царицей.
На сарацинском корабле Розамунду встретила неожиданность: в отведенном для нее помещении она застала молодую женщину, уроженку Франции Марию, которая добровольно пришла на галеру, когда этот корабль на своем пути в Англию стоял подле одного из французских приморских городов, забирая свежие съестные припасы и пресную воду. Узнав, что корабль принадлежит сарацинам, она решила просить их принять ее на палубу и согласилась быть служанкой той принцессы, за которой, по их словам, плыли они. Муж несчастной Марии много лет тому назад ушел в Святую Землю, и преданная жена, не имевшая денег на путешествие, с восторгом увидела возможность переправиться в Сирию. Розамунда ласково обошлась с нею, но с остальными держалась гордо: постоянное присутствие высокого человека в одеянии христианских рыцарей было ей ненавистно. В первый же раз взглянув на него, она узнала в нем Гюга Лозеля, человека, некогда просившего ее руки, получившего отказ, поклявшегося жестоко отомстить ее роду и потом исчезнувшего из Англии. Когда он подходил к ней, она невольно вздрагивала, как от прикосновения отвратительной гадины, когда он заговаривал с ней, вся кровь отливала к ее сердцу.
Совсем не то был принц Гассан, явившийся в дом ее отца под видом купца Георгия. Он обращался с ней почтительно, держался в стороне, старался предупредить ее малейшее желание, не был ни навязчивым, ни дерзким.
Однажды Розамунда обратилась к нему с вопросом, не может ли она попросить его об одной услуге.
С восточным поклоном, сделай почтительный «салаам», принц Гассан ответил:
— На этом корабле у каждого свое определенное место, своя обязанность. Сэр Гюг Лозель искусный мореплаватель, капитан галеры и управляет матросами. Я начальник воинов, а вы, принцесса, вы управляете всеми нами. Вы должны не просить, а приказывать.
— Тогда я приказываю, чтобы мошенник, который носит имя Никласа, никогда не подходил ко мне. Разве я могу выносить близость убийцы моего отца?
— К несчастью, мы все принимали участие в этом; тем не менее ваше приказание будет исполнено. Говоря правду, госпожа, я сам ненавижу этого человека, самого обыкновенного шпиона.
— Я желаю также, — продолжала Розамунда, — никогда больше не разговаривать с сэром Гюгом Лозелем.
— Это труднее исполнить, — сказал Гассан, — потому что он капитан, и. мой господин приказал мне повиноваться ему во всем, что касается корабля.
— Мне нет дела до корабля, — произнесла Розамунда, — и конечно, принцесса Баальбекская, если таков мой титул, может выбирать для себя общество. Я желаю чаще видеть вас, а сэра Гюга Лозеля реже.
— Большая честь для меня, — ответил Гассан, — и я постараюсь исполнить ваше желание.
После этого несколько дней Лозель хотя и наблюдал за Розамундой, но подходил к ней очень редко и каждый раз видел Гассана подле нее или позади нее.
Наконец принц, которому все время приходилось пить дурную воду, заболел и на несколько дней слег в постель. Тогда Лозель отыскал случай подойти к Розамунде. Она старалась не выходить из каюты, чтобы избежать встречи с ним, но зной летнего солнца на Средиземном море заставил ее выйти под балдахин, раскинутый на корме. Вместе с француженкой Марией она села в его тени. Лозель стал то и дело подходить к ней, то под предлогом принести ей кушанье, то осведомляясь, удобно ли ей, она ему не отвечала ни слова. Наконец, зная, что Мария понимала по-английски, он заговорил с Розамундой по-арабски, так как хорошо владел этим языком, но молодая девушка сделала вид, что не понимает его. Тогда он обратился к ней по-английски, но на языке, который употребляло только простонародье Эссекса. Он сказал:
— Леди, как жестоко, как неправильно вы судите обо мне! В чем я виновен перед вами? Я уроженец Эссекса, отпрыск знатного рода, я встретил вас на родине и полюбил. Разве это преступление со стороны человека небедного, кроме того, получившего рыцарское достоинство за подвиги и посвященного в рыцари не низкой рукой? Ваш отец сказал мне «нет», вы тоже, и, уязвленный печалью и его словами (он назвал меня морским разбойником и напомнил позорные и лживые старые рассказы), я заговорил так, как не должен был говорить, и поклялся, что, несмотря на все, вы будете моей женой. За это я должен был страдать; ваш двоюродный брат, молодой рыцарь Годвин, тогда еще оруженосец, ударил меня по лицу. Он оскорбил меня и ранил, так как счастье улыбнулось ему; я с моим кораблем отправился на Восток вести торговлю между Сирией и Англией. В то время был мир между султаном и христианами, и я случайно посетил Дамаск для закупки товара. Саладин послал за мной и спросил меня, правда ли, что я родом из той части Англии, которая зовется Эссексом. Я ответил ему да; тогда он спросил, знаю ли я сэра Эндрю д'Арси и его дочь. Я опять сказал да; он открыл мне свое родство с вами, о чем, впрочем, я уже слышал раньше, и рассказал о грезе, в которой вы явились ему, и о своем твердом решении привезти вас в Сирию и поднять до высоких почестей. В конце концов, он попросил меня за большую сумму временно уступить ему одну из моих лучших галер и отправиться за вами; он сказал мне, что сила не будет употреблена; я же, со своей стороны, заметил, что не подниму руки ни на вас, ни на вашего отца, и действительно не сделал этого.
— Вы помнили о мечах Годвина и Вульфа, — презрительно произнесла Розамунда. — Вы хотели предоставить это более храбрым людям.
— Моя леди, — вспыхнув, заметил Лозель. — До сих пор еще никто не обвинял меня в недостатке мужества. Из вежливости и любезности выслушайте меня. Я поступил дурно, приняв предложение султана, но, поверьте, леди, только любовь к вам заставила меня поступить так, потому что мысль о долгом плавании в вашем обществе представляла для меня великое искушение, я не мог воспротивиться ему.
— Сарацинское золото было для вас непреодолимым искушением. Вот что вы должны были сказать. Прошу вас, будьте кратки. Этот разговор утомил меня.
— Леди, вы жестоки и неправильно судите обо мне, я это докажу вам, — он оглянулся. — Если все будет хорошо, мы через неделю бросим якорь в Лимасольской гавани на Кипре, чтобы взять запасы пищи и воды раньше, чем пойдем к никому не известному порту в Антиохии, откуда вы должны сухим путем отправиться в Дамаск, избегая франкских городов. Император Исаак кипрский мой друг, и у Саладина нет власти над ним. Раз попав в его дворец, вы будете в безопасности, а со временем, конечно, найдете возможность вернуться в Англию. Вот какой я составил план: ночью вы бежите с корабля; я могу это устроить.
— А что придется вам заплатить? — спросила Розамунда. — Ведь вы рыцарь-купец.
— Моя награда — вы сами, леди. Мы обвенчаемся на Кипре… О, подумайте раньше, чем ответить. В Дамаске вас ожидают всевозможные опасности, со мной вам не грозит никакая беда; у вас будет муж христианин, горячо любящий вас, любящий до такой степени, что ради вас он охотно потеряет свой корабль и еще больше — нарушит слово, данное Саладину, у которого длинная карающая рука.
— Я решила, — холодно сказала Розамунда. — Я скорее доверюсь честному сарацину, чем вам, сэр Гюг, шпоры которого по справедливости должны были бы отрубить повара. Да, я скорее приму смерть, чем руку человека, который ради собственных низких целей задумал план, повлекший смерть моего отца и мой плен. Кончено, и, повторяю, никогда не смейте больше говорить со мною о любви. — Она поднялась с места и направилась в свою каюту.
Лозель посмотрел ей вслед и прошептал:
— Нет, прекрасная леди, я только начал, и не забуду я ваших жестоких слов.
Из своей каюты Розамунды послала сказать Гассану, что она хотела бы поговорить с ним.
Эмир тотчас же пришел, еще бледный после болезни, и спросил, что прикажет она. Розамунда в ответ рассказала все, что произошло между Лозелем и ею, и попросила его защиты от этого человека. Вспыхнули глаза Гассана.
— Вот он, — сказал эмир, — он стоит один! Согласны ли вы пойти и поговорить с ним?
Она ответила ему наклоном головы; подав ей руку, Гассан проводил ее на палубу.
— Капитан, — начал он, обращаясь к Лозелю. — Странные вещи рассказала мне принцесса; она говорит, что вы осмелились предлагать ей руку, клянусь Аллахом, ей, принцессе, племяннице великого Салахеддина!
— Так что же, господин сарацин, — дерзко ответил Лозель. — Разве христианский рыцарь не может быть мужем родственницы восточного владыки?
— Вы? — ответил Гассан, и бешенство почувствовалось в его тихом голосе. — Вы тайный вор и отступник, клянущийся Магометом в Дамаске и пророком Иисусом в Англии… Да, попробуйте отрицать это! Я слышал это сам, я слышал, как клялись там вы и ваш низкий слуга Никлас! Вы достойны ее? Если бы вы не должны были управлять кораблем, если бы мой повелитель не запретил мне ссориться с вами до конца плавания, я теперь же отрубил бы вам голову и вырезал бы ваш язык, который осмелился произнести такие слова.
И он сжал рукоятку своей кривой сабли.
Лозель смирился под взглядом его горящих глаз, он хорошо знал Гассана, знал также, что если бы дело дошло до боя, то его люди не справились бы с солдатами эмира.
— Когда мы исполним нашу обязанность, мы рассчитаемся с вами, — сказал он, стараясь казаться храбрым.
— Клянусь Аллахом, я напомню ваше обещание, — ответил Гассан. — Я отвечу за все сказанное перед лицом Салахеддина в любой день и час, как и вы ответите ему за ваше предательство.
— В чем же меня обвиняют? — спросил Лозель. — В том, что я люблю леди Розамунду? Но все любят ее, может быть, даже вы сами, человек уже немолодой и поблекший.
— За это преступление я тоже накажу вас, отступник. А с Салахеддином вам придется свести другие счеты; вы обещали помочь ей бежать; вы старались соблазнить ее бегством с того самого корабля, на котором дали клятву охранять ее, вы сказали, что доставите ей убежище среди кипрских греков.
— Если бы это была правда, — ответил Лозель, — султан мог бы пожаловаться на меня. Но это ложно! Слушайте же, раз я должен высказать. Леди Розамунда просила меня сделать это для нее, а я сказал, что честь запрещает исполнить ее просьбу, хотя я действительно люблю ее теперь, как любил всегда, и готов сделать для нее многое. Тогда она сказала, что, если я ее спасу от вас, сарацин, я не останусь без награды, что она обвенчается со мной. И опять с болью в душе я ответил, что это невозможно теперь, что, однако, когда я доведу корабль до земли, то послужу ей, как ее истинный рыцарь, и, освободившись от клятвы, сделаю все, чтобы спасти ее.
— Вы слышите, принцесса! — сказал Гассан, обращаясь к Розамунде. — Что вы скажете?
— Я скажу, — холодно ответила она, — что этот человек лжет ради собственного спасения, что я охотнее умру, чем позволю ему приблизиться ко мне.
— Я тоже считаю, что он лжет, — сказал Гассан. — Нет, спрячьте кинжал, если вы желаете увидеть новое солнце! Я не хочу здесь драться с вами, но когда мы будем при дворе султана, Салахеддин узнает все и сам решит, кому нужно верить, принцессе ли Баальбека или нанятому слуге, изменнику франку и пирату сэру Гюгу Лозелю.
— Пусть он узнает все, когда мы будем при его дворе, — многозначительно сказал Лозель и прибавил: — А вы ничего более не желаете передать мне, принц Гассан? Если нет, я уйду; мне необходимо позаботиться о корабле, который, как вы воображаете, я хотел бросить ради улыбки прекрасной дамы.
— Я хочу сказать только, что этот корабль принадлежит султану, а не вам, потому что он купил его у вас, что с этой минуты благородную даму будут охранять день и ночь, что, когда мы подойдем к берегам Кипра, стражу удвоят, потому что там, кажется, у вас есть друзья. Поймите и запомните.
— Я понимаю и, конечно, буду помнить, — ответил Лозель.
Так они расстались.
— Я думаю, — сказала Розамунда, когда он ушел, — что, если мы благополучно дойдем до Сирии, нам нужно будет назвать себя счастливыми!
— Эта мысль была и у меня, госпожа. Кажется, тоже я забыл об осторожности, но этот человек возмутил мое сердце; слабый после болезни, я потерял рассудок и говорил то, что было у меня на сердце, хотя следовало выждать. Может быть, напрасно я не убил его, но он один умеет хорошо управлять кораблем, так как с самой ранней юности занимался этим делом. Предоставим все воле Аллаха. Он справедлив и в свое время решит это дело.
— Да, но как? — сказала Розамунда.
— Надеюсь, мечом, — ответил Гассан, низко поклонился и ушел.
С этих пор вооруженные люди все ночь стояли на часах перед дверями каюты Розамунды, и, когда она выходила пройтись по палубе, вооруженные воины не отставали от нее. Ее больше не беспокоил Лозель; сэр Гюг перестал заговаривать с нею или с Гассаном, зато он то и дело шептался с Никласом.
Наконец в одно золотистое утро галера дошла к берегам Кипра и бросила якорь. Лозель действительно был искусным лоцманом, одним из лучших мореходов. Вдоль бухты расстилался белый город Лимасоль; в его садах красовались стройные пальмы, дальше, за плодородной низменностью, высились могучие Труидские горы. Усталая Розамунда, которой надоело нескончаемое море, с восторгом посмотрела на зеленевший красивый берег, бывший ареной стольких исторических событий, и вздохнула при мысли, что ей нельзя ступить на него. Лозель увидел ее взгляд, услышал ее вздох и, садясь в шлюпку, которая подошла, чтобы отвезти его в гавань, насмешливо сказал ей:
— Не угодно ли вам изменить ваше решение, моя леди, и отправиться со мной навестить моего друга императора Исаака? Клянусь, при его дворе очень весело, там нет толпы кислых сарацин или унылых пилигримов, думающих о спасении души. На Кипре совершаются только паломничества на Пафос, туда, где из пены морской родилась Киприда.
Розамунда не ответила; Лозель направился к берегу в шлюпке, которую смуглые кипрские гребцы ловко вели по волнам. Странно было видеть, что волосы гребцов этих украшали цветы.
Десять полных дней простояла галера у Лимасоля, хотя была ясная погода и ветер дул по направлению к Сирии. Когда Розамунда спросила, почему они так долго не отходят, Гассан с досадой топнул ногой и ответил, что император отказывается доставить им больше пресной воды и съестных припасов, чем это нужно для потребностей одного дня, что Гюг, пока Гассан не выйдет на сушу, не хочет идти с поклоном во внутрений город Никозию, где находится императорский двор. Чувствуя, что в этом кроется ловушка, Гассан боялся подчиниться требованию Лозеля; между тем без запасов воды и пищи галера не могла отплыть.
— А разве сэр Лозель не может устроить это сам? — спросила Розамунда.
— Конечно, мог бы, если бы хотел, — ответил Гассан, злобно сжимая зубы, — но он клянется и божится, что не может сделать ничего.
Так они стояли день изо дня; их палило знойное летнее солнце, качали длинные гряды волн; наконец мужество всех ослабело, тела также, потому что у многих началась лихорадка, часто нападающая на людей близ берегов Кипра; двое умерли. Время от времени кто-нибудь из кипрских сановников являлся с берега вместе с Лозелем, доставлял на галеру немного съестных припасов и воды и принимался торговаться, говоря, что путники ничего более не получат, если принц Гассан не навестит императора и не привезет с собой бывшую на его корабле прекрасную даму, которую желал видеть Исаак.
Гассан каждый раз отвечал отказом и удваивал стражу при Розамунде, тем более что теперь по ночам близ галеры появлялись странные лодки. Днем также целые толпы фантастически разодетых в шелк и бархат мужчин и женщин курсировали подле берега и смотрели на корабль, точно приготовляясь сделать нападение.
Наконец Гассан вооружил своих суровых сарацин и велел им стоять цепью на бульверках с обнаженными саблями в руках; это, как видно, пугало жителей Кипра, по крайней мере, увидев воинов, они удалялись к большой башне Колосси.
Наконец Гассан потерял терпение. Раз утром Лозель вернулся из города Лимасоля, в котором ночевал; с ним явились и три кипрских вельможи; по их словам, они не собирались вести переговоры, а желали только увидеть красавицу принцессу Розамунду. После этого начались обычные толки о том, что для получения необходимых припасов мореплаватели должны были явиться к императору Исааку; по их словам, в противном случае император решил приказать морякам взять галеру в плен. Гассан выслушал киприотов и вдруг приказал схватить вельмож.
— Теперь, — сказал он, обращаясь к Лозелю, — прикажите вашим матросам поднять якорь и направиться к Сирии.
— Но, — ответил рыцарь, — съестных припасов и пресной воды хватит нам только на один день!
— Все разно, — ответил Гассан, — безразлично — умереть от голода и жажды на море или сгореть здесь от лихорадки. То, что могут вынести эти кипрские вельможи, вынесем также и мы! Прикажите матросам поднять якорь и распустить паруса, или моя сабля поработает среди них.
Теперь Лозель топал ногами и бесновался, но это ни к чему не привело. Поэтому он обратился к трем бледным от страха уроженцам Кипра и сказал:
— Что вы решаете: достать запасы пищи и воды для нашего корабля или пуститься в море без того и другого, что повлечет неминуемую смерть?
Они ответили, что отправятся на берег и достанут все необходимое.
— Нет, — ответил Гассан, — вы останетесь здесь, пока не привезут пищи и запасов.
В конце концов это было исполнено, потому что один из вельмож оказался племянником императора. Узнав о плене своего близкого родственника, Исаак прислал запасы, необходимые для галеры. Кипрских вельмож отправили обратно в последней из шлюпок, доставивших груз, и через два дня галера была уже в море.
Вскоре Розамунда заметила отсутствие ненавистного ей шпиона Никласа и сказала об этом Гассану. Тот навел о нем справки у Лозеля; сэр Гюг, ответил, что Никлас отправился на берег и исчез в первый же день их остановки у берегов Кипра, что он не знает, был ли лжепилигрим убит во время какой-нибудь ссоры, заболел ли он или просто бежал. Гассан пожал плечами. Розамунда обрадовалась, что отделалась от ненавистного ей человека, но мысленно спрашивала себя, ради какой недоброй цели Никлас бежал с корабля.
Целый день галера быстро шла от Кипра, направляясь к берегам Сирии, потом она попала в полосу того полного затишья, какое часто случается летом в этом море. Целых восемь дней не чувствовалось ни малейшего ветра, и галера мало подвинулась вперед. Но вот, когда все глаза устали пристально вглядываться в гладкую, как масло, поверхность моря, поднялся легкий попутный ветерок. Мало-помалу он стал усиливаться и быстро понес галеру к цели ее плавания. Все беспорядочнее, все сильнее становились шквалы, наконец, к вечеру второго дня, когда громадные волны стали грозить палубе корабля, вдали показался абрис высокой горы. При виде ее Лозель громко поблагодарил Бога.
— Это горы близ Антиохии? — спросил Гассан.
— Нет, — ответил рыцарь, — гораздо южнее, между Лаорикией и Джебелой. Слава Господу, там есть хорошая гавань, мы можем зайти в нее, чтобы скрыться до окончания бури.
— Но мы идем к Дарбесаку, а не к франкскому порту близ Джебелы, — сердито заметил Гассан.
— Тогда поверните корабль и сами управляйте им, — сказал Лозель. — И вот что я обещаю вам: через два часа все вы очутитесь на дне морском.
Гассан задумался. Сэр Гюг говорил правду, потому что, поверни он корабль, волны стали бы налетать на галеру сбоку.
— Да падет это на вашу голову, — резко ответил он.
Стемнело. При свете больших фонарей, поднятых на корме, можно было видеть, как море, побелевшее от пены, со свистом проносилось мимо галеры, корабль летел к берегу с обнаженными мачтами. Путники не смели распустить паруса.
Всю эту ночь галера качалась и колебалась так, что даже самые сильные из матросов заболели; люди молились; одни призывали имя Бога, другие кричали «Аллах, Аллах», но все просили небо дозволить им войти в гавань. Наконец над вершиной самой высокой горы забрезжился свет встающей зари, хотя низкое побережье еще утопало в тени, всем также показалось, что громада высится почти над ними.
— Ободритесь! — крикнул Лозель. — Я думаю, мы спасены. — И он поднял второй фонарь на главную мачту — зачем сделал это сэр Гюг, никто не понял.
Вскоре море стало затихать, но оно снова запенилось, когда галера перелетела через какую-то гряду, после этого путники опять очутились в спокойной воде и в полутьме рассмотрели справа и слева неопределенные очертания заросших кустами речных берегов. Несколько времени они шли вперед, потом Лозель громко крикнул своим морякам приказание бросить якорь и послал сказать всем остальным, что они могут лечь отдохнуть, так как всякая опасность миновала. Истомленные путники легли и постарались заснуть.
Но Розамунда, не могла сомкнуть глаз. Она встала с постели, накинула на себя плащ, подошла к дверям каюты и стала любоваться красотой гор, нежно-розовых в молодых лучах света, и на закрытую дымкой тумана водную поверхность бухты. Галера стояла в безлюдном месте — по крайней мере молодая девушка нигде не видела ни города, ни домов, хотя до поросшего деревьями берега было не более пятидесяти ярдов. Вот она услышала в тумане звуки весел и рассмотрела три или четыре лодки, приближавшиеся к галере; заметила она также, что Лозель одиноко стоит на палубе и смотрит на них. Первая лодка подошла быстрее; на ее носу поднялся какой-то человек и тихим голосом заговорил с сэром Гюгом. Когда он вставал, с его головы свалился капюшон, и Розамунда узнала ненавистное лицо шпиона Никласа. С мгновение она стояла, окаменев; ведь этот человек остался на острове Кипр, но скоро Розамунда поняла и громко крикнула:
— Измена! Принц Гассан, измена!
Едва эти слова вылетели из ее губ, как она увидела, что какие-то люди с дикими лицами уже карабкались на низкий борт средней части галеры, к которому быстро подходила одна лодка за другой. Сарацины тоже вскакивали со скамеек, на которых спали, бежали к корме, на которой стояла Розамунда; все собрались к ней, за исключением отрезанных на носу корабля. Появился и принц Гассан; он держал в руках саблю, его голову закрывал украшенный драгоценностями тюрбан, а тело кольчуга, но на нем не было плаща; он еще издали давал приказания своим воинам; между тем наемный экипаж корабля попадал на колени и стал просить пощады. Розамунда крикнула принцу, что их предал Никлас, которого она видела. В эту минуту высокий человек в белом арабском бурнусе и с обнаженным мечом в руках вышел вперед и сказал по-арабски:
— Сдавайтесь, мы гораздо многочисленнее вас, и ваш капитан в плену. — Он указал на Лозеля, неприятели держали его, связав ему руки за спиной.
— Кому вы предлагаете сдаться? — спросил принц, обводя всех горящим взглядом, точно лев в западне.
— Говорящему от страшного имени Сипана, властителя аль-Джебала, о слуга Салахеддина!
Услышав это, застонали все, даже храбрые сарацины; они поняли, что им приходится иметь дело с ужасным главой ассасинов.
— Значит, между султаном и Сипаном началась война? — спросил Гассан.
— Да, мы всегда воюем. Кроме того, с вами та, которая, — он указал на Розамунду, — дорога Салахеддину; ее мой господин желает иметь заложницей.
— Как вы узнали о ней? — сказал Гассан, желая выиграть время, чтобы его воины успели оправиться.
— Как господин Сипана узнает все, — послышался ответ. — Сдавайтесь же, и, быть может, он помилует вас.
— Сдаться шпионам, — со свистом вырвалось из уст Гассана, — таким шпионам, как Никлас, который приплыл сюда с Кипра раньше нас, и франкская собака, которая зовется рыцарем, — указал он на Лозеля. — Нет, мы не сдаемся, и тут вам, ассасины, придется иметь дело не с ядом и ножом, а с мечами и храбрыми людьми. Да, предупреждаю вас и вашего господина, что Салахеддин отплатит за ваше деяние.
— Пусть попробует, если он желает умереть, ведь до этого дня мы его щадили, — спокойно ответил высокий араб, потом обратившись к окружающим, сказал: — Перерезать всех, кроме женщин, и эмира Гассана, которого мне приказано привести в Масиаф живым.
— Идите в каюту, госпожа, — сказал Гассан, — и помните, что мы сделали все ради вашего спасения. Скажите это моему господину; я хочу, чтобы моя честь осталась незапятнанной в его глазах. Теперь, солдаты Салахедина, бейтесь и умрите так, как вас учил наш господин. Ворота рая распахнулись, но ни один трус не войдет в них!
В ответ раздался бешеный крик. Розамунда убежала в каюту, а на палубе началась ужасная резня. Ассасины с мечами и кинжалами старались штурмом подняться, взять палубу, но их натиск несколько раз отбивали; средняя часть галеры наполнилась их телами, потому что они один за другим падали под ударами кривых сарацинских сабель, но снова и снова бросались вперед, не зная ни страха, ни жалости, когда их господин давал им приказ.
От берега подходили новые, наполненные людьми лодки, а сарацин было мало и все истомленные болезнью и бурей; наконец, выглянув из каюты, Розамунда увидела, что враги заняли корму.
Кое-где еще бились отдельные группы, но сарацины падали под ударами ассасинов, увеличивая кольцо мертвых тел; в числе сражавшихся был и принц-воин Гассан. Глаза Розамунды не отрывались от него, она следила, как он один отбивался от целой толпы, и в уме нарисовалась другая картина: точно так ее отец, тоже один, боролся с эмиром и его солдатами, в это страшное мгновение она подумала о справедливости Божьей.
Что это? Нога принца скользнула по покрытой кровью палубе. Гассан упал и раньше, чем он успел снова подняться, на него набросили плащи; ожесточенные, но молчаливые даже перед лицом смерти люди, помнившие о приказании своего предводителя взять принца живым, быстро накрыли его множеством плащей. Они взяли его живым и нераненым: никто из ассасинов не ответил на его удар ударом, чтобы не нарушить приказания Сипана.
Розамунда видела все это и, помня, что великий ассасин приказал привести ее также нераненой, знала, что ей нечего бояться насилия со стороны жестоких убийц. Эта мысль и сознание, что Гассан остался жив, подбодрили ее.
— Кончено, — сказал высокий араб холодным голосом, — бросьте в море собак, которые осмелились ослушаться приказаний аль-Джебала.
Его воины повиновались, они подняли мертвых и умиравших сарацин и бросили их в воду, где те и потонули; и ни один из раненых воинов Гассана не попросил пощады. Потом ассасины поступили точно так же со своими мертвыми, раненых же переправили на берег. Наконец высокий араб подошел к каюте и сказал:
— Госпожа, идите, мы готовы в путь.
Розамунде пришлось повиноваться. Идя за ним, она вспомнила, как после борьбы и кровопролития ее привезли на эту галеру, Бог весть с какой целью, и думала, что теперь сходит с нее после борьбы и кровопролития и что ее снова повезут неизвестно куда.
— О! — вскрикнула она, указывая на тела, которые кидали в глубину моря. — Дурно кончили люди, укравшие меня, но дурно можете кончить и вы, слуги аль-Джебала.
Но высокий человек ничего не ответил. Он вел ее к лодке, а за ними шла плачущая Мария и принц Гассан.
Они вскоре были на берегу, здесь Марию оторвали от Розамунды, и дочь сэра Эндрю никогда не узнала, что случилось с этой женщиной и нашла ли она своего исчезнувшего мужа.
X. ГОРОД АЛЬ-ДЖЕБАЛА
— Довольно, довольно, — сказал Годвин, — когти животного только оцарапали меня, мне стыдно, что вы заставляете ваши волосы нести такую низкую службу. Дай мне глоток воды, Вульф.
Он обратился к брату, но, не говоря ни слова, Масуда, которая отирала его кровь своими волосами, подала ему воды из источника, подмешав туда вина. Годвин напился. Он поднялся и пошевелил руками и ногами.
— Да, — сказал он, — все сущие пустяки. Это было только потрясение, львица совсем не ранила меня.
— Зато ты ранил львицу, — сказал Вульф со смехом. — Клянусь святым Чедом, хороший удар, — и он указал на длинный меч, торчавший по рукоятку Б груди животного. — Клянусь, я сам не мог бы ударить лучше.
— Мне кажется, зверь сам нанес себе удар, — ответил Годвин. — Я только выставил вперед меч, когда львица, бросив Масуду, прыгнула на меня. Вытащи его, брат. Я еще слишком слаб…
Вульф оперся ногами в тело животного, стал дергать меч и, наконец освободив его, заметил:
— Ах, какой я эссекский кабан! Я спал и не проснулся, пока Масуда не схватила меня за волосы. Тогда я открыл глаза и увидел, что ты лежишь на земле, а желтый хищник сидит на тебе, словно наседка на яйцах. Я думал, что животное еще живо, и рассек его мечом, но если бы я проснулся совершенно, я вряд ли решился бы сделать это. Посмотри-ка, брат, — он толкнул голову львицы, и она так перевернулась, что Масуда и Годвин в первый раз заметили, что тело животного соединялось с шеей только узкой полоской шкуры.
— Хорошо, что ты не ударил немножко посильнее, — сказал Годвин, — не то я был бы разрублен надвое и утопал бы в собственной крови, а не в крови этого мертвого зверя, — и он с сожалением посмотрел на свой бурнус и тунику, покрытые запекшейся кровью.
— Да, — сказал Вульф, — я не подумал об этом. Но кто мог соображать в такую минуту?
— Госпожа Масуда, — спросил Годвин, — когда я в последний раз смотрел в вашу сторону, вы висели в челюстях львицы. Вы ранены?
— Нет, — ответила она, — я так же, как и вы, ношу кольчугу, и зубы львицы скользнули по ней, зверь держал только мой плащ. Сдерем шкуру животного и поднесем ее в подарок аль-Джебалу.
— Хорошо, — сказал Годвин, — а вам я дарю когти львицы для ожерелья.
— Верьте, я буду всегда носить их, — сказала Масуда и стала помогать Вульфу сдирать шкуру с животного.
Годвин сидел рядом, отдыхая. Покончив с этим делом, Вульф подошел было к маленькой пещере, но отскочил.
— Ах, — сказал он, — там еще несколько! Я видел их глаза и слышал, как они ворчат. Ну брат, дай мне горящую ветку, я покажу, что не ты один умеешь сражаться со львами.
— Бросьте, безумец; — сказала Масуда. — Там, конечно, ее львята, и если вы убьете их, ее товарищ погонится за нами; если же мы не тронем львят, он останется с ними, чтобы кормить их. Уедем отсюда.
Вульф и Масуда показали дрожавшим и фыркающим мулам львиную шкуру, желая дать им понять, что это не живое страшилище, потом упаковали ее на одного из животных и быстро поехали в долину, лежавшую милях в пяти от места приключения; там текла речка, но не было деревьев. Годвину нужен был отдых, подле источника они остановились, пробыли весь день и ночь; львы больше не показывались, хотя путники усердно подстерегали их. На следующее утро хорошо выспавшийся Годвин совершенно оправился, и все снова пустились по неровной местности к глубокому ущелью, по обеим сторонам которого поднимались высокие утесы.
— Это ворота аль-Джебала, — сказала Масуда, — и сегодня ночью нам придется переночевать близ этого горного прохода: через день мы будем в его городе.
Путники двинулись дальше и наконец увидели замок, большое строение с высокими стенами; они подъехали к нему перед закатом. Казалось, их ждали. Со всех сторон к ним сбежались люди, которые почтительно кланялись Масуде и с любопытством осматривали братьев, особенно узнав о приключении со львицей. Их провели не в замок, а на маленький двор, помещавшийся позади него, тут им доставили пищу и отвели место для ночлега.
На следующее утро они снова двинулись в горы, чередовавшиеся с прекрасными долинами. Два часа ехали они, минуя на своем пути много деревень, люди работали на огородах и на полях. Едва подъезжали они к какой-нибудь деревне, оттуда мчались всадники и преграждали им путь; тогда Масуда выезжала вперед и говорила один на один с предводителями. Выслушав ее, предводитель почтительно дотрагивался до своего лба, наклонял голову, и братья без помехи ехали дальше.
— Видите, — сказала Масуда Годвину и Вульфу, когда их таким образом остановили в четвертый раз, — была ли у вас возможность без провожатых добраться до Масиафа? Да, говорю вам, братья, вы были бы уже мертвы, не доехав еще до первого замка!
Они поднялись на большой откос и на его гребне остановились, чтобы посмотреть на чудесную картину, которая открылась перед ними. Внизу расстилалась широкая долина с деревнями, хлебными полями, масличными рощами и виноградниками. Посреди этой долины, милях в пятнадцати от путников, поднималась высокая гора, обнесенная кругом стенами. За стеной виднелся город; его белые дома с плоскими крышами как бы карабкались по откосам, вершину горы составляла площадка, заросшая деревьями, а на ней возвышался замок со многими башнями и тоже окруженный домами.
— Смотрите, это дом аль-Джебала, властителя гор, — сказала Масуда, — сегодня мы будем ночевать там. Ну, мои братья, выслушайте теперь меня. Немногие из чужестранцев, которые входят в этот замок, возвращаются из него живыми. Еще есть время; я могу проводить вас обратно. Вы хотите ехать вперед или вернуться?
— Хотим ехать вперед, — в один голос ответили Годвин и Вульф.
— Чего вы добиваетесь? Хотите отыскать вашу благородную девушку? Но почему вы приехали сюда, когда, по вашим словам, ее отвезли к Салахеддину? Только потому, что в былые дни аль-Джебал поклялся быть другом одного из членов вашего рода? Но ведь тот аль-Джебал умер, и вместо него правит другой, который не давал такой клятвы. Откуда вы знаете, что он поможет вам, а не убьет вас или не возьмет в плен? В этой стране я обладаю властью, — как или почему, не все ли вам равно? — могу защитить вас от всех ее жителей и, клянусь, сделаю это, так как один из вас спас мне жизнь, — прибавила она, взглянув на Годвина. — Но против господина Сипана я бессильна… я раба его.
— Он враг Саладина и, может быть, из ненависти к султану поможет нам.
— Да, теперь он больше, чем когда-нибудь, враг Салахеддина и, может быть, придет вам на помощь. Может быть, также, — многозначительно прибавила она, — и вы откажетесь от помощи, которую он предложит. О, подумайте, подумайте, — и в ее голосе зазвучала мольба, — в последний раз прошу вас: подумайте!
— Мы достаточно думали, — торжественно ответил Годвин, — и что бы ни случилось, будем повиноваться приказаниям умершего дяди.
Масуда наклонила голову в знак согласия, потом, снова подняв глаза, сказала:
— Пусть так и будет. Вас нелегко заставить переменить решение, и это нравится мне; но примите мой совет: в городе Сипана не говорите по-арабски и притворяйтесь, что не понимаете нашего языка. Также пейте только воду (здесь она очень хороша), потому что Сипан часто угощает своих гостей странными винами; его напитки вызывают удивительные видения, что-то вроде припадков безумия, и заставляют людей совершать такие поступки, которых позже они стыдятся. Может быть, выпив вина аль-Джебала, вы произнесли бы какие-нибудь клятвы, и они впоследствии жестоко давили бы вам сердце; и только ценой жизни вы могли бы освободиться от них…
— Не бойтесь, — ответил Вульф, — мы будем пить только воду; довольно с нас отравленного вина, — прибавил он, вспомнив рождественский пир в замке Стипль.
— У вас, сэр Годвин, — продолжала Масуда, — висит на шее перстень, который вы так неосторожно показали мне, женщине, незнакомой вам, перстень с надписью, не понятной ни для кого, кроме великих людей этой страны, носящих название дансов. Я не выдам вашей тайны, но будьте благоразумны: ничего не говорите о кольце и никому не показывайте его.
— Почему же? — спросил Годвин. — Этот знак дал Джебал нашему дяде.
Масуда осторожно оглянулась и ответила:
— Это кольцо — великая печать и, может быть, когда-нибудь спасет вам жизнь. Решив, что оно навсегда исчезло, умерший властелин, конечно, приказал сделать второй перстень, до того похожий на ваш, что я, державшая в руках оба, не могла бы отличить один от другого. Перед тем, у кого есть такое кольцо, откроются все двери; но если станет известным, что у него второй перстень, — он умрет. Вы понимаете?
Д'Арси сделал утвердительный знак, и Масуда продолжала:
— Наконец, хотя, может быть, вы найдете, что я прошу слишком многого, доверяйте мне, даже если вам начнет казаться, что я веду двойную игру, ведь для вас я, — и она вздохнула, — нарушила клятву и произнесла слова, за которые должна была бы умереть под пыткой. Нет, не благодарите меня, потому что я делаю лишь то, что должна делать, как раба… как раба.
— Чья раба, — спросил Годвин.
— Властелина Гор, — ответила она с прелестной, но печальной улыбкой и, не говоря ни слова, поехала дальше.
— Что она хотела сказать? — спросил Годвин Вульфа.
— Ведь если Масуда говорит правду, то, предупреждая нас, она нарушила верность этому властелину.
— Ничего не понимаю, брат, да и понимать не хочу, — ответил Вульф. — Может быть, все ее речи клонятся только к тому, чтобы ослепить и одурачить нас, а может быть, и нет. Оставим рассуждения и доверимся судьбе.
— Хороший совет, — сказал Годвин, и д'Арси молча поехали дальше.
К вечеру они увидели стену внешнего города, а в ней тяжелые ворота. Тут их встретил отряд всадников с серьезными лицами; поговорив с Масудой, воины проводили рыцарей и их спутницу через подъемный мост, который перекидывался с одного берега рва, высеченного в скалах, на другой, и через тройные железные ворота; тут начался город. Они двинулись вверх по очень узкой и очень крутой улице; справа и слева на крышах домов и в окнах виднелись люди; многие из них стояли на вечерней молитве; все оборачивались и смотрели на путников. В верхнем конце д'Арси увидели другие укрепленные ворота, на башенках которых были часовые в длинных белых плащах, до того неподвижные, что братья сначала приняли их за каменные изваяния. После коротких переговоров тяжелые тройные створки тоже распахнулись перед путниками.
Д’Арси увидали чудеса: между внешней частью города и дворцом с внутренним городом зияла широкая пропасть глубиной более чем в девяносто футов. Через ров бежала дорожка — мост длиною в двести ярдов, сооруженный из глыб камня; его поддерживали арки, которые поднимались из глубины.
— Поезжайте и не бойтесь, — сказала Масуда. — Ваши лошади привыкли к высотам; я и грузовые мулы двинемся за вами.
Годвин, скрывая сомнения, которые зашевелились у него в сердце, потрепал своего коня по шее, и Огонь, на минуту остановившийся, снова двинулся вперед, высоко поднимая копыта и поглядывая то вправо, то влево на зиявшую бездну. Дым знал, что он может пройти там, где прошел Огонь, ине отставал от него, хотя немного пофыркивал; мулы, не боявшиеся высот, если их ноги не скользили, пошли за конями.
Наконец путники очутились на противоположной стороне пропасти, проехали через новые ворота, по обеим сторонам которых поднимались широкие террасы, оставили позади себя длинную улицу и выехали на большой двор в стенах большой грозной крепости. Тут подошел к ним человек, весь в белом, и низко поклонился; за ним выбежали слуги, помогли рыцарям сойти с лошадей и отвели лошадей к ряду конюшен, помещавшихся по одну сторону двора; братья пошли за ними, чтобы прибрать лошадей. Наконец первый воин, терпеливо ждавший рее время, провел их по различным коридорам в комнаты для гостей — большие помещения с каменными потолками; тут братья увидели свои вещи. Масуда сказала, что на следующее утро она придет к ним, и ушла вместе с воином.
Вульф оглядел большую сводчатую комнату, в которой с наступлением тьмы слуги зажигали мерцающие лампы, вставленные в железные кольца, вделанные в стену, и сказал:
— Ну, я охотнее переночевал бы в пустыне со львами, чем в этом унылом месте.
Едва он сказал это, как закрывавшие дверь занавески раздвинулись, и в комнате показались статные женщины, окутанные покрывалами и с блюдами в руках. Они поставили кушанья на пол перед д'Арси, знаками, улыбками приглашая братьев пообедать, их подруги внесли чаши с ароматной водой и облили ею руки рыцарей. Тогда д'Арси сели и стали есть странные, но очень вкусные кушанья. В то же время откуда-то понеслись нежные песни и звуки арф и лютен. Братьям предложили вино, но, вспомнив слова Масуды, они попросили воды, и через несколько времени их просьба была исполнена.
После обеда красавицы ушли и унесли блюда и тарелки; тогда появились черные невольники; они провели братьев в ванны, да в такие, каких рыцари еще никогда не видывали; д'Арси сначала омылись теплой, а потом холодной водой. После ванны их растерли пряными ароматными маслами, завернули в белые плащи и отвели обратно в их комнату, где уже стояли приготовленные постели. Усталые д'Арси легли; в это время снова началась сладкая музыка, и под нежные звуки они заснули.
Открыв глаза, братья увидели, что через высокие окна льется утренний свет.
— Ты хорошо спал? — спросил Вульф.
— Довольно хорошо, — ответил Годвин. — Только мне всю ночь казалось, что сюда входили какие-то люди и смотрели на меня.
— Мне грезилось то же самое, — сказал Вульф, — и, кажется, это не был сон. Вот на моей постели лежит одеяло, его не было, когда я лег.
Годвин оглянулся и увидел, что на его постели также лежит одеяло, которое, конечно, принесли ночью, когда в этом высоком месте делалось холодно.
— Я слышал рассказы о зачарованных замках, — сказал он. — И теперь, мне кажется, мы в волшебном дворце.
— Да, — ответил Вульф, — и до сих пор нам очень хорошо.
Они встали, оделись в свежее платье и накинули лучшие плащи, которые привезли с собой на мулах. Вскоре вошли закрытые покрывалами женщины и подали им вкусный завтрак. Окончив его, д'Арси знаками показали одной из служанок, что им нужны тряпки, которыми они могли бы почистить свои рыцарские доспехи; братья не говорили ни слова по-арабски, помня совет Масуды делать вид, будто они не знают арабского языка. Служанка кивнула головой, ушла и скоро вернулась с другой прислужницей. Они принесли куски замши и какую-то пасту в кувшине; девушки уселись на пол, без просьбы братьев взяли кольчуги и стали так тереть их, что они заблестели, как серебро; братья же чистили свои шлемы, шпоры, щиты, мечи и кинжалы, а также точили лезвие камнем, который возили с собой для этой цели.
Работая, служанки говорили между собой тихим голосом, и многое из их беседы братья поняли.
— Красавцы, — сказала первая девушка, — хорошо было бы, если бы нам достались такие красивые мужья.
— Да, — ответила другая, — и знаешь, рыцари эти до того похожи друг на друга, что, вероятно, они близнецы. Ну, которого же из них ты бы выбрала себе?
Долгое время девушки разговаривали, сравнивая Годвина с Вульфом; лица братьев сильно покраснели от смущения, и они стали неистово тереть щиты, чтобы объяснить свой румянец усталостью.
Наконец одна из служанок заметила:
— Жестоко поступила госпожа Масуда, заманив этих красивых птиц в сети нашего господина, лучше сделала бы она, если бы предупредила их.
— Масуда всегда была жестокой, — ответила другая, — и она ненавидит всех мужчин. Только мне думается, что если она полюбит кого-нибудь, то полюбит крепко, и, может быть, ее любовь будет для него хуже ненависти.
— А эти рыцари шпионы? — спросила первая.
— Я думаю, — послышался ответ. — Глупые люди, они воображают, что могут шпионить в стране шпионов! Лучше, если бы они дрались, так как, вероятно, хорошо умеют сражаться. Что-то будет с ними?
— Думаю, то, что случается всегда; сначала они проведут время хорошо, а потом, если для них не найдется другого дела, им предложат переменить веру или выпить кубок. Впрочем, если они окажутся людьми знатными, может быть, их посадят в тюрьму, чтобы взять за них выкуп. Да, да, жестоко поступила Масуда. Зачем она обманула их? Ведь, может быть, они мирные путешественники и просто хотели осмотреть наш город?
В эту минуту занавесь отодвинулась, и вошла сама Масуда. Она была одета в белое платье, и на ее груди с левой стороны краснела вышивка в виде кинжала. Ее длинные черные волосы падали на плечи, полускрытые раздвинутым спереди покрывалом, которое свешивалось у нее с головы. Еще никогда не казалась она д'Арси такой красивой.
— Привет, братья Петер и Джон, — сказала Масуда по-французски. — А разве это подходящее занятие для пилигримов? — прибавила она, указывая на мечи, которые они точили. Братья поклонились ей.
— Да, — ответил Вульф, — для пилигримов в этот святой город.
Девушки, чистившие кольчуги, тоже поклонились; казалось, в этом дворце Масуда была лицом важным. Она взяла одну из кольчуг и резко сказала:
— Плохо вычищено. Я думаю, вы лучше болтаете, чем работаете. Ну, ничего. Помогите этим рыцарям надеть их. Глупые! Это кольчуга сероглазого путника. Дай мне ее, я буду его оруженосцем, — и она вырвала кольчугу из рук служанки. Когда Масуда отвернулась, девушки переглянулись.
Братья вполне вооружились и накинули на себя плащи; Масуда сказала:
— Теперь вы совсем похожи на пилигримов. Слушайте, у меня есть к вам дело. Господин, — и она нагнула голову так же, как и служанки, угадавшие, о ком она говорит, — через час примет вас; до тех пор, если вам угодно, мы погуляем по саду, который стоит посмотреть.
Д'Арси пошли за нею; подле занавеси она шепнула им:
— Во имя любви к жизни, помните все, что я вам говорила, главное же о вине и кольце — если вы впадете в сон выпитых напитков, вас обыщут. Со мной говорите только об обыкновенных вещах.
В галерее за занавесью стояли стражи в белых одеждах, вооруженные копьями; не говоря ни слова, они повернулись и пошли за братьями. Прежде всего д'Арси отправились в конюшню взглянуть на своих коней; заслышав их шаги, Огонь и Дым тихонько заржали. Лошади были в хорошем виде, и целое общество конюхов собралось кругом коней, обсуждая их стати, их красоту; все низко поклонились братьям. Из конюшни д'Арси прошли в знаменитые сады, которые считались самыми роскошными на всем Востоке. И действительно, прекрасны были они, засаженные редкими деревьями, кустами и цветами. Между одетыми папоротником скалами вились ручейки и падали с высоких утесов в виде пенистых водопадов. Местами кедры бросали такую густую тень, что под их ветвями яркий день превращался в сумрак; открытая почва была, как ковром, покрыта цветами, которые наполняли воздух благоуханием. Повсюду красовались розы, мирты, деревья, увешанные великолепными плодами; со всех сторон неслось воркование голубей и пение множества птиц с яркими перьями, которые, как блистающие драгоценности, перепархивали с одной пальмы на другую.
Целую милю шли братья по дорожке, усыпанной песком. Масуда и стража провожали их. Миновав заросли шепчущих, похожих на тростник растений, д'Арси увидели низкую стену, а за ней у самых своих ног широкую и зиявшую расщелину, через которую они переехали, направляясь в замок.
— Этот широкий ров окружает внутреннюю часть города, крепость и сад, — сказала Масуда. — И кто в наши дни может перебросить через него такой мост? Теперь пойдем обратно.
Они вернулись в замок другой дорогой. Их ввели в переднюю, где стояло двенадцать часовых. Масуда ушла, оставив обоих д'Арси посреди воинов, смотревших на них окаменелыми глазами. Но скоро она вернулась и знаком предложила им идти за нею по длинному коридору. В конце этого прохода д'Арси увидели занавесь, которую охраняли двое часовых. При виде братьев воины раздвинули занавесь. Тогда рука об руку Годвин и Вульф вошли в большую залу, длинную, как церковь Стенгетского аббатства, и наполненную толпой людей, сидевших на полу; дальше она сужалась, как церковный притвор.
Тут стояло и сидело еще много людей со свирепыми глазами, с тюрбанами на головах и с большими ножами за поясом. Впоследствии д'Арси узнали, что это были федаи, которые ждали только, чтобы исполнять приказания своего, господина. В конце узкой части залы опять висели занавеси, а за ними были двери, охранявшиеся часовыми. Их створки распахнулись, и братья очутились на залитой солнцем, открытой террасе. Справа и слева сидели старые длиннобородые люди, числом двенадцать, скромно склонив головы. Это были даисы, или советники, аль-Джебала.
В конце террасы под балдахином, покрытым великолепной резьбой стояли два исполина-воина, и на их белых одеждах рдели красные кинжалы. Между воинами лежала черная подушка, а на ней виднелась какая-то странная черная же груда. Сначала, глядя из яркого солнечного света в тень, братья не могли понять, что это такое. Потом они рассмотрели блестящие глаза, и им стало ясно, что это совсем не груда, а человек в черном тюрбане на голове и в черном одеянии, скроенном в виде колокола и застегнутом на груди сияющим камнем, красным, как кровь. Он от своей тяжести так погрузился в мягкую подушку, что на виду остались только складки его колоколообразного платья, красный камень на груди и голова. Странный человек этот походил на свернувшуюся кольцами черную змею, и его черные глаза тоже походили на змеиные. В глубокой тени, падавшей от навеса и от широкого черного тюрбана, нельзя было рассмотреть черт его лица.
Все в этом существе было так ужасно, оно так мало походило на человека, что братья невольно вздрогнули. Они были люди, он тоже был человеком; однако между грудой с бисеринками-глазами и двумя высокими европейцами-воинами в сияющих кольчугах и цветных плащах и шлемах противоположность была не меньше, чем между жизнью и смертью.
XI. ГОСПОДИН СМЕРТИ
Масуда выбежала вперед и бросилась ниц перед балдахином; Годвин и Вульф стояли и смотрели на черную груду; груда смотрела на них. Потом по одному знаку его подбородка Масуда поднялась и сказала:
— Чужестранцы, вы стоите перед властителем Сипаном, Господином Смерти. Преклоните колена и приветствуйте властелина.
Братья выпрямились: они не хотели опуститься на колени и только поднесли руки ко лбу. И вот откуда-то из пространства между черным тюрбаном и черным одеянием послышался глухой голос, спрашивавший по-арабски:
— Это те люди, которые привезли мне львиную шкуру? Чего хотите вы, франки?
Д'Арси молчал.
— Устрашающий властитель, — сказала Масуда, — эти рыцари только что приехали из Англии через моря и не понимают вашего языка.
— Расскажи мне, кто они и чего просят, — сказал аль-Джебал.
— Страшный господин, — ответила Масуда. — Как я прислала сказать тебе, они родственники рыцаря, который во время сражения спас жизнь того, кто правил перед тобой и ныне сделался жителем рая.
— Я слышал, что был такой рыцарь, — прозвучал голос. — Его звали д'Арси, и на его щите был такой же знак — знак черепа.
— Господин, это братья д'Арси, и они пришли просить твоей помощи против Салахеддина.
При имени султана черная груда заволновалась; так двигается змея, почуяв опасность. Под большим черным тюрбаном выпрямилась голова.
— Какой помощи и зачем? — спросил голос.
— Господин, султан украл девушку из их дома, племянницу того д'Арси; рыцари — ее братья и просят тебя помочь им вернуть ее.
Бисеринки-глаза загорелись любопытством.
— Мне донесли об этой истории, — прозвучал голос. — Но какие доказательства есть у этих франков? Тот, кто был до меня, дал кольцо, а вместе с ним известные права в нашей стране рыцарю д'Арси, который помог ему в опасности. Где же то священное кольцо, с которым он, по безумию, расстался?
Масуда перевела вопрос; но, увидев предостерегающий свет в ее глазах и помня все, что она сказала, братья отрицательно покачали головами, и Вульф ответил;
— Наш дядя, рыцарь сэр Эндрю, был зарублен солдатами Салахеддина и, умирая, велел отыскать тебя, властелин. Он не мог успеть рассказать нам о кольце.
Голова в тюрбане упала на грудь.
— Я думал, — сказал Сипан Масуде, — что это кольцо у них, и потому, женщина, позволил тебе привезти их сюда после того, как ты донесла мне о них из Бейрута. Нехорошо, что святая печать ходит по миру, а тот, кто ушел до меня, умирая, поручил мне вернуть ее. Пусть они отправятся в свою страну и вернутся сюда с древним кольцом, тогда я помогу им.
Масуда перевела только последнюю фразу; братья опять сделали отрицательный знак. На этот раз заговорил Годвин:
— Далеко лежит страна наша, о, господин, и где можем мы найти давно потерянный перстень? Да не будет наше путешествие тщетно, о могучий, окажи нам помощь против Салахеддина.
— Я все дни моей жизни совершал суд над Салахеддином, — ответил Сипан, — а между тем он властвует надо мной.
Теперь я сделаю вам одно предложение, франки, принесите мне его голову или, по крайней мере, убейте его. Я скажу вам, как сделать это, и тогда мы потолкуем снова.
Услышав это, Вульф по-английски сказал Годвину:
— Мне кажется, нам лучше уехать. Нехорошо здесь. — Но Годвин ничего не ответил. Так они стояли, не. зная, что сказать; в это время в дверях показался человек, упал на руки и на колени и подполз к подушке между двойным рядом даисов.
— Докладывай, — по-арабски сказал Сипан.
— Господин, — ответил пришедший. — Твоя воля исполнена относительно корабля. — Дальше он заговорил шепотом, так, что д'Арси не могли ни слышать, ни понять его слов. Когда он умолк, Сипан сказал:
— Пусть войдет федай и сам расскажет все; пусть также приведут пленников.
Один из даисов, тот, который сидел ближе всего к балдахину, поднялся и, указав пальцем на братьев, спросил:
— Какова твоя воля, властитель, относительно этих франков?
Черные глаза, которые, казалось, проникали в самую душу, пристально посмотрели на братьев. Довольно долго Сипан молча раздумывал. Д'Арси дрожали, зная, что он мысленно рассуждает о них, что от его слова зависит их и жизнь, и смерть.
— Пусть остаются, — сказал он наконец. — Может быть, я захочу задать им несколько вопросов.
Минуты две стояла полная тишина. Сипан, Господин Смерти, ушел в свои мысли, сидя в черной тени балдахина; даисы смотрели куда-то вдаль; исполины стражи застыли, точно статуи; Масуда из-под длинных ресниц смотрела на братьев, а д'Арси не спускали глаз с резкого края тени, падавшей от балдахина на мраморный пол. Они старались казаться спокойными, но их сердца бились быстро, так как они предчувствовали, что скоро совершатся великие события, хотя и не знали какие.
Так глубока была тишина, таким ужасным казалось это нечеловеческое, похожее на змею, существо, такими странными представлялись его дряхлые, бесстрастные советники, что страх, как во время кошмара, охватывал д'Арси. Годвин спрашивал себя, не может ли аль-Джебал видеть кольцо, лежавшее на его груди, или что случится, если он увидит его; Вульфу хотелось громко крикнуть, пошевелиться, сделать что-нибудь, что нарушило бы мертвую тишину. И минуты для братьев тянулись, как часы.
Наконец позади д'Арси послышалось какое-то движение, и по приказанию Масуды они разошлись и остановились друг против друга. В ту же минуту занавеси раздвинулись. Вошло четверо людей, которые несли носилки, покрытые полотном: под этим покрывалом виднелся абрис неподвижной человеческой фигуры. Носилки поставили на пол подле балдахина, невольники распростерлись ниц, потом ушли, отступая до края террасы.
Снова все смолкло: братья спрашивали себя, чей труп лежал на носилках; что это было мертвое тело — они не сомневались. Снова распахнулись занавеси, и на террасе появилось шествие. Впереди двигался высокий человек, весь в белом, с красным вышитым кинжалом на груди; за ним появилась высокая женщина, окутанная длинным покрывалом; за нею шел плотный рыцарь во франкском вооружении и в шлеме, закрывавшем ему лицо; за ним четыре стража. Все прошли между двумя рядами даисов. Братья со странным замиранием сердца смотрели на движения закутанной женщины, которая не поворачивала головы ни вправо, ни влево. Глава небольшой процессии остановился перед балдахином и, бросившись ниц рядом с носилками, несколько минут не двигался. Женщина, которая шла за ним, тоже остановилась и, увидев черную груду, похожую на змею, вздрогнула.
— Открой лицо, — приказал ей голос Сипана.
Она колебалась, потом быстро сняла какую-то застежку, и вуаль спала с ее головы. Братья посмотрели и протерли глаза: перед ними стояла Розамунда.
Да, это была Розамунда, усталая, измученная болезнью, но, несомненно, она. При виде бледной, царственной красоты девушки груда на подушке задвигалась, и в бисеринах-глазах загорелся свет. Даже даисы очнулись; Масуда закусила красные губы, и ее оливковая кожа побледнела; она пожирала глазами Розамунду, точно желая прочитать в ее сердце.
— Розамунда! — в один голос вскрикнули братья.
Она услышала; когда д'Арси кинулись к ней, молодая девушка посмотрела на них и с легким восклицанием обняла одной рукой шею Годвина, другой Вульфа. Ее ноги подогнулись, и коленями она коснулась земли. В ту минуту, как братья наклонились, чтобы поднять ее, Годвин вспомнил, что Масуда выдала Розамунду за их родную сестру. С сестрой их могли оставить, а в противном случае дьявол в черном платье…
— Послушайте, — шепнул он по-английски, — мы не ваши двоюродные братья, а родные, от разных матерей, и мы не говорим по-арабски.
И Розамунда, и Вульф услышали: остальные подумали, что они обмениваются приветствиями, тем более что Вульф начал без разбора кричать по-французски:
— Привет тебе, сестра, найденная сестра, — и т. д.
Розамунда открыла глаза и подала братьям обе руки. В это время послышался голос Масуды, которая переводила слова Сипана.
— Ты, госпожа, кажется, знаешь этих рыцарей?
— Знаю хорошо, — ответила она, — это мои братья; меня украли, опоив их; наш отец был убит…
— Как это может быть, госпожа? Ведь, говорят, ты племянница Салахеддина? Разве эти рыцари тоже племянники Салахеддина?
— Нет, — ответила Розамунда, — они сыновья моего отца, но от другой жены.
По-видимому, Сипан поверил Розамунде, по крайней мере, он перестал задавать вопросы. Он задумчиво сидел, все молчали; через несколько мгновений в конце террасы послышался шум, и обернувшиеся братья увидели, как плотный рыцарь старался пробиться вперед, а стража не пускала его. И Годвин вспомнил, что как раз перед тем, как Розамунда сняла покрывало, этот же рыцарь внезапно пошел к концу террасы.
Сипан тоже посмотрел по направлению шума и сделал знак. Двое даисов вскочили, подбежали к занавеси, подле которой стоял рыцарь, и сказали ему несколько слов; он подошел к балдахину, но неохотно. Теперь его голова была открыта, и Годвин и Вульф не отрывали от него глаз; они хорошо знали эти широкие плечи, большие, круглые, черные глаза, толстые губы, тяжелую нижнюю челюсть.
— Лозель, это Лозель, — шепнул Годвин.
— Да, — отозвалась Розамунда, — это Лозель, дважды предатель; сначала он предал меня солдатам Саладина, а когда я отвергла его любовь, отдал в руки властителя Сипана.
Лозель подошел ближе; Вульф выступил вперед и с проклятьем ударил его по лицу рукой в железной перчатке. Воины бросились между ними, а Сипан велел Масуде спросить:
— Почему ты осмелился в моем присутствии ударить франка?
— Потому, господин, — ответил Вульф, — что именно этот бесчестный человек навлек великие несчастья на наш дом. Я зову его на поединок не на жизнь, а на смерть.
— Я тоже вызываю его, — сказал Годвин.
— Я готов, — крикнул взбешенный оскорблением Лозель.
— Тогда почему вы, собака, хотели бежать, увидев нас? — спросил Вульф.
Масуда стала переводить слова Сипана, обращаясь к Лозелю и говоря в первом лице, как «уста» аль-Джебала.
— Я благодарю тебя, рыцарь, за твои прежние услуги, — звучал ее голос, — у меня побывал твой гонец-франк, которого я знал в старые годы. По твоему совету я послал одного из моих федаев с солдатами, велев убить всех воинов Салахеддина на корабле, взять в плен эту благородную даму, его племянницу, и это было исполнено. Твой гонец требовал, чтобы эту девицу передали тебе, но рыцари, стоящие здесь, говорят, что ты украл их родственницу, и один из них ударил тебя по лицу и вызвал тебя на поединок, ты же принял этот вызов. Я не помешаю вам; мне давно хотелось видеть, как два франкских рыцаря по своему обычаю сражаются между собой. Я все приготовлю; тебе дадут мою лучшую лошадь, пусть другой рыцарь сражается на своем собственном коне. Вот как это произойдет. Вы встретитесь на мосту, между внутренними и внешними воротами города, и будете биться ночью во время полнолуния, то есть ровно через три дня. Если победишь ты, рыцарь, мы поговорим с тобой о даме, на которой ты хочешь жениться.
— О, господин, — ответил Лозель, — кто же может биться копьем на ужасном мосту при лунном свете? Так-то ты, властитель, держишь свое слово?
— Я могу и хочу биться, — вскрикнул Вульф, — я бился бы с ним во вратах адовых!
— Молчи, рыцарь Лозель, — сказал Сипан. — Ведь ты же принял вызов этого франка? Когда ты убьешь его и этим покажешь несправедливость его притязаний, тогда и говори о моем слове. Довольно, довольно, молчи. После поединка мы потолкуем, но не раньше. Отведите его во внешнюю часть замка и дайте ему все самое лучшее. Приведите ему мою большую вороную лошадь. Пусть он ездит на ней по мосту или где угодно, не выезжая за стены крепости; днем ли, ночью ли — все равно, но не позволяйте ему разговаривать с дамой, которую он отдал мне в руки, или с этими рыцарями, его врагами; не допускайте его и ко мне. Я не хочу видеть человека, которого ударили по лицу, пока он не смоет кровью своего стыда.
Масуда кончила переводить, и раньше, чем Лозель успел ответить, Сипан кивнул головой своим телохранителям; они бросились к сэру Гюгу и увели его с террасы.
— Счастливого пути, сэр вор! — крикнул Вульф. — До свидания на мосту; там мы сведем наши счеты! Вы бились с Годвином, может быть, вам больше посчастливится с Вульфом.
Лозель обернулся и посмотрел на него пылающим взглядом, но, не найдя ответа, ушел.
— Докладывай, — сказал Сипан, обращаясь к высокому федаю, который все время лежал ниц, рядом с неподвижным телом на носилках. — Ты должен был привести еще другого пленника, великого эмира Гассана. Где же франкский шпион?
Федай поднялся и заговорил:
— Господин, я исполнил твое приказание, воинов Салахеддина мы перебили, принца Гассана взяли в плен. Нескольких воинов мы оставили охранять корабль. Матросов пощадили (все они были слугами франка Лозеля) и выпустили их на берегу, так же, как и франкскую женщину, служанку этой высокородной госпожи. Вчера утром мы двинулись к Масиафу; принц Гассан был в носилках вместе с франкским шпионом, который донес тебе, господин, о приближении корабля. Ночевали они также в одной палатке; принца я связал и приставил к нему шпиона; утром, заглянув в его шатер, мы увидели, что он ушел; каким образом — я не знаю; на полу лежал мертвый франкский шпион, заколотый в грудь. Смотри…
Сняв покров, он показал окаменелое тело шпиона Никласа, на мертвом лице которого застыло выражение ужаса.
— Безуспешно обыскав окрестности, я вернулся к тебе с этой дамой, твоей пленницей, властелин, и с франком Лозелем. Я все сказал, — закончил федай.
Сипан забыл о своем спокойствии; он поднялся с подушки, сделал два шага вперед и остановился. В его блистающих глазах горело бешенство. С мгновение он молча поглаживал себе бороду, и братья заметили, что на первом пальце его правой руки блестело кольцо, как две капли воды похожее на перстень, скрытый на груди Годвина.
— Что ты сделал? — тихо сказал Сипан. — Ты упустил эмира Гассана, а ведь он самый доверенный друг султана дамасского! Он теперь в Дамаске или близ его, и через шесть дней по нашим долинам двинется армия Салахеддина. Кроме того, ты оставил в живых матросов и франкскую женщину; они тоже расскажут о захвате корабля, о плене этой дамы, родственницы Салахеддина, которую он ценит больше всего франкского королевства! Что ты ответишь мне?
— Господин, — сказал высокий федай, и его рука задрожала. — Великий господин, я не получил приказания убить весь экипаж, а франк Лозель сказал мне, что ты, властитель, позволил пощадить матросов.
— Он сказал тебе, — ответил Сипан, — и в то же время через шпиона уверил меня, что матросы будут убиты; кроме того, разве ты не знаешь, что, когда я не даю особых приказаний, я думаю о смерти, а не о жизни? Но что скажешь ты о принце Гассане ?
— Я ничего не знаю, властитель. Я только думаю, что он подкупил шпиона Никласа и, когда тот перерезал его веревки, убил его; подле трупа мы нашли тяжелый кошелек с золотом.
Гассан ненавидел его, как ненавидел и франка Лозеля. Я знаю это. На корабле он назвал их псами и предателями и плюнул на них издали, так как его руки были связаны. Видя, что Лозель боится Гассана, я приставил к нему шпиона Никласа, который был смелым малым, и приставил двоих воинов к его палатке.
— Привести воинов, — сказал Сипан, — пусть они тоже расскажут все.
Воинов привели. Они поклялись, что не спали во время караула, не слышали ни звука, однако с наступлением утра увидели, что принц исчез. Снова Господин Смерти молча погладил свою черную бороду, потом показал им перстень, проговорил:
— Вы видите знак? Идите.
— Властелин, — сказал федай, — я много лет верно служил тебе.
— Твоя служба окончена. Иди, — был суровый ответ.
Федай наклонил голову в виде поклона, с мгновение постоял неподвижно, точно в глубокой задумчивости, наконец резко повернулся, твердым шагом подошел к краю глубокого рва и прыгнул с террасы. На солнце блеснула его белая развевающаяся одежда, из глубины послышался шум упавшего тела; все замолкло.
— Идите за вашим предводителем в рай, — сказал Сипан воинам.
Один из них обнажил кинжал и хотел заколоться, но к нему подбежал старый даис, говоря:
— Неужели ты хочешь пролить кровь перед твоим властителем? Разве ты не знаешь обычаев? Иди.
И бедняки ушли. Первый твердыми шагами, другой, менее храбрый, точно пьяный, зашатался подле края пропасти.
— Все кончено, — сказали даисы, слегка хлопая в ладоши. — Страшный Господин, мы благодарим тебя за справедливость.
Но у Розамунды закружилась голова; даже д'Арси побледнели. Ужасен был этот человек (если это был человек, а не дьявол), и он держал их в своей власти. Может быть, и их тоже скоро пошлют в пропасть? Но в своем сердце Вульф поклялся, что, если его заставят броситься в бездну, с ним отправится также и Сипан.
Тело лжепилигрима унесли, чтобы бросить на съедение орлам, которые всегда вились над домом смерти, а Сипан, опустившись на подушку, продолжал говорить через свою переводчицу Масуду.
— Госпожа, — сказал он Розамунде, — немудрено, что Салахеддин желает видеть такую красавицу при своем дворе. Этот поганый султан — мой враг, и его, конечно, охраняет сатана, потому что даже мои федаи не сумели его убить. Теперь, может быть, между нами начнется война из-за тебя, но не бойся, госпожа, за тебя потребуют такую плату, которой Салахеддин не пожелает дать. Поэтому ты можешь жить спокойно в моем неприступном замке, и все твои желания будут исполнены. Скажи, чего ты хочешь?
— Я желаю, — тихим, спокойным голосом сказала Розамунда, — чтобы я была здесь в безопасности от Гюга Лозеля.
— Будет исполнено. Властитель Гор покрывает тебя своей мантией.
— Я желаю, — продолжала она, — чтобы мои братья жили невдалеке от меня и я не чувствовала бы себя одинокой среди чужестранцев.
Подумав немного аль-Джебал ответил:
— Твои братья, госпожа, будут жить в замке для гостей, встречаться с тобой во время пиров и в саду. Знаешь ли ты, что, веря в рассказ о старом обещании, которое дал тот, кто ушел из жизни раньше меня, они хотели с моей помощью увезти тебя от Салахеддина? Как странно, что они встретили тебя здесь. Даже моя мудрость изумляется; в этой встрече я вижу предвестие. Ты та, которую рыцари хотели спасти из рук Салахеддина, может быть, они пожелают увезти тебя и от аль-Джебала? Поймите же вы все, что от Господина Смерти только одна дорога. Вон она. — И он указал на отвесную скалу, с которой бросились в бездну его слуги.
— Рыцари, — продолжал он, обращаясь к Годвину и Вульфу, — проводите вашу сестру. Сегодня вечером я приглашаю всех вас на пир. А до тех пор прощайте.
— Женщина, — сказал он Масуде, — веди их. Ты знаешь свои обязанности. Эта госпожа поручена тебе. Не допускай к ней никого постороннего, главное же, франка Лозеля. Даисы, заметьте то, что я скажу, и возвестите всем. Этим троим франкам даровано мое покровительство, но они могут покинуть стены моего замка только под покровительством печати, нет, только показав ее.
Даисы поклонились и снова сели. В сопровождении Масуды и окруженные стражами, братья д'Арси и Розамунда спустились с террасы; прошли в узкое место залы, где люди сидели на полу, миновали ее широкую часть и переднюю, в которой по знаку Масуды часовые отдали им честь, и наконец очутились в своей комнате. Тут Масуда остановилась и сказала:
— Роза Мира, так справедливо названная, я пойду приготовить вашу комнату. Вероятно, вы хотите поговорить с вашими… братьями. Не бойтесь, я позабочусь, чтобы вас не тревожили.
Однако у стен есть уши, а потому советую вам говорить по-английски, потому что в стране аль-Джебала никто не понимает этого языка, даже я не знаю его.
Она поклонилась и ушла.
ЧАСТЬ II
I. ПОСОЛЬСТВО
Братья переглянулись с Розамундой. Им нужно было столько сказать, что они не знали, с чего начать. Наконец с легким восклицанием Розамунда заметила:
— О, поблагодарим Бога, который после стольких странствий и опасностей снова привел нас свидеться. — И, упав на колени, они поблагодарили Господа.
Потом, выйдя на середину комнаты, где, как им казалось, никто не мог услышать их, они начали говорить тихо и по-английски.
— Рассажите, что было с вами, Розамунда, — попросил Годвин.
По возможности в коротких словах она передала все, что случилось с нею; братья д'Арси слушали, не прерывая ее ни словом.
После этого Годвин рассказал о том, что было с ними. Выслушав его, Розамунда спросила почти шепотом:
— Почему эта красивая темноглазая женщина так дружески относится к вам?
— Не знаю, — ответил Годвин, — может быть, только потому, что мне удалось спасти ее от львицы.
Розамунда посмотрела на него и слегка улыбнулась; Вульф улыбнулся также…
— Да благословит Господь эту львицу и все ее потомство, — сказала Розамунда. — Молю Бога, чтобы эта женщина нескоро забыла об опасности, грозившей ей, потому что, кажется, наша судьба зависит от ее расположения. В каком мы отчаянном положении!.. Как странно, что вы приехали сюда, несмотря на ее советы, которые, как и мне кажется, она давала от чистого сердца.
— У нас было указание, — ответил Годвин, — перед смертью вашего отца осенила великая прозорливость, и он видел невидимое для нас.
— Да, — сказал Вульф, — но мне хотелось бы, чтобы мы встретились где-нибудь в другом месте, потому что я боюсь аль-Джебала, по одному знаку которого люди бросаются в бездну.
— Он противен, — вздрогнув, заметила Розамунда, — он даже хуже рыцаря Лозеля; мне отвратительно, когда он поднимает на меня свои глаза. О, если бы нам удалось убежать!
— Угорь, попавший в плетеную корзину, может больше надеяться на освобождение, чем мы, — мрачно заметил Вульф. — Будем, по крайней мере, радоваться, что мы все трое в одной клетке… хотя неизвестно, надолго ли.
В это время вошла Масуда, а за ней служанки; поклонившись Розамунде, красавица сказала:
— По воле нашего властелина, госпожа, я покажу вам комнаты, приготовленные для вас, отдохните там до начала пира. Не бойтесь, за столом вы встретите ваших братьев. А вы, рыцари, если угодно, покатайтесь верхом по садам. Ваши кони оседланные стоят во дворе, и девушки, — она указала на служанок, которые недавно чистили кольчуги братьев, — проводят вас к ним.
— Иными словами, мы должны уйти, — шепнул Годвин и громко прибавил: — До свидания, сестра, до вечера.
Во дворе они увидели лошадей, а также конную свиту, состоявшую из четырех федаев и одного офицера. Когда братья сели на коней, предводитель отряда знаком предложил им скакать за ним, и скоро они очутились в саду. Перед ними бежала широкая, усыпанная песком дорога, тут офицер пустил свою лошадь галопом. Дорога шла по краю пропасти, окружавшей цитадель и внутренний город, площадь которого занимала мили три.
Братья ехали вдоль пропасти, сдерживая лошадей, чтобы они не обогнали коня предводителя отряда, хотя он скакал быстро. Вот навстречу им показались всадники. Впереди скакал один из ассасинов, как франки называли слуг аль-Джебала, а за ним на великолепной вороной, как уголь, лошади и в сопровождении стражи ехал франкский рыцарь в кольчуге.
— Это Лозель, — сказал Вульф, — он на коне, которого предложил ему Сипан.
При виде этого человека Годвина охватило бешенство. С криком он обнажил свой меч. Лозель увидел это, и в ответ его лезвие тоже блеснуло. Оба промчались мимо ассасинских офицеров и, круто осадив коней, остановились друг против друга. Лозель первым нанес удар; Годвин отразил его щитом, и, раньше чем он мог ответить на нападение, федаи обоих отрядов бросились между ними и разделили их.
— Жаль, — сказал Годвин, когда ассасины повернули его лошадь. — Если бы они не помешали, думаю, брат, я избавил бы тебя от поединка при свете месяца.
— Я не хочу пропустить его, однако, не помешай тебе слуга Сипана, его голове грозила бы беда, — заметил Вульф.
Лошади снова пошли галопом, и братья больше не видали Лозеля. По-прежнему по краю города они доехали до узкого моста, который перекидывался через пропасть, окружавшую крепость. Тут офицер повернул свою лошадь и, знаком пригласив д'Арси ехать за ним, поскакал на мост. Помчались и братья, сначала Годвин, потом Вульф. В глубокой нише ворот на противоположном конце моста они остановили лошадей. Предводитель отряда повернул коня и помчался назад скорее, чем в первый раз.
— Обгоним их, — крикнул Годвин и, бросив поводья на шею своего Огня, приказал ему лететь быстрее.
Огонь кинулся вперед. Дым не отстал от него. Вот они нагнали федая и пролетели мимо него. Между ними и пропастью не оставалось даже дюйма; ассасин, ждавший, что его сбросят в бездну, ухватился за гриву лошади с ужасом в глазах. Доехав до города, братья остановили коней и засмеялись, поглядывая на изумленных федаев.
— Клянусь честью, — крикнул начальник отряда, думая, что рыцари не понимают его, — это не люди, а дьяволы; и их лошади — горные козы. Я думал, что испугаю их, но испугался я, потому что они пронеслись мимо меня, как орлы.
— Храбрые наездники и быстрые, хорошо объезженные кони, — с восторгом в голосе ответил один из федаев. — Стоит посмотреть на бой при свете полной луны.
И снова д'Арси выехали на песчаную дорогу и поскакали. Так они трижды объехали город, и в последний раз с ними не было никого, потому что и предводитель отряда, и остальные федаи остались далеко позади. Только когда братья расседлали своих взмыленных лошадей, д'Арси, прогнав конюхов, сами накормили и напоили Огня и Дыма. Потом вернулись в дом для гостей, надеясь увидеть Розамунду, но ошиблись. Братья беседовали обо всем удивительном, что случилось с ними, и обо всем, что могло произойти дальше. Так подошел закат; пришли слуги, проводили д'Арси в ванны, где черные невольники омыли и надушили их ароматами, а поверх их кольчуг набросили свежие туники.
Когда они вышли из здания ванн, солнце стояло уже низко; служанки с зажженными факелами в руках отвели д'Арси в большую великолепную залу, которой они еще не видали; она была выстроена из туфа, потолок был резной и расписанный красками. Вдоль боковой стены, освещенной канделябрами, виднелось много открытых арок, круглых вверху и опиравшихся на изящные белые колонны; за ними виднелась мраморная терраса, от которой ступени спускались в сад, расстилавшийся внизу. На полу этой залы сидели седобородые советники аль-Джебала за покрытыми инкрустациями столами. Их было около ста человек, все в белых одеждах, с красными кинжалами. Все молчали, точно погруженные в глубокий сон.
Когда д'Арси вошли в залу, женщины оставили их; слуги с золотыми цепями на шеях проводили братьев к помосту в середине этой большой комнаты. Там лежало много подушек, пока еще не занятых никем и размещенных полукругом, в центре которого стоял роскошный диван.
Братьям указали на подушки против дивана, и рыцари остановились подле них; ждать им пришлось недолго; вскоре послышалась музыка, и позади толпы поющих женщин показался Сипан, медленно направляясь через залу. Это было странное шествие: за женщинами двигались престарелые даисы в белых одеяниях, за ними властелин аль-Джебал, теперь одетый в красную, как кровь, нарядную одежду и с драгоценностями на тюрбане.
Его окружили четыре невольника, черные, как черное дерево; каждый нес пылающий факел; За Властелином Гор шли те самые исполины, которые на террасе стояли под его балдахином. При виде аль-Джебала все поднялись, бросились ниц и не встали, пока их господин не сел; только двое братьев стояли, точно оставшиеся в живых на поле брани.
Сипан уселся на одном краю дивана, махнул рукой, и тогда все приглашенные, а вместе с ними и д'Арси опустились на подушки. Наступило молчание. Сипан нетерпеливо посматривал на противоположный конец залы, и вскоре д'Арси поняли причину этого. Из двери появилась новая толпа поющих женщин, за ними в сопровождении четырех черных невольниц с факелами шла Розамунда; ее сопровождала Масуда.
Это была, несомненно, Розамунда, но Розамунда изменившаяся; теперь она казалась восточной царицей. Ее голову окружала корона из драгоценных камней, с которой спускалась легкая фата, не закрывавшая, однако, ее лица. Драгоценности блистали в тяжелых прядях ее волос, на розовой шелковой материи ее платья, на поясе, на обнаженных руках, как бы выточенных из слоновой кости, даже на ее туфельках. Все гости смотрели на ее царственную красоту и переглядывались между собой. Наконец, точно поддаваясь одному порыву, они вскочили и поклонились ей.
— Что это значит? — пробормотал Вульф Годвину, но Годвин ничего не ответил.
Розамунда поднялась на помост; Сипан, протянув ей руку, усадил ее рядом с собой.
— Не выражай удивления, Вульф, — шепнул Годвин, подметивший предостерегающий взгляд Масуды, которая остановилась позади Розамунды.
Пир начался. Невольники бегали взад и вперед и ставили блюда на маленькие столики. Годвин и Вульф ели, хотя не были голодны; они все время наблюдали за Сипаном и старались услышать, что он говорит. Братья видели, что Розамунда боится, хотя и старается скрыть свои чувства. Сипан много раз подносил ей отборные куски, одни на серебряных блюдах, другие просто пальцами; последние она была принуждена брать. Принесли налитое в золотые кубки вино, приправленное ароматами и пряностями. Аль-Джебал сделал несколько глотков и передал чашу Розамунде. Но девушка покачала головой и попросила Масуду дать ей чистой воды, сказав, что она не пьет ничего крепкого. Ей подали воды, охлажденной снегом. Д'Арси тоже попросили воды, и Сипан подозрительно взглянул на них, спросив, почему не хотят вина. С помощью Масуды Годвин ответил, что они дали обет не касаться крепких напитков до возвращения на родину. Тогда Сипан многозначительно сказал, что обеты держать хорошо, но что, пожалуй, рыцарям в силу клятвы придется пить воду до конца жизни. Братья молча выслушали его, и их сердца замерли. Под влиянием вина обыкновенно молчаливый Сипан сделался болтлив.
— Вы встретили франка Лозеля в саду, — сказал он через Масуду, — и ты, рыцарь, обнажил меч. Почему же ты не убил его? Разве он сильнее тебя?
— По-видимому, нет, — ответил Годвин. — Один раз я уже его ранил и, как видишь, сижу перед тобой невредимый. Твои слуги, властитель, бросились между нами.
— Да, да, — проговорил Сипан, — помню; я приказал им… Но мне жаль, что ты не убил его, неверного пса, который осмелился поднять глаза на Розу Роз, вашу сестру.
Все это Масуда перевела; Розамунда опустила голову, чтобы скрыть лицо, на котором отразились презрение и страх. Вульф злобно взглянул на аль-Джебала, но тот, к счастью, смотрел в другую сторону. От бешенства перед глазами молодого человека собрался туман, и сквозь эту дымку ему почудилось, будто властелин народа убийц покрыт кровью. Его рука сжала эфес меча… В это время Годвин, заметивший ужас в глазах Масуды, увидел также движение Вульфа, быстро скинул со стола на мраморный пол золотую тарелку и ясным голосом сказал по-французски:
— Брат, не будь же так неловок, подними тарелку и ответь властелину.
Вульф наклонился, исполняя совет брата, в это время его ум прояснился, и он сказал:
— Я не хочу, чтобы брат поразил его, господин, ведь мне дано позволение покончить с ним на третью ночь после сегодняшней. Если я не убью его, тогда позволь, властитель, моему брату заменить меня, но не раньше.
— Ах, я и забыл, — сказал Сипан, — о моем решении, а между тем я желаю видеть этот бой… Если он убьет Тебя, пусть бьется твой брат; если погибнете вы оба, может быть, я сам, Сипан, выступлю против него… по-своему… Прекрасная дама, Роза Мира, побоишься ли ты смотреть на бой на мосту?
Розамунда побледнела, но ответила гордо:
— Раз мои братья не боятся, я тоже не боюсь. Они храбрые рыцари, владеют оружием, и Бог, который держит в своей деснице судьбу всех людей, даже твою, о Господин Смерти, сохранит правого.
Выслушав перевод ее ответа, Сипан сказал:
— Знай, госпожа, что я голос и Пророк Аллаха, и также меч его, наказующий неправедных и неверных. Хорошо, если то, что я слышал, верно; говорят, твои братья искусные наездники, которые не побоялись обогнать моего слугу на узком мосту. Скажи мне, которого из них ты любишь меньше? Пусть тот первый выедет навстречу мечу Лозеля.
Пока Розамунда приготовлялась к ответу, Масуда пристально всматривалась в ее лицо из-под опущенных ресниц; но что бы ни чувствовала молодая девушка, ее черты остались каменно-спокойными.
— Для меня они оба как один человек, — сказала она. — Я люблю их равно.
— Значит, пусть остается, как сказано. Первый будет биться брат «синие глаза»; если он падет, на мост выедет брат «серые глаза». А теперь, — прибавил аль-Джебал, — пир окончен; наступило время моих молитв. Невольники, наполните кубки; госпожа моя, прошу тебя, стань на край помоста.
Розамунда повиновалась. По закону Сипана за нею собрались черные невольницы с пылающими факелами в руках. Аль-Джебал тоже поднялся и закричал:
— Слуги аль-Джебала, славьте, приказываю вам, цветок цветков, высокорожденную принцессу Баальбека, племянницу Салахеддина, султана, которого люди называют великим, — тут Сипан усмехнулся, — хотя он далеко не так велик, как я… Славьте эту королеву девушек, которая вскоре… — Он замолчал, выпил вина и с низким поклоном подал пустой, осыпанный драгоценными камнями кубок Розамунде. Пирующие огласили залу громкими криками.
— Королева, повелительница! — слышалось отовсюду. — Властительница нашего властителя и всех нас!
Сипан улыбнулся, потом знаком велел всем замолчать, поцеловал руку Розамунды и ушел из залы с поющими женщинами, даисами и стражниками.
Годвин и Вульф хотели поговорить с Розамундой, но Масуда встала между ними и холодно сказала:
— Это не позволено. Идите, рыцари, освежитесь в саду, там, где струится холодная вода. Не бойтесь за вашу сестру: ее охраняют.
— Пойдем, — сказал Годвин Вульфу, — лучше повиноваться.
Они прошли на террасу, спустились в сад и остановились, с наслаждением вдыхая ночную свежесть, приятную после душного воздуха залы пиршества. Потом братья стали бродить между благоухающими деревьями и цветами. Сияла луна, и при ее свете д'Арси увидели странную картину. Под многими деревьями были раскинуты палатки, и там на коврах лежали люди, выпившие вина.
— Они пьяны? — спросил Вульф.
— Кажется, да, — ответил Годвин.
Но эти люди казались не пьяными, а скорее безумными: они держались на ногах, но смотрели невидящими глазами; и они не спали, лежа на коврах, а глядели в небо и что-то шептали с лицами, полными странного восторга. Иногда они поднимались, делали несколько шагов с распростертыми руками, потом возвращались обратно и снова падали на ковры. К ним подходили женщины в белых покрывалах и, присев подле лежащих, шептали им что-то и поили их из принесенных с собой кубков. Выпив, лежащие окончательно теряли сознание. Тогда белые тени скользили в другие палатки: они подходили также и к братьям, поднося им кубки, но д'Арси шли, не обращая на них внимания; закутанные фигуры тихо смеялись или говорили:
— Завтра мы увидимся, или «Скоро вы с наслаждением выпьете вина, чтобы войти в рай».
— Уйдем, брат, — сказал Вульф, — потому что взгляд на эти ковры нагоняет на меня сон, а вино в кубках блестит, точно глаза девушек из-под белых покрывал.
Они пошли в ту сторону, откуда слышался грохот водопада, и омыли чистой водой лица и головы.
— Это получше их вина, — сказал Вульф. Увидев же еще закутанную женщину, белевшую, как привидение, на залитом лунным светом лужке, д'Арси двинулись дальше; наконец они вышли на площадку, где не было ни ковров, ни спящих, ни женщин с кубками.
— Теперь, — сказал Вульф, останавливаясь, — объясни мне, что все это значит?
— Разве ты глух и слеп? — спросил Годвин. — Разве ты не видишь, что этот демон ослеплен Розамундой и хочет жениться на ней?
Вульф с громким стоном проговорил:
— Клянусь, раньше я отправлю в ад его душу, хотя бы нам самим пришлось пойти туда же.
— Да, — ответил Годвин, — я видел, что ты готовился убить его, но помни, что это было бы гибелью для нас всех. Подождем наносить удар… В числе других украшений на поясе Розамунды я видел кинжал, осыпанный драгоценными камнями; в случае нужды она сумеет обратиться к его помощи.
Разговаривая, братья подошли к поляне и остановились. И вот из тени большого кедра показалась одинокая женщина в белом платье.
— Уйдем, — шепнул Вульф, — еще одна колдунья с проклятым кубком.
Но раньше, чем братья успели повернуться, белая тень подскользнула к ним и быстро сбросила покрывало. Это была Масуда.
— Идите за мной, братья Петер и Джон, — с тихим смехом шепнула она. — Мне нужно поговорить с вами. Что такое?.. Вы не хотите пить? Хорошо, это благоразумнее. — И, выплеснув что-то из кубка на землю, она пошла вперед. Молчаливая Масуда то показывалась на открытых пространствах, то исчезала в густом мраке, под ветвями кедров. Так она довела рыцарей до обнаженной скалы, стоящей на краю пропасти. Рядом с этим утесом поднимался высокий курган, какой древние насыпали над своими умершими. В кургане виднелась дверь, хитро закрытая кустарниками. Масуда сняла ключ со своего пояса и, оглянувшись, чтобы видеть, не наблюдает ли за ней кто-нибудь, открыла массивную створку.
— Войдите, — сказала она, пропуская вперед братьев. Они вошли и услышали, как позади них закрылась дверь. — Теперь мы, я думаю, в безопасности, — продолжала Масуда, — но я проведу вас в освещенное место.
И, взяв обоих д'Арси за руки, она повела их по легкому наклону, наконец братья увидели лунный свет, который помог им рассмотреть, что они были подле входа в пещеру, окаймленную кустами. Из глубины пропасти к этому отверстию поднималась гряда или выступ скалы, очень узкий и очень крутой.
— Это единственная дорога из цитадели, кроме моста, — сказала Масуда.
— Плохой путь, — заметил Вульф, глядя вниз.
— Да, а между тем лошади, привыкшие ходить по крутизнам, пройдут и здесь. У подножия этого утеса дно рва. В миле от гряды, с левой стороны, начинается ущелье, которое постепенно поднимается и ведет к горным высотам и… к свободе. Не хотите ли сейчас уйти этим путем? К заре вы можете быть далеко.
— А где же будет тогда Розамунда? — спросил Вульф.
— В гареме властителя Сипана, — спокойно ответила она.
— О, не говорите этого, — вскрикнул Вульф, сжав ей руку. Годвин молча прислонился к стене пещеры.
— Зачем скрывать? Разве вы не видите сами, что он очарован ее красотой, как и… другие? Слушайте: несколько времени тому назад великий Сипан потерял свою королеву… Каким образом — незачем спрашивать; говорят, она ему надоела. По закону он печалится о ней месяц, от полнолуния и до полнолуния; в день же, который настанет после полнолуния, то есть на третье утро после сегодняшней ночи, он получит право снова жениться, и я думаю, отпразднует свадьбу… Но до тех пор ваша сестра останется в такой же безопасности, как была в то время, когда она сидела у себя дома в Англии, а Салахеддину еще не грезились вещие сны.
— Значит, — сказал Годвин, — после этого срока она должна или бежать, или умереть?
— Есть и третий выход, — пожимая плечами, заметила Масуда, — она может сделаться женой Сипана.
Вульф пробормотал что-то сквозь зубы, потом с угрозой подошел к Масуде и сказал:
— Спасите ее или…
— Остановитесь, пилигрим Джон, — со смехом сказала она, — если я спасу ее, что сделать очень нелегко, то уж, конечно, не из страха перед вашим длинным мечом.
— Ради чего же, госпожа Масуда? — печально спросил Годвин. — Ведь если бы мы даже могли предложить вам денег, то, конечно, это было бы бесполезно.
— Я рада, что вы избавили меня от такой обиды, — с горящими глазами сказала Масуда, — потому что тогда все окончилось бы. Однако, — прибавила она спокойнее, — видя, где я живу, что я делаю, чем кажусь, — она взглянула на свое платье и пустой кубок в руке, — вы могли предложить мне золото.
Но слушайте и не забудьте ни одного моего слова. Теперь вы в милости у Сипана, так как он считает вас братьями госпожи Розамунды, а не людьми, добивающимися ее руки; едва истина обнаружится — вы погибли. То, что знает франк Лозель, может узнать и аль-Джебал… если они встретятся. Пока вы свободны, завтра, во время поездки верхом, заметьте положение большого утеса подле кургана; заметьте дорогу к нему со всех сторон, чтобы найти его даже в темноте. Завтра, когда взойдет луна, вас проведут к узкому мосту; приучитесь не бояться его при неверном свете месяца. Убрав коней, придите снова в сад, проберитесь тайком сюда. Стража пропустит вас, думая, что вы только хотите выпить по кубку вина по обычаю наших гостей… Войдите в пещеру, вот ключ от двери, и, если меня еще не будет здесь, подождите. Тогда я скажу вам, что задумала, мне нужно обсудить мой план. Теперь же поздно, идите.
— А вы, Масуда? Как уйдете вы из этого места? — спросил Годвин.
— Путем, неизвестным вам; мне открыты тайны этого города. Идите же и замкните за собой дверь.
Д'Арси молчаливо вернулись в дом гостей. В эту ночь братья спали на одной постели, боясь, что их будут обыскивать а они не проснутся. Опять, как и накануне, д'Арси слышали в темноте шаги и голоса. Утром они надеялись за завтраком увидеть Розамунду или хотя бы Масуду, но ни та, ни другая не показались. Наконец пришел один начальник отряда ассасинов и знаком позвал их за собой. Он проводил д'Арси на террасу, где опять под балдахином сидел Сипан в черном одеянии. Рядом с ним была Розамунда в роскошном наряде. Д'Арси хотели подойти к ней, но стража загородила им путь и знаком указала их места в нескольких ярдах от принцессы. Вульф громко спросил по-английски:
— Скажите, Розамунда, вам не дурно?
Подняв бледное лицо, она улыбнулась и кивнула головой. По приказанию аль-Джебала Масуда велела братьям говорить, только когда их спросят. Четыре даиса подошли к балдахину и стали о чем-то серьезно шептаться со своим повелителем. Он дал им тихое приказание, и они сели на прежнее место, а с террасы ушли двое гонцов; они скоро вернулись и привели с собой важных сарацин с благородной осанкой и в зеленых тюрбанах, которые указывали на их происхождение от пророка. За ними вошла свита. Сарацины, которые казались утомленными, держались гордо и как бы не замечали ни даисов и никого; однако, увидев рыцарей, они мимоходом взглянули на них; Розамунде сарацины низко поклонились, но на аль-Джебала не обратили никакого внимания.
— Кто вы и чего желаете? — спросил Сипан. — Я правитель этой страны, и вот мои министры, — он указал на даисов, — а вот мой скипетр, — и он коснулся кроваво-красного вышитого кинжала на своем черном платье.
Теперь посольство почтительно поклонилось ему, и выборный ответил:
— Мы знаем твой скипетр и дважды убивали носителей его в самом шатре нашего повелителя. Господин убийца, мы признаем эмблему твою и кланяемся тебе, носящему титул великого убийцы. А дело у нас следующее: мы посланники Салахеддина, повелителя верных, султана Востока. Вот запечатанные его печатью наши верительные грамоты, может быть, ты желаешь прочитать их?
— Я слыхал о нем. Чего же он хочет от меня?
— Вот чего, аль-Джебал: франкский изменник отдал тебе в руки племянницу Салахеддина принцессу Баальбекскую по имени Роза Мира. Принц Гассан, бежавший из рук твоих воинов, сообщил об этом. Теперь Салахеддин требует от тебя свою благородную племянницу, а вместе с ней голову франка Лозеля.
— Если ему угодно, он может получить голову франка Лозеля послезавтра ночью, а Роза Мира останется у меня, — с усмешкой сказал Сипан. — Что же дальше?
— Дальше, аль-Джебал, мы от имени Салахеддина объявляем тебе войну, войну до тех пор, пока от этой твердыни не останется камня на камне, пока все твое племя не будет уничтожено, а твой труп брошен на съедение воронам.
Сипан в бешенстве вскочил и стал крутить и рвать свою бороду.
— Уйдите, — крикнул он, — и скажите псу, которого вызовете султаном, что, хотя он только низкорожденный сын Эюба, а я — аль-Джебал, я делаю ему честь, которой он не заслуживает. Моя королева умерла, и через два дня, когда исполнится месяц моего траура, я возьму в жены его племянницу принцессу Баальбекскую, которая сидит рядом со мной как моя нареченная невеста.
Розамунда вздрогнула, точно укушенная змеей, закрыла лицо руками и застонала.
— Принцесса, — сказал посланник, — вы понимаете наш язык, скажите: вы хотите соединить вашу благородную судьбу с судьбой еретического начальника ассасинов?
— Нет, нет, — вскрикнула она, — не хочу! Я только беззащитная пленница и христианка… Если мой дядя Салахеддин, действительно так могуч, как я слышала, пусть он освободит меня, а со мной и моих братьев — рыцарей сэра Годвина и сэра Вульфа.
— Значит, ты говоришь по-арабски, госпожа? — сказал Сипан. — Тем лучше! Ну, гонцы Салахеддина, уходите, не то я пошлю вас в более далекое путешествие. Да скажите вашему повелителю, что, если он осмелится двинуть знамена к стенам моей крепости, федаи поговорят с ним. Ни днем, ни ночью не будет он в безопасности. Яд притаится в его кубке; кинжал — в его ложе. Он убьет сотню федаев: явится другая сотня. Его доверенные стражи превратятся в палачей, женщины его гарема принесут ему гибель, смерть напоит самый воздух, которым он дышит. Если султан желает спастись, пусть он запрется за стенами своего Дамаска или забавляется войнами с безумными поклонниками креста и предоставит мне жить здесь, как я желаю.
— Великие слова, достойные великого ассасина, — насмешливо сказал посланник.
— Действительно, великие, а за ними последуют такие же великие деяния. Что может сделать ваш господин против народа, поклявшегося повиноваться в жизни и смерти?
Сипан позвал по именам двух даисов. Они поднялись и поклонились ему.
— Мои верные слуги, — обратился к ним аль-Джебал, — покажите этим еретическим псам, как вы повинуетесь мне, чтобы их господин понял мощь вашего великого повелителя. Вы стары и утомлены жизнью. Исчезните и ждите меня в раю.
Старики с легкой дрожью поклонились, выпрямились, не говоря ни слова, подбежали к краю террасы и прыгнули в пропасть.
— Есть ли у Салахеддина такие слуги? — прозвучал голос Сипана в наступившей тишине. — И все мои федаи сделают то же самое. Идите и, если желаете, возьмите с собой этих франков, моих гостей. Пусть они засвидетельствуют перед Салахеддином то, что видели, и расскажут, где вы оставили их сестру. Переведи это рыцарям, — обратился он к Масуде.
Выслушав ее, Годвин ответил:
— Мы плохо понимаем то, что произошло, ведь нам не известен твой язык, аль-Джебал! Раньше, чем мы уйдем из-под крыши твоего дома, нам нужно свести счеты с Лозелем.
Розамунда вздохнула с облегчением. Сипан ответил:
— Пусть так и будет. — И прибавил: — Накормите и напоите посланников перед их отправлением домой.
Но выборный ответил:
— Мы не принимаем хлеба и соли от убийцы, аль-Джебал, мы уходим, но через неделю снова явимся с десятью тысячами копий, и на одно из них насадим твою голову. Охранная грамота, данная тобой, защитит нас до заката, после этого времени делай, что тебе угодно. Высокорожденная принцесса, советуем тебе убить себя л тем заслужить вечную славу!
Кланяясь Розамунде, они один за другим уходили с террасы. Свита двинулась за ними. Сипан махнул рукой, все стали расходиться. За Розамундой шла Масуда и стража. Братья рассуждали обо всем случившемся, говоря себе, что они могут надеяться только на Бога.
II. БОЙ НА МОСТУ
— Саладин придет, — сказал Вульф. И с высоты, на которой стояли д'Арси, указал на долину: по ней мчался отряд всадников. — Видишь, брат, это уезжает посольство, — прибавил он.
— Да, — ответил Годвин, — султан придет, но боюсь, слишком поздно…
— Если мы не двинемся навстречу ему! Масуда обещала…
— Масуда, — вздохнул Годвин, — только подумать, что все зависит от обещания женщины…
— Нет, — возразил Вульф, — от судьбы. Ну, пойдем.
И в сопровождении свиты они отправились в сад, чтобы заучить дорогу к скале. Ночью д'Арси поехали к пропасти и увидели Лозеля, который сидел на крупном взмыленном вороном коне. Очевидно, он тоже побывал на опасном мосту; собравшаяся толпа зрителей хлопала руками и кричала:
— Хорошо ездит франк, хорошо!
Годвин и Вульф переехали через мост. Кони не останавливались, только фыркали, глядя на зиявшую бездну. Братья несколько раз повторяли то же самое; они ездили то шагом, то рысью, то галопом, иногда поодиночке, иногда вместе. Наконец Вульф попросил Годвина остановиться на половине моста, помчался к нему карьером и осадил Дыма на расстоянии копья от брата; под крики зрителей он повернул своего коня на задних ногах и поскакал назад в сопровождении Годвина. Д'Арси поставили лошадей в конюшню и прошли в сад, избегая встречи с белыми служанками Сипана и с людьми, которых они отравляли. Окружным путем братья прошли к утесу, открыли дверь в курган, замкнули ее за собой и ощупью пробрались до освещенного луной выхода из подземелья. Тут они остановились, изучая крутой спуск, вдруг Годвин почувствовал на своем плече руку, повернулся и увидел Масуду.
— Как вы вошли? — по-французски спросил он.
— Вот дорога, в которой заключается наша единственная надежда, — сказала она, не ответив на его вопрос, и прибавила: — Не будем тратить слов, сэр Годвин, у нас мало времени, и, если вы доверяете мне, отдайте в мои руки печать, которая висит у вас на шее. В противном случае вернитесь в замок и спасайте себя и Розамунду как умеете.
Годвин молча вынул из-за кольчуги старинное кольцо, покрытое таинственными письменами и со знаком кинжала. Он молча передал перстень Масуде.
— Вы действительно доверяете мне, — с легким смехом сказала она; при свете луны осмотрела Масуда перстень, коснулась им своего лба и спрятала его на груди.
— Да, госпожа, — ответил Годвин, — я верю вам, хотя и не понимаю, почему вы ради нас подвергаете себя опасности.
— Почему? Может быть, из ненависти; ведь Сипан властвует не любовью, а ненавистью; может быть, так же и я, дикая по происхождению, хочу рискнуть жизнью, ведь смерть и победа для меня безразличны! Может быть, и потому, что вы, сэр Годвин, спасли меня от львицы. Не все ли вам равно, почему женщина, шпионка ассасинов, на которую вы плюнули бы в вашей стране, делает то или другое? — Она замолчала. Ее грудь высоко вздымалась, глаза блестели. Она казалась таинственным белым видением, прекрасным при лунном свете. Годвин почувствовал, что его сердце сжалось, но он не успел ответить, так как Вульф сказал:
— Вы просили нас не тратить лишних слов, госпожа, и потому скажите, что делать нам?
— Вот что, — ответила Масуда. — Завтра в этот час вы будете биться с Лозелем на узком мосту. Может быть, вы, сэр
Вульф, падете, потому что одна храбрость не поможет вам. Ведь этот бой потребует скорее искусства и воинской хитрости…
В таком случае сэр Годвин выступит против него. Если вы оба погибнете, я сделаю все, чтобы спасти вашу даму и отвезти ее к Салахеддину; если же я потерплю неудачу, то помогу ей найти спасение в смерти.
— Вы клянетесь? — спросил Вульф.
— Я сказала, и этого достаточно, — нетерпеливо ответила она.
— Тогда я выеду против Лозеля с легким сердцем, — заметил Вульф, а Масуда продолжала:
— Дальше: если победите вы, сэр Вульф, или если вы погибнете, а ваш брат победит, один из вас или вы оба должны проскакать к конюшенным воротам: они стоят в мили от моста. Ни одна лошадь не поспеет за вашими скакунами; не останавливаясь, мчитесь сюда. В саду не будет ни души, все соберутся на стены и на крыши домов, чтобы смотреть на бой, и есть только одна опасность: может быть, перед курганом будут часовые. Салахеддин объявил войну аль-Джебалу, и хотя тайный путь известен немногим, но все же это проход. Если вы увидите часовых, вам придется убить их, не то вы сами будете убиты. Если вы пробьетесь до этой пещеры, введите в нее лошадей, закройте дверь на замок, задвиньте ее засовом и ждите. Может быть, я приду сюда с принцессой. Вряд ли на вас нападут здесь, потому что эту дверь может охранять один человек против многих. Ждите меня до зари, если я не приду, знайте, что свершилось самое худшее; в таком случае летите к Салахеддину, расскажите ему об этой дороге и о случившемся, чтобы он мог отомстить своему врагу Сипану. Только прошу вас, не сомневайтесь в том, что я сделала все возможное… В случае неудачи я умру — умру ужасной смертью. Теперь до свидания, до новой встречи или прощайте навсегда. Идите, вы знаете дорогу.
Д'Арси пошли к выходу, но, сделав несколько шагов, Годвин обернулся и увидел, что Масуда стоит и смотрит на них. Свет месяца падал на ее лицо, и молодой человек заметил, что из ее черных нежных глаз катились слезы. Он вернулся к ней, а с ним и Вульф. Годвин стал на колено перед Масудой, поцеловал ее руки и сказал мягким голосом:
— С этих пор в жизни ли, в смерти ли мы будем служить двум дамам.
Вульф сделал то же самое.
— Может быть, — печально ответила Масуда, — у вас будут две дамы, но одна любовь.
Братья ушли и благополучно вернулись в дом гостей.
И снова пришла ночь, и снова над крепостью засияла полная летняя луна. Из ворот дома гостей выехали д'Арси на своих великолепных конях. Лунные лучи играли на их кольчугах и щитах, украшенных изображением осклабившихся черепов, на тесных шлемах и на крепких длинных копьях, данных им. Обычный эскорт окружал их; впереди и позади рыцарей бежала толпа.
В эту ночь ассасины сбросили свою обычную мрачность, их не угнетала даже мысль о войне с могучим Саладином. Этот народ привык к смерти; каждый день видел он ее в различных формах. По приказанию властителя федаи постоянно уходили за пределы крепости, чтобы убить того или другого знатного человека, и по большей части не возвращались. Смерть ждала их на чужбине; в случае неудачи смерть ждала их дома. Их страшный калиф служил орудием смерти; по его приказанию они бросались в пропасть, жертвовали своими женами, детьми, а в награду при жизни получали кубок со странным питьем, которое вызывало сладостные видения, после смерти ожидали еще более сладкого рая. Они видали всевозможные страдания, но бой на мосту казался им чем-то новым. А назавтра их ждало еще большее торжество: бракосочетание властелина с чужестранкой…
Братья ехали молча и казались бесстрастными; кругом них волновалась толпа, время от времени разрывавшая ряды их телохранителей. Вдруг к Годвину протянулась рука; в ней было письмо, и при свете месяца он прочитал короткую записку, набросанную по-английски: «Я не могу говорить с вами; да хранит вас Бог, братья, и дух моего отца. Бейтесь, Вульф, бейтесь, Годвин, и не бойтесь за меня, я сумею защититься; победите или умрите и в жизни или в смерти ждите меня. Завтра во плоти или в духе мы увидимся. Розамунда». Годвин передал бумажку Вульфу. В ту же минуту молодой рыцарь увидел, как стражники поймали седую старуху, подавшую ему записку. Они спросили у нее что-то, но она только отрицательно покачала головой. Тогда воины со смехом бросили ее под копыта своих лошадей. Она умерла раздавленная, а толпа смеялась.
— Разорви записку, брат, — сказал Годвин. Вульф исполнил его совет, сказав:
— У нашей Розамунды храброе сердце, мы одной крови с нею и не посрамим ее.
Д'Арси выехали на открытую площадку против узкого моста. Здесь теснилась чернь, которую сдерживали ряды воинов; зрители толпились также на плоских крышах, на стенах вдоль пропасти, на укреплениях, которые высились близ противоположного конца моста, на строениях внешней части города. Перед мостом были низкие ворота; на их крыше сидел аль-Джебал в праздничном красном наряде, а рядом с ним Розамунда, и лунный свет играл на ее драгоценностях. Впереди стояла Масуда, переводчица, или «уста» аль-Джебала, в роскошном платке. Драгоценность в виде кинжала искрилась в ее черных волосах. Позади нее теснились даисы и воины.
Братья выехали на площадку перед воротами и остановились, салютуя копьями со значками. Выехала вторая процессия: впереди держался Лозель на вороном коне. Массивным и свирепым казался сэр Гюг.
— Что это? — крикнул он, взглянув на д'Арси. — Мне одному придется сражаться против двоих! Так вот ваше рыцарство.
— Нет, нет, сэр предатель, — ответил Вульф, — вы дрались с Годвином, теперь очередь Вульфа. Убейте Вульфа, останется Годвин; убейте Годвина, останется Бог. Презренный раб, в последний раз видишь ты луну.
Лозель обезумел от ярости и от страха.
— Властитель, — закричал он по-арабски, — ведь это же убийство, неужели ты желаешь, чтобы меня погубили люди, ищущие руки девушки, которой ты хочешь оказать честь, сделать ее своей женой?
Сипан услышал и посмотрел на Гюга долгим взглядом.
— Смотри, смотри, но я говорю правду. Они совсем не ее братья: разве из-за сестер так стараются? Разве из-за сестры они пошли бы сами в твои сети?
Сипан поднял руку в знак молчания и сказал:
— Бросьте жребий, кто бы ни были эти люди, пусть бой состоится, бой честный.
Один даис поднялся, бросил на землю жребий и, разгадав его, сказал, что Лозель должен проехать на отдаленный край моста. Один из воинов взял лошадь Гюга за повод и перевел ее через мост. Минуя братьев, Лозель усмехнулся им в лицо и сказал:
— Одно верно: вы тоже смотрите в последний раз на луну; я отомщен — Сипан убьет вас обоих у нее на глазах.
Братья ничего не ответили. Абрис вороной лошади Лозеля стал неясен в неверном свете луны; затем конь и всадник исчезли под аркой, которая вела к внешней части города. Закричал герольд; Масуда переводила его слова, в то же время другой герольд, стоявший на противоположном берегу пропасти, громко повторял:
— Трижды прозвучат трубы. На третий раз рыцари должны выехать на мост и встретиться на его середине. Далее они могут биться, как угодно, на коне или пешком, копьями, мечами или кинжалами; побежденный не получит пощады. Если его живого принесут с моста, он будет сброшен в пропасть.
Таково повеление аль-Джебала.
Коня Вульфа повели к мосту, с противоположного края вывели вороного Лозеля.
— Дай тебе Бог счастья, брат, — сказал Годвин, когда Вульф поравнялся с ним. — Мне жаль, что биться выезжаю не я.
— Может быть, придет и твоя очередь, брат, — мрачно сказал Вульф, приготовляя копье…
С одной из ближайших башен прозвучал первый продолжительный трубный звук; толпа затихла в мертвом молчании. Конюхи хотели осмотреть подпруги, узды, ремни стремян, но Вульф знаком отослал их.
Вторично прозвучали трубы. Вульф вынул из ножен большой меч, который когда-то блистал в руке его отца на иерусалимской стене.
— Ваш подарок, — крикнул он Розамунде, и тотчас в тишине прозвучал ее звонкий ответ:
— Пусть он разит врага, как поражал нападавших в Иерусалиме и как защищал меня в зале Стипля.
И снова наступила тишина, тишина продолжительная и глубокая. Вульф «посмотрел на белую и узкую полосу моста, на черную пропасть, зиявшую по обе ее стороны, на синее небо с золотой луной, потом наклонился и потрепал Дыма по шее.
В третий раз прозвучали трубы; с обеих концов моста, занимавшего протяжение шагов в двести, рыцари поскакали навстречу друг другу, точно живые слитки стали. Вся толпа поднялась, встал даже Сипан. Только Розамунда сидела неподвижно, сжимая руками подушки. Глухо стучали копыта лошадей; кони летели все быстрее, а рыцари все ниже склонялись к седлам. Вот они близко друг от друга… вот встретились. Копья дрогнули, лошади сшиблись, повиснув над бездной; крупный вороной поскакал к внутреннему городу, а Дым помчался к противоположному краю моста.
— Они проскакали, они проскакали! — загремела толпа.
Что это? Лозель закачался в седле, шлем сбит, кровь лилась из его головы, раненной копьем.
— Слишком высоко, Вульф, слишком высоко, — печально сказал Годвин. — Ах, завязки шлема не выдержали!
Воины поймали вороного и повернули его.
— Другой шлем! — крикнул Лозель.
— Нет, — ответил Сипан, — тот рыцарь потерял щит. Новые копья, и только.
Сэру Гюгу дали копье, и под новый взрыв трубных звуков кони опять понеслись по узкой дороге. Они встретились. Лозель упал с седла, но еще держался за поводья; еще один удар отбросил его далеко назад, и он упал на мост. От толчка свалился и вороной конь и лежал, как бьющаяся большая груда.
— Вульф упадет на него, — крикнула Розамунда. Но Дым не упал; чудный конь весь сжался, при ярком лунном свете все видели это, и, понимая, что он не может остановиться, перескочил через упавшую вороную лошадь, через лежавшего всадника и поскакал дальше. Наконец и вороной нашел опору для ног и побежал к отдаленным воротам; Лозель поднялся, собираясь скрыться.
— Стой, стой, трус! — завыла толпа; он услышал, обнажил меч и остановился. Дым сделал три больших прыжка, Вульф осадил его и повернул на задних ногах.
— Бей его! — закричала толпа, но Вульф не двигался, не желая нападать на рыцаря без лошади; наконец он сам соскочил с седла и пешком пошел к Лозелю; Дым бежал за ним, как собака, по дороге д'Арси бросил свое копье и обнажил большой меч с крестообразной ручкой. И снова все замерло; вдруг тишину нарушил крик Годвина: «Д'Арси! Д'Арси!»
— Д'Арси, д'Арси! — послышалось с моста, и слабое эхо в глубине рва повторило голос Вульфа, Годвин обрадовался: он понял, что его брат невредим и силен.
Вульфу недоставало щита, Лозелю шлема; их силы были равны. Они согнулись, мечи блеснули в лунном свете, до слушателей долетал звон стали о сталь, звон непрерывный. Один удар упал на кольчугу Вульфа, он шатнулся назад. Еще удар, еще и еще, и он все отступал, все отступал к краю моста, пока не натолкнулся на коня, который стоял позади него; тут, казалось, он нашел опору. Произошла перемена. Вульф кинулся вперед и обеими руками взмахнул мечом. Удар опустился на щит Лозеля и разделил его на две половины; в тишине послышалось, как верхняя его часть упала на камни. Сам Лозель пошатнулся, опустился на колено, поднялся и, в свою очередь, ударил мечом. Но Лозель шатался и отступал и наконец с громким стоном упал от страшного удара, направленного в голову, но попавшего на плечо: он лежал, как бревно, и свет месяца облил его руку в железной перчатке, поднятую с просьбой о пощаде.
С крыш, со стен террасы, с высоких ворот и укреплений послышались крики, походившие на раскаты грома: «Убей, убей его!»
Сипан поднял руку; все смолкло, и великий ассасин тонким голосом прокричал:
— Убей его. Он побежден.
Но Вульф стоял, склоняясь над рукояткой своего меча и смотрел на павшего врага. Он, казалось, говорил с ним; Лозель поднял меч, который лежал подле него, и подал его д'Арси. Вульф высоко с торжеством взмахнул им над головой, потом с криком бросил далеко от себя в пропасть; лезвие блеснуло, как дуга горящего света, потом все исчезло. И, не обращая больше внимания на побежденного, Вульф повернулся и пошел к своему Дыму, но едва сделал несколько шагов, как Лозель вскочил с кинжалом в руках.
— Обернись! — крикнул Годвин; зрители же, довольные тем, что бой еще не окончился, радостно закричали. Вульф услышал Годвина и повернулся. В ту же минуту кинжал Лозеля ударил его в грудь, и хорошо было для него, что его кольчуга оказалась крепкой. Биться мечом не было ни места, ни времени, но раньше, чем Лозель успел ударить Вульфа вторично, руки д'Арси обняли стан рыцаря-предателя, и началась борьба.
Они отступали, наклонялись, крутились, как вихрь, так что никто не мог сказать, где Вульф, где его враг. Наконец оба очутились над бездной и остановились, как каменные. Один начал наклоняться вниз, его голова уже повисла над бездной… Все дальше и дальше клонился он; противник не мог разжать его рук…
— Оба упадут, — радостно крикнула толпа.
Блеснул кинжал, раз, два, три раза сверкнул он, борцы разделились, и вот из глубокой пропасти донесся стук упавшего тела.
— Который, о, который? — вскрикнула Розамунда с крыши ворот.
— Сэр Гюг Лозель, — торжественным голосом ответил Годвин. Голова Розамунды упала на грудь, и несколько мгновений казалось, будто она спит.
Вульф подошел к своему коню, повернул его и, обняв обеими руками его шею, отдыхал. Потом снова вскочил в седло и медленно двинулся к воротам внутреннего города. Годвин выехал ему навстречу.
— Ты храбро бился, брат, — сказал он. — Ты ранен?
— Ушиблен и устал, больше ничего, — ответил Вульф.
— Хорошее начало. Теперь нужно выполнить остальное, — шепнул Годвин и, взглянув через плечо, прибавил: — Смотри, Розамунду уводят, но Сипан остался, вероятно, желает поговорить с нами, так как Масуда машет нам рукой.
— Что делать? — спросил Вульф. — Придумай, брат, потому что у меня голова кружится.
— Мы выслушаем, что он скажет; потом по моему сигналу поскачем, как сказала Масуда. Выбора нет. Но притворись раненым.
Впереди ехал Годвин; толпа ревела, приветствуя победителя. Д'Арси остановились на открытой площадке перед воротами, аль-Джебал сказал им через Масуду;
— Это был благородный бой. Я не думал, чтобы франки могли биться так хорошо. Скажи, господин рыцарь, хочешь ли ты попировать со мной в моем дворце?
— Благодарю тебя, властитель, — ответил Вульф, — но мне нужно отдохнуть, и я прошу брата перевязать мои раны. — И он указал на кровь, черневшую на его кольчуге. — Если тебе угодно — завтра.
Сипан посмотрел на д'Арси, поглаживая бороду, и братья ожидали рокового ответа. Он прозвучал:
— Хорошо, пусть так и будет. Завтра я женюсь на Розе Роз, и вы, ее братья, как подобает, передадите ее мне. — Он осклабился. — Тогда же вы получите награду за вашу храбрость, великую награду, обещаю вам.
Пока аль-Джебал говорил, Годвин, глядя на небо, подметил маленькое облачко, наплывавшее на луну. Оно на мгновение совсем ее закрыло, и стало темно.
— Теперь, — шепнул он Вульфу, и, отвесив по поклону аль-Джебалу, д'Арси проехали под воротами, где толпился народ, задерживая эскорт братьев. Годвин и Вульф шепнули несколько слов Огню и Дыму, и лошади рядом понеслись вперед, разбрасывая толпу, как корабли воду. Через десять сажен толпа стала редкой, через тридцать — она осталась позади, потому что все сбегались к арке, откуда они могли видеть скачку. Братья летели до поворота налево; тут при слабом свете они исчезли из глаз наблюдающих.
— Вперед, — сказал Годвин, дернув за повод. И лошади полетели еще быстрее. Опять Годвин сделал поворот, и д'Арси очутились на дороге к саду; замок для гостей остался слева от них; между тем свита братьев отправилась по главной улице внутреннего города, думая, что рыцари едут впереди. Через три минуты братья уже были в пустынных садах, где в эту ночь не белели фигуры женщин и спящих в палатках.
— Вульф, — сказал Годвин, — обнажи меч и приготовься. Помни: может быть, тайную пещеру охраняют, а если так, мы должны убить стражу или будем убиты сами.
В следующее мгновение два длинных лезвия заблестели в свете луны, так как облачко прошло дальше. Вот и утес; между ним и курганом показались двое часовых. Они услышали звук копыт и, повернувшись, заметили двух вооруженных рыцарей, вихрем мчавшихся на них. Они приказали им остановиться, не зная, что делать, и остановились сами, точно спрашивая себя, не видение ли перед ними,
В одну минуту братья были подле воинов. Федаи подняли копья, но раньше, чем они успели бросить их, меч Годвина упал между шеей и плечом одного из ассасинов и проник до его грудной кости; Вульф, действуя своим мечом, как копьем, пронзил другого насквозь; оба мертвые упали подле дверей кургана, так и не узнав, кто поразил их.
Братья натянули поводья, велели Огню и Дыму остановиться, потом повернули их и соскочили с седел.
Один из убитых воинов еще сжимал мертвой рукой поводья своей лошади, другая стояла и фыркала. Годвин поймал ее раньше, чем она успела уйти, потом, взяв поводья всех четырех животных, бросил ключ Вульфу. Вскоре дверь была открыта; Годвин вводил коней одного за другим в двери подземелья, это не представляло затруднений — лошади привыкли к конюшням в пещерах.
— Что делать с мертвыми? — спросил Вульф.
— Лучше всего взять их сюда, — ответил Годвин и, выбежав из кургана, перенес в подземелье сначала один, потом другой труп.
— Скорее, — сказал он, бросив второе тело. — Закрой дверь. Между деревьями мелькнули всадники. Но они не заметили ничего.
Тяжелая, толстая дверь закрылась; ее задвинули засовом. Братья с замиранием сердца ожидали, что вот-вот воины ударят в створку бревнами, как таранами, но не послышалось ни звука. Если ехавшие воины действительно искали их, они отправились в другое место.
Вульф привязал лошадей подле открытого конца подземелья, а Годвин собрал самые большие камни, какие только мог поднять, и подкатил их к двери. Теперь братья знали, что многим людям придется делать усилия целый час или больше, чтобы ворваться в курган. Дверь была окована железом и вделана в целую скалу.
III. БЕГСТВО В ЭМЕССУ
Наступило долгое, скучное ожидание. Вода сочилась по стенам пещеры, и Вульф, губы которого растрескались от жажды, собрал ее в пригоршню и пил, пока не утолил жажды, потом подставил под струи голову, чтобы освежить ее; Годвин омыл ушибы и раны брата, которых мог коснуться, не снимая его кольчуги.
Осмотрев седла и лошадей, Вульф рассказал Годвину все, что случилось во время боя.
— Но знаешь, — закончил Вульф отчет о последней рукопашной борьбе, — я никогда не забуду его, человека, который падал с моста, и свистящего вопля, вырвавшегося из его шеи, проколотой моим кинжалом…
— Все же теперь стало одним злодеем меньше, хотя по-своему он был храбрым человеком, — ответил Годвин. — Кроме того, брат, — прибавил он, обвив рукою шею Вульфа, — я рад, что именно на твою долю выпала судьба сражаться с ним: во время последней рукопашной борьбы у меня недостало бы силы победить его. Хорошо также, что ты оказал ему милосердие, так и следовало поступить рыцарю; ты добился великой чести, и, вероятно, наш покойный дядя гордится тобой.
Они стали ходить взад и вперед, чтобы разбитое тело Вульфа не онемело под кольчугой. Время медленно ползло, луна склонялась к горам.
— Что, если они не придут? — спросил Вульф.
— Об этом подумаем, когда встанет заря, — ответил Годвин.
И опять они ходили взад и вперед по пещере.
— Как они могут прийти, когда дверь заперта, закрыта на засов и засыпана камнями? — снова спросил Вульф.
— Как приходила и уходила Масуда, — ответил Годвин. — О, не спрашивай меня больше, все в руках Божьих.
— Посмотри, — шепотом сказал Вульф. — Кто это стоит в конце пещеры, там, подле мертвых ассасинов?
— Может быть, их призраки, — ответил Годвин, обнажая меч и наклоняясь. Действительно, подле мертвых виднелись две фигуры, слабо рисовавшиеся во мраке. Вот они скользнули вперед; лунные лучи, косо проникавшие в пещеру, заиграли на белых платьях и на драгоценностях.
— Я не вижу их, — сказал чей-то голос. — О, эти мертвые воины! Что это значит?
— Вот, по крайней мере, их лошади, — ответил другой голос.
Теперь братья поняли и, как во сне, выступили из тьмы.
— Розамунда, — сказали они.
— О, Годвин, о, Вульф! — вскрикнула она. — О, Иисус, благодарю тебя. Благодарю тебя и эту бесстрашную женщину. — И, обвив руками шею Масуды, она поцеловала ее.
Но Масуда оттолкнула ее и сказала:
— Вашим чистым губам, принцесса, не годится касаться женщины ассасинки.
— Я должна, — со слезами сказала Розамунда, — благодарить вас, потому что без вашей помощи сделалась бы сама женщиной ассасинкой или жительницей дома смерти.
Тогда Масуда поцеловала ее и, пододвинув девушку к Вульфу, сказала:
— Итак, пилигримы Петер и Джон, ваши святые до сих пор помогали вам; вы, Джон, сражались хорошо. Не прерывайте меня и не спрашивайте, что было с нами, если хотите, чтобы мы остались живы и могли после рассказать вам все. Да вы захватили и лошадей солдат? Очень хорошо! Ну, сэр Вульф, вы в силах идти? Тем лучше, это избавит вас от трудного спуска верхом; здесь круто, хотя и не такая крутизна, какую вы уже видели; посадите принцессу на Огня; нет кошки, которая отличалась бы большей ловкостью, чем этот конь. Его поведу я. Вы, Джон, ведите лошадей солдат; Петер последует за вами с Дымом. Идите, если кони станут пятиться, колите их мечом. Иди, Огонь, не бойся, где иду я, там пройдешь и ты. — И Масуда вышла на крутой спуск, время от времени ласково говоря с лошадью.
Через минуту все уже спускались по такой крутой гряде, что каждую минуту, казалось, можно было свалиться в пропасть. Но никто не падал: дорога была устроена именно для тайного бегства и оказалась безопаснее, чем можно было думать, глядя сверху; в самых трудных местах на ней высекли зарубки вроде ступеней. Ниже и ниже спускались беглецы, наконец, запыхавшиеся, но целые и невредимые, они остановились в темной глубине пропасти, освещенной только звездами, потому что лучи низко стоявшей луны не могли проникать в нее.
— На коней, — шепнула Масуда. — Принцесса, вы останьтесь на Огне; это самая верная, самая быстрая лошадь. Сэр Вульф, поезжайте на вашем Дыме, ваш брат и я сядем на лошадей воинов. Конечно, они не очень ходки, но все же славные животные и привыкли к здешним дорогам. — И она с ловкостью женщины, родившейся и выросшей в пустыне, вскочила в седло и поехала вперед.
С милю или больше они двигались по каменистому дну пропасти и из-за камней могли ехать только шагом; наконец с левой стороны показалось узкое ущелье, и беглецы стали подниматься по нему. Луна совершенно спряталась за горы; облака затемняли слабый свет звезд. Но путники ехали вперед до маленькой поляны, орошенной речкой и покрытой травой.
— Остановитесь, — сказала Масуда. — Тут мы должны подождать до зари, потому что в такой темноте лошади непременно споткнутся о камни. Кроме того, повсюду пропасти, в которые легко упасть.
— Но они погонятся за нами, — с мольбой сказала Розамунда.
— Только когда достаточно рассветет, — ответила Масуда. — Во всяком случае, нам надо подождать, потому что ехать безумие. Сядьте и отдохните. Напоим лошадей и дадим им пощипать траву, но будем держать их за поводья. И нам, и им, вероятно, понадобятся все силы до завтрашнегозаката. Сэр Вульф, скажите, вы сильно ранены?
— Нет, слегка, — бодро ответил он, — несколько синяков под кольчугой, вот и все. Пожалуйста, расскажите нам теперь, что случилось после того, как мы уехали от моста.
— Вот что случилось, рыцари. Принцесса обессилела, и невольницы отнесли ее в ее помещение. Мне Сипан велел остаться с ней; он хотел поговорить с вами. Вы знаете, что он задумал? Убить вас обоих, так как Лозель сказал ему, что вы не братья принцессы. Он боялся только взволновать народ, которому понравился бой, а потому сдержался. Он пригласил вас к ужину, но вы не вернулись бы с этого пира; когда сэр Вульф сказал, что он ранен, я шепнула Сипану, что его намерения лучше отложить до следующего дня, что убить вас будет удобнее в его собственном замке, среди телохранителей. «Да, — ответил он. — Этим братьям придется драться с федаями, и мои воины не загонят их в ров; это будет хорошее зрелище для меня и моей королевы».
— Ужасно, ужасно, — сказала Розамунда.
А Годвин пробормотал:
— Клянусь, я дрался бы только с одним Сипаном.
— Вот почему он позволил вам уехать, — продолжала Масуда, — я тоже ушла, но он велел привести к нему принцессу после нашего ужина, желая поговорить с ней наедине о свадебном пиршестве и поднести ей дары. Я ответила, что его приказание будет исполнено, и побежала в замок для гостей. Госпожа Роза Мира уже оправилась от обморока, но была вне себя от страха, я принудила ее поесть и напиться. Остальное коротко.
Через два часа пришел гонец и сказал, что аль-Джебал ждет.
«Вернись, — ответила я, — принцесса одевается. Мы придем одни, как велел властитель…» Я накинула на нее плащ, посоветовала ей мужаться, взяла кольцо покойного аль-Джебала, показала его рабам, которые с поклоном пропустили нас. Мы пришли к воинам у дверей; также и им показала я перстень. Они поклонились, но, увидев, что мы повернули в левый коридор, а не в правый, который ведет к дверям внутреннего дворца, вздумали остановить нас. «Посмотрите на печать, — ответила я, — не все ли вам равно, какую дорогу избрал великий знак власти». Тогда они отступили. Мы вышли из дома гостей, и я привела принцессу к тюремной башне, оттуда идет тайный ход.
У дверей стояла стража; я от имени Сипана велела воинам пропустить нас. Они ответили: «Мы не повинуемся. Этот ход откроется только перед печатью». — «Вот она», — ответила я.
Начальник отряда посмотрел на перстень и сказал: «Да, это священная печать, и другой нет», — но все же колебался пропустить нас. «Значит, тебе надоела жизнь? — спросила я. — Безумец, сам аль-Джебал войдет сюда тайно из дворца. Горе тебе, если он не встретит принцессы». — «Значит, он сам прислал печать?» — спросил начальник отряда. Я ответила утвердительно. «Открой, открой». — зашептали его воины. Открыли дверь. Мы вошли в подземный коридор: я за собой закрыла дверь на засов. В темноте под фундаментом башни, ощупывая стену, мы проскользнули к началу хода, тайну которого я знала; прошли по всей длине галереи и через дверь в скале, которую я закрыла так, что ее не откроет никто, кроме искусных каменщиков; затем пробрались мы в пещеру, где вы уже ждали нас.
С печатью это было нетрудно, но без печати мы не бежали бы.
Сегодня все входы и выходы охраняются.
— Нетрудно! — сказала Розамунда. — О, Годвин и Вульф, если бы вы только знали, как она все подготовила; если бы вы только видели, как все эти жестокие люди смотрели на нас, точно заглядывая к нам в душу. Если бы вы слышали, как высокомерно она отвечала им, помахивая кольцом перед их глазами, говоря, чтобы они повиновались или готовились к смерти.
— А теперь они, вероятно, убиты, — прервала ее Масуда. — Но я не жалею их: это были злодеи. Нет, не благодарите меня; я только исполнила данное обещание, ни больше ни меньше; и кроме того, я ведь люблю опасности. Теперь расскажите мне вашу историю, сэр Годвин.
И он рассказал обо всем, что случилось с ними, благодаря небо за то, что они вышли из проклятых стен.
— Вы можете очутиться в Масиафе до заката, — мрачно сказала Масуда.
— Да, — ответил Вульф, — но живыми мы не дадимся. Скажите, Масуда, что вы придумали? Добраться до прибрежных приморских городов?
— Нет, — ответила Масуда, — нам пришлось бы ехать через страну ассасинов. Нет, мы пересечем пустынные горные страны и направимся к Эмессе, отстоящей на много миль отсюда, доедем до Баальбека, а потом вернемся в Бейрут.
— В Эмессу? — сказал Годвин. — Да ведь этим городом владеет Салахеддин, а леди Розамунда принцесса Баальбека.
— Что лучше, — спросила Масуда, — чтобы она попала в руки Салахеддина или вернулась к великому ассасину? Выбирайте…
— Я выбираю Салахеддина, — прервала ее Розамунда, — потому что он, по крайней мере, мой дядя. — И остальные не противоречили ей…
Уже начал заниматься летний день, но было все еще слишком темно, а потому Годвин и Розамунда дали лошадям пастись, держа их за поводья. Масуда, сняв кольчугу Вульфа, постаралась облегчить его раны размельченными листьями куста, который рос подле потока. И в короткое время сильно помогла юноше. Когда забрезжил серый свет, путники напились воды, поели кресс-салата, который рос подле реки, подтянули подпруги и пустились в путь. Едва отъехали они ярдов на сто, как из пропасти, закрытой серой дымкой тумана, до них донесся топот лошадиных копыт и звуки голосов.
— Вперед, — сказала Масуда, — по нашим следам скачут слуги аль-Джебала.
Они ехали по краям страшных пропастей и наконец очутились на большой плоской возвышенности, террасами поднимавшейся к подножию гор, которые стояли приблизительно милях в двенадцати. На середине горного хребта виднелись две вершины. Масуда указала ни них, сказав, что к ним-то и направятся они, так как по ту сторону лежит долина Оронта. В это время позади, в густом тумане, послышался конский топот.
— Вперед, — сказала Масуда. — Нельзя терять времени. — И они поехали дальше, но небольшим галопом, потому что почва была очень неровная.
Когда до горного прохода оставалось приблизительно шесть миль, поднялось солнце и рассеяло туман. И вот что увидели беглецы. Перед ними расстилалась песчаная плоская равнина. Позади лежали груды камней, и приблизительно в двух милях за ними двигалось человек двадцать ассасинов.
— Они не догонят нас, — сказал Вульф, но Масуда указала ему рукой в правую сторону, где еще стоял туман, и заметила:
— Вот там я вижу копья.
Туман растаял, и беглецы различили отряд конных воинов, состоящий приблизительно из четырехсот человек.
— Как я и думала, они ночью сделали обход, — сказала Масуда. — Теперь нам нужно переправиться через кряж раньше их, или они нас поймают. — И она сильно ударила свою лошадь веткой, которую срезала подле потока. Когда они проскакали около полумили, громкие крики большого отряда с правой стороны и ответный клич федаев, ехавших позади, указали беглецам, что они замечены.
— Вперед! — сказала Масуда. — Они погонятся за нами.
И беглецы понеслись. Две мили проскакали они, отряд остался далеко позади, но большое облако пыли с правой стороны все приближалось, можно было подумать, что оно достигнет входа в проход раньше их. Тогда Годвин сказал:
— Вульф и Розамунда, поезжайте вперед. Ваши лошади быстры и обгонят их. На гребне дайте им немного вздохнуть и посмотрите, не едем ли мы; если нет, скачите дальше, и да будет с вами Бог.
— Да, — сказала Масуда, — направляйтесь к эмесскому мосту, его можно видеть издали, а там сдайтесь начальникам войск Салахеддина.
Розамунда и Вульф не двигались, но Годвин сурово сказал им:
— Поезжайте, я приказываю.
— Хорошо, ради Розамунды, — ответил Вульф, и они помчались быстрее ласточек. Годвин и Масуда, скакавшие позади них, увидели, как они въехали в начало ущелья.
— Хорошо, — сказала она. — Кроме лошадей одной крови с Огнем и Дымом, в Сирии не найдется ни одного коня, который мог бы поспеть за ними. Не бойтесь, сэр Годвин, они доедут до Эмессы.
— Кто тот человек, который привел их нам? — спросил Годвин, который скакал, не спуская глаз с приближавшегося к ним облака пыли, усеянного блестящими остриями копий.
— Брат моего отца, мой дядя, как я и сказала вам, — ответила Масуда. — Он шейх пустыни и держит табун лошадей старинной крови, которых нельзя купить за золото.
— Значит, вы не ассасинка, Масуда?
— Нет, теперь я могу сказать вам это, так как, по-видимому, конец близок. Мой отец был араб, моя мать благородная франкская жанщина, француженка. Он нашел ее в пустыне после сражения; она умирала от голода. Отец привел ее в свой шатер и вскоре женился на ней. На нас напали ассасины, убили отца и мать, а меня, двенадцатилетнего ребенка, взяли в плен.
Позже, когда я стала постарше, я была красива в те дни, меня отвели в гарем Сипана, и, хотя моя мать тайно внушила мне правила христианской религии, он заставил меня принять проклятую веру ассасинов. Теперь вы понимаете, почему я так ненавижу убийцу моего отца и матери, который заставил меня подчиниться себе. Да, меня принудили служить шпионкой, в противном случае грозя смертью, а между тем мне, которую Сипан считал своей верной рабой, перед смертью хочется отомстить ему. Не презираете ли вы меня за это?
— Я не считаю вас низкой, — сказал Годвин, продолжая шпорить своего тяжелого коня, — я нахожу, что вы благородны.
— Как я рада, что слышу это перед смертью, — ответила она, — вы дороги мне, сэр Годвин, и потому-то я решилась на все, хотя для вас я ничто… Нет, не говорите: леди Розамунда рассказала мне все, кроме окончательного ответа…
Теперь песчаная полоса осталась позади них, они начали подниматься на откос горы, и Годвин радовался, что стук копыт мешал продолжению этого разговора. До сих пор они держались впереди ассасинов, которым нужно было преодолеть более длинную и трудную дорогу; однако большое облако пыли виднелось всего в каких-нибудь семистах ярдах от них, и впереди, потряхивая копьями, скакали лучшие наездники на очень хороших конях.
— Эти лошади еще сильны, они лучше, чем я думала, — крикнула Масуда, — на горах они не нагонят нас, но после…
Следующую милю они совсем не разговаривали; им приходилось поддерживать лошадей, готовых упасть на крутой тропинке. Наконец Годвин и Масуда очутились на гребне и увидели Вульфа и Розамунду, которые стояли подле Дыма и Огня.
— Они отдыхают, — сказал Годвин и тотчас же крикнул: — На лошадей, на лошадей, враги близко!
Вульф и Розамунда снова сели в седлати все четверо начали спускаться по длинному откосу горы. Вдали низменность прорезывала широкая серебристая полоса, а за нею можно было видеть городские стены.
— Это Оронт, — сказала Масуда, — на его противоположном берегу мы будем спасены.
Но Годвин посмотрел на свою лошадь, потом на Масуду и покачал головой. И немудрено: лошади, без остановки мчащиеся столько времени, утомились. На крутом спуске они спотыкались, задыхались; по временам бывало трудно удерживать их на ногах.
— Мы доедем только до долины, — сказал Годвин, и Масуда утвердительно кивнула головой.
Спуск почти окончился; менее чем в миле позади беглецов лился бесконечный поток белых ассасинов. Годвин пустил в ход шпоры, Масуда хлыст, но оба мало надеялись: они знали, что конец близится. Они въехали в последнюю впадину почвы; вдруг лошадь Масуды зашаталась, остановилась и упала на землю, конь Годвина тоже остановился.
— Вперед, — крикнул Годвин Розамунде и Вульфу, но те не двигались. Он кричал на них, сердился; они же отвечали:
— Нет, нет, мы умрем все вместе.
Масуда посмотрела на Огня и Дыма, которые, казалось, мало утомились, и сказала:
— Сядьте перед госпожою Розамундой, сэр Годвин, а вы, сэр Вульф, дайте мне вашу руку; вы увидите, на что способны кони чистой арабской крови!
И Огонь и Дым понеслись вперед; ассасины, которые думали, что беглецы уже у них в руках, разразились воплями бешенства.
— Их лошади тоже устали, и мы все-таки, может быть, уйдем! — крикнула бесстрашная Масуда; но Годвин и Вульф печально смотрели на широкое пространство равнины, отделявшее их от реки. Они поскакали дальше. Вот уже четверть расстояния осталась позади; вот половина, но теперь первые из федаев виднелись всего ярдах в двухстах и мало-помалу приближались. Наконец подскакали ярдов в пятьдесят, и один из них бросил копье.
— Пришпорьте коней, рыцари! — крикнула Масуда, и д'Арси в первый раз коснулись своих коней острыми шпорами.
Почувствовав укол стали, Дым и Огонь прыгнули вперед с такой быстротой, точно их только что вывели из дверей конюшни; расстояние между беглецами и преследователями увеличивалось. Так пролетели они две милы, и вот в каких-нибудь семи саженях перед ними показалось широкое начало моста; на противоположном берегу реки вырисовывались башни Эмессы так ясно, что на них можно было различить часовых. Скоро беглецы спустились в маленькую ложбину; теперь мост и город исчезли у них из виду. При подъеме на новую возвышенность лошади стали наконец уставать под своей двойной ношей. Они задыхались, дрожали и, пришпоренные, делали только несколько коротких прыжков. Ассасины видели это и летели с диким криком; они приближались, и топот копыт их лошадей звучал, как гром. Они снова были всего в пятидесяти ярдах от беглецов… Вот это расстояние уменьшилось до тридцати, снова полетели копья, однако ни одно не попало в цель. Масуда что-то крикнула лошадям, и они, собрав силы, пустились по откосу короткими судорожными прыжками. Годвин и Вульф переглянулись, потом сразу задержали коней, соскочили на землю, обернулись и обнажили мечи.
— Вперед! — крикнул д'Арси, и, почувствовав более легкую ношу, лошади понеслись дальше. Ассасины подскакали.
Вульф нанес страшный удар и сбил с седла первого из них, но его самого свалили на землю. Падая, он услышал радостный крик и, поднявшись на колено, оглянулся. К ним летел отряд наездников в тюрбанах; наклонив копья, воины эти громко кричали:
«Салахеддин! Салахеддин!» Ассасины тоже увидели противников и повернулись, чтобы обратиться в бегство.
— Коня, коня! — по-арабски закричал Годвин, сам не зная как, очутился в седле и понесся вместе с сарацинами.
Вульфу тоже подвели лошадь, но он не мог удержаться на ней. Трижды он пробовал сесть в седло, но каждый раз падал на спину, на песок, размахивая мечом. Подле него стояла Масуда с кинжалом в руке и рядом с нею коленопреклоненная Розамунда.
Теперь преследователи превратились в преследуемых. Многих федаев убили на конях; некоторые из них сошли с лошадей и маленькими группами бились насмерть. Очень немногих взяли в плен. Только нескольких человек уцелело и вернулось в твердыню Властителя Гор, чтобы рассказать ему, чем окончилась их погоня за его невестой.
К Вульфу подъехал Годвин с красным мечом в руках. Рядом с ним был невысокий человек с блестящими глазами и в великолепной одежде. При виде его Розамунда вскочила и с легким криком обняла его:
— Гассан, принц Гассан! Это вы! О, слава Богу! — И если бы Масуда не поддержала ее, она упала бы.
Эмир посмотрел на Розамунду, на ее распустившиеся волосы, на испачканное лицо, разорванное покрывало, на ее шелковое платье и драгоценности, которыми ее покрыли, как нареченную невесту аль-Джебала, опустился на одно колено и коснулся подола ее платья.
— Слава Аллаху, — сказал он. — Я, его недостойный раб, от сердца благодарен ему, так как уже не думал увидеть вас в живых. Воины! Перед вами Роза Мира, принцесса Баальбекская и племянница вашего повелителя Салахеддина!
И вот в виде салюта перед растрепанной, но все еще царственной девушкой поднялись руки, копья и сабли, а Вульф, лежавший на земле, крикнул:
— Как? Да ведь это наш купец-виноторговец! А не стыдно вам вспоминать, что вы продали нам отравленное вино?
Эмир Гассан вспыхнул и пробормотал:
— Как и вы, сэр Вульф, я только раб судьбы и должен повиноваться. Не питайте зла против меня, раньше узнайте все.
— Я не сержусь, — ответил Вульф, — но я всегда плачу за выпитое вино… и мы еще сведем с вами счеты.
— Не надо ссориться, — сказала Розамунда, — правда, он украл меня, но он также мой освободитель и друг, и не будь его… — Она вздрогнула.
— Принцесса, мне кажется, вы должны благодарить не меня, а ваших храбрых двоюродных братьев и этих великолепных лошадей. — И Гассан указал на коней, которые стояли, дрожа всем телом, и тяжело водили впалыми боками.
— Я должна благодарить также вот и эту благородную женщину, — сказала Розамунда, обнимая шею Масуды.
— Мой господин наградит ее, — заметил Гассан. — Конечно, вы должны осуждать меня за то, что я оставил вас. Но я сказал себе: в замке сына сатаны Сипана я не могу помочь вам.
Поэтому я подкупил франкского раба, обещав ему звезду моего дома (принц дотронулся до драгоценности, сиявшей на его тюрбане), и все деньги, которые были у меня в руках. Когда он развязал веревки и наклонился над золотом, я заколол шпиона его же собственным ножом! Сегодня утром я пришел к тому городу с десятитысячным войском, намереваясь идти на Сипана и спасти вас, а в худшем случае хотя бы отомстить за вашу гибель: посланники Салахеддина передали мне вашу просьбу… Час тому назад часовые на башнях сказали, что они видят двух лошадей, мчащихся по равнине и несущих по двое седоков, что за ними гонятся ассасины; я перешел через мост и ждал, не думая, что мчитесь вы. Я просто хотел напасть на ассасинов. Теперь, — мрачно прибавил он, — за вас отомщено хорошо.
— Можно отомстить еще полнее, — сказал Вульф, — покажу вам тайный ход в крепость, а если не я, то Годвин, вы можете выгнать Сипана из его собственного замка!
Гассан покачал головой и ответил:
— Я бы с удовольствием сделал это, потому что мой господин давно враждует с Сипаном-волшебником. Но теперь у Салахеддина иные дела, — и он многозначительно посмотрел на Вульфа и Годвина, — и мне было приказано только спасти принцессу: она спасена, ассасины дорого поплатились за ее страдания! Но предупреждаю вас всех и себя тоже: федаи Сипана будут следить за каждым из нас, надеясь покончить с нами. Вот и носилки: сядьте в них все; вас отнесут в город. Сегодня вы достаточно ездили верхом! Не опасайтесь за этих лошадей: их отведут в Эмессу и постараются сохранить живыми.
В цитадели беглецам дали напиться ячменного отвара и вина, а коней медленно провели в крепость, уложили на густые соломенные подстилки, предлагая им корм, который они от усталости стали есть не сразу. Утолив голод, Розамунда, Масуда, Годвин и Вульф разошлись по своим помещениям и легли в постели, искусный доктор перевязал раны Вульфа. И целых два дня никто из них не поднимался, так были они слабы и утомлены.
IV. СУЛТАН САЛАДИН
На третье утро Годвин, проснувшись, увидел через стрельчатое окно лучи восходящего солнца, которые освещали другую постель рядом; на ней спал Вульф, перевязка окружала его голову, раненную в последней стычке с ассасинами, другие повязки виднелись на его руках и туловище, исколотом во время боя на ужасном мосту.
С удивлением смотрел Годвин, как крепко спит его брат, несмотря на раны, и раздумывал о промысле Божьем, который руководил ими с самого их приезда в Бейрут.
Наконец проснулся и Вульф, потянулся и слегка вскрикнул: движение причинило ему боль; он проворчал, что слишком светло, и попросил брата дать ему поесть, так как он очень голоден; потом он с помощью Годвина оделся, но не в кольчугу. Тут благодаря воинам Саладина, которые день и ночь караулили, чтобы к д'Арси не пробрались ассасины, незачем было защищать себя стальными бронями. Вульф услышал шаги часовых и передернул широкими плечами.
— От этого звука холод бежит у меня по спине, — сказал он. — В первую минуту, когда я открыл глаза, мне показалось, что мы снова в доме аль-Джебала, там, где люди прокрадывались к нам, пока мы спали, и убийцы шмыгали взад и вперед мимо занавесей. Ну, что бы ни случилось дальше, я благодарю святых за то, что мы не у него. Говорю тебе, брат, с меня достаточно гор, узких мостов и ассасинов! Теперь мне хотелось бы жить на равнине, без единого пригорка, посреди честных людей, глупых, как их собственные овцы, среди простаков, которые по воскресеньям ходят в церковь и напиваются, но не гашишем, а коричневым элем. Мне хотелось бы увидеть соленые болота Эссекса, почувствовать дыхание восточного ветра… Тебе предоставляю ароматные сады Сипана, кубки и драгоценности, а также бои и приключения золотого Востока.
— Я никогда не стремился ни к чему подобному, — сказал Годвин.
— Нет, — сказал Вульф, — ты не стремился, но… А что делает Масуда? Видел ли ты ее, пока я спал?
— Я видел только аптекаря, который лечил тебя, невольников, приносивших нам еду, а вчера вечером принца Гассана, сказавшего, что Розамунда и Масуда спят так же крепко, как ты.
— Я рад, — сказал Вульф, — они заслужили отдых. Клянусь святым Чедом, что за женщина эта Масуда! У нее пламенное сердце и стальная воля. И красива она, очень красива. А как ездит верхом! Если бы не она… я горячо люблю ее. А ты, Годвин? Ты ее тоже любишь?
— Нет, — коротко ответил Годвин.
— Я рад, что она так мало думает обо мне, — продолжал Вульф, — а между тем я преклоняюсь перед ней, как перед святой, — прибавил он со смехом. — Но слушай: часовые салютуют. — И, забыв, где он, Вульф обнажил свой меч.
Дверь отворилась, и в комнату вошел эмир Гассан, он приветствовал братьев во имя Аллаха и спокойно оглядел их.
— Немногие угадали бы, рыцари, — с улыбкой сказал он, — что вы были гостями Властителя Гор и так быстро тайно ускользнули из его дома. Через три дня вы будете так же сильны, как при нашей первой встрече подле бухты Смерти. О, вы храбрецы, хотя и неверные; но я надеюсь, пророк выведет вас из заблуждения. Вы истый цвет рыцарства! Я, Гассан, хорошо знаю франков и франкские обычаи, а потому говорю от чистого сердца. — И, поднеся руку к тюрбану, он с непритворным восторгом поклонился обоим д'Арси.
— Мы благодарим вас, принц Гассан, за вашу похвалу, — сказал Годвин; Вульф же сделал шаг вперед, взял руку эмира и сильно пожал ее.
— Дурную шутку сыграли вы с нами, принц, там, в Англии, — заметил он, — и она довела лучшего рыцаря в мире, нашего дядю сэра Эндрю д'Арси, до смерти. Но вы повиновались вашему господину, и ради того, что случилось позже, я прощаю вас и называю своим другом. Впрочем, если мы когда-нибудь встретимся в бою, я все же надеюсь заплатить вам за отравленное вино.
Гассан поклонился и мягко произнес:
— Я глубоко печалюсь, что был причиной смерти благородного рыцаря д'Арси. Когда мы встретимся на войне, сэр Вульф, не щадите меня, я не пожалуюсь, хотя это будет недобрый час для меня… А до тех пор мы друзья. Но довольно об этом; я пришел сказать вам, что принцесса Роза Мира, да благословит Аллах ее стопы, оправилась от усталости и желает через час позавтракать с вами. Пришел доктор перевязать вам ваши раны, а невольники готовы проводить вас в ванну и переодеть.
Кольчуг не нужно, здесь слово Салахеддина и его слуг послужит вам лучшей защитой.
— А все-таки, я думаю, лучше надеть кольчуги, — заметил Годвин, — потому что слово — плохая защита против кинжалов ассасинов, которые, конечно, караулят нас.
— Правда, — ответил Гассан, — я забыл… — Они расстались, и братья стали одеваться.
Через час их провели в залу; скоро в комнату вошла и Розамунда, а с нею Масуда и Гассан. Розамунда была одета в богатый наряд восточной знатной женщины, но драгоценности, которыми ее убрали как невесту аль-Джебала, исчезли. Когда она откинула покрывало, д'Арси увидели, что в ее глазах не было прежнего страха. Розамунда ласково поздоровалась с братьями и поблагодарила сначала Годвина, потом Вульфа за все, что они сделали для нее. Наконец все сели и стали завтракать с легким сердцем.
Во время завтрака часовой при дверях объявил, что явились гонцы от султана. Они вошли; это были седовласые люди в красивых одеяниях. Гассан быстро поднялся с места и поклонился им. Старцы обменялись с ним приветствиями, и один из них подал ему письмо. Поднеся его ко лбу в знак уважения, Гассан передал свиток Розамунде. Она сломала печать, увидела арабские буквы и, в свою очередь, протянула пергамент Годвину, говоря:
— Прочтите его. Вы ученее меня.
И он прочитал вслух, переводя одну фразу за другой:
— «Салахеддин, повелитель верных, сильный в помощи — своей возлюбленной племяннице Розе Мира, принцессе Баальбека.
Наш слуга, эмир Гассан, сообщил нам, что вы, благородная дама, бежали от проклятого Властителя Гор Сипана и находитесь в безопасности в нашем городе Эмессе, а с вами женщина по имени Масуда и ваши родственники, франкские рыцари, воинское искусство и храбрость которых спасли вас. Это письмо повелевает вам приехать к нашему двору в Дамаске, едва вы будете в состоянии пуститься в путь; здесь вас ждет любовь и почет. Я приглашаю также ваших родственников сопровождать вас. Я знал их отца и с удовольствием буду приветствовать рыцарей, совершивших великие подвиги, а с ними и женщину Масуду. Если же им больше хочется вернуться на родину, они все трое могут сделать это.
Спешите, моя племянница Роза Мира, спешите, потому что моя душа жаждет встречи с вами, а мои глаза желают взглянуть на вас. Во имя Аллаха привет».
— Вы слышали, братья? — сказала Розамунда, когда Годвин окончил чтение. — Что вы хотите сделать?
— Конечно, остаться с вами, — ответил Вульф, Годвин в подтверждение кивнул головой.
— А вы, Масуда?
— Я, госпожа? О, я тоже пойду вслед за вами, ведь там, — и она указала головой в сторону гор, — меня ждет недобрая встреча.
— Вы слышали, что они говорят, принц Гассан? — спросила Розамунда.
— Я не ждал иного ответа, — сказал с поклоном принц. — Только, рыцари, вы должны дать мне одно обещание. Его необходимо взять от людей, которые могли, как птицы, улететь из крепости ассасинов на самых быстрых конях Сирии. Обещайте мне, франки, во время этого путешествия не делать попыток бежать с принцессой, за которой вы приплыли из-за моря, чтобы вырвать ее из рук Салахеддина!
Годвин вынул из-под туники крест, который Розамунда оставила ему в Эссексе, сказав:
— Над этим священным символом клянусь, что во время нашего пути в Дамаск я не попытаюсь бежать с моей кузиной Розамундой или без нее. — И он поцеловал святыню.
— А я даю такую клятву над моим оружием, — прибавил Вульф, положив руку на серебряный эфес меча.
— Хорошо, что вы поклялись, — с улыбкой сказал Гассан. — Но и слова вашего было бы достаточно!
Он посмотрел на Масуду и продолжал, улыбаясь:
— Нет, вы не клянитесь, потому что клятва женщины, которая жила среди ассасинов, не имеет значения. Так как все же мой господин пригласил вас, нам придется наблюдать за вами.
И он обернулся к старцам. Годвин, замечавший все, увидел, что темные глаза Масуды обратились на эмира и блеснули.
«Хорошо, — казалось, говорили они, — что ты посеял, то и пожнешь».
В тот же день они поехали к Дамаску среди большого конного войска. В самой середине на носилках несли Розамунду, и тысяча копий охраняла ее. Пред нею ехал принц Гассан с телохранителями в желтых одеждах; рядом с ней Масуда, позади оба д'Арси (несмотря на все свои раны, Вульф не пожелал, чтобы его несли на носилках). Невольники позади них вели в поводу скакунов Огня и Дыма, которые поправились, но шли все еще тяжелыми шагами; дальше виднелись ряды сарацин в тюрбанах. Из-за опущенных занавесей носилок Розамунда знаком подозвала к себе братьев. Они подъехали к ней.
— Посмотрите, — сказала она, протягивая руку.
Они посмотрели по указанному направлению и увидели облитые светом заходящего солнца горы, а далеко на их вершинах — недоступный город и крепость ассасинов; ближе виднелись откосы, по которым они скакали, спасая жизнь; еще ближе сверкала река, обрамленная городом Эмессой. Вдоль его стен блестели копья, и на каждом из них виднелось по черной точке: это были головы ассасинов. На высокой башне вечерний ветер развевал золотое знамя Саладина. Вспомнив все, что она пережила в городе поклонников дьявола, Розамунда вздрогнула.
— Крепость Сипана точно горит, горит точно в адском пламени, — сказала она, глядя на твердыню, окруженную кровавым вечерним светом и черными облаками, похожими на дым. — О, я думаю, так погибнет она.
— Надеюсь, — ответил Вульф.
— Да, — задумчиво прибавил Годвин, — но все же это дурное место принесло нам добро: там мы нашли Розамунду и там ты, мой брат, вышел победителем из такого боя, который, надо надеяться, никогда не повторится для тебя; ты заслужил славу, а может быть… еще что-нибудь большее.
И, осадив лошадь, Годвин поехал позади носилок. Вульф задумался, а Розамунда посмотрела на него мечтательным взглядом.
В этот вечер лагерь раскинули в пустыне; не следующее утро, окруженные племенами бедуинов, они снова двинулись вперед; вторую ночь провели в старинной крепости Баальбек; ее гарнизон и население, узнавшие от скороходов о титулах Розамунды, вышли к ней навстречу как к своей госпоже. Она сошла с носилок, села на чудную лошадь, которую ей в виде подарка выслал город, и выехала вперед; братья в полном вооружении на Огне и Дыме держались по обеим ее сторонам. Отряд мамелюков Саладина двигался позади нее. Суровые люди в тюрбанах поднесли ей на подушке городские ключи; менестрели и воины пошли впереди, сбежались тысячи горожан. Розамунда проехала через открытые ворота, миновала высокие колонны разрушенных храмов, некогда языческих капищ, и пересекла дворы, направляясь к цитадели, окруженной садами, а в прежние века бывшей акрополем римских императоров.
Под портиком Розамунда повернула лошадь и приняла приветствия горожан; и братьям, смотревшим, как величаво она сидела на большом белом коне, окруженная кричавшей, склонявшейся толпой, и видевшим, как сарацинский принц стоял у ее стремени, а целое войско толпилось за нею, думалось, что никто не мог быть величавее, чем эта девушка, которая по капризу судьбы была вознесена так высоко. Но вдруг выражение гордости сбежало с ее лица, а глаза потухли.
— О чем вы думаете, кузина? — спросил Годвин.
— О том, что мне хотелось бы снова быть среди полей Стипля, — ответила она. — Ведь те, кто поднимается так высоко, падают низко. Принц Гассан, скажите предводителям войска и народ, что я всех благодарю, и попросите их разойтись. Мне хочется отдохнуть.
В эту ночь в великолепных старинных залах происходил пир, раздавалось пение, плясали женщины, подносили дары. Баальбек, всегда преклонявшийся перед благородством происхождения и красотой, чествовал свою повелительницу, племянницу великого Салахеддина. Однако некоторые роптали, уверяя, что она принесет несчастье султану и городу Баальбеку благодаря своему наполовину франкскому происхождению и преданности кресту. Но даже эти люди прославляли ее красоту и царственную осанку. Хвалили они также и братьев д'Арси; весть об их подвигах в земле ассасинов переходила из уст в уста. На заре следующего дня путники двинулись из Баальбека в сопровождении войска и многих знатных горожан. Днем они остановились на высотах, с которых открывался вид на Дамаск, «невесту земли», город, расположенный посреди семи потоков, обрамленный садами, самый красивый и, может быть, самый древний в мире. Потом шествие спустилось в плодородную долину и к ночи вступило в ворота Дамаска. Впрочем, большая часть армии раскинула лагерь за чертой города. Медленно ехали остальные по узким улицам, между желтыми домами с плоскими крышами, то посреди разноцветной толпы, собравшейся им навстречу, то по безлюдным улицам; они смотрели на нарядные строения, на мечети с куполами и на статные минареты, которые вырисовывались на темно-синем вечернем небе. Наконец путники выехали на открытую площадку, засаженную деревьями, позади которой виднелся громадный, прихотливо выстроенный замок-дворец Саладина. Во дворе шествие разделилось: важные сановники увели Розамунду, братьев же проводили в их комнаты и там после ванны подали им обед.
Едва успели они поесть, как к ним пришел Гассан и повел по различным коридорам, залам и дворам. Наконец братья очутились перед закрытыми дверями. Воины, стоявшие на часах, попросили рыцарей снять с себя вооружение.
— Не нужно, — сказал Гассан, и воины пропустили д'Арси. Братья вошли в маленькую сводчатую комнату, которую освещали висячие серебряные лампы; она была вымощена разноцветным мрамором, устлана роскошными коврами и убрана ложами с подушками.
По знаку Гассана братья остановились посреди комнаты и огляделись. Здесь не было никого и царила полная тишина. Обоим д'Арси стало страшно — чего, они сами не знали. Вот занавеси на внутренней стене комнаты раздвинулись, и из-за них вышла фигура в тюрбане и в темном широком платье. Несколько мгновений она стояла в темноте, глядя на д'Арси. Это был не очень высокий человек, но все его движения дышали величием. Он сделал шаг, поднял голову, и д'Арси увидели его мелкие, тонкие черты и темную бороду. Из-под широкого лба блестели задумчивые, но по временам проницательные карие глаза. Принц Гассан упал на колени, и его голова коснулась мрамора. Д'Арси угадали, что перед ними могущественный Саладин, и поклонились ему по-восточному. Султан заговорил низким спокойным голосом и, приказав Гассану подняться, прибавил:
— Я вижу, что ты доверяешь этим рыцарям, эмир, — и он указал на их большие мечи.
— Повелитель, — был ответ, — я им верю, как самому себе. Они храбрые и честные люди, хотя и неверные.
Султан погладил бороду.
— Да, — сказал он, — неверные! Это жаль, хотя, без сомнения, они поклоняются Богу по-своему. Они благородны с виду, как был их отец, которого я хорошо помню, и, если все, что я слышал о них, правда, они герои. Рыцари, знаете ли вы мой язык?
— В детстве нас учили этому языку, — ответил Годвин, — однако мы довольно плохо знаем его.
— Хорошо. Теперь скажите мне как воины воину: чего вы желаете от Саладина?
— Возвращения нашей двоюродной сестры, которую по вашему приказанию, султан, украли из Англии.
— Рыцари, я знаю, что Роза Мира ваша двоюродная сестра, как знаю и то, что она моя племянница. Скажите же мне теперь: она для вас только двоюродная сестра? — И он посмотрел на них проницательным взглядом.
Годвин взглянул на Вульфа, и тот сказал по-английски:
— Скажи ему всю правду, брат. От этого человека ничто не скрывается.
— Повелитель, мы домогаемся ее руки, — ответил Годвин.
Султан с изумлением посмотрел на них.
— Как — оба? — спросил он, подумав, прибавил: — Скажите, рыцари, которого же из вас любит она?
— Это известно только ей одной, — ответил Годвин, — в свое время она откроет истину.
— Сядьте и объяснитесь подробнее, — заметил Саладин.
Братья сели на восточный диван и откровенно рассказали Саладину всю свою историю.
— Странный рассказ, — сказал султан, когда д'Арси наконец замолчали, — и во всем этом видна рука Аллаха. Братья, вы думаете, что я причинил зло вам и вашему дяде, сэру Эндрю, моему бывшему другу? Слушайте же. Правду сказали вам священник и лживый рыцарь Лозель. Также не обманул и я вашего дядю, написав ему о вещем сне; я видел теперь Розу Мира, узнал в ней деву, явившуюся мне в сновидении, удостоверился, что Господь говорил со мной и что своим благородным поступком она спасет тысячи и тысячи людей от кровопролития. Послушайте, сэр Годвин и сэр Вульф, — продолжал Саладин изменившимся голосом, голосом суровым и повелительным, — просите от меня чего желаете, и хотя вы франки, я дам вам все: богатство, земли, титулы; не просите только отдать в ваши руки мою племянницу, принцессу Баальбекскую, которую Аллах привел ко мне для своих целей. Узнайте также, что, если вы постараетесь украсть ее у меня, вы умрете; что если она бежит, то я настигну Розу Мира, и ее тоже поразит смерть. Я сказал ей это, подкрепив мои слова клятвой Аллаху. Она останется в моем доме, пока не исполнится вещий сон.
Братья уныло переглянулись: теперь они, казалось, были дальше от исполнения своих желаний, чем во дворце Сипана. Но вдруг лицо Годвина просветлело, он поднялся и ответил:
— Могучий повелитель Востока, мы выслушали вас и знаем грозящую нам опасность. Повелитель, вы предложили нам вашу дружбу; мы приняли ее с благодарностью и не просим ничего больше. По вашим словам, Бог привел леди Розамунду к вам для исполнения его воли; пускай же все свершится, нам трудно угадать его пути. Мы подчиняемся его повелениям.
— Хорошо сказано, — ответил Саладин. — Я предупредил вас, гости, а потому не порицайте меня, если я сдержу данное слово; от вас же я не требую никаких обещаний: я не хочу подвергать благородных рыцарей возможности солгать. Да, Аллах поставил перед нами странную загадку, пусть же в свое время она и разрешится волею Аллаха.
V. Д'АРСИ УЕЗЖАЮТ ИЗ ДАМАСКА
С Годвином и Вульфом обращались почтительно. Им отвели дом и дали несколько слуг, которые охраняли их. На своих быстрых конях они ездили в пустыню охотиться и без труда могли бы ускакать в ближайший христианский город, никто не остановил бы их; они пользовались полной свободой. Но им некуда было бежать без Розамунды.
Д’Арси часто виделись с Саладином; султан любил рассказывать им о том времени, когда их отец и дядя были на Востоке, или расспрашивать об Англии и франках, или же толковать с Годвином о религиозных вопросах. Чтобы показать свое доверие к д'Арси, султан назначил их офицерами своих телохранителей, и когда они, утомленные бездействием, попросили его позволить им дежурить в его дворце, он охотно согласился. Братья не стыдились этого, так как в то время между сарацинами и франками был мир, и они не получали жалованья от Саладина.
И действительно, между христианами и сарацинами был мир; но Годвин и Вульф понимали, что он скоро нарушится. Дамаск и долина, расстилавшаяся кругом этого города, превратилась в громадный лагерь; с каждым днем в него стекались все новые тысячи диких, воинственных племен. Однажды д'Арси спросили знавшую все Масуду, в чем дело, она ответила:
— Джихад — начало священной войны. Давно во всех мечетях на Востоке верных призывали поднять меч. Скоро начнется великая борьба креста с полумесяцем, и тогда, пилигримы Джон и Петер, нам придется стать под то или другое знамя.
— Нетрудно угадать, которое мы выберем, — сказал Вульф.
— Конечно, — ответила Масуда, улыбаясь своей странной улыбкой, — только, может быть, вам будет тяжело воевать против принцессы Баальбека и ее дяди, повелителя верных? — И она ушла, улыбаясь.
Действительно, Розамунда, двоюродная сестра и предмет горячей преданности д'Арси, как они думали, сделалась истой принцессой Баальбека. Она жила среди пышности и пользовалась полной свободой. Все обещанное в письме к старому д'Арси исполнил Саладин: Розу Мира не принуждали менять религию, не предлагали ей женихов. Но на Востоке женщины, особенно знатные, не могли свободно видеться с мужчинами, хотя бы даже родственниками, и ей, принцессе из дома Саладина, приходилось повиноваться обычаям этой страны, даже выходя из дома, накидывать на лицо покрывало. Годвин и Вульф просили султана позволить им время от времени разговаривать с нею, но он резко сказал:
— Рыцари, это противно обычаю! И чем менее вы будете видеться с принцессой, тем лучше для нее и для вас, кровью которых я не хочу омыть мои руки… а также для меня самого.
И братья ушли с горечью в сердце. Розамунда была бесконечно далека от них. Понимали они также, что увезти ее из Дамаска не было возможности. Она жила в отдельном дворце, день и ночь охранявшемся мамелюками султана, которые знали, что за недосмотр они поплатятся жизнью. Внутри дворца ее сторожили доверенные евнухи султана, которыми командовал умный и хитрый Мезрур; ее женская свита состояла из шпионок.
Только одно утешение оставалось у д'Арси: с самого начала Розамунда попросила султана не разлучать ее с Масудой, и он, хотя и с некоторым недовольством, согласился исполнить эту просьбу, помня роль Масуды при спасении его племянницы от Сипана. Масуда же, на которую не обращали особенного внимания, и вдобавок еретичка, имела право говорить с кем ей угодно, а так как ей часто хотелось видеться с Годвином, братья получали сведения о Розамунде.
От нее д'Арси узнали, что принцессе жилось довольно хорошо, но что ее тяготили восточные обычаи, стеснения и бездействие; Розамунда страдала оттого, что не могла видеться с ними. Она каждый день посылала им поклоны и просила ничего не предпринимать для ее бегства, даже не пытаться видеться с ней. По ее словам, Саладин так боялся рыцарей, что и ее, и их постоянно караулили. Молодые люди приуныли.
Однажды в жаркое утро д'Арси сидели во дворе своего дома подле фонтана и сквозь резьбу бронзовых ворот смотрели на прохожих и на часовых, которые маршировали взад и вперед. Их дом помещался на одной из главных улиц Дамаска, и мимо него постоянно лился пестрый человеческий поток.
Годвин и Вульф мрачно сидели в тени, падавшей от расписанного красками дома. Их утомляли пестрая толпа, зной, несносные крики с минаретов, поблескивание мечей, а больше всего угнетала мысль о том, что им не удастся увезти Розамунду из дворца Саладина. Они молчали, поглядывая то на прохожих, то на тонкую струю воды, падавшую в мраморный бассейн.
Вдруг они услышали голоса и, взглянув на ворота, увидели женщину, завернутую в длинный плащ, которая разговаривала с часовым. Воин засмеялся и поднял руки, точно желая ее обнять. Блеснул кинжал, воин отступил все еще со смехом, и отодвинул засов ворот. Женщина вошла во двор. Это была Масуда. Братья поднялись и поклонились ей, но она, не останавливаясь, скрылась в доме. Д'Арси вошли за нею. Солдат все еще смеялся, и при звуке его смеха Годвин вспыхнул.
— Ничего, — сказала она. — Оскорбления я переношу постоянно, ведь они считают меня… — И она не договорила.
— Ну, пусть они лучше не говорят мне, чем считают вас, — прошептал Годвин и сжал эфес меча.
— Благодарю вас, — ответила Масуда и нежно улыбнулась ему; она сбросила с себя плащ и осталась в красивом белом платье, вышитом на груди гербом Баальбека. — Хорошо, что они считают меня убийцей и шпионкой, не то мне не удалось бы войти в ваш дом!
— Что случилось с Розамундой? — задал вопрос Вульф.
Масуда ответила:
— Принцесса Баальбека, моя госпожа, здорова и по-прежнему хороша, хотя ее томит пышность и ничто не доставляет радости. Она послала привет, но не сказала, которому из вас передать поклон, а потому, пилигримы, вы должны разделить егопополам.
Годвин слегка вздрогнул, а Вульф просто спросил, есть ли надежда видеть ее.
— Никакой, — ответила она и потом прибавила: — Я пришла по другому делу. Хотите ли вы оказать услугу Салахеддину?
— Не знаю… В чем дело? — мрачно спросил Годвин.
— Нужно только спасти его жизнь, — ответила она. — Может быть, он будет благодарен за это, может быть, и нет… Все зависит от расположения его духа.
— Скажите нам, — проговорил Годвин, — каким путем мы, двое франков, можем спасти жизнь султана Востока?
— Вы, конечно, еще помните Сипана и его федаев? Ну так сегодня ночью они задумали убить Салахеддина, потом, если возможно, покончить с вами и увести вашу даму Розамунду; если же это не удастся — зарезать ее… Я говорю правду! Это мне сказал один из них благодаря печати: бедный безумец воображает, что я с ними заодно! Сегодня вы, как начальники телохранителей, дежурите в прихожей. Не так ли? В полночь сменяют часовых; но восемь воинов, которые должны стать на караул в комнате Саладина, не придут: их отзовут прочь поддельным приказом. Вместо них явятся восемь убийц, переодетых мамелюками. Они надеются обмануть и заколоть вас, убить Саладина и убежать из противоположных дверей. Как вы думаете, выдержите ли вы бой с восемью бойцами?
— Мы уже пробовали это и опять попробуем, — ответил Вульф. — Как же узнаем мы, что они не мамелюки?
— Вот как: убийцы направятся к дверям спальни султана, а вы преградите им дорогу. Тогда они бросятся на вас, вы защищайтесь и кричите.
— А если они осилят нас? — спросил Годвин. — Тогда султан погибнет?
— Нет, вы должны запереть дверь в комнату Салахеддина и спрятать ключ; наружная стража услышит шум борьбы раньше, чем они ворвутся в спальню, — ответила Масуда и прибавила, подумав немного: — А не лучше ли теперь же открыть заговор султану?
— Нет, нет, — возразил Вульф, — попробуем биться; мне надоело бездействие. Гассан охраняет наружные ворота. Он придет, услышав шум мечей.
— Хорошо, — сказала Масуда, — я позабочусь, чтобы он был на месте и не спал. Теперь до свидания. Я ничего не скажу принцессе Розамунде. — И, набросив на себя плащ, Масуда ушла.
— Как ты думаешь, это правда? — спросил Вульф Годвина.
— Масуда никогда не лгала, — ответил Годвин. — Осмотрим кольчуги: у федаев острые кинжалы.
Приближалась полночь; братья стояли в маленькой сводчатой передней, внутренняя дверь которой вела в спальню Салахеддина. Караул, состоящий из восьми мамелюков, ушел, по обычаю он должен был встретить во дворе сменяющих, но до сих пор смена эта не появилась.
— По-видимому, рассказ Масуды правда, — сказал Годвин и, подойдя к внутренней двери, замкнул ее на ключ, который спрятал под одну из подушек. Потом д'Арси стали перед закрытой дверью, завешенной занавесями. Они были в тени; висячие серебряные лампы освещали остальное пространство. Они молчали и ждали. Вот послышались человеческие шаги. Восемь мамелюков в желтых одеждах, накинутых поверх кольчуг, вошли и отдали рыцарям честь.
— Стойте, — сказал Годвин. Они остановились на мгновение, но скоро снова двинулись вперед. — Стойте! — повторили оба брата, но те не слушались. — Стойте, сыновья Сипана! — в третий раз сказал д'Арси, обнажая мечи. Но со злобным шипением федаи уже бросились на них.
— Д'Арси! Д'Арси! На помощь султану! — закричали братья; бой начался. Шестеро ассасинов напали на Годвина и Вульфа, и, пока они отбивались от них, двое скользнули за рыцарей и попробовали отворить дверь, но увидели, что она заперта. Тогда они тоже ударили на братьев, думая снять ключ с трупа одного из них. Во время первого натиска двое федаев упали под ударами длинных мечей; после этого убийцы не подходили близко; некоторые беспокоили рыцарей спереди, остальные старались проскользнуть за их спиной и заколоть их сзади. И действительно, удар одного кинжала поразил Годвина в плечо, но лезвие только скользнуло по его крепкой кольчуге.
— Отступи! — крикнул он Вульфу. — Не то они убьют нас!
Д Арси внезапно отступили и прислонились спиной к двери; так они стояли, призывая на помощь и кругообразно размахивая перед собой мечами; федаи не смели подходить к ним. Снаружи доносились крики и топот; раздались тяжелые удары в ворота, которые убийцы задвинули засовом; из спальни Салахеддина голос султана спрашивал, что случилось. Федаи слышали все и поняли, что они погибли. Полные отчаяния и бешенства, ассасины забыли об осторожности; они бросились на братьев, полагая, что, свалив их, все же проберутся к Саладину и убьют его раньше, чем сами будут убиты. Годвин и Вульф жестоко ранили двоих, и в это время к братьям прибежал Гассан с внешней стражей.
Еще через минуту легко раненные Годвин и Вульф стояли, опираясь на мечи, а федаи, одни убитые или раненые, другие взятые в плен и связанные, лежали перед ними на мраморном полу. Дверь в спальню открыли, оттуда показался султан в своем ночном одеянии.
— Что случилось? — спросил он, подозрительно глядя на д'Арси.
— Ничего особенного, — ответил Годвин. — Эти люди пришли убить вас, и мы задержали их, пока не подоспела помощь.
— Убить меня? Моя собственная стража хотела убить меня?
— Это не ваши воины, а федаи, переодетые в платье мамелюков и подосланные аль-Джебалом, — сказали д'Арси.
Саладин побледнел, он, не боявшийся ничего на свете, всю жизнь боялся ассасинов и их повелителя, который трижды старался убить его.
— Снимите с них кольчуги, — продолжал Годвин, — и я думаю, вы, султан, увидите, что я говорю правду; если же нет — допросите оставшихся в живых.
Воины Саладина повиновались, и на груди одного убитого федая нашли выжженное клеймо в виде кроваво-красного кинжала. Саладин отозвал братьев в сторону.
— Как вы узнали об этом? — подозрительно спросил он, всматриваясь в их лица.
— Масуда… из свиты госпожи Розамунды… предупредила нас, что вы, властитель, и мы будем убиты сегодня убийцами.
— Почему же вы не сказали об этом мне?
— Потому, султан, — ответил Вульф, — что мы не знали, правильно ли известие, не хотели принести ложных опасений и остаться одураченными, а также думая, что сумеем выдержать нападение восьми крыс Сипана, наряженных воинами Саладина.
— Вы хорошо поступили, хотя задумали безумное дело, — сказал султан. Он подал руку сперва одному, потом другому рыцарю и прибавил: — Рыцари, Саладин обязан вам жизнью.
Если когда-нибудь случится, что ваша жизнь будет зависеть от Саладина, он вспомнит о сегодняшнем вечере.
На следующее утро оставшихся в живых федаев допросили, и они сознались во всем; потом их казнили. Многих из горожан арестовали и убили по подозрению в сообществе с федаями, и на время страх перед ассасинами замер.
С этого дня Саладин стал очень дружески относиться к братьям, предлагал им подарки, всевозможные почести, но они отказывались от всех милостей, говоря, что им нужно только одно: что именно — он знает. И, слыша этот ответ, он делался мрачен. Раз утром султан послал за д'Арси, и они застали Саладина только с его любимым эмиром — принцем Гассаном и со священником — имамом.
— Выслушайте меня, — отрывисто сказал Годвину Саладин. — Я знаю, что вы любите мою племянницу, принцессу Баальбека. Хорошо. Подчинитесь Корану, и я отдам вам ее в жены; тогда, может быть, она тоже примет истинную веру, а я приобрету прекрасного воина и дам раю прекрасную душу. Имам научит вас истиной вере.
Но Годвин только посмотрел на него широко открытыми, изумленными глазами и ответил:
— Султан, я благодарю вас, но не могу изменить веры.
— Так я и думал, — со вздохом сказал Саладин. — Мне очень жаль, что суеверие до такой степени ослепляет храброго и хорошего человека! Ну, сэр Вульф, теперь ваша очередь. Что вы скажете на мое предложение? Хотите ли вы получить руку принцессы и ее владения, а в придачу и мою любовь?
Вульф задумался. Он невольно вспомнил зимний вечер, когда они с братом и Розамундой стояли на берегах Эссекса и шутливо говорили о перемене религии. Наконец он ответил с привычным громким смехом:
— Я хотел бы того, другого и третьего, султан, но на моих условиях, а не на ваших, потому что в противном случае благословение Его не освятило бы моего брака. Да и Розамунда, пожалуй, не согласилась бы выйти замуж за вашего единоверца, имеющего право взять других жен.
Саладин оперся головой на руку и посмотрел на д'Арси с разочарованием в глазах, однако без злобы.
— Рыцарь Лоэель был также поклонником креста, — сказал он, — но вы совсем не похожи на него. Он охотно принял нашу веру.
— Чтобы работать для вас, — с горечью сказал Годвин.
— Не знаю, — ответил султан, — хотя он, кажется, действительно считался христианином между франками, а здесь был последователем Пророка! Ну, он умер, и несмотря на все, да будет мир его душе! Теперь мне нужно сказать вам еще одно слово: франк принц Рене Шатильонский — да будет проклято его имя — снова нарушил мир между мной и королем Иерусалима, перебив моих купцов и украв мои товары. Я не потерплю такого позора и скоро распущу по ветру мои знамена, которые не будут свернуты, пока не взовьются над мечетью Омара и над каждой башней в Палестине. Ваш народ осужден. Я, Юсуп Саладин, — и, говоря это, он поднялся, и даже волосы его бороды стали дыбом от гнева, — объявляю священную войну и скоро загоню в море поклонников креста! Выбирайте же, братья, чего вы хотите: биться со мной или против меня? Или вы снимете мечи и останетесь здесь как мои пленники?
— Мы слуги креста, — ответил Годвин, — и не можем поднять оружие против него, не погубив наших душ. — Пошептавшись с Вульфом, он прибавил: — На вопрос, останемся ли мы здесь в цепях, должна ответить наша дама Розамунда; мы поклялись служить ей. Мы просим свидания с принцессой Баальбека.
— Пошли за ней, эмир, — сказал Саладин принцу Гассану; тот поклонился и вышел.
Через несколько минут пришла Розамунда, и, когда она откинула покрывало, братья увидели ее бледное и печальное лицо.
Она поклонилась Салахеддину и братьям, которым не позволили пожать ее руки.
— Привет, дядя, — сказала молодая девушка султану, — и вам, мои двоюродные братья, привет. Чего вам угодно от меня?
Саладин знаком предложил ей сесть и попросил Годвина объяснить, в чем дело. Тот повиновался и в заключение прибавил:
— Чего желаете вы, Розамунда? Должны ли мы остаться пленниками или вы велите нам сражаться вместе с франками во время будущей великой войны?
Розамунда посмотрела на них, потом ответила:
— Кому вы присягали раньше: вашему Господу или вашей даме? Я окончила.
— Такого ответа мы и ждали от вас, — воскликнул Годвин;
Вульф только кивнул головой и прибавил:
— Султан, мы просим у вас пропускной грамоты до Иерусалима и оставляем нашу родственницу на ваше попечение, полагаясь на данное вами слово не принуждать ее переменить религию и защищать от всякой опасности.
— Вам будет дан пропуск, — ответил Саладин, — мое дружеское расположение пойдет за вами. Если бы вы поступили иначе, я был бы о вас худшего мнения. Ну, с этих пор мы в глазах людей враги; я буду стараться убить вас, а вы меня. Что же касается моей племянницы, не бойтесь. Я исполню данное обещание. Проститесь же с ней, потому что вы никогда больше не увидите ее.
— Кто вложил такие слова в ваши уста, султан? — спросил Годвин. — Разве вам дано читать будущее? Разве вам ведомы постановления Божий?
— Я хотел сказать, — ответил султан, — что вы не увидитесь с нею, если мне удастся разделить вас. Можете ли вы жаловаться на это, раз оба отказались жениться на ней?
Розамунда в изумлении подняла глаза, а Вульф сказал:
— Объясните ей все, султан. Скажите, что ей предложили бы выйти замуж за того из нас, который преклонил бы колена перед Магометом, и дали бы возможность сделаться главой его гарема; я думаю, теперь она не будет порицать нас.
— Никогда на свете я не сказала бы ни слова давшему другой ответ, — воскликнула Розамунда, а Саладин нахмурился. -
О, дядя, — продолжала она, — вы были добры и высоко подняли меня, но я не стремлюсь к величию: ваши обычаи чужды мне, и я не следую вашей религии. Отпустите меня, молю вас, поручите меня двум моим родственникам.
— Этого не будет, племянница, — сказал Саладин. — Я горячо люблю вас, но, даже зная, что вы умрете, оставаясь здесь, я не отпустил бы вас, так как сновидение сказало, что от вас зависит сохранение многих тысяч жизней. Что же значит ваша жизнь, жизнь этих рыцарей или даже моя собственная в сравнении со спасением тысяч людей? Все, что в моей власти — у ваших ног, но вы останетесь здесь, пока не исполнится мой сон, и, — прибавил он, глядя на братьев, — смерть будет уделом того, кто украдет вас от меня.
— Значит, когда исполнится, ваш сон, я стану свободна? — спросила Розамунда.
— Да, — ответил султан, — свободны, если только не попытаетесь бежать.
— Вы слышали постановление султана, двоюродные братья, и вы, принц Гассан? Запомните его. О, я молюсь, чтобы не лживый дух принес вам, дядя, этот сон. Только как могу я принести мир? Ведь до сих пор я приносила только кровопролитие. Теперь уйдите, братья, но оставьте мне Масуду, у которой нет других друзей. Идите, я вас люблю и благословляю. Да благословит вас Иисус и все Его святые, и да сохранят в час битвы.
Розамунда задернула лицо покрывалом, чтобы скрыть слезы. Годвин и Вульф преклонили перед ней колени и на прощание поцеловали ее руку. Султан не остановил их. Когда же она ушла и братья также, он обернулся к эмиру Гассану и великому имаму, все время сидевшему молча, и сказал:
— Скажите мне ты, мудрый, и ты, Гассан, которого из двух любит эта девушка? Скажи, Гассан, ты хорошо знаешь ее.
Но Гассан отрицательно покачал головой.
— Одного или другого, а может быть, ни одного, не знаю, — прошептал он, — ее чувства скрыты от меня.
Тогда Саладин с тем же вопросом еще раз обратился к имаму, хитрому, молчаливому человеку.
— Когда оба неверных будут на краю смерти (что, я надеюсь, случится), мы, может быть, узнаем ее ответ, но не раньше, — произнес имам, и султан запомнил его слова.
На следующее утро Розамунда, узнавшая, что д'Арси поедут мимо ее дворца, подошла к одному из окон и действительно увидела их. Они были во всех доспехах и сидели на своих великолепных лошадях; за ними двигалась свита мамелюков, темнолицых людей в тюрбанах, и солнечный свет играл на их кольчугах. Рыцари на мгновение остановились против ее дома и, зная, что Розамунда смотрит на них, хотя и не видя ее, обнажили мечи и подняли их в виде салюта. Потом, снова вложив громадные лезвия в ножны, молчаливо двинулись дальше и скоро исчезли из виду. Розамунда не надеялась когда-нибудь встретиться с ними, зная, что, если даже война окончится благоприятно для христиан, ее увезут куда-нибудь далеко, где Годвин и Вульф не найдут ее. Знала она также, что из Дамаска ей бежать нельзя; что хотя Саладин любил братьев, как он любил все честное и высокое, султан не принял бы их дружески.
Они уехали навсегда; звук копыт их лошадей замер в отдалении. Она осталась одинока и боялась за них, в особенности за одного… Если он не вернется — во что превратится ее жизнь, несмотря на все богатство, которым ее окружил Саладин? И, склонив голову, Розамунда заплакала. Вдруг подле себя она услышала стон, обернулась и увидела, что Масуда тоже плачет.
— О чем вы плачете? — спросила она.
— Служанка должна подражать своей госпоже, — ответила Масуда с жестким смехом. — Но о чем плачете вы, госпожа? Вам, по крайней мере, на любовь отвечают любовью, и что бы ни случилось, этого никто не отнимет от вас. Это ведь меня ценят меньше, чем хорошего коня или верную собаку.
В голове Розамунды промелькнула новая и ужасная мысль.
Их глаза встретились; между ними стоял стол с инкрустацией из слоновой кости и перламутра, покрытый пылью, поднявшейся с улицы через окно. Масуда наклонилась над ним и указательным пальцем написала на нем ровно одну арабскую букву, потом ладонью стерла пыль.
Грудь Розамунды раза два высоко поднялась, потом успокоилась.
— Почему же вы, свободная, не поехали за ним? — спросила она.
— Потому, что он желал, чтобы я осталась здесь и охраняла девушку, которую он любит. И я до смерти буду охранять вас.
Масуда говорила медленно; ее слова падали, как тяжелые капли крови из смертельной раны; потом она наклонилась и упала в объятия Розамунды…
VI. ВУЛЬФ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ОТРАВЛЕННОЕ ВИНО
Прошло много дней с тех пор, как братья простились с Розамундой. В одну жаркую июльскую ночь они сидели на своих лошадях, и лунный свет блистал на их кольчугах. Неподвижны, как статуи, были рыцари; с высокой скалистой вершины они смотрели на серую и сухую долину, которая простирается от Назарета до начала гор и расположенной у их подножия Тивериады на берегу моря Галилейского. У ног д'Арси раскинулся большой франкский лагерь, который они охраняли. Тысяча триста рыцарей, двенадцать тысяч пеших солдат и орды туземцев, вооруженных сарацинским оружием, ждали приказаний. На расстоянии двух миль к юго-востоку от лагеря блестели белые дома Назарета, святого города, где тридцать лет жил и работал Спаситель мира.
Завтра, по слухам, войска должны были двинуться через пустынную равнину и дать сражение Саладину, который со своими силами стоял близ Гаттипа, выше Тивериады. Годвин и Вульф понимали, что безумно вступать в бой; они видели силы сарацин и недавно ехали по этой безводной пустыне под летним солнцем. Но смели ли они, двое бродячих рыцарей без свиты, возвысить голоса, противореча властителям страны, привыкшим к войнам в пустыне? Однако сердце Годвина смущалось.
— Я поеду караулить там, а ты оставайся здесь, — сказал он Вульфу, и отъехал ярдов на шестьдесят, на выступ горы, обращенной к северу. Тут он не мог видеть ни лагеря, ни Вульфа, ни одного живого существа. Годвин сошел с седла и, приказав стоять своему коню, который слушался его, как собака, отошел на несколько шагов к утесу и, преклонив колени, стал молиться от всего своего чистого сердца.
— О, Господь, — шептал он. — О, Господь. Ты, живший когда-то здесь, обитавший в этих горах, знающий все человеческое, услышь меня! Я боюсь за тысячи людей, спящих вокруг Назарета. Не за себя боюсь я, потому что не дорожу жизнью, но за Твоих слуг и моих братьев, за крест, на котором Ты был распят, за истинную веру на Востоке. О просвети меня, дай мне слышать и видеть, чтобы я мог предупредить их, если только мои опасения не тщетны.
Он взывал к небу, бил себя в грудь, прижимал руки ко лбу и молился так, как никогда не молился раньше. И вот Годвину показалось, будто его охватил сон, по крайней мере, его ум потускнел, мысли смешались; однако через несколько времени его мозг стал яснеть, как медленно яснеет возмущенная вода. Но в нем был другой ум, чем служивший ему ежедневно. Что это? Он услышал, как мимо него пронеслись духи и, пролетая, зашептали ему что-то. Ему казалось также, что они плакали о каком-то грядущем бедствии, плакали о Назарете. Потом точно завеса поднялась с его глаз, и он увидел короля франков в его палатке; Гвидо Луизиньянского окружал совет предводителей, в том числе были гроссмейстер тамплиеров с яркими глазами и человек, которого Годвин видел в Иерусалиме, где братья жили некоторое время, граф Раймунд Триполийский, владелец Тивериады. Все рассуждали о чем-то, и вдруг мейстер тамплиеров выхватил меч и бросил его на стол.
Поднялась новая завеса с глаз д'Арси, и он увидел лагерь Саладина — бесконечный лагерь с десятью тысячами палаток — и услышал, как сарацины взывали к Аллаху. В роскошном шатре одиноко расхаживал султан; с ним не было его эмиров, даже сына. Казалось, Саладин глубоко задумался, и Годвин прочитал его мысли: «За нами Иордан и море Галилейское, и франки стеснят меня там, если я поверну фронт. Передо мной территория франков, где у меня нет друзей; подле Назарета стоит их большая армия. Только Аллах может помочь мне! Если они останутся спокойны и заставят меня двинуться через пустыню и повести на них атаку, я погиб. Если они пойдут на меня, обходя гору Фавор, по хорошо орошенной местности, я тоже могу погибнуть; если же они безумно двинутся прямо через пустыню, тогда погибнут они, и владычество креста в Сирии окончится навсегда».
Подле шатра Саладина стояла другая палатка, ее хорошо охраняли, и в ней лежали две женщины: одна была Розамунда — она крепко спала; другая, Масуда, не спала, и ее глаза из тьмы взглянули в лицо Годвина.
Последний покров поднялся и открыл зрелище, от которого содрогнулась вся душа рыцаря. Тянулась выжженная огнем, черная пустыня; над нею высилась угрюмая гора, а ее густо усеивали трупы, тысячи и тысячи трупов; между мертвыми телами бродили гиены, а над ними кричали ночные птицы. Некоторые лица Годвин узнавал, лица людей, которых он встречал в Иерусалиме или видел среди армии. Он слышал также стоны немногих еще живых.
Ему казалось, будто он в лагере Саладина, где тоже лежали умершие, бродит и чего-то ищет, но чего — не знал. Наконец он понял, что отыскивает тело Вульфа, не находя его, не находя и своего собственного. И снова Годвин услышал, как пронеслись духи, много духов, потому что к ним присоединились души убитых; услышал также, как они оплакивали погибшую власть креста, оплакивали Назарет.
Годвин вздрогнул, очнулся от сна, сел на коня и вернулся к Вульфу. Внизу по-прежнему расстилался спящий лагерь: дальше тянулась коричневая пустыня, а Вульф неподвижно сидел на коне.
— Скажи мне, — спросил Годвин, — давно ли я уехал?
— Минут пять тому назад, может быть, десять, — ответил ему брат.
— В короткое время я видел так много… — сказал Годвин.
Посмотрев на него с удивлением, Вульф спросил:
— Что ты видел?
— Если я расскажу, ты не поверишь, Вульф.
— Расскажи, тогда посмотрим.
Годвин рассказал ему все и в конце спросил:
— Ну, что же ты думаешь?
Помолчав немного, Вульф ответил:
— Ты не пил сегодня ни капли вина, а потому не пьян, брат.
Не сделал ты ничего глупого, и значит, ты не безумец; поэтому, вероятно, с тобой беседовали святые; по крайней мере, я подумал бы это обо всяком другом человеке, таком же хорошем, как ты. Однако людям иногда являются видения ложные, так как, мне кажется, их посылает дьявол. Наше дежурство окончено; я слышу топот лошадей, сменяющихся рыцарей. Вот что посоветую тебе. В лагере наш друг, с которым мы ехали из Иерусалима. Эгберт, епископ Назарета. Поедем к нему, расскажем ему все; он человек святой и ученый, совсем нелживый и несебялюбивый.
Годвин утвердительно кивнул головой; встретив сменяющихся рыцарей и сделав им рапорт, братья поехали к шатру Эгберта, отдали лошадей его слугам и вошли в палатку.
Эгберт был англичанин; более тридцати лет прожил он на Востоке, и жаркое солнце придало его морщинистому лицу бронзовый цвет, что странно оттеняло его синие глаза и белоснежные волосы и бороду. Когда д'Арси вошли в его палатку, он молился перед маленьким изображением Святой Девы. Склонив голову, братья неподвижно стояли, пока старик не поднялся с колен. Окончив молитву, он благословил их и спросил, чего они хотят.
— Вашего совета, святой отец, — ответил Вульф. И Годвин рассказал ему о своем видении.
Епископ слушал и не удивлялся, потому что в те дни многие видели или думали, что видят подобные вещи. Окончив свой рассказ, Годвин спросил Эгберта:
— Что вы думаете об этом, святой отец? Это сон или откровение? И кто послал мне его?
— Годвин д'Арси, — ответил старик, — в моей юности я знавал вашего отца, и более чистая душа никогда не переходила на небо! Мы жили вместе с вами в Иерусалиме, вместе ехали сюда, и я также успел узнать вас и увидеть, что вы достойный сын достойного отца, что вы истый слуга церкви. Может быть, такому человеку, как вы, был дан дар провидения, может быть, через вас небо предупреждает власть имеющих, и таким путем христианский мир спасется от великой горести и позора! Поедемте к королю, расскажите ему все; он все еще сидит и советуется с приближенными.
Они проехали к королевской палатке; епископ вошел в нее, братья остались снаружи. Скоро Эгберт вернулся и знаком позвал их за собой; когда они проходили в шатер, часовые шепнули им:
— Заседает странный совет, рыцари, совет роковой и необычайный…
Было около полуночи, но просторный шатер все еще наполняли бароны и главные предводители. Одни сидели в уголках по двое, по трое; другие окружали узкий стол, сделанный из досок, положенных на козлы. Во главе стола был король Гвидо, или Гюи де Луизиньян, человек с лицом, выражавшим слабость, и одетый в великолепную кольчугу. Справа от него помещался седовласый граф Раймунд Триполийский, а с левой стороны — чернобородый, хмурый мейстер тамплиеров в своем белом плаще, на левой стороне которого виднелся красный крест. Недавно спорили, это было видно по лицам, но, когда братья входили, все молчали, и король сидел, откинувшись на спинку своего кресла и поглаживая лоб рукой. Он поднял глаза, увидел епископа и спросил недовольным тоном:
— Что там еще? Ах, помню! Рассказ братьев рыцарей-близнецов. Ну пусть говорят; у нас мало времени.
К столу подошли епископ, Годвин и Вульф, и по просьбе Годвина Эгберт рассказал о видении, которое посетило рыцаря на вершине горы. Сначала некоторые из баронов были готовы засмеяться, но, увидев одухотворенное лицо д'Арси, затихли. Когда же Эгберт дошел до описания скалистой горы и груды мертвых тел, многие из них побледнели от страха, и бледнее всех был король Гюи де Луизиньян.
— И все это правда, сэр Годвин? — спросил он, когда епископ окончил рассказ.
— Правда, государь, — ответил Годвин.
— Его слова недостаточно, — сказал мейстер тамплиеров, — пусть рыцарь поклянется над святым древом, зная, что если он солжет, то навеки погубит свою душу.
И весь совет произнес:
— Да, пусть поклянется.
Рядом с шатром была соединенная с ним небольшая палатка, наскоро превращенная в часовню: в ее глубине виднелось что-то большое, закутанное. Руфин, епископ Акры, одетый в рыцарскую кольчугу, вошел в маленькую палатку и, сдернув покров, открыл расщепленный, но осыпанный драгоценными камнями почерневший крест, который поднимался приблизительно на рост человека, так как вся его нижняя часть исчезла.
Увидев крест, Годвин и все присутствовавшие упали на колени: с тех пор, как святая Елена около семисот лет перед тем нашла его, он считался самой драгоценной реликвией в христианском мире. Миллионы поклонялись ему, десятки тысяч людей умирали за него; и теперь, во время великой борьбы между религией Христа и верой лжепророка, святыню вынули из храма, чтобы войско могло сопровождать ее.
Годвин и Вульф смотрели на крест с изумлением, страхом и восторгом.
— Теперь, — прозвучал голос мейстера тамплиеров, — пусть сэр Годвин д'Арси перед святым древом поклянется, что сказал правду.
Годвин поднялся с колен, подошел к кресту и, положив на него руку, произнес:
— Святым крестом я клянусь, что не более часу тому назад мне явилось видение, о котором было рассказано его королевскому величеству и всем остальным. И я считаю, что это видение было послано мне в ответ на мою мольбу сохранить наше войско и святой город от мощи сарацин, что это истинное откровение Божие. Больше я ничего не могу сказать. Я клянусь, зная, что если бы я солгал, вечное осуждение было бы моим уделом.
Епископ закрыл крест. Королевские советники молча опустились на прежние места. На лице бледного короля проступило выражение испуга; все были мрачны.
— Кажется, — сказал Гвидо Луизиньянский, — небо послало нам вестника! Осмелимся ли мы ослушаться его?
Великий тамплиер поднял угрюмое лицо и сказал:
— Посланник неба, король? А по-моему, он больше похож на гонца Саладина. Скажите-ка мне, сэр Годвин, не были ли вы с братом гостями султана в Дамаске?
— Да, мой лорд тамплиер, — ответил Годвин, — мы уехали оттуда перед объявлением войны.
— И, — продолжал мейстер, — вы были офицерами телохранителей султана.
Теперь все пристально посмотрели на Годвина. Он с мгновение колебался, предвидя, какое значение придадут его ответу, но Вульф громким голосом произнес:
— Да, и, конечно, вы слышали, что мы спасли Салахеддину жизнь, когда на него напали ассасины.
— О, — сказал тамплиер с язвительной насмешкой, — вы спасли жизнь Салахеддину? Верю, верю. Вы, христиане, которые больше всего на свете должны желать его смерти, спасли ему жизнь? Теперь, рыцари, ответьте мне еще на один вопрос…
— Ответить языком или мечом, сэр тамплиер? — спросил Вульф, но король поднял руку и велел ему замолчать.
— Не буяньте, как в таверне, юный сэр, и отвечайте, — продолжал тамплиер, — или лучше отвечайте вы, сэр Годвин. Скажите: ваша двоюродная сестра Розамунда — дочь сэра Эндрю д'Арси, племянница Саладина? Не сделал ли он ее принцессой Баальбека? И не находится ли она теперь в Дамаске?
— Она племянница Саладина, — спокойно ответил Годвин, — она принцесса Баальбекская, но в настоящее время она не в Дамаске. Я знаю это потому, что видел в видении, о котором вам было рассказано, я видел, как она спит в палатке посреди лагеря Саладина.
Советники засмеялись, но Годвин продолжал:
— Да, лорд тамплиер, и кругом ее расшитого шатра султана я видел десятки мертвых тел тамплиеров-госпитальеров. Вспомните это, когда наступит ужасный час, и вы тоже увидите их.
Смех замер, пробежал ропот страха, послышались фразы: «Колдовство! Он научился этому от мусульман… Колдун!»
Только тамплиер, не боявшийся ни людей, ни духов, расхохотался.
— Вы мне не верите? — сказал Годвин. — Не поверите вы мне также, когда я скажу, что в видении мне открылось, как вы спорили с графом Триполийским, обнажили меч и бросили его на этот самый стол?
Советники снова широко открыли глаза и зароптали, потому что они тоже видели это, но гроссмейстер ответил:
— Он мог узнать об этом не от ангела! Многие входили и выходили из шатра. Господин мой король, неужели мы будем тратить время, рассуждая о видениях рыцаря, который вместе с братом был на службе у Саладина и покинул султана, чтобы принять участие в походе? Может быть, он не лжет; не нам судить. Однако в другое время я донес бы на сэра Годвина д'Арси как на волшебника и человека, входящего в предательские сношения с нашим врагом.
— А я остановил бы эту ложь в вашем горле! — крикнул Вульф.
Годвин только пожал плечами, и мейстер продолжал:
— Король, мы ждем вашего слова, скажите его поскорее, потому что через четыре часа начнется рассвет. Двинемся ли мы на Саладина, как храбрые христиане, или, точно трусы, останемся здесь?
Граф Раймунд Триполийский поднялся и сказал:
— Раньше, чем ответить, король, выслушайте меня, может быть, в последний раз выслушайте человека старого, опытного в войне и знающего сарацин. Мой город Тивериада разграблен, мои вассалы тысячами погибли от меча; моя жена заключена в цитадели и, если ее не спасут, будет принуждена сдаться. Но я говорю вам и собравшимся здесь баронам: все лучше, чем идти через пустыню и напасть на Саладина! Предоставьте Тивериаду ее судьбе и вместе с городом мою жену; но спасите вашу армию — последнюю надежду христиан на Востоке! Войско султана больше вашего; его конница искуснее. Поверните его фланг или, еще лучше, ждите здесь его нападения. Тогда победа останется на стороне воинов креста! Пойдемте вперед — и видение рыцаря, над которым вы смеетесь, оправдается, а христианство погибнет в Сирии. Я высказался v и в последний раз.
— Граф Раймунд, как и его друг, «рыцарь видений», — с насмешкой проговорил гроссмейстер, — союзник Саладина. Неужели вы примете эти трусливые советы? Вперед, вперед! Сметем языческих собак, не то на нас падет вечный стыд! Вперед, во имя креста! Ведь святое древо с нами.
— Да, — ответил Раймунд, — в последний раз!
Поднялись смятение и шум. Все кричали. Один говорил одно, другой — другое. Король сидел, закрыв лицо руками. Наконец он поднял голову и сказал:
— Я приказываю выступить на заре. Если граф Раймунд и эти рыцари-близнецы думают, что это неблагоразумно, пусть они останутся здесь под стражей до окончания битвы.
Наступила полная тишина; каждый понимал, что роковое слово произнесено. И вот среди молчания Раймунд проговорил:
— Нет, я иду с вами.
Годвин повторил:
— Мы идем тоже, чтобы показать, шпионы ли мы Саладина или нет.
Никто не обратил внимания на его слова; один за другим бароны поднимались, кланялись королю и выходили из шатра, чтобы сделать распоряжения и немного отдохнуть. Годвин и Вульф тоже ушли, а с ними и епископ Назаретский, который печально ломал руки. Вульф постарался успокоить его, сказав:
— Перестаньте печалиться, отец, лучше подумаем о радостях битвы, а не о горе, которое может наступить после нее.
— Сражения меня не радуют, — ответил Эгберт.
Годвин и Вульф рано поднялись, накормили своих лошадей, вымыли и вычистили их, осмотрели свои кольчуги и отвели коней к ручью. Вульф принес четыре больших меха, которые приготовил заранее; наполнив их чистой водой, два привязал к седлу Годвина, два за своим собственным; потом налил воды во фляжки, висевшие на седельных луках, и сказал:
— По крайней мере, мы последними умрем от жажды.
Вскоре войско выступило; но многие шли невесело, зная, какая опасность грозит им. Кроме того, распространились слухи о видении Годвина. Не зная, куда направиться, братья и Эгберт, который, вооруженный, ехал на муле, присоединились к большому корпусу рыцарей, двигавшихся вслед за королем. Они видели, как пятьсот тамплиеров выехали вперед с гроссмейстером во главе. Заметив братьев, он указал на мехи, висевшие позади их седел, и крикнул:
— Что делают эти водоносы посреди храбрых рыцарей, надеющихся только на Бога?
Вульф хотел ответить, но Годвин остановил его.
Д'Арси пришлось посторониться перед крестом, который пронесли мимо них под охраной воинственного епископа Акры, одетого в кольчугу; за крестом ехал Рене Шатильонский, враг Саладина и виновник начала войны; он увидел братьев и крикнул:
— Рыцари, что бы ни говорили о вас, я вас знаю за храбрых людей, так как слышал о ваших подвигах в земле ассасинов! В моей свите есть место — милости прошу!
— Не все ли равно — он или другой? — сказал Годвин. — Поедем, куда он нас поведет. — И д'Арси двинулись за Рене.
К тому времени, как армия подошла к Канне Галилейской, июльское солнце сделалось знойно, и колодец был скоро осушен; многим не досталось воды… Дальше войско пошло по низине, справа и слева окаймленной горами. Вставали тучи пыли; в середине их виднелись сарацинские всадники, которые то и дело беспокоили авангард графа Раймунда и отступали раньше, чем на них успевали напасть, оставляя позади себя множество убитых стрелами и копьями. Они делали также обходы и ударяли на арьергард, состоящий из тамплиеров, легко вооруженных местных войск и отряда Рене Шатильонского, с которым ехали д'Арси.
С полудня до заката солнца длинная линия войск, теперь разбившаяся на части, с трудом подвигалась вперед по неровной каменистой низменности, и раскаленные лучи так били в металлические доспехи, что воздух колыхался кругом них, точно кругом пламени. К вечеру и люди и лошади устали. Солдаты просили предводителей отвести их к водным источникам, но воды не было нигде. Арьергард отстал; постоянные нападения, которые приходилось отбивать при страшном зное, истомили воинов: между арьергардом и корпусом короля, который двигался в центре, образовался большой перерыв. К арьергарду то и дело летели гонцы и приказывали двигаться вперед, но войско не могло идти и наконец разбило лагерь в пустыне; Раймунду и его авангарду пришлось вернуться к стоянке. Годвин и Вульф увидели, как он ехал со своими ранеными, и услышали, как он просил короля постараться прорезать путь до озера, где люди могли бы напиться; слышали они также и ответ короля, сказавшего, что солдаты отказывались идти дальше. Тогда Раймунд в отчаянии заломил руки и вернулся к своему отряду с громким криком: «О, Боже, Боже, мы погибли, и погибло владычество креста!»
Никто не спал; всех томила жажда. Теперь уже никто не думал, смеяться над тем, что Годвин и Вульф везли с собой мехи. Напротив, многие из начальников приходили к ним и чуть не на коленях молили их дать им кубок воды. Дав Огню и Дыму немного воды, братья напоили просивших, наконец у них осталось всего два меха; один из уцелевших проколол какой-то вор, чтобы напиться; напился, а остальную воду истратил даром. После этого братья стали караулить последний мех.
Всю ночь лагерь оглашали вопли. «Воды, воды, дайте воды!» — повторяли голоса, а издали неслись восклицания сарацин, призывавших Аллаха. Раскаленная почва была покрыта мелкими, совершенно иссохшими от зноя кустами, и сарацины подожгли их; дым покатился клубами на христиан и стал душить их. Стоянка превратилась в ад. Наконец забрезжил рассвет. Армию выстроили в боевой строй: два крыла выдвинули вперед, войска тронулись. Слишком слабые отстали и были убиты. До сих пор сарацины еще не начинали настоящего нападения, зная, что солнце сильнее их копий. С трудом подвигалось войско крестоносцев к северным источникам, и в середине дня закипела битва: посыпался такой дождь стрел, что небо потемнело. Два или три раза сшибались войска, и все время ужасный крик — просьба воды — покрывал шум боя. Что происходило, Годвин и Вульф хорошенько не знали; дым и пыль ослепляли их, и они почти ничего не видели. Наконец произошла ужасная стычка. Рыцари, с которыми они ехали, врезались в гущу сарацин, точно стальная змея, оставив за собой широкий путь, усеянный мертвыми телами. Когда д'Арси остановили коней и отерли пот, застилавший им глаза, они увидели, что стоят с тысячью других воинов на вершине крутого холма, откосы которого покрывала сухая трава и опаленные кустарники.
— Крест, крест! Окружим крест! — сказал чей-то голос.
Братья обернулись и увидели позади себя черный и покрытый драгоценностями крест, поставленный на утесе, а перед ним епископа Акры. Но поднялся дым от горящей травы и скрыл все. Начался один из самых ужасных боев в мировой истории.
Несколько раз тысячи сарацин нападали, и снова отчаянная храбрость франков отбрасывала их. Изнемогая от жажды, христиане сражались, как львы. К братьям подбежал чернобородый человек, распухший язык которого высовывался изо рта. Взглянув на него, д'Арси узнали гроссмейстера тамплиеров.
— Ради Христа, дайте напиться, — сказал он рыцарям, которых недавно называл водоносами. Д'Арси уделили ему воды из того небольшого запаса, который оставался у них, потом из остатка напились сами и напоили своих лошадей, а тамплиер, освеженный и окрепший, побежал с горы, размахивая окровавленным мечом. Наступило затишье. Братья услышали голос епископа Назаретского, который не отставал от них. Старик говорил как бы с собой:
— И здесь Спаситель произнес свою Нагорную проповедь.
Да, Он говорил слова мира на этом самом месте…
Сарацины отступили; воины креста начали раскидывать королевский шатер и другие палатки кругом вершины.
— Неужели они хотят здесь устроить лагерь? — с горечью спросил Вульф.
— Нет, брат, — ответил Годвин. — Они думают образовать стену кругом креста. Но все напрасно, ведь именно это место видел я в пророческом сне.
Вульф пожал плечами
— По крайней мере, умрем с честью, — сказал он.
Начался последний приступ. Вверх по холму катились густые клубы дыма, а вместе с ними двигались сарацины. Трижды возобновляли они штурм, — трижды их отбивали. Во время четвертого натиска, дрались немногие франки: жажда победила их на этом безводном холме. Они лежали на иссохшей траве, их челюсти раскрылись, распухшие языки выдались из губ; они, не защищаясь, ждали смерти или плена. Большой конный отряд сарацин прорвал кольцо палаток и понесся к пурпурному шатру. Вот он качнулся взад и вперед и рухнул, окутав короля своими складками. Руфин, епископ Акры, бился подле креста. Но вот стрела пронзила ему горло, и, широко раскинув руки, он упал на камни. Тогда сарацины бросились на крест, сорвали его со скалы и с насмешками понесли в свой лагерь. Оставшиеся в живых христиане в ужасе и отчаянии подняли глаза и стонали от позора и печали.
— Поедем, — сказал Годвин Вульфу, странно спокойным голосом. — Мы достаточно смотрели. Настало время умереть. Видишь, под нами мамелюки, наш бывший полк, и посреди них Саладин; я вижу его знамя. Мы утолили жажду и потому сильны; наши лошади тоже свежи. Умрем же так, чтобы память о нас осталась в Эссексе! Скачи прямо на знамя Саладина.
Вульф кивнул головой, и братья рука об руку поехали с холма. Над ними сверкали сабли, стрелы ударялись об их кольчуги и щиты с изображением мертвой головы; но рыцари, не раненные, ехали дальше, направляясь к штандарту Саладина. Повсюду виднелись только одни враги… Д'Арси не останавливались, хотя раны покрывали их коней. Братья врезались в редкие ряды мамелюков, промчались мимо них и поскакали по направлению к хорошо знакомой фигуре султана, сидевшего на своем белом коне. Рядом с ним были его сын и принц Гассан.
— Саладин — тебе, принц — мне, — крикнул Вульф.
Сталь зазвенела. Все войско ислама в отчаянии вскрикнуло, увидев, что победитель неверных упал под отчаянным ударом одного из безумных христианских рыцарей. Через мгновение султан снова поднялся, и множество мечей засверкало над Годвином. Его Огонь зашатался и рухнул на землю, но д'Арси соскочил с седла, размахивая своим длинным мечом. Саладин узнал герб на его щите и крикнул:
— Сдавайтесь, сэр Годвин. Вы хорошо бились, сдавайтесь же, сдавайтесь!
Но Годвин ответил:
— Сдамся, когда умру.
Саладин что-то шепнул мамелюкам; часть его воинов принялась беспокоить Годвина спереди, держась на безопасном расстоянии от его страшного меча; другие мамелюки прокрались за его спину, неожиданно схватили его и, повалив на землю, связали по рукам и по ногам.
Конь Вульфа Дым, пораженный саблями, тоже упал, когда д'Арси подскакал к принцу Гассану. Однако Вульф поднялся и сказал:
— Гассан, старый противник и друг, вот мы и встретились в бою! Я заплачу вам старый долг за отравленное вино. Один на один, меч против меча!
— Правильно, сэр Вульф, — со смехом сказал принц.
— Воины, не трогать этого храброго рыцаря, решившегося на многое, чтобы добраться до меня! Султан, я прошу милости: между сэром Вульфом и мною — старая ссора, и только кровь может ее смыть. Позвольте нам свести здесь наши счеты, и если я паду в честном бою, пусть никто не трогаетмоего победителя и не мстит за мою кровь.
— Хорошо, — сказал Саладин. — В таком случае, сэр Вульф сделается моим пленником… и только; его брат уже взят мной. Я обязан это сделать для человека, который спас мне жизнь, когда мы с ним были друзьями. Напоите франка: я хочу, чтобы их силы были равны.
Вульфу поднесли кубок с водой, а когда он утолил жажду, напоили также и Годвина. Даже мамелюки любили этих братьев и восхищались их отвагой. Гассан соскочил с седла, сказав:
— Ваш конь погиб, сэр Вульф, значит, мы будем биться пешком.
— Всегда великодушен! — со смехом заметил Вульф. — Даже отравленное вино было милостью.
— Боюсь, что я великодушен в последний раз, — с печальной улыбкой ответил Гассан.
Они выступили друг против друга. Странная это была картина! На откосах Гаттинской горы еще свирепствовал бой. Посреди дыма и огня маленькие отряды солдат стояли спиной к спине, отбиваясь от сарацин. Рыцари то поодиночке, то группами бросались на врагов и встречали или смерть, или плен. Равнину усеивали сотни убитых воинов; их предводителей взяли в плен. К лагерю Саладина с торжествующими криками двигался мусульманский отряд. Руки поднимали черный обрубок — древо святого креста. Другие воины вели множество пленников, в том числе короля и его избранных рыцарей. Песок пустыни покраснел от крови; воздух раздирали крики победы и вопли предсмертной борьбы или отчаяния. И посреди всего этого смятения, окруженные почтительными сарацинами, стояли эмир, поверх кольчуги одетый в белую тунику и с тюрбаном на голове, и Вульф в доспехах, покрасневших от крови и изрубленных мусульманскими саблями. Первый нанес удар Гассан, удар меткий. Острая, как бритва, сабля соскользнула со стального шлема Вульфа и упала на его наплечник; рыцарь зашатался. Новый удар опустился на его щит, и так сильно, что франк упал на колени.
— Ваш брат погиб, — сказал сарацинский предводитель Годвину, но тот ответил:
— Подождите.
Вульф быстро уклонился от третьего удара, и, когда Гассан наклонился вперед от усилия, д'Арси оперся рукой о землю, вскочил и шагов на восемь отбежал назад.
— Он отступает, — крикнул сарацин, но Годвин ответил:
— Подождите. — И действительно, бросив щит и схватив обеими руками меч, Вульф с криком: «Д Арси, д'Арси!» — прыгнул к Гассану, точно раненый лев. Меч взвился и упал; щит Гассана распался на две части. Еще удар — и увенчанный тюрбаном шлем был разрублен. В третий раз сверкнуло могучее лезвие; теперь плечо и правая рука с саблей отделились от тела эмира; умирающий Гассан упал на землю. Вульф остановился, глядя на него. Печальный ропот вырвался из губ зрителей: все любили эмира. Гассан знаком подозвал к себе победителя и отбросил меч, точно желал показать, что он не боится предательства; Вульф подошел к принцу и опустился перед ним на колени.
— Мастерский удар, — слабым голосом произнес Гассан, — он разрезал двойной слой дамасской стали, точно легкий шелк. Помните, я сказал вам, что наша встреча в бою будет недобрым часом для меня. Вы заплатили долг. Прощайте, храбрый рыцарь. Хотелось бы мне надеяться, что мы встретимся с вами в раю. Возьмите эту драгоценную звезду, носите ее на память обо мне. Живите долго, долго и счастливо…
Вульф обнял эмира. Саладин подошел к своему другу, позвал его, но принц не ответил.
Так умер Гассан, и так окончилась битва при Гаттине, которая сломила власть христиан на Востоке.
VII. ПЕРЕД СТЕНАМИ АСКАЛОНА
Когда Гассан умер, предводитель мамелюков Абдула по знаку Саладина отстегнул от его тюрбана драгоценную звезду и передал ее Вульфу. Она была сделана из крупных изумрудов, осыпанных бриллиантами, и Абдула, жадно посмотрев на нее, прошептал: «Печально, что неверный будет носить заколдованную звезду, „счастье“ дома Гассана». Вульф услышал и запомнил эти слова. Он взял драгоценность и сказал Саладину, указывая на мертвого эмира:
— Окажете ли вы мне пощаду после такого деяния, султан?
— Разве я не напоил вас и вашего брата? — многозначительно спросил Саладин. — Вы в полной безопасности. Только одного поступка, и вы знаете какого, я не прощу вам, — прибавил он, посматривая на д'Арси. — Гассан был моим любимым другом, правда, но вы убили его в честном бою, и душа принца вошла в рай. Никто не будет вам мстить.
Султан замолчал и обернулся к большому отряду христианских пленников, которых победители сарацины пригнали, как живое стадо.
В числе приведенных д'Арси с удовольствием увидели Эгберта, которого они считали мертвым, а рядом с ним раненого гроссмейстера тамплиеров.
— Значит, я был прав, — сиплым голосом и с насмешкой сказал он. — Вот вы, рыцари с видениями и с мехами!.. Вы благополучно добрались в лагерь ваших друзей — сарацин.
— Вы с удовольствием пили из наших мехов, — ответил ему Годвин и прибавил с грустью: — Не все видение еще исполнилось. — Повернувшись, Годвин посмотрел на расшитую палатку, которую расставляли арабы. Гроссмейстер вспомнил, что, по словам Годвина, он подле такой палатки видел мертвых тамплиеров.
— Значит, вы, предатель и колдун, здесь собираетесь зарезать меня! — вскрикнул он.
Бешенство овладело Годвином, и он ответил:
— Не будь вы в плену, я теперь же остановил бы мечом слова в вашем горле, и если мы оба останемся в живых, я это сделаю позже. Вы называете нас предателями, а разве предатели стали бы пробиваться одни сквозь все это войско, потеряв коней, — и он указал на лошадей Огня и Дыма, лежавших с неподвижными, стеклянными глазами, — разве предатели решились бы сшибить с коня Саладина и убить принца Гассана в поединке? — И он повернулся к трупу эмира, которого уносили слуги. — Вы называете меня колдуном и убийцей, потому что ангел показал мне видение. Если бы вы поверили ему, тамплиер, вы спасли бы десятки тысяч людей от кровавой смерти, христианскую веру от уничтожения, а святыню от насмешек. — И он посмотрел на крест, который стоял невдалеке на скале, с мертвым рыцарем, привязанным к его перекладине. — Вот вы — убийца, сэр тамплиер, и вы погубили дело креста, как предсказывал граф Раймунд!
Сарацины оттащили его, раскинули шатер, и Саладин вошел в него, сказав:
— Приведите ко мне короля франков и принца Арпата, которого зовут Рене Шатильонским. — В голову султана пришла какая-то новая мысль, подозвав к себе Годвина и Вульфа, он сказал: — Рыцари, вы знаете наш язык, отдайте ваши мечи моему офицеру, вам вернут их. А теперь идите, будьте моими переводчиками.
Братья вошли за ним в палатку; скоро в нее ввели несчастного короля, седовласого Рене Шатильонского и еще нескольких рыцарей, которые, несмотря на свое несчастье, с удивлением взглянули на Годвина и Вульфа. Саладин понял выражение их лиц и сказал:
— Король и вельможи, не заблуждайтесь. Эти рыцари такие же пленники, как вы, и сегодня никто не бился храбрее их или не принес мне и моим воинам большего вреда! Если бы не мои телохранители, я пал бы от удара меча сэра Годвина. Но они знают арабский язык и будут служить моими переводчиками. Согласны ли вы? Если нет, мы найдем других.
Выслушав перевод этого обращения, король сказал, что он согласен, и прибавил, обращаясь к Годвину:
— Жаль, что две ночи тому назад я не счел вас за переводчика воли небес.
Султан предложил своим пленникам сесть и, видя, что они томятся от страшной жажды, приказал невольникам принести большую чашу шербета из розовой воды, охлажденной снегом. Он собственноручно передал ее королю. Гвидо пил большими глотками, потом передал кубок Рене Шатильонскому; тогда Саладин крикнул Годвину:
— Скажите королю, что не я напоил этого человека. Между мною и принцем Арпатом нет связи соли.
Годвин печально перевел эти слова, и Рене, знавший обычаи сарацин, ответил:
— Незачем объяснять, это мой смертный приговор? Ну, что же, я так и знал!
И снова зазвучал голос султана:
— Принц Арпат, вы старались взять святой город Мекку, осквернить могилу Пророка, и тогда я поклялся убить вас… Потом, когда в мирное время из Египта шел караван мимо Эш-Шобека, вы, забыв клятву, перебили купцов. Они во имя Аллаха просили пощады, говоря, что между сарацинами и франками перемирие. Но вы насмеялись над ними, предложив им ждать помощи Магомета, в которого они верят. Тогда я вторично поклялся убить вас. Тем не менее я даю вам последнюю возможность спастись. Желаете ли вы подчиниться Корану и принять ислам? Или хотите умереть?
Губы Рене побледнели, он зашатался. Но смелость скоро вернулась к нему, и он ответил громким голосом:
— Султан, я не хочу такой ценой купить жизнь. Не преклоню я колен перед вашим псом лжепророком, я умру в вере Христовой и, так как мне надоел мир, рад уйти к Нему.
Саладин встал, даже волосы его бороды поднялись от гнева, обнажив саблю, он громко крикнул:
— Ты оскорбляешь Магомета. Я мщу за него. Возьмите его! — И он ударил Рене саблей плашмя.
Мамелюки кинулись на принца. Вытащив его из палатки, они поставили Рене на колени и обезглавили на глазах солдат и других пленников.
Так храбро умер Рене Шатильонский, которого сарацины называли принцем Арпатом. В наступившей ужасной тишине король Гвидо сказал Годвину:
— Спросите султана: следующая очередь моя или нет?
— Нет, — ответил Саладин, — короли не убивают королей, а этот нарушитель мира получил возмездие по заслугам.
Следующая картина была еще ужаснее. Саладин подошел к выходу из своей палатки и, стоя перед телом Рене, велел привести пленных тамплиеров и госпитальеров. Их привели, всего около двухсот человек; легко было отличить их от других рыцарей по красным и белым крестам, вышитым на их одеждах спереди.
— Они тоже нарушители мира, — крикнул султан. — И я очищу землю от их нечистого племени! Эй, эй, эмиры и законники, — и он обернулся к окружавшим его, — пусть каждый из вас возьмет одного из них и убьет.
Эмиры отступили; как ни были они фанатичны, но не любили убивать беззащитных людей, даже мамелюки зароптали.
Но Саладин снова крикнул:
— Они достойны смерти, и тот, кто не исполнит моего приказания, сам будет убит.
— Султан, — сказал Годвин, — мы не можем присутствовать при таком преступлении, мы просим, чтобы нас тоже убили.
— Нет, — ответил султан, — вы ели со мной соль, и если я убью вас, то согрешу. Пройдите в палатку принцессы Баальбекской — оттуда вы не увидите смерти этих франков, ваших единоверцев.
Один из мамелюков вывел д'Арси, и братья в первый раз в жизни бежали, минуя длинный ряд тамплиеров и госпитальеров, которые, освещенные последними красными лучами умирающего дня, опускались на песок и молились; эмиры подходили к ним…
Никто не помешал д'Арси войти в большую палатку принцессы; в ее отдаленном конце они заметили двух женщин, сидевших, обняв друг друга. Они тоже увидели рыцарей и с радостным криком кинулись к ним, повторяя:
— Вы живы, вы живы!
— Да, Розамунда, — ответил Годвин, — и мы видим позор. Лучше было бы, если бы мы умерли! Сарацины убивают рыцарей священных орденов. Станем на колени и помолимся за их отлетающие души.
Все они опустились на колени и молились, пока вдали не замер шум.
— О, двоюродные братья, — г сказала Розамунда, наконец поднявшись с колен, — среди какого ада злобы и кровопролития живу я. Спасите меня, увезите отсюда! Умоляю вас, спасите.
— Постараемся, — ответили д'Арси. — Но не будем больше говорить об этом, чтобы не потерять разума. Все в воле Божьей…
Расскажите нам, что было с вами.
Розамунде недолго пришлось рассказывать. С ней хорошо обращались, и в армии она всегда была подле султана, так как он все ждал исполнения своего видения. В свою очередь, братья рассказали ей все, что случилось, с ними, не скрыли от нее видения Годвина и смерти Гассана. Услышав о гибели эмира, Розамунда заплакала и немного отшатнулась от Вульфа; она любила принца, но когда Вульф смиренно прибавил;
— Не я виноват, так было решено судьбой. Жаль, что я не умер вместо этого сарацина!
Розамунда ответила:
— Нет, нет, я горжусь, что вы победили его.
В ответ Вульф покачал головой и сказал:
— Я не горжусь. Хотя я устал от ужасной битвы, я все же был моложе и сильнее его. Но мы, по крайней мере, расстались друзьями. Смотрите, вот что он дал мне. — Д'Арси показал Розамунде изумрудную звезду, которую в последнюю минуту ему передал умирающий принц.
Масуда, все время сидевшая спокойно, тоже подошла и посмотрела на звезду.
— Знаете ли вы, — спросила она, — что это драгоценность знаменитая не только по своей цене, но также потому, что рассказывают, будто она принадлежала одному из детей Пророка и с тех пор приносит счастье своему владельцу?
Вульф улыбнулся:
— Немного счастья принесла она бедному Гассану, когда меч моего дяди разрезал дамасскую сталь его кольчуги, точно влажную глину.
— И почти без муки отослала его в рай, — договорила Масуда. — Нет, всю жизнь этот эмир был счастлив; все любили его: султан, жены, товарищи, слуги. И я не думаю, чтобы он желал другого конца, кроме смерти во время битвы с франками. Полагаю также, что в армии султана не найдется ни одного воина, который не отдал бы всего, что он имеет, за это украшение, известное под названием «Звезда счастья Гассана». Итак, берегитесь, сэр Вульф, чтобы вас не обокрали или не убили, несмотря на то, что вы ели соль Салахеддина.
— Я помню, как Абдула жадно посмотрел на звезду и пожалел, что талисман дома Гассана перешел в руки неверного, — сказал Вульф. — Но довольно об этой драгоценности и связанных с нею опасностях; кажется, Годвин хочет что-то сказать.
— Да, — заметил Годвин, — мы здесь благодаря доброте Саладина, который не пожелал, чтобы мы видели смерть наших товарищей; но завтра нас снова разлучат с вами. Итак, вы хотите бежать…
— Я убегу, я должна убежать, даже если мне суждено снова попасться и умереть, — со страстным порывом сказала Розамунда.
— Говорите тише, — шепнула Масуда, — я видела, как евнух Мезрур прошел мимо палатки, и он шпион… Все они шпионы.
— Если вы хотите бежать, — шепотом повторил Годвин, — это нужно сделать через несколько недель, когда войско двинется в путь. Это опасно для всех нас, даже для вас, Розамунда… и у меня нет плана. Но, Масуда, вы умны: придумайте, что делать, и скажите нам.
Она подняла голову, собираясь заговорить, но вдруг на них упала тень. Это подошел главный евнух Мезрур, толстый человек с хитрым лицом и угодливыми манерами. Он низко поклонился Розамунде и сказал:
— Прошу прощения, принцесса. От Салахеддина пришел гонец: султан требует присутствия рыцарей на обеде, который он устроил для своих благородных пленников.
— Повинуемся, — ответил ему Годвин, и, встав со своих мест, братья поклонились Розамунде и Масуде и пошли к выходу. Вульф забыл взять драгоценную звезду, лежавшую на подушке.
Мезрур ловко прикрыл ее складками одежды, и под этим прикрытием его рука скользнула вниз и схватила драгоценность. Он и не знал, что Масуда, которая делала вид, что смотрит в другую сторону, все время наблюдала за ним. Она выждала, чтобы братья дошли до выхода из палатки, потом громко крикнула:
— Сэр Вульф, вам уже надоела счастливая зачарованная звезда или вы хотите отдать ее нам?
Вульф вернулся и заметил:
— Я забыл о ней; это понятно в такое время. Да где же она? Я оставил ее на подушке.
— Осмотрите-ка руку Мезрура, — сказала Масуда. Тогда с лживой улыбкой евнух отдал звезду и сказал:
— Я хотел показать вам, рыцарь, что следует беречь такие драгоценные вещи, особенно в лагере, где много бесчестных людей.
— Благодарю вас, — сказал Вульф, взяв звезду, — вы ясно показали мне это. — И под звуки насмешливого смеха
Масуды д'Арси и Мезрур вышли из палатки.
Посланный от султана повел их по площадке, усеянной телами убитых тамплиеров и госпитальеров, которые лежали, как Годвин видел их в своем видении. На одно из этих тел Годвин наткнулся в темноте и упал подле него на колени. И при свете звезд он узнал лицо рыцаря-госпитальера, с которым подружился в Иерусалиме. Это был очень хороший и кроткий француз, расстался с высоким положением и большими имениями, чтобы вступить в орден во имя любви к Христу. Прошептав над ним молитву, Годвин поднялся и, полный ужаса, направился к королевскому шатру.
Никогда еще братьям не случалось присутствовать при таком странном и печальном обеде. Во главе стола сидел Саладин, окруженный стражами и предводителями, каждое новое блюдо он только пробовал, чтобы показать отсутствие с нем яда. Недалеко от Саладина сидел король Иерусалима с братом, дальше остальные пленники, всего человек около пятидесяти. Печальную картину представляли эти храбрые рыцари в изрубленных, почерневших от крови кольчугах, бледные, с широко открытыми от ужаса глазами, видевшими страшное дело. Между тем они ели и ели с жадностью, потому что, утолив жажду, почувствовали голод. Тридцать тысяч христиан лежали мертвые на горе и в долине Гаттина, Иерусалимское королевство было разрушено, его король попал в плен. Побежденные, лишенные всего, они все же ели и, будучи только людьми, успокаивались при мысли, что, поев, они по закону арабов могли не тревожиться за свою жизнь.
Саладин подозвал к себе Годвина и Вульфа, желая, чтобы они служили ему переводчиками. Братья тоже ели, так как их мучил голод.
— Вы видели принцессу? Как вы нашли ее? — спросил султан.
Вспомнив, почему он упал подле палатки Розамунды, и видя жалких пленников, Годвин почувствовал гнев и храбро ответил:
— Султан, мы нашли, что она устала от картин и звуков войны и убийства; она стыдится также, что ее дядя, победитель, убил двести безоружных…
Вульф вздрогнул, но Саладин выслушал д'Арси без гнева.
— Она, без сомнения, считает меня жестоким, — ответил он, — и вы также находите, что я деспот, который наслаждается, видя смерть своих врагов. Но это ошибка, я хочу мира. Пусть христиане вернутся к себе на родину и поклоняются там Богу по-своему и оставят в покое Восток, Теперь, сэр Годвин, скажите от меня пленникам, что тех из них, которые не ранены, я отправлю в Дамаск в ожидании выкупа, а сам буду осаждать Иерусалим и другие христианские города. Пусть не боятся; я опустошил кубок моего гнева; никто из них не умрет, и их священник, епископ Назаретский, останется ухаживать за их больными и молиться за них по их обрядам.
Годвин поднялся с места и перевел слова султана. Потерявшие мужество и надежду люди молчали. Позже д'Арси спросил Саладина, пошлют ли их с братом в Дамаск.
Саладин ответил:
— Нет, вы некоторое время останетесь со мной и будете служить для меня переводчиками, потом я отпущу вас без всякого выкупа.
На следующее утро пленников отправили в Дамаск. В тот же день Саладин взял цитадель Тивериады, но отпустил на свободу жену и детей графа Раймунда. Скоро он двинулся к Акре и взял тот город, освободив из него четыре тысячи мусульманских пленников. Другие города тоже пали перед его мощью; наконец, султан придвинул войско к Аскалону и повел правильную осаду, приставив осадные машины к городским стенам.
На Аскалон спустилась темная ночь; блестели только молнии грозы, подходившей с гор; они освещали стены и часовых, перистые пальмы, которые рисовались на небе, могучую цепь увенчанных снегами ливанских гор и окружавшее все черное лоно взбаламученного моря. На небольшом лужке сада, подле пустого дома вне стен города, разговаривали двое: мужчина и женщина, оба в темных плащах. Это были Годвин и Масуда.
— Что же? — спросил Годвин. — Все готово?
Она кивнула головой и ответила:
— Да, наконец-то! Завтра, после полудня, начнут штурмовать Аскалон. Но даже если город возьмут, ночью лагерь не снимется. Абдула, немного нездоровый, будет начальником стражи, охраняющей палатку принцессы. Он позволит солдатам уйти грабить город, зная, что они не выдадут его. На закате сторожить останется только Мезрур, я постараюсь, чтобы он заснул. Абдула приведет в этот сад принцессу под видом своего сына; тут вы двое и я встретим их.
— Что же дальше? — спросил Годвин.
— Помните ли вы старого араба, который привел к вам коней и не взял за них денег? Как вы уже знаете, он мой дядя и у него есть лошади той же породы. Я видела его, ему понравился рассказ об Огне и Дыме, о рыцарях, которые скакали на них, главное же о том, как погибли кони, что, по его словам, делает честь их старинному роду. В конце этого сада пещера, прежняя гробница. Там мы найдем четырех лошадей, а с ними и моего дядю; на рассвете мы будем в сотне миль от сада, скроемся среди людей нашего племени и выждем возможности проскользнуть к берегу и попасть на христианский корабль. Нравится ли вам это?
— Очень. Но чего требует Абдула?
— Заколдованной звезды, талисмана дома Гассана. Ни за что иное он не пошел бы на такую опасность. Сэр Вульф отдаст ее?
— Конечно, — со смехом ответил Годвин.
— Хорошо. Звезду нужно отдать сегодня вечером. Я пришлю Абдулу в вашу палатку. Не бойтесь, если он возьмет талисман, он исполнит обещанное, так как в противном случае будет думать, что звезда принесет ему несчастье.
— А Розамунда знает? — спросил Годвин.
Масуда покачала головой:
— Нет, ей до безумия хочется бежать, и она все время думает о бегстве. Но зачем говорить ей раньше времени? Чем меньше людей знает о заговоре, тем лучше. Если что-нибудь не удастся, она останется ни в чем не повинной. Не то…
— Не то последует смерть и конец всему, — сказал Годвин. — Но, право, без печали прощусь с землей. Однако, Масуда, вы подвергаетесь громадной опасности. Скажите мнепо чести, почему вы делаете это?
В эту минуту блеснула молния и осветила ее. Она стояла на фоне зеленых листьев и красных лилий. Глядя на Масуду, Годвину стало страшно, почему, он и сам не знал.
— Почему я привела вас в мою гостиницу в Бейруте?
Почему я отыскала для вас лучших лошадей в Сирии и проводила до дворца аль-Джебала? Почему я не боялась смерти под пыткой? Почему я спасла вас троих? Почему все это время я, в конце концов, рожденная благородной, сделалась предметом насмешек солдат и служанок принцессы Баальбекской? Сказать почему? — продолжала она со странным смехом. — Сначала, конечно, потому, что я была помощницей Сипана, которой он поручил отдать таких рыцарей, как вы, в его руки, а после… потому, что мое сердце наполнилось любовью и жалостью к… благородной Розамунде.
Опять вспыхнула молния и осветила странное выражение на лице Годвина.
— Масуда, — сказал он шепотом, — о. не считайте меня тщеславным безумцем, но, может быть, лучше узнать все.
Скажите: неужели Действительно, как я иногда…
— Боялись? — прервала его Масуда со смехом. — Да, сэр Годвин, вы не ошиблись. Люди не свободны… не осталась свободной и я, когда в первый раз увидела ваши глаза в Бейруте, глаза, которых ждала всю жизнь, и полюбила вас себе на погибель! Но я радовалась, что случилось так, и до сих пор рада. Я не избрала бы другой судьбы, потому что любовь к вам придала значение моей жизни. Нет, не говорите… Я знаю клятву, данную вами госпоже Розамунде, и не буду стараться, чтобы вы ее нарушили. Но, сэр Годвин, такая девушка, как она, может любить только одного…
Годвин не удивился, и на его лице не отразилось страдания.
— Значит, вы знаете то, что я понял давно, так давно, что мое горе растаяло в надежде на счастье моего брата. Кроме того, хорошо, что она избрала более славного рыцаря.
— Порой, — задумчиво сказала Масуда, — я наблюдала за Розамундой и говорила себе: чего вам недостает, госпожа? Вы красивы, вы знатны, вы учены, вы храбры, а потом отвечала себе: «Вам недостает Вульфа, потому что он мужественней и безжалостней».
— Пожалуйста, не говорите так о человеке, который во всех отношениях лучше меня, — с досадой сказал Годвин.
— Другими словами, рука которого немножко сильнее вашей. Ну, для человека нужно что-нибудь побольше силы; ему нужен также дух.
— Масуда, — продолжал Годвин, не обратив внимания на ее слова, — хотя мы угадываем ее желание, но до сих пор она еще ничего не сказала. Кроме того, Вульф может пасть в бою, и тогда я должен заступить его место. Я не свободен, Масуда.
— Влюбленный никогда не бывает свободен, — ответила она.
— Я не имею права любить девушку, которая любит моего брата. Ей принадлежит моя дружба и уважение, не больше…
— Она еще не сказала, что любит вашего брата, и, может быть, мы ошибаемся, — заметила Масуда, — это ваши слова, а не мои.
— А может быть, мы угадали правильно? Что тогда? — спросил Годвин.
— Тогда, — ответила Масуда, — в мире много рыцарских орденов или монастырей. Но не говорите больше о том, что может быть или чего быть не может. Вернитесь в палатку, сэр Годвин, я пошлю туда Абдулу. Ему передайте звезду. Итак, прощайте, прощайте…
Он взял ее протянутую руку, поколебался с мгновение, потом поднес ее к своим губам. Она была холодна, как рука трупа, и упала, как мертвая. Масуда отступила в лилии, точно, желая спрятаться от него и от всего мира. Когда Годвин отошел шагов на восемь или десять, он обернулся: в ту же минуту сверкнула молния, и в ее ослепительном свете он увидел Масуду; она стояла с протянутыми руками, ее бледное лицо было обращено к небу, веки опустились. Освещенное призрачным сиянием молнии, ее лицо походило на лицо недавно умершей, и высокие красные лилии, которые прижимались к ее платью и касались шеи, напоминали потоки свежей крови. Годвин слегка вздрогнул и пошел прочь. Масуда подумала: «Если бы я постаралась затронуть его жалость, думаю, он предложил бы мне свое сердце, которое отвергла Розамунда. Нет, не сердце, потому что его сердце не привязано к земле, но руку и верность. И он сдержал бы обещание. Я, разведенная жена аль-Джебала, сделалась бы леди д'Арси? Нет, сэр Годвин, я согласилась бы на это, только если бы знала, что вы полюбили меня, а этого не будет или будет, когда я умру».
Рукой, которую он поцеловал, она сорвала цветок лилии и так судорожно прижала к груди, что красный сок запятнал ее платье, как кровь. Потом Масуда выскользнула из сада.
VIII. СЧАСТЬЕ ЗВЕЗДЫ ГАССАНА
Через час Абдула беспечно шел к палатке, в которой спали братья. Если бы кто-нибудь подсматривал за ним при свете низко стоявшей луны (гроза и ливень прекратились), он мог бы увидеть, что евнух Мезрур, завернутый в темный плащ из верблюжьего волоса, прячась за каждой скалой, за каждым кустарником и неровностью почвы, крался за предводителем отряда. Мезрур скрылся посреди дромадеров и часовых, заметив, как Абдула вошел в палатку д'Арси. Евнух выждал, чтобы облако заменило луну, никем не замеченный, подбежал к палатке, бросился с ее теневой стороны на землю и слушал, напрягая слух. Однако толстое полотно отяжелело от сырости, а веревки и канавка, выкопанная кругом шатра, не позволяли человеку, не желавшему лежать в воде, прижаться ухом к стенке. Внутри говорили шепотом, и Мезрур уловил только отдельные слова: «сад», «звезда», «принцесса».
Они показались евнуху до такой степени значительными, что он наконец прополз под веревками и, дрожа от холода, лег в канаву с водой, потом острием ножа слегка надрезал полотно палатки. Мезрур прижался глазом к отверстию, но в шатре стояла полная темнота. Подле него звучали голоса.
— Хорошо, — сказал один из братьев (который именно, Мезрур не мог решить, потому что у них были одинаковые голоса). — Хорошо. Завтра в назначенный час вы приведете принцессу в назначенное место и в той же одежде, как условлено. За это я передаю вам талисман Гассана. Возьмите его и поклянитесь, что исполните обещанное, не то звезда не принесет вам счастья: я убью вас в первый же раз, когда мы встретимся.
— Клянусь Аллахом и его Пророком, — ответил дрожащий и хриплый голос Абдулы.
— Достаточно. Храните же клятву; теперь прочь, дольше нам небезопасно оставаться здесь.
Послышались шаги. В отверстии палатки Абдула остановился и, разжав пальцы, посмотрел, не обманули ли его в темноте. Мезрур изогнул шею, чтобы видеть, и разглядел слабый свет луны, мерцавший на великолепной драгоценности, овладеть которой он тоже страстно желал. Его нога ударилась о камень; Абдула посмотрел вниз и увидел, что почти перед ним лежит мертвый или пьяный. Быстрым движением он спрятал звезду и сделал шаг вперед, но, решив, что лучше всего удостовериться, что этот человек действительно мертв или спит, он вернулся и изо всей силы ударил его по спине. Абдула три раза нанес удар, причинив евнуху ужасное страдание.
— Кажется, он двинулся, — прошептал Абдула после третьего удара. — Лучше всего узнать наверное. — И он вынул нож.
Если бы ужас не обессилил Мезрура, он вскрикнул бы пораньше, чем голос вернулся к нему, нож Абдулы ушел на три дюйма в его толстую ляжку. Усилием воли Мезрур заставил себя вынести боль; евнух знал, что, покажи он хоть признак жизни, следующий удар попадет в его сердце. Абдула решил, что, кто бы ни был лежащий, он или мертв, или без сознания; отер нож о платье своей жертвы и ушел.
Вскоре и Мезрур двинулся к жилищу султана; он стонал от ярости и бол» и клялся отомстить. В ту же ночь Абдулу схватили и отвели на допрос. Под пыткой мамелюк сознался, что был в палатке братьев и от одного из них получил звезду, которую нашли при нем и данную ему в уплату за то, чтобы он привел принцессу в известный сад за чертой лагеря. Однако Абдула описал другой сад. Дальше: когда его спросили, кто из д'Арси подкупил его, он стал уверять, будто не знает, так как у обоих рыцарей одинаковые голоса и его приняли в полной темноте; он прибавил, что, по его мнению, в палатке был только один из братьев, другого же он не видел и не слыхал. По словам Абдулы, в палатку его привел араб, которого он нигде не встречал раньше, сказавший, что, если он желает получить то, что нравится ему больше всего на свете, он должен отправиться к д'Арси через час после заката. Сказав это, Абдула потерял сознание; его по приказанию султана снова отнесли в тюрьму.
Утром Абдулу нашли мертвым; он не хотел подвергнуться новой пытке, которая окончилась бы казнью, и затянул на своей шее петлю, сделанную из платья. Предварительно он кусочком угля написал на стене: «Пусть эта проклятая звезда Гассана, которая соблазнила меня, принесет больше счастья другим, и да отправится душа Мезрура в ад!»
Так умер Абдула, оставшийся, по возможности, верным данному слову; он не выдал ни Масуды, ни своего сына и сказал, что только один из братьев был в палатке, хотя отлично знал, что при разговоре присутствовали оба и что именно Вульф говорил с ним и передал ему звезду.
Очень рано утром д'Арси, всю ночь пролежавшие без сна, услышали шум и, выглянув наружу, увидели, что их шатер окружила толпа мамелюков.
— Наш заговор открыт, — сказал Годвин спокойно, но с выражением отчаяния на лице, — ну, брат, ни в чем не сознавайся даже под пыткой, чтобы не погубить других.
— Мы будем биться? — спросил Вульф, накидывая кольчугу.
Но Годвин ответил:
— Нет, зачем убивать отважных людей? Это не принесет нам пользы.
В палатку вошел один из предводителей, приказал братьям отдать ему мечи и пройти вместе с ним к Саладину. Больше он ничего не сказал. Д'Арси ввели в большую комнату дома, в котором поселился Саладин. В конце залы возвышался помост, и братьев проводили до него. Через минуту из противоположной двери вышел султан, а с ним его эмиры и секретари. Бледную Розамунду тоже ввели в комнату, за ней вошла Масуда, лицо которой было, как всегда, спокойно.
Д'Арси поклонились; Саладин, в глазах которого блестело бешенство, не обратил внимания на их приветствие. Несколько мгновений все молчали, потом султан приказал секретарю прочитать обвинение. Недлинно было оно, в нем говорилось только, что рыцари старались украсть принцессу Баальбекскую.
— Какие же улики против нас? — смело спросил Годвин. — Султан справедлив и осуждает людей, основываясь на показаниях свидетелей.
Саладин снова сделал знак секретарю, и тот прочитал показания Абдулы. Братья попросили позволения повидаться с Абдулой, но узнали, что он умер. После этого внесли Мезрура, который не мог ходить из-за своей раны. Евнух рассказал, как он заподозрил Абдулу и все, что случилось дальше. Когда он умолк, Годвин спросил его: кто из них, д'Арси, разговаривал с подкупленным мамелюком, но Мезрур ответил, что он не может этого сказать, так как у них совершенно одинаковые голоса, а в темноте он никого не видел. Розамунде приказали сказать, что она знает о заговоре, и молодая девушка по совести ответила, что ей ровно ничего не известно и что она не собиралась бежать. Масуда тоже с клятвой уверяла, будто она в первый раз слышит о задуманном бегстве. После этого секретарь объявил, что других улик не существует, и попросил султана произнести приговор.
Над которым же из нас? — спросил Годвин. — Ведь все, и мертвые и живые свидетели, показали, что они слышали один голос; но чей именно — не знали. По вашему закону, султан, вы не можете осудить человека без достаточных улик.
— Против одного из вас улик достаточно, — сурово отозвался Саладин. — Против виновного говорили два свидетеля, как того требует закон. Я давно предупреждал вас, что за такое преступление кара — смерть, и думаю, вы оба повинны. Но вас судили по закону, и, как справедливый судья, я не хочу нарушить его: только одного виновного обезглавят на закате в тот самый час, когда он думал выполнить свой преступный замысел. Другой может уйти с гражданами Иерусалима, которые отправляются сегодня с моим посланием к франкским правителям святого города.
— Кто же из нас умрет? — спросил Годвин. — Ответьте нам, чтобы осужденный готовился к смерти.
— Скажите сами, — ответил Саладин.
— Мы ни в чем не сознаемся, — сказал Годвин, — однако, если одному из нас нужно умереть, я, как старший, требую этого права.
— А я требую его, как младший. Гассан подарил мне драгоценность: кто же другой мог передать ее Абдуле? — сказал Вульф, заговоривший в первый раз. И все сарацины, люди храбрые, любившие рыцарские поступки, зашептали от восхищения, даже Саладин заметил:
— Оба вы говорили хорошо. Итак, по-видимому, вы оба должны умереть.
Розамунда упала на колени и вскрикнула.
— Повелитель, мой дядя, вы не прикажете убить двоих за проступок одного, если только был проступок. Вы не знаете, кто из них виновен, а потому, молю вас, пощадите обоих.
Протянув руку, султан поднял ее и, немного подумав, сказал:
— Нет, моя племянница, просьбы бесполезны. Как бы вы ни любили его, дитя мое, виновный должен понести кару. Кто преступник — знает один Аллах; пусть же Аллах и решит… — Он опустил голову на руку и смотрел на Вульфа и Годвина, точно желая прочитать в их душах.
Позади Саладина стоял тот старый знаменитый имам, который был с ним и с Гассаном, когда султан отослал братьев из Дамаска. Старик смотрел и слушал, улыбаясь странной улыбкой. Он наклонился, шепнул несколько слов Саладину, и тот, поразмыслив немного, ответил:
— Хорошо, делай.
Имам ушел из залы, но скоро вернулся и принес два ящичка из сандалового дерева, перевязанные шнурами и запечатанные печатями; они были так похожи один на другой, что никто не различил бы их. Шкатулки эти старик несколько раз перебросил из одной руки в другую, потом подал их Саладину.
— В одном из ящиков, — сказал султан, — лежит драгоценность, которую называют волшебной звездой, «счастье дома Гассана». В другой — камешек одинаковой с нею тяжести. Племянница моя, возьмите эти шкатулки и отдайте вашим рыцарям. Звезда Гассана обладает волшебными свойствами, по крайней мере, так говорят люди. Пусть же талисман выберет того из них, которому надлежит умереть: погибнет тот, в чьей шкатулке окажется звезда!
— Теперь, — прошептал имам на ухо Саладину, — теперь наконец мы узнаем, которого из двух любит принцесса.
— Это-то я и хочу узнать, — ответил Саладин тоже шепотом.
Розамунда с ужасом посмотрела на дядю и заговорила:
— О, не будьте так жестоки, молю вас, избавьте меня… Пусть другая рука принесет смерть тому или иному из друзей моей юности. Не превращайте меня в слепое орудие рока; ведь это будет смущать мои сны и всю мою жизнь превратит в печаль. Молю вас, пощадите меня.
Но султан сурово посмотрел на нее и сказал:
— Принцесса, вы знаете, зачем я привез вас на Восток и осыпал великими почестями, почему сделал вас своей спутницей во время войны? Тем не менее я чувствую, что вы стремитесь бежать от меня, и ради этого составился заговор, хотя вы говорите, что ни вы, ни ваша служанка (он мрачно посмотрел на Масуду) ничего не знаете о преступных предположениях.
Рыцарям же они известны, и вы, ради которой было задумано преступление, по справедливости должны принять «награду» за него. Пусть кровь невольно указанного вами падет на вашу голову. Исполните же мое приказание.
Розамунда посмотрела на ящички, потом закрыла глаза и, взяв шкатулки наудачу, наклонилась над краем помоста. Братья спокойно взяли каждый ту шкатулку, которая пришлась к нему ближе: ящичек в левой руке Розамунды достался Годвину, в правой — Вульфу. Она открыла глаза и окаменела.
— Кузина, — сказал Годвин, — раньше, чем мы разрежем шнурки, узнайте, что мы не будем порицать вас, что бы ни случилось. Вами руководит Бог, и вы так же неповинны в смерти того или другого из нас, как и в том заговоре, за который его казнят.
И он начал развязывать шелковый шнурок, окружавший его шкатулку. Вульф знал, что сейчас разрешится загадка, а потому до поры до времени не трудился распутывать узла и осматривал залу, мысленно говоря себе, что, останется ли он жив или умрет, ему никогда не доведется видеть более странной картины. Все смотрели на шкатулку Годвина, даже султан. Впрочем, нет, не все: глаза старого имама не отрывались от лица Розамунды, и на это лицо было жалко смотреть: вся его красота исчезла, даже полураскрытые губы молодой девушки приняли пепельный оттенок. Одна Масуда как бы присутствовала при каком-то представлении, но Вульф заметил, что даже ее яркий румянец побледнел и что скрытая под плащом ее рука прижалась к сердцу. Стояла напряженная тишина: ее нарушал только скребущий звук ногтей Годвина, так как, не имея ножа, он терпеливо распутывал шелковый узел.
— Слишком много хлопот из-за жизни человека в той стране, где жизни дешевы! — вскрикнул Вульф, вслух высказав свою мысль; и при звуке его голоса все вздрогнули, точно в летнем небе грянул гром. И со смехом он сильными пальцами разорвал шелковый шнурок, который окружал его шкатулку, сорвал с нее печать и вытряхнул то, что лежало в ней.
Сверкая зелеными и белыми лучами, изумрудная и бриллиантовая, зачарованная звезда Гассана упала к его ногам.
Масуда увидела, вздохнула, и румянец вернулся на ее щеки. Розамунда тоже увидела и не выдержала: из ее губ вырвался отчаянный крик, который показал ее чувства.
— Нет, не Вульф, не Вульф! — простонала она и упала без чувств на руки Масуде.
— Теперь, повелитель, — с легким смехом сказал имам, — твое величество знает, которого из двух рыцарей любит она. И, как женщина, она сделала дурной выбор, потому что у того, у другого, душа гораздо чище и выше.
— Да, знаю, — сказал Саладин, — и очень рад. Неизвестность раздражала меня.
Вульф, на мгновение побледневший, вспыхнул от радости.
— Правильно назвали эту звезду талисманом счастья, — сказал он, поднимая драгоценность и пристегивая ее на свою тунику повыше сердца, — я считаю, что не слишком дорогой ценой плачу за нее. — Потом, обращаясь к брату, который, бледный и молчаливый, стоял подле него, сказал: — Прости меня, Годвин, но таковы случайности в любви и на войне. Не сердись, потому что, когда я сегодня вечером умру, и «счастье Гассана», и все, что зависит от него, перейдет к тебе…
Так окончилась странная сцена.
Подходил вечер, Годвин стоял перед Саладином в его комнате.
— Что вам еще нужно, рыцарь? — сурово спросил султан.
— Милости, — ответил Годвин. — Мой брат должен умереть на закате; я же прошу, чтобы вместо него казнили меня.
— Почему, сэр Годвин?
— По двум причинам, султан. Как вы уже узнали сегодня, загадка разрешилась. Наша дама Розамунда любит Вульфа, а потому было бы преступно убить его. Потом евнух слышал, что я, а не он торговался с капитаном Абдулой в палатке. Клянусь в этом. Обрушьте же вашу месть на меня, а его предоставьте судьбе.
Саладин дернул, себя за бороду, потом ответил:
— Если так, то времени осталось мало, сэр Годвин. С кем хотите вы проститься? С моей племянницей Розамундой? Нет, принцессу вы не увидите. Она лежит без чувств в своей комнате. Может быть, вы хотите, в последний раз повидаться с братом?
— Нет, султан, потому что тогда он угадает правду и…
— Откажется от вашей жертвы, сэр Годвин.
— Я хочу проститься с Масудой, служанкой принцессы.
— Этого сделать нельзя; я не доверяю больше Масуде и думаю, что она была в заговоре. Я разлучил ее с принцессой и высылаю из моего лагеря; вероятно, она уже уехала или скоро уедет с рабами своего племени. Если бы не ее заслуги в стране ассасинов и позже, я приказал бы ее убить.
— Тогда, — сказал Годвин со вздохом, — мне хотелось бы повидаться с епископом, чтобы он напутствовал меня и выслушал мои последние желания.
— Хорошо, его пришлют к вам. Я принимаю ваше признание, считаю, что виновны вы, а не сэр Вульф, и беру вашу жизнь. Уйдите, другие более, важные дела меня занимают. В назначенный час стражи придут за вами.
Годвин поклонился и твердыми шагами вышел из комнаты; Саладин посмотрел ему вслед, прошептав: «Жаль. Было бы жаль, если бы мир потерял такого отважного и хорошего человека!»
Через два часа стражи пришли за Годвином; вместе со старым епископом, причастившим его, д'Арси вышел из дверей тюрьмы со счастливым выражением лица, точно жених, идущий на свадьбу. И действительно, он был счастлив в некотором смысле; он понимал, что все затруднения и печали окончились для него; у него почти не было грехов, верил он, как ребенок, и отдавал свою жизнь за друга и брата. Годвина провели в сводчатое подземное помещение большого дома, в котором жил Саладин. Темную комнату освещали факелы. Тут его ждали палачи с помощниками. Вот вошел и Саладин, с любопытством посмотрел на Годвина и спросил:
— Вы не переменили намерения, сэр д'Арси?
— Нет.
— Хорошо. Но мои намерения изменились. Вы проститесь с вашей двоюродной сестрой, как желали. Приведите или принесите сюда принцессу Баальбека, здорова она или больна. Пусть она увидит дело своих рук.
— Султан, — с мольбой в голосе сказал Годвин, — избавьте ее от такого зрелища.
Но он просил напрасно,Саладин ответил только:
— Я сказал.
Прошло несколько минут; наконец послышался шелест платья. Годвин поднял голову и увидел высокую фигуру закутанной женщины, стоявшую в глубине подземелья; там было так темно, что свет от факела слабо мерцал на ее царственных украшениях.
— Мне сказали, что вы больны, принцесса, больны от печали; и немудрено, потому что человек, которого вы любите, был готов умереть за вас, — медленно произнес Саладин. — Теперь я сжалился над вами, и его жизнь куплена другой жизнью; вместо него умрет рыцарь, стоящий перед вами.
Женщина в покрывале страшно вздрогнула и отшатнулась к стене.
— Розамунда, — сказал Годвин по-французски, — молю вас, молчите и не отнимайте у меня сил слезами. Так лучше; вы сами знаете. Вульфа вы любите, и он любит вас, я верю, что со временем вы будете вместе. Меня вы любите только как друга.
Кроме того (я скажу это, чтобы успокоить вас, а также и мою совесть), моя невеста — смерть, и я не хотел бы теперь видеть вас своей женой. Пожалуйста, передайте Вульфу, что я его благословляю и люблю; скажите также Масуде или напишите ей, этой самой верной, самой прелестной женщине, что я приношу ей в дар мое сердце, что я думал о ней в последние мгновения; что я молю небо позволить мне снова встретиться с нею там, где все неровные пути делаются гладкими. Прощайте, Розамунда, да будет с вами мир и радость всю вашу жизнь, с вами и с детьми детей ваших… Прошу вас, помните о Годвине только, что при жизни он служил вам и слугой умер.
Она услышала, протянула руки, и, так как никто не удерживал его, Годвин подошел к ней. Не поднимая покрывала, она наклонилась и поцеловала его сначала в лоб, потом в губы и с тихим стоном выбежала из темной комнаты. Саладин не остановил ее. Только в глубине души султан удивился, почему, любя Вульфа, Розамунда так нежно поцеловала в губы Годвина? И, подходя к плахе, Годвин тоже спросил себя, почему Розамунда не сказала ему ни слова и почему она так горячо его поцеловала? Он почему-то вспомнил безумную скачку в горах Бейрута, прикосновение губ к его щеке над пропастью и запах волос, коснувшихся тогда его лица. Он прогнал эти мысли и вспыхнул, удивляясь, что такие воспоминания пришли в его мозг в ту минуту, когда он покончил с земным счастьем; потом рыцарь опустился на колени перед палачом и сказал епископу:
— Благословите меня, отец, и попросите нанести удар.
И вдруг Годвин услышал знакомые шаги и, подняв голову, увидел Вульфа, который смотрел на него.
— Что ты тут делаешь? — спросил Вульф. — Разве эта лисица, — и он кивнул головой в сторону Саладина, — уловила обоих нас?
— Дайте сказать слово лисице, — с улыбкой сказал султан. — Узнайте, сэр Вульф, что ваш брат по собственному желанию хотел умереть вместо вас. Я отказываюсь от такой жертвы; я только желал показать моей племяннице, принцессе, что, если она будет продолжать делать заговоры для бегства или позволит вам искать возможности украсть ее, это, конечно, поведет к вашей смерти, а в крайнем случае, и к ее гибели. Рыцари, вы храбры, и я предпочитаю убить вас во время сражения. У дверей моего дома стоят добрые кони, возьмите их от меня в подарок и поезжайте с этими безумными гражданами Иерусалима. Может быть, на улицах святого города мы встретимся опять. Нет, не благодарите. Я благодарю вас за то, что вы показали Салахеддину, как совершенна может быть братская любовь!
Братья стояли, как во сне. Всегда странно внезапно вернуться от смерти к жизни. Оба д'Арси готовились умереть, пройти через тьму, которая окружает человека, чтобы встретить неизвестное. Они не боялись и хорошо приготовились к концу, а между тем в каждом из братьев зашевелилось приятное сознание, что он еще может надеяться пожить. Немудрено же, что у них перед глазами потемнело. Первым заговорил Вульф:
— Благородный поступок, Годвин, но, доведи ты его до конца, я не поблагодарил бы тебя. Султан, мы благодарны вам за дарованную нам жизнь, хотя, если бы вы пролили эту невинную кровь, вы, конечно, запятнали бы свою душу. Можем мы проститься с нашей кузиной Розамундой перед отъездом?
— Нет, — ответил Саладин, — сэр Годвин уже простился с нею. Этого довольно, завтра она узнает истину. Уезжайте и не возвращайтесь больше.
— Будет то, что велит судьба, — ответил Годвин.
Д'Арси поклонились и ушли.
У дверей мрачного подземелья им отдали их мечи и подвели двух хороших лошадей. Воины проводили их к посольству из Иерусалима, которое с восторгом приветствовало славных рыцарей. Д'Арси простились с епископом Эгбертом, и старик заплакал от радости, видя, что они освободились, хотя сам он остался в плену. С наступлением ночи члены посольства, братья и эскорт из воинов султана уехали из-под стен Аскалона. Д’Арси рассказали друг другу все, что случилось с ними, и, услышав о печали Розамунды, Вульф с трудом удержался от слез.
— Нам дарована жизнь, — сказал он, — но как мы спасем ее?
Пока с ней была Масуда, мы все-таки могли надеяться, но теперь, мне кажется, все пропало.
— Можно надеяться на Бога, — ответил Годвин. — Он все в силах сделать, даже освободить Розамунду. А если Масуда на воле, мы вскоре услышим о ней; поэтому не будем унывать. Однако, несмотря на эти бодрые слова, душу Годвина давила тяжесть; он боялся, сам не зная чего. Ему чудилось, что какой-то ужас подходит к нему или к кому-то, ему близкому и дорогому. Все глубже и глубже погружался он в эту бездну страха, наконец чуть не закричал громко, и холодный пот выступил на его лбу. Вульф увидел его лицо при свете месяца и спросил:
— Что с тобой, Годвин? Нет ли у тебя тайной раны?
— Да, брат, у меня душа болит. Несчастье, большое несчастье грозит нам.
— Это не новость, — сказал Вульф, — в стране крови и печали. Встретим его, как встречали прежде.
— Ах, нет, — прошептал Годвин, — я боюсь, что опасность грозит Розамунде или Масуде…
— Тогда, — ответил Вульф, бледнея, — раз мы ничего не можем сделать, помолимся, чтобы ангел послал спасение…
— Да, — согласился Годвин. И, двигаясь посреди песков пустыни, под светом молчаливых звезд, они молились Божьей Матери и своим святым Петру и Чеду.
Занималась заря, и при виде первых лучей воины Саладина поехали обратно, сказав братьям, что теперь они в своей собственной стране. Целую ночь скакали д'Арси. Низменность осталась позади, теперь перед ними вилась дорога среди холмов; вдруг она сделала поворот, и в горячем, пламенном свете поднимающегося солнца перед д'Арси явилось зрелище до того прекрасное, что братья, опередившие весь остальной отряд посольства, остановили своих коней: вдали, раскинутый на холмах, виднелся святой город Иерусалим; красный в лучах рассвета, точно омытый кровью своих поклонников, высился большой крест над мечетью Омара, крест, которому вскоре предстояло пасть.
На предложение Саладина пощадить всех граждан святого города, если они сдадутся, посольство возило ему отказ. Теперь, возвращаясь в Иерусалим и взглянув на город во всем его величии, послы громко застонали, предчувствуя его судьбу.
Годвин тоже застонал, но не из-за судьбы Иерусалима. Его охватил последний ужас. Ему показалось, что все стемнело кругом, только мечи блеснули во мраке, и женский голос прошептал его имя. Схватившись за луку седла, он качнулся взад и вперед… И внезапно страдание исчезло. Ему почудилось, будто странный ветер пронесся мимо него и коснулся его волос; глубокий, неземной покой охватил его душу; весь мир как бы отошел, а небо приблизилось.
— Кончено, — сказал он Вульфу, — боюсь, что Розамунда умерла.
— Если так, мы должны поспешить за нею, — со слезами ответил Вульф.
IX. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГОДВИНОМ
Миль за семь до Иерусалима, в деревне Биттир, посольство сошло с коней, чтобы отдохнуть, потом снова двинулось вперед по долине, надеясь раньше полуденного зноя доехать до Сионских ворот. В конце этой долины поднимался выступ горы, с которого глаз мог охватывать все ее протяжение. Вот на хребте выступа внезапно вырисовались мужчина и женщина на великолепных лошадях. Вся маленькая толпа иерусалимских послов Остановилась, боясь, что появление этих всадников предвещает нападение и что наездница — мужчина, переодетый в женское платье, чтобы обмануть их. Между тем стоявшие на гребне повернули лошадей и, не обращая внимания на крутизну, быстро понеслись вниз. Вульф с удивлением посмотрел на скакавших и сказал Годвину:
— Мне вспомнилась наша поездка подле Бейрута. Мне даже кажется, что это именно тот араб, который сидел позади меня; что эта женщина ехала с тобой, что эти лошади Огонь и Дым, ожившие вновь. Заметь: они несутся, как вихрь, как они сильны и ловки!
Почти в ту же минуту незнакомые наездники подскакали к посольству, и араб по-восточному приветствовал всех. Годвин рассмотрел его лицо и тотчас же узнал старика по прозвищу Сын Песка, который привел им лошадей Огня и Дыма.
— Господин, — сказал араб предводителю иерусалимского посольства, — я приехал, чтобы попросить одной милости от рыцарей, которые путешествуют вместе с вами; надеюсь, они, владевшие моими лошадьми, не откажут мне. Вот эта женщина, — и он указал на фигуру, завернутую в покрывало, — моя родственница, которую я хочу передать в руки ее друзей в Иерусалиме, но боюсь сделать это лично; здешние горцы враждуют с моим племенем. Она христианка и не шпионка, но не может говорить на вашем языке. Подле южных ворот ее встретят ее родственники. Я все сказал.
— Пусть рыцари сами решат, — сказал глава посольства, пожимая плечами и пришпоривая лошадь.
— Конечно, мы отвезем ее, — согласился Годвин, — хотя не знаю, что мы будем делать с нею, если друзья не встретят ее. Но, пожалуйста, поедем с нами.
Она повернула голову к арабу, точно спрашивая его о чем-то, и он повторил ей слова Годвина, тогда она пустила свою лошадь между конями братьев.
— Может быть, — продолжал араб, — теперь вы лучше узнали наш язык, чем знали тогда в Бейруте, однако даже в таком случае, прошу вас, не беспокойте разговорами эту женщину и не просите ее сбросить вуаль с лица, потому что это не в обычаях наших. До города всего час пути. Это будет платой за тех хороших лошадей, которые, как мне сказали, совсем недурно служили вам на узком мосту и неплохо несли вас по низменности и горам, когда вы бежали от Сипана; хорошо также держались кони в злой день Гаттинской битвы, когда вы сбили с седла Саладина и убили Гассана.
— Будет исполнено, — сказал Годвин, — мы благодарим вас, Сын Песка, за тех коней.
— Отлично. Когда вам понадобятся еще кони, велите выкрикнуть на рыночной площади, что вы желаете видеть меня, — И он начал поворачивать свою лошадь.
— Стойте! — крикнул Годвин. — Что вы знаете о Масуде, вашей племяннице? Она с вами?
— Нет, — тихо ответил араб, — но она приказала мне прийти за ней в один сад, знакомый вам, подле стен Аскалона; она скоро покинет лагерь Салахеддина. Итак, я поеду туда, прощайте. — И с поклоном закутанной женщине он передернул поводьями и, как стрела, умчался по той дороге, по которой приехали братья.
Годвин вздохнул с облегчением. Если Масуда просила дядю встретиться с ней, она, по крайней мере, была в безопасности. Значит, не ее голос прошептал его имя в темноте ночи, когда им владел ужас — ужас, может быть, рожденный тем, что он вынес раньше. Потом он оглянулся и увидел, что Вульф смотрит на женщину, которая ехала немного позади них, и упрекнул его, заметив, что раз он не имел права говорить с нею, он не должен был и смотреть на нее.
— Жаль, — ответил Вульф, — потому что, хотя она закутана, это, должно быть, благородная женщина, и она хорошо ездит верхом. Да и конь у нее великолепный, вероятно, брат или двоюродный брат моего Дыма. Может быть, в Иерусалиме она согласится продать нам его?
Итак, они поехали, не глядя больше на свою спутницу; зато она пристально вглядывалась в них.
Вот наконец и ворота Иерусалима. Под ними толпилось множество народа, все ждали возвращения посольства. Большая часть толпы отправилась вслед за ними, чтобы узнать, привезло ли оно мир или войну.
Тут Годвин и Вульф переглянулись, не зная, куда ехать или где отыскать родственников своей закутанной спутницы, так как близ них не осталось никого. На противоположной стороне улицы виднелась арка, а за аркой сад, казалось, пустынный. Они въехали в него, чтобы посоветоваться, закутанная женщина следовали за ними.
— Мы в Иерусалиме и можем поговорить с ней, — сказал Вульф, — нужно же нам узнать, куда отвезти ее.
Годвин кивнул головой.
— Госпожа, — сказал он по-арабски, — мы исполнили данное нам поручение. Пожалуйста, скажите нам, где родственники, которым мы должны передать вас?
— Здесь, — ответил нежный голос.
Они окинули взглядом заброшенный сад, в котором были навалены камни и мешки с землей на случай осады.
— Мы не видим их.
Всадница сбросила с себя плащ, но не покрывало, и братья увидели ее платье.
— Клянусь святым Петром, — сказал Годвин, — я узнаю вышивку. Масуда! Это вы, Масуда?
Покрывало тоже упало: перед ними была женщина, похожая на Масуду, а между тем не она. Волосы были причесаны, как у нее, украшения и ожерелье, сделанное из когтей львицы, которую убил Годвин, принадлежали ей; кожа на лице отливала богатым румянцем аравитянки, даже маленькая родинка чернела на ее щеке, но братья не могли видеть ее глаз, так как она наклонила голову. И вдруг с легким стоном всадница подняла голову и посмотрела на д'Арси.
— Розамунда, это сама Розамунда! — задыхаясь, вскрикнул Вульф. — Розамунда под видом Масуды! — И он скорее упал, чем соскочил с лошади и подбежал к ней, говоря: — Боже, благодарю тебя!
Она в полуобмороке соскользнула с седла в его объятия. Годвин стоял, отвернув голову.
— Да, — сказала Розамунда, немного приходя в себя. — Это я, я ехала с вами, и ни один из вас не узнал меня…
— Разве наши глаза могут пронизывать тяжелые покрывала? — с неудовольствием заметил Вульф. Годвин же спросил странным, напряженным голосом:
— Вы, Розамунда, под видом Масуды. С кем же я прощался, когда палач ждал меня? Это была женщина под покрывалом в одежде и драгоценностях Розамунды…
— Не знаю, Годвин, — ответила она. — Может быть, это была Масуда, одетая в мое платье. И я не знала, что палач ждал вас. Я думала… я думала, что он ждет Вульфа… О, небо! Я думала это…
— Расскажите нам все, — хриплым голосом попросил Годвин.
— Недолго рассказывать, — ответила Розамунда. — После того, как были вынуты жребии, я упала в обморок. Когда же я очнулась, мне показалось, что я сошла с ума: передо мною стояла женщина в моей одежде и с лицом, походившим на мое.
«Не бойтесь, — сказала она, — я Масуда; в числе других познаний я научилась теперь менять наружность. Слушайте, нельзя терять времени. Мне приказали уехать из лагеря, и теперь мой дядя, араб, ждет меня за чертой лагеря с двумя быстрыми лошадьми. Вместо меня уедете вы, принцесса. Посмотрите, вы одеты в мою одежду и у вас почти мое лицо… Мы одинакового с вами роста, и солдат, который поедет провожать вас, не „заметит“ обмана. Я позаботилась об этом; он воин Салахеддина, но родом из моего племени. Я дойду с вами до дверей и при евнухах и воинах-часовых прощусь с вами… и буду плакать.
Кто же угадает, что Масуда — принцесса Баальбека, а что принцесса Баальбека — Масуда?»
«Куда же я поеду?» — спросила я.
«Мой дядя передаст вас посольству, которое возвращается в Иерусалим или довезет вас до святого города; если это не удастся, спрячет вас в горах среди своих соплеменников. Вот письмо к нему, я кладу его за ваш корсаж».
«Что же будет с вами, Масуда?» — спросила я опять.
«Со мной? О, все обдумано, и все удастся, — ответила она. Не бойтесь. Я бегу сегодня ночью; как — мне нет времени рассказывать… И через день или два догоню вас. Я также думаю, что вы встретите сэра Годвина, который отвезет вас домой в Англию».
«Но Вульф? Что же с Вульфом? — спросила я. — Он осужден на смерть, и я не хочу покинуть его».
«Живой и мертвый не товарищи, — ответила она, — кроме того, я видалась с ним, и все делается по его приказанию. Он приказывает вам исполнить задуманное из любви к нему…»
— Я не видел Масуды, я не говорил ей ничего. Я не знал об этом замысле… — вскрикнул Вульф. Братья, побледнев, переглянулись.
— Дальше, дальше, — проговорил Годвин. — Рассуждать мы будем потом.
— Вот что еще сказала Масуда, — продолжала Розамунда. — «Я уверена, что сэр Вульф спасется; если вы хотите видеть его, исполните сказанное, в противном случае никогда не надейтесь встретить его в жизни. Идите же, пока нас не открыли.
Это погубило бы и вас и меня. А если вы уедете, я останусь жива».
— Как она знала, что я спасусь? — спросил Вульф.
— Она не знала этого. Она только говорила, будто знает, чтобы заставить Розамунду уйти, — ответил все тем же напряженным голосом Годвин. — А потом?
— А потом, повинуясь желанию Вульфа, я ушла… как во сне. У дверей мы поцеловались и расстались со слезами: пока часовой кланялся ей, она шепотом благословила меня. Ко мне подошел солдат и сказал: «Иди за мной, дочь Сипана». И я пошла; никто не обратил на нас внимания, потому что как раз в это время странная тень закрыла солнце, и все испугались, думая, что странное явление предвещает гибель или Саладину, или Аскалону.
В полутьме солдат довел меня до сада, в котором меня ждал всадник, державший в поводу двух лошадей. Солдат сказал арабу несколько слов; я же подала ему письмо Масуды. Он прочитал его, посадил меня на одну из лошадей, солдат сел на другую, и мы пустились галопом. Весь этот вечер и ночь мы ехали без остановки, но в темноте солдат отделился от нас, и куда он скрылся — не знаю. Наконец мы приехали на выступ горы и остановились, дав отдых лошадям. Араб поел запасов, которые он вез с собой, и накормил меня. И вот мы видели посольство, а в нем двух высоких рыцарей… «Посмотрите, — сказал старик, указывая на вас, — и поблагодарите Аллаха и Масуду, не солгавшую вам; к ней я должен вернуться».
На прощание араб сказал, что ради спасения жизни я должна молчать и даже перед вами до Иерусалима не снимать покрывала, так как члены посольства, узнав, что с ними едет принцесса Баальбекская, племянница султана, могли бы решить выдать меня Саладину. И он повторил, что вернется к Аскалону ради спасения Масуды. Остальное вы знаете, и, благодаря Бога, мы все трое вместе.
— Да, — сказал Годвин, — мы вместе, но где Масуда? И что будет с ней, задумавшей это бегство? Теперь слушай, Вульф: помести Розамунду у какой-нибудь почтительной женщины в святом городе или, еще лучше, отвези ее к монахиням Святого Креста — оттуда никто не осмелится взять ее; пусть она наденет монашеское платье. Мы встречали настоятельницу, и, вероятно, она не откажется приютить Розамунду.
— Да, да, помню: она еще расспрашивала нас о разных людях в Англии. Но ты? Куда поедешь ты, Годвин? — спросил его брат.
— Я поеду обратно к Аскалону, чтобы отыскать Масуду.
— Как? — вскрикнул Вульф. — Разве Масуда не может спасти себя сама, как она сказала арабу? Ведь он же поехал за ней…
— Не знаю, — ответил Годвин. — Я помню только, что ради Розамунды, а может быть, также ради меня Масуда подвергла себя ужасной опасности. Подумай, какие чувства охватили султана, узнавшего, что та, на которую он возлагал высокие надежды, исчезла, оставив после себя свою приближенную, одетую в царственное платье?
— О, — вскрикнула Розамунда, — я боялась этого… но когда я пришла в себя, я уже была переодета… и она уверила меня, что все хорошо, а также, что все делается по желанию Вульфа, который, как она твердила, непременно спасется.
— Это хуже всего, — сказал Годвин. — Чтобы привести в исполнение свой план, она нашла необходимым солгать, говоря, что, по ее мнению, мы оба спасемся. Я скажу, зачем она сказала неправду: ей хотелось отдать свою жизнь и сделать все, чтобы вы освободились и встретились со мной в Иерусалиме.
Розамунда, знавшая тайну сердца Масуды, посмотрела на него, удивляясь в душе, что аравитянка, считая Вульфа мертвым, пожелала принести себя в жертву ради встречи Розамунды с Годвином. Конечно, она сделала это не из любви к ней, Розе Мира, хотя они были очень дружны. Значит, из любви к Годвину? Какое странное доказательство любви.
Розамунда взглянула на Годвина, а Годвин на Розамунду, и они поняли истину во всей ее полноте, во всей святости и ужасе: Масуда решила скрыться в тени смерти, предоставив тому, кого любила, после удаления его соперника жениться на любимой девушке.
— Думаю, я тоже вернусь, — сказала Розамунда.
— Этого не будет, — ответил Вульф. — Саладин убил бы вас.
— Это не должно быть, — прибавил Годвин. — Неужели кровь, принесенная в жертву, прольется напрасно? Нет, мы обязаны удержать вас.
Розамунда посмотрела на него и нетвердо произнесла:
— Если… если… ужасное совершилось, Годвин… Если жертва… О, к чему она поведет?
— Розамунда, я не знаю, что случилось; я еду удостовериться. Мне все равно, что ждет меня… Я ко всему готов. В жизни, в смерти, в случае нужды во всех огнях ада я буду искать
Масуду и преклоню перед ней колени с полным почтением…
— И с любовью, — как бы невольно докончила Розамунда.
— Может быть, — ответил Годвин, говоря скорее с собой, чем с ней.
И, увидев выражение его лица, сжатые губы и пылающие глаза, ни Розамунда, ни Вульф не стали больше удерживать его.
— Прощайте, Розамунда, — сказал Годвин. — Мое дело окончено; я оставляю вас на попечение Бога в небесах и Вульфа на земле. Если мы больше не встретимся, я советую вам обвенчаться с ним в Иерусалиме, вернуться в Стипль и жить там в мире. Прощай, брат Вульф! Мы в первый раз расстаемся с тобой; мы жили вместе с самого рождения, вместе любили, вместе сделали много деяний, на которые можем посмотреть не стыдясь. Живи счастливо, принимая любовь и радость, которые небо дало тебе; живи, как хороший христианский рыцарь, думая о неизбежном конце и о вечности по ту сторону гроба.
— О, Годвин, не говори так, — сказал Вульф. — Наша кузина будет в безопасности посреди монахинь. Дай мне час времени; я устрою ее в монастыре и вернусь к тебе. Мы оба в долгу перед Масудой, и несправедливо, чтобы ты один заплатил ей.
— Нет, — ответил Годвин, — оберегай Розамунду; подумай о том, что произойдет с городом. Неужели ты решишься оставить ее в такое время?
Тогда Вульф опустил голову. Годвин сел на коня и, даже не обернувшись назад, двинулся по узкой улице через ворота и исчез в отдалении среди пустыни.
Вульф и Розамунда смотрели вслед ему; их душили слезы.
— Не думал я так расстаться с братом, — наконец сказал Вульф низким и рассерженным голосом. — Клянусь язвами Христа! Я охотнее умер бы рядом с ним в битве, чем бросил его одного на погибель!
— Предоставив мне погибнуть? — прошептала Розамунда и прибавила: — Ах, зачем я не умерла, ведь я принесла все эти несчастья вам обоим и этому великому сердцу — Масуде. Да, Вульф, повторяю, что мне хотелось бы теперь лежать мертвой.
— Очень вероятно, это желание исполнится вскоре, — печально ответил Вульф, — только тогда и я хотел бы — умереть с вами. Розамунда, я боюсь, что Годвин расстался со мной навсегда, и, кроме вас, у меня в мире нет никого. Ну, перестанем жаловаться; ведь мысли об этих печалях не помогут нам, лучше поблагодарим Бога, что, по крайней мере, временно мы свободны. Поедемте, Розамунда, к монастырю, чтобы постараться найти вам приют.
И они поехали по узким улицам, переполненным испуганной толпой, теперь разошлись вести о том, что посольство отказалось от условий Саладина; он предложил доставить в город съестные припасы, позволить жителям укрепить стены и держаться до следующего Троицына дня, если они поклянутся сдаться ему, не получив помощи. Но они ответили, что, пока живы, не покинут места, где умер Спаситель.
Поэтому им теперь грозила война, и недоброе предвещала она. Немудрено, что они стонали на улицах, и их крики отчаяния неслись к небесам. В глубине сердца каждый из иерусалимлян знал, что святое место осуждено, а их жизнь погибла.
Пробираясь через эту печальную толпу, почти не обращавшую на них внимания, Вульф и Розамунда наконец подъехали к монастырю священной Дороги скорби, уже знакомой д'Арси; братья видели ее после того, как Саладин отослал их из Дамаска. Дверь священного приюта осеняла тень той арки, под которой Пилат произнес слова, памятные всем поколениям: «Се человек».
Тут привратник сказал, что монахини в часовне, но Вульф ответил, что ему нужно видеть настоятельницу по неотлагательному делу; тогда их провели в прохладную комнату с высоким потолком; дверь отворилась, ив нее вошла аббатиса в белом одеянии, высокая, статная, средних лет.
— Леди аббатиса, — сказал Вульф с низким поклоном. — Меня зовут Вульф д'Арси; вы меня помните?
— Да, мы встречались в Иерусалиме до Гаттинской битвы, — ответила она. — И до меня дошли слухи о вас… странный слухи.
— Эта дама, — продолжал Вульф, — дочь и наследница сэра Эндрю д'Арси, моего покойного дяди, а в Сирии принцесса Баальбека и племянница Саладина.
Монахиня вздрогнула и спросила:
— Что же — она тоже держится их проклятой веры? Она в их платье…
— Нет, мать моя, — сказала Розамунда, — я христианка, хотя, может быть, грешная, и прошу здесь приюта, иначе, узнав, кто я, христиане, пожалуй, выдадут меня моему дяде султану.
— Расскажи мне все, — сказала аббатиса. И они в коротких словах передали ей странную историю Розамунды.
— Ах, дочь моя, — сказала аббатиса, — как удастся нам спасти вас, когда мы сами в опасности? Один Господь может защитить вас. Но мы с готовностью сделаем все, что возможно, и здесь вы отдохнете. Подле самого святого нашего алтаря вас освятят; потом никто уже не посмеет наложить на вас руку, так как это было бы святотатством. Кроме того, я советую вам записаться в наши книги послушницей и надеть нашу одежду… Нет, — сказала она с улыбкой, заметив испуганный взгляд Вульфа, — леди Розамунда может, не остаться в монастыре. Не все послушницы произносят окончательный Обет.
— Я слишком долго была покрыта золотыми вышивками, шелками и бесценными украшениями, — ответила Розамунда, — и теперь больше всего на земле жажду надеть эти белые одежды.
Розамунду провели в часовню и в присутствии всего ордена и священников, которые собрались подле алтаря, воздвигнутого на том месте, где, как говорили, Христос отвечал на допрос Пилата, и освятили ее, и накинули на ее усталую голову белое покрывало послушницы. Вульф расстался с нею и отправился к избранному правителю города; и тот с радостью принял в число своих воителей такого храброго и сильного рыцаря.
Медленно и печально ехал Годвин то под лучами солнца, то при свете звезд. Позади него остался брат, бывший его товарищем и самым близким другом, и девушка, которую он любил без ответа, а впереди его ждала неизвестность…
Был вечер; усталая лошадь Годвина, слегка спотыкаясь, шла по большому лагерю сарацин, под стенами павшего Аскалона. Никто не остановил его; д'Арси был долго пленником, и поэтому многие знали его в лицо; другие принимали Годвина за одного из новых сдавшихся рыцарей. Он подъехал к большому дому, в котором жил Саладин, и попросил часового передать султану, что он просит у него аудиенции. Его скоро впустили, и он увидел Саладина, сидевшего посреди своих министров.
— Сэр Годвин, — сурово сказал султан, — вспоминая о вашем поступке со мной, спрашиваю, что вас привело в мой лагерь? Я даровал вам жизнь, а вы украли у меня то, чего я не хотел терять…
— Мы не сделали этого, султан, — ответил Годвин, — мы не знали о заговоре. Тем не менее уверенный, что вы в душе обвините нас, я приехал из Иерусалима, оставив там принцессу и моего брата, приехал, чтобы отдать себя в ваши руки и понести наказание, которое, как вы думаете, должно поразить Масуду.
— Почему вы хотите заменить ее? — спросил Саладин.
— Султан, — печально ответил Годвин, наклонив голову, — что ни сделала Масуда, она сделала это из любви ко мне, хотя и без моего ведома. Скажите, здесь ли она еще или бежала?
— Здесь, — отрывисто ответил Саладин. — Вы хотите видеть ее?
Годвин вздохнул с облегчением. Значит, Масуда еще жива, значит ужас, который сокрушал его в ту ночь, был только дурным сном, порождением усталости и страдания.
— Да, хочу, хотя бы только раз, — ответил он, — мне нужно сказать ей несколько слов.
— Без сомнения, ей будет приятно узнать, что ее замысел удался, — сказал Саладин с мрачной улыбкой. — Поистине все было хорошо задумано и смело исполнено.
И, подозвав к себе старого имама, который придумал бросить жребий, султан шепнул ему несколько слов и громко прибавил:
— Пусть этого рыцаря проведут к Масуде. Завтра мы будем его судить.
Имам снял со стены серебряную лампу и движением руки позвал за собой Годвина, который поклонился султану и пошел за стариком. Когда они проходили через толпу эмиров и предводителей, д'Арси показалось, будто они смотрят на него с состраданием. Это ощущение было до того сильно, что он остановился и спросил Саладина:
— Скажите, повелитель, меня ведут на смерть?
— Все мы двигаемся к смерти, — прозвучал в тишине ответ султана. — Но Аллах не написал еще, что смерть ждет вас сегодня.
По длинным переходам шли имам и Годвин, наконец увидели дверь, которую старик открыл.
— Значит, она под стражей? — спросил Годвин.
— Да, — был ответ, — под стражей. Войдите, — и имам передал лампу Годвину. — Я останусь здесь.
— Может быть, она спит, и я помешаю ей? — сказал Годвин, останавливаясь на пороге.
— Ведь вы же сказали, что она любит вас? Тогда, конечно, женщина, жившая среди ассасинов, недурно примет ваше посещение; недаром вы издалека приехали к ней, — с насмешкой сказал имам.
Годвин взял лампу и вошел в комнату; позади него закрылась дверь. Он узнал это место: сводчатый потолок, грубые каменные стены. Да, именно сюда его привели на смерть, именно через эту самую дверь лже-Розамунда пришла, чтобы проститься с ним. Но комната была пуста; без сомнения, Масуда сейчас войдет… И он ждал, глядя на дверь.
Но створка не двигалась, не слышалось шагов, ничто не нарушало полной тишины. Годвин огляделся. Там, в самом конце, что-то слабо сверкало, как раз на том месте, где он стал на колени перед палачом. Да, там лежала чья-то фигура. Без сомнения, это была спящая Масуда.
— Масуда, — сказал он, и эхо под сводом повторило:
«Масуда».
Ему нужно было разбудить ее. Да, это она. Она спала, все еще в царственном одеянии Розамунды, и застежка Розамунды блестела на ее груди.
Как крепко спала она! Годвин опустился на колени и поднял руку, чтобы откинуть длинные волосы, закрывавшие ее лицо. Он дотронулся до них, и голова отделилась от туловища.
С ужасом в сердце Годвин опустил лампу и посмотрел. Все платье Масуды было красно, а губы серы, как пепел. Это была Масуда, убитая мечом палача. Вот как они встретились!
Годвин поднялся и, как окаменелый, остановился над ней, помимо воли.
— Масуда, — шептал он, — теперь я знаю, что люблю тебя, тебя одну… с этих пор я твой. О, женщина с царственным сердцем. Жди меня, Масуда, мы еще встретимся.
И вдруг ему показалось, что странный ветер снова коснулся его головы; ему опять почудилось, как тогда, когда он ехал с Вульфом, что подле него душа Масуды, и неземной покой охватил его душу.
Наконец все прошло, и он увидел, что старый имам стоит рядом с ним.
— Ведь я же сказал, что она спит? — сказал он, злобно посмеиваясь. — Позовите ее, рыцарь, позовите. Говорят, любовь перебрасывает мосты через большие пропасти, даже между разрубленной шеей и телом.
Серебряной лампой Годвин ударил его, старик упал, как оглушенный бык, и Годвин снова остался среди молчания и темноты.
Несколько мгновений д'Арси не двигался, наконец его мозг охватил огонь, и он упал поперек тела Масуды и замер.
X. В ИЕРУСАЛИМЕ
Годвин знал, что он болен, ощущал, что Масуда ухаживает за ним во время болезни, и больше ничего не сознавал. Все прошедшее исчезло для него. Ему казалось, что она постоянно с ним, смотрит на него глазами, полными неизъяснимого покоя и любви, и что вокруг ее шеи бежит тонкая красная черточка, и удивлялся, почему это.
Знал Годвин также, что во время болезни он был в пути; на заре до него доносились звуки снимающегося лагеря, и он чувствовал, что невольники несут его по жгучему песку до вечера; на закате с жужжащими звуками, точно пчелы в улье, воины раскидывали бивак. Потом наступала ночь, и слабая луна плыла, точно корабль, по лазурному небу; там и сям светились вечные звезды, и к ним несся крик; «Аллах акбар, Аллах акбар!» — «Бог велик, Бог велик!»
Наконец путешествие окончилось; зазвучал грохот и шум битвы. Раздались приказания, вскоре послышался гул, новые шаги и вопли над мертвыми.
И вот пришел день, в который Годвин открыл глаза и повернулся, чтобы посмотреть на Масуду, но она исчезла: на ее обычном месте сидел хорошо знакомый ему человек — Эгберт, бывший епископ Назарета. Старик поднёс больному шербет, охлажденный снегом. Женщина исчезла, ее место заступил священник.
— Где я? — спросил Годвин.
— Подле стен Иерусалима, мой сын; вы пленник Саладина, — послышался ответ.
— А где же Масуда, которая была со мной все эти дни?
— Я надеюсь, в небесах, — прозвучал ответ, — потому что она была хорошая женщина. Я сидел подле вас.
— Нет, — сказал Годвин упрямо, — Масуда.
— В таком случае, — заметил епископ, — тут была ее душа, потому что я причастил ее и молился над ее открытой могилой. Вероятно, это была ее душа, пришедшая с неба, чтобы навестить вас, и снова отлетевшая, когда вы вернулись на землю.
Годвин вспомнил, застонал, но скоро заснул. Когда он стал сильнее, Эгберт рассказал ему все. Его нашли без чувств подле Масуды, и эмиры попросили Саладина убить франка хотя бы за то, что он лампой вышиб глаз святому имаму. Султан не согласился на это, сказав, что имам поступил недостойным образом, насмехаясь над печалью сэра Годвина, и что рыцарь заплатил ему по заслугам. Он прибавил, что он бесстрашно вернулся, желая подвергнуться наказанию за не совершенный им грех, что, наконец, он, султан Саладин, любит его, как друга, хотя рыцарь — неверный. Эгберту приказали ухаживать за больным и, если возможно, спасти его. Когда же войско двинулось, воинам велели нести носилки Годвина; для него также всегда раскидывали отдельную палатку. Теперь, по словам епископа, началась осада святого города, и с обеих сторон было много убитых.
— Иерусалим падет? — спросил Годвин.
— Если только святые не поддержат его, боюсь, что да, — ответил Эгберт.
— А разве Саладин не будет милосерд?
— Почему он может быть милосерд, мой сын? Ведь они же отказались от его условий. Нет, он поклялся, что, как Готфрид взял этот город около ста лет тому назад, перебив много тысяч мусульман, мужчин, женщин и детей, так и он так же поступит с христианами. О, нет, он не пощадит их! Они умрут… Они умрут!.. — И Эгберт, ломая руки, вышел из палатки Годвина.
Годвин лежал неподвижно, спрашивая себя, чем окончится все. Он думал только об одном. В Иерусалиме жила Розамунда, племянница султана, которую Саладин, конечно, хотел вернуть к себе не только потому, что в ее жилах текла родственная ему кровь, но и из опасения, что, если этого не случится, его видение не исполнится.
А в чем состояло видение? В том, что благодаря Розамунде спасется много жизней. Если спасется Иерусалим, ведь десятки тысяч мусульман и христиан спасутся также. О, конечно, в этом заключался ответ на его вещий сон.
В тот же самый день Годвин лежал и дремал, так как он был еще слишком слаб, чтобы встать. Вдруг на него упала тень, и, открыв глаза, он увидел самого султана, стоявшего подле его кровати. Годвин постарался подняться и поклониться ему, но султан добрым голосом посоветовал ему не двигаться, сел подле него и сказал:
— Сэр Годвин, я пришел попросить у вас прощения. Когда я послал вас навестить мертвую женщину, которая справедливо пострадала за свое преступление, я поступил недостойно властителя народа. Но мое сердце было полно горечи против нее и против вас, и имам вложил в мои ум шутку, которая стоила ему глаза и почти стоила жизни усталому и печальному человеку. Я все сказал.
— Благодарю вас, султан; вы всегда были благородны, — ответил Годвин.
— Вы это говорите, а между тем относительно вас и многих ваших я совершал поступки, которые вряд ли можно назвать благородными, — сказал Саладин. — Но меня влекла судьба, судьба и сновидение. Скажите, сэр Годвин, справедливо ли то, что рассказывают в нашем лагере, а именно, будто перед Гаттинской битвой вам явилось видение и что вы уговаривали вождей франков не двигаться против меня?
— Да, это правда, — ответил Годвин, и он рассказал сущность своего сна и все остальное.
— Глупые слепцы, которые не захотели услышать голоса истины, сказанной им чистыми устами пророка! — прошептал Саладин. — Ну, что же: они поплатились за это, а выиграли я и моя вера! Удивляетесь ли вы после этого, рыцарь Годвин, что я также верю моему видению, нарисовавшему передо мной лицо моей племянницы, принцессы Баальбека?
— Не удивляюсь, — ответил Годвин.
— Удивляетесь ли вы, что я обезумел от бешенства, узнав наконец, что отважная женщина перехитрила меня, моих шпионов и часовых как раз после того, как я пощадил ваши жизни? Удивляетесь ли вы, что я все еще полой гнева, думая, что у меня из рук отняли великую возможность?
— Не удивляюсь, султан, но я, видевший видение, говорю с вами, тоже созерцавшим видение, говорю, как пророк с пророком. Вам дарована возможность исполнить это видение. Подумайте, Салахеддин; принцесса Розамунда в Иерусалиме! Судьба привела ее в святой город, чтобы вы пощадили его ради нее, таким путём покончили кровопролитие и спасли бесконечное число жизней.
— Ни за что! — вскрикнул Саладин. — Они отказались от моего милосердия, и я поклялся стереть их всех с лица земли, мужчин, женщин и детей, отомстив всей этой нечистой, неверующей толпе.
— Разве не чиста Розамунда, что вы хотите отомстить ей? Принесет ли ее смерть вам мир? Если Иерусалим истребят огнем и мечом, она тоже погибнет.
— Я прикажу спасти ее, чтобы лично судить ее за преступление, — мрачно сказал султан.
— Как спасти ее, когда взявшие город приступом опьянеют от убийства? Ведь она будет в толпе остальных женщин,
— Тогда, — ответил султан, топая ногой, — ее выкупят или увезут из Иерусалима раньше начала убийства.
— Я думаю, этого не случится, пока в Иерусалиме Вульф, который защищает ее, — спокойно сказал Годвин.
— А я говорю, что так должно быть и что так будет, — произнес султан.
И, не говоря больше ни слова, Саладин вышел из палатки с встревоженным лицом.
В Иерусалиме царило отчаяние; тысячи и десятки тысяч женщин и детей теснились в святом городе: мужья и отцы многих погибли при Гаттине или в других местах. У людей, способных носить оружие, не было предводителей, а потому Вульф вскоре сделался начальником отряда.
Сначала Саладин решил начать атаку между воротами святого Стефана и Давидовыми, но здесь поднимались укрепленные башни — Пизанова и башня Банкреда, — и защитники города делали из них вылазки и постоянно отбивали штурмы сарацин.
Тогда султан перевел свою армию на восток и разбил лагерь близ долины потока Кедрона. Когда христиане увидели это, им представилось, что он снимает осаду: во всех церквах они пели благодарственные молитвы. Но на следующее утро белые одежды воинов султана показались на востоке, и защитники Иерусалима поняли, что их гибель близка.
Многие желали сдаться султану, и между их партией и защитниками, поклявшимися лучше умереть, чем отдать город, происходили ожесточенные споры. Наконец решили послать посольство к султану; Саладин принял его в присутствии своих эмиров и советников. Он спросил, чего желают христиане, и парламентеры ответили, что они пришли, чтобы обсудить условия. Он ответил так:
— В Иерусалиме живет одна знатная девица, моя племянница, которая между нами носит имя принцессы Баальбеской, а у христиан называется Розамундой д'Арси. Она бежала от меня вместе с рыцарем сэром Вульфом д'Арси, который, как я видел, храбро дерется в числе ваших воинов. Выдайте ее мне, чтобы я мог поступить с нею, как она того заслуживает, тогда поговорим снова. До тех пор мне нечего больше сказать вам.
Большинство членов посольства не знало о Розамунде: двое или трое сказали, что они слышали о ней, но не знают, где она скрылась.
— Тогда вернитесь и отыщите ее, — сказал султан и отпустил их.
Посланные вернулись обратно и сказали совету города, чего желает Саладин.
— По крайней мере, в этом отношении, — вскрикнул Гераклий-патриарх, — нетрудно исполнить желание Саладина. Пусть отыщут его племянницу и выдадут ее. Где она?
Один из советников объявил, что об этом знает рыцарь Вульф д'Арси, с которым она приехала в город, что отбил атаку сарацин. Вульф спросил, что им угодно.
— Мы желаем узнать, сэр Вульф — сказал патриарх, — куда вы скрыли даму, известную под именем принцесса Баальбекской, которую вы увели от султана? Это очень важно для меня и для всех других, потому что Саладин не хочет разговаривать с нами, пока мы не выдадим ее.
— Значит, совет предлагает насильно передать христианку в руки сарацин? — сурово спросил Вульф.
— Мы обязаны сделать это, — ответил Гераклий. — Кроме того, она из их племени.
— Нет, — ответил Вульф. — Саладин украл ее из Англии, и с тех пор она все время пытается бежать.
— Не будем терять времени, — нетерпеливо крикнул патриарх, — как бы то ни было, Саладин требует ее, и к Саладину она должна отправиться. Итак, без дальнейших рассуждений скажите, где она, сэр Вульф.
— Сами отыщите ее, — с бешенством ответил д'Арси. — А если это вам не удастся, пошлите вместо нее одну из тех женщин, с которыми вы пируете.
В совете послышался ропот, но скорее ропот удивления при виде его смелости, чем негодования; Гераклий был человек неправедный и дурной.
— Опасный человек, — сказал патриарх, — очень опасный. Я предлагаю заключить его в тюрьму.
— Да, — ответил Балиан Ибелинский, — очень опасный человек — для своих врагов. Я видел, как во время Гаттинской битвы он и его брат пробились через толпу сарацин; видел его и в проломе стены. Хорошо, если бы у нас было побольше таких «опасных» людей.
— Но он оскорбил меня! — крикнул патриарх.
— Сказать правду не значит оскорблять, —многозначительно заметил Балиан, — и во всяком случае, это ваше личное дело, ради которого мы не можем лишиться одного из предводителей…
Его прервал вошедший горожанин, который сказал, что Розамунду нашли, что она сделалась послушницей в общине монахинь Святого Креста.
— Теперь дело нравится мне еще меньше, — продолжал Балиан, — потому что, взяв ее оттуда, мы совершим святотатство.
— Его святейшество Гераклий дает нам отпущение, — сказал чей-то насмешливый голос.
Поднялся один из старшин, член партии мира, и заметил, что с Розамундой нечего особенно церемониться, так как султан не захочет слушать их, пока упомянутую даму не выдадут ему на суд, тем более что, будучи его племянницей, она, вероятно, не пострадает; но что, во всяком случае, пусть лучше пострадает одна, чем все.
Таким путем он убедил многих; так что, в конце концов, все поднялись и пошли к монастырю Святого Креста; там патриарх потребовал, чтобы их впустили. Воспротивиться настоятельница не могла. Она приняла советников в столовой, спросив, что им угодно.
— Дочь моя, — сказал патриарх, — у вас живет дама по имени Розамунда д'Арси, и с нею мы желаем поговорить. Где она?
— Послушница Розамунда, — ответила аббатиса, — молится в церкви у святого алтаря.
— Она освящена, — прошептал кто-то, но патриарх продолжал:
— Скажите мне, дочь моя, она молится одна?
— Ее молитвы охраняет один рыцарь, — послышался ответ.
— Ага, как я и думал, он опередил нас. Дочь моя, вы не очень строги, раз позволяете рыцарям входить в вашу церковь. Проводите нас туда.
— В теперешние тяжелые времена и благодаря опасностям, грозящим этой послушнице, я решилась нарушить дисциплину, — смело сказала настоятельница, но повиновалась.
И вот они вошли в большое полутемное здание, день и ночь освещающееся лампадами. Там подле алтаря, как говорили, выстроенного на том самом месте, где Господь стоял в ожидании суда, они увидели коленопреклоненную белую фигуру, руки которой держались за камни святого алтаря. За оградой, тоже на коленях, стоял Вульф, неподвижный, как надгробная статуя. Он услышал шаги, поднялся, повернулся и обнажил свой большой меч.
— Вложите меч в ножны, — приказал Гераклий.
— Когда я сделался рыцарем, — ответил Вульф, — я поклялся защищать невинных и алтари Божий от осквернения, а потому не вложу меча в ножны.
— Не обращайте на него внимания, — сказал кто-то, и Гераклий, остановясь в притворе, обратился к Розамунде.
— Дочь моя, — крикнул он, — с горькой печалью пришли мы просить у вас великой жертвы: отдайте себя за народ, как наш Господь отдал Себя ради многих. Саладин требует, чтобы вас выдали ему, и, пока мы не передадим вашу особу в его руки, он не станет разговаривать с нами. Итак, мы просим вас, отойдите от алтаря.
— Я подвергла мою жизнь опасности, и, кажется, другая женщина умерла, — ответила она, — ради того, чтобы я освободилась из-под власти мусульман. Я не отойду от алтаря и не вернусь к ним.
— Тогда нам придется силой взять вас, — мрачно проговорил Гераклий, — потому что наше положение ужасно.
— Как! — сказала она. — Вы, патриарх святого города, хотите вырвать меня из этого святилища, оттащить силой от этого святого алтаря? О, тогда действительно проклятие падет и на город, и на вас. Говорят, отсюда Господа нашего увели на страдание по приказанию неправедного судьи. Неужели и меня оторвут от места, освященного Его стонами?.. И в этих одеждах (и она указала на свое белое одеяние) бросят, как дар, нашим врагам, которые, может быть, предложат мне выбор между смертью и подчинением Корану? Если так, я с уверенностью скажу, что ваше приношение окажется тщетным, и ваши улицы покраснеют от крови тех, кто вырвал меня из святого убежища.
Они стали совещаться, спорить, и большинство решило, что ее следует передать Саладину.
— Идите добровольно, прошу вас, — сказал патриарх, — потому что силой мы не возьмем вас.
— Только силой вы возьмете меня, — ответила Розамунда.
Тогда настоятельница сказала:
— Неужели вы совершите такое преступление? Говорю вам, оно не останется без наказания. Вместе с Розамундой я повторяю, — и она выпрямила свою высокую фигуру, — что вы заплатите за него вашей кровью, а может быть, также и кровью остальных! Вспомните мои слова, когда сарацины возьмут город и предадут мечу его жителей.
— Я отпускаю вам грех, — крикнул патриарх, — если это грех.
— Отпустите грех себе, — резко крикнул Вульф, — и знайте вот что: я только один человек, но у меня есть сила и искусство. Если вы постараетесь наложить руку на послушницу Розамунду, чтобы насильно увести ее к Саладину на смерть, как она сказала, раньше, чем умру я, многие из вас навеки закроют глаза.
И, стоя перед алтарной решеткой, он поднял свой большой меч одной рукой, а другой взял щит с изображением черепа.
Патриарх сердился и грозил. Некоторые закричали, что они принесут луки и застрелят Вульфа издали.
— И, — сказала Розамунда, — к святотатству прибавят еще убийство? О, подумайте о том, что вы делаете, и вспомните, что все это напрасно! Ведь Саладин обещал нам только поговорить с вами, когда вы передадите меня в его руки; может быть, окажется, что вы без пользы совершили грех. Сжальтесь надо мною, идите своим путем, предоставив исход в руки Божий.
— А ведь правда, — закричали многие. — Саладин-то ничего не обещал!
Наконец Балиан, охранитель города, который пришел с другими в церковь и стоял вдалеке, слыша все происходившее, выступил вперед и сказал:
— Господин патриарх, пусть так и будет, потому что ничего хорошего не выйдет для нас из этого преступления. Этот алтарь самый святой во всем Иерусалиме, неужели вы осмелитесь оторвать от него девушку, единственное преступление которой состоит в том, что она, христианка, бежала от сарацин, укравших ее? Неужели вы осмелитесь отдать ее в руки Саладина на смерть? Конечно, это был бы поступок трусов и навлек бы на нас судьбу трусов. Сэр Вульф, вложите меч в ножны и не бойтесь. Если в Иерусалиме может кто-нибудь пользоваться безопасностью — эта благородная дама в безопасности. Настоятельница, проводите ее в ее келью.
— Нет, — с тонкой насмешкой ответила настоятельница, — не годится нам уйти отсюда раньше его святейшества.
— Вам недолго придется ждать, — с бешенством крикнул Гераклий, — разве в такое время можно много думать об алтарях или слушать мольбы девушки, угрозы одинокого рыцаря или сомнения суеверного предводителя? Ну, хорошо, поступайте, как знаете, и жизнью расплачивайтесь за ваши поступки!
Я же скажу, что, если бы Саладин потребовал выдачи даже половины благородных девушек этого города, это представляло бы невысокую цену за сохранение крови восьмидесяти тысяч!
Все ушли, кроме Вульфа и настоятельницы. Монахиня подошла к Розамунде, обняла ее и сказала, что на время опасность миновала.
— Да, мать моя, — ответила Розамунда со слезами, — но хорошо ли я поступила? Не следовало ли мне сдаться Саладину, если столько жизней зависит от этого? Может быть, он забыл бы о своей клятве и пощадил бы меня? Хотя в лучшем случае мне никогда не позволили бы снова освободиться. Кроме того, как грустно проститься навсегда со всем, что любишь. — И она посмотрела на Вульфа, который стоял в таком отдалении, что не мог ничего слышать.
— Да, — сказала монахиня, — тяжело, и мы, постригшиеся, хорошо знаем это. Однако, дочь моя, вам еще не приходится сделать тяжелого выбора. Если Саладин скажет, что, когда ему передадут вас, он пощадит жизни всех граждан, вам придется принять решение.
— Да, — повторила Розамунда, — придется.
Осада продолжалась; один ужас следовал за другим. Пращи, не переставая, бросали камни; стрелы летели тучами, так что никто не мог стоять на коленях. Тысячи всадников Саладина теснились около ворот святого Стефана, а машины извергали огонь и метательные снаряды на осажденный город; сарацинские минеры подкапывались под укрепления, башни и стены. Солдаты-защитники не могли делать вылазок благодаря сарацинским сторожевым пикетам; не могли они и показываться, потому что тогда летели тысячи стрел; никто не был в состоянии заделывать проломы в рушащихся стенах. С каждым днем отчаяние увеличивалось; на каждой улице виднелись длинные процессии монахов с крестами; они пели покаянные псалмы и молитвы, а женщины, стоя в дверях, взывали— к милосердию Христа и прижимали к себе своих детей.
Правитель Балиан созвал на совет рыцарей и сказал, что Иерусалим осужден на сдачу.
— Тогда, — сказал один из предводителей, — сделаем вылазку и умрем посреди врагов.
— И оставим детей и женщин на смерть и позор? — договорил Гераклий. — Лучше сдаться.
— Нет, — ответил Балиан, — мы не сдадимся, пока жив Господь — надежда не угасла.
— Господь был и в день Гаттина, но христиане потерпели поражение, — сказал Гераклий. Совет разошелся, не решив ничего.
В этот день Балиан снова стоял перед Саладином, умоляя его пощадить город. Саладин подвел его к дверям своего шатра, показал на желтые знамена, которые развевались там и сям на стенах города, и на знамя, в ту самую минуту поднявшееся над проломом.
— Почему должен я щадить то, что уже покорил, — спросил он, — то, что поклялся уничтожить? Когда я предлагал вам пощаду, вы отказались от нее. Зачем вы просите ее теперь?
Балиан ответил слова, которые навсегда останутся в истории.
— Вот почему, султан. Клянемся Богом: если нам суждено умереть, мы прежде всего убьем наших женщин и наших детей, чтобы вы не могли их взять в неволю. Мы сожжем город и все его богатства; мы измелем в муку святую скалу и превратим мечеть Эль Акса и другие священные здания в груды; мы перережем горла пяти тысячам последователей Пророка, которые находятся у нас у руках, и, наконец, каждый, способный носить оружие, бросится из города; мы будем биться, пока не падем. Таким образом, я думаю, дорого вам будет стоить Иерусалим! Султан посмотрел на него, погладил себе бороду и сказал: — Восемьдесят тысяч жизней, восемьдесят тысяч, не считая моих солдат, которых вы убьете. Великое убийство!.. И святой город будет уничтожен навсегда. Да, да! О такой резне раз приснился мне сон.
Саладин замолк и задумался, склонив голову на грудь.
XI. СВЯТАЯ РОЗАМУНДА
С того дня, как Годвин видел Саладина, его силы стали возрастать, и, когда здоровье вернулось к нему, он начал много размышлять. Он потерял Розамунду, Масуда умерла, и по временам ему хотелось тоже умереть. Что мог он сделать со своей жизнью, переполненной печалью, борьбой, кровопролитием? Вернуться в Англию, жить среди своих земель, ждать старости и смерти? Это не манило Годвина, он чувствовал, что, пока жив, должен работать.
Раз он сидел, думая об этом и чувствую себя очень несчастным. В его палатку вошел старый епископ Эгберт и, заметив выражение его лица, спросил:
— Что с вами, мой сын?
— Вы хотите выслушать меня? — спросил Годвин.
— Разве я не ваш духовник, имеющий право все знать? — сказал кроткий старик. — В чем дело?
Годвин начал с самого начала и рассказал ему все: как он в детстве хотел сделаться служителем церкви; как старый приор Стенгетского аббатства нашел, что ему еще рано решать свою судьбу; как впоследствии любовь к Розамунде заставила его позабыть о религии; рассказал он также о сне, который привиделся ему, когда он лежал раненый после боя у бухты Смерти; об обетах, которые он и Вульф принесли перед посвящением в рыцари, о том, как он постепенно узнал, что Розамунда любит не его. Наконец, сказал и о Масуде, но о ней Эгберт, причащавший ее, знал уже.
Епископ слушал, не прерывая его. Когда он окончил, старик сказал:
— А что же теперь?
— Теперь, — ответил Годвин, — я ничего не знаю. Мне иногда кажется, что я слышу звуки моих шагов в монастырском дворе и мой голос, молящийся перед алтарем.
432
— Вы еще слишком молоды, чтобы говорить так, и, хотя Розамунда потеряна для вас, а Масуда умерла, на свете много других достойных женщин, — сказал Эгберт.
— Не для меня, — возразил Годвин, покачав головой.
— Тогда существуют рыцарские ордена, в которых вы можете занять высокое положение.
Он опять покачал головой, сказав:
— Сила тамплиеров и госпитальеров сломлена. Кроме того, я видел их в Иерусалиме и на поле битвы, и они мне не нравятся.
Если они изменятся или я буду вынужден биться против неверных, я, может быть, присоединюсь к ним. Но дайте мне совет, что делать теперь?
— О, сын мой, — сказал старый епископ, и его лицо засияло, — если Бог призывает вас, идите к Богу. Я покажу вам путь.
— Да, я пойду к нему, — сказал Годвин, — и если только крест не призовет меня снова следовать за ним в войне, я постараюсь провести весь остаток жизни, служа Господу и людям. Мне кажется, отец мой, что для этого я и был рожден.
Через три дня Годвин сделался священником, и его рукоположил епископ Эгберт. А в это время кругом его палатки воины Саладина, чувствуя близость падения Иерусалима, с торжеством кричали, что Магомет единый Пророк у Бога.
Саладин поднял голову и посмотрел на Балиана.
— Скажите мне, — сказал он, — что известно о принцессе Баальбекской, которую вы зовете Розамундой д'Арси? Ведь я сказал вам, что не буду говорить с вами о пощаде Иерусалима, пока мне не выдадут ее; чтобы я мог произвести над нею суд. А между тем я ее не вижу.
— Господин, — ответил Балиан, — мы нашли ее в монастыре Святого Креста. Она была миропомазана подле алтаря, который мы считаем священным и недоступным, и отказалась идти.
Саладин засмеялся:
— А разве ваши воины не могут оторвать одну девушку от камня алтаря? Впрочем, может быть, рыцарь Вульф стоял перед нею с обнаженным мечом?
— Да, стоял, — ответил Балиан. — Но мы думали не о нем, хотя, конечно, он убил бы некоторых из нас. Оторвав ее от алтаря, мы совершили бы ужасное преступление, которое, конечно, навлекло бы мщение Господне на нас и на город.
— А что вы скажете о мести Салахеддина?
— Как ни плохо нам, султан, мы все же боимся больше Бога, чем Саладина.
— Да, сэр Балиан, но Салахеддин может оказаться мечом в руках Божиих.
— И этот меч быстро пал бы на нас, если бы мы совершили этот грех.
— Я думаю, что он скоро падет, — сказал Саладин, и опять замолчал, и опять стал гладить бороду.
— Послушайте, — выговорил он наконец, — пусть принцесса, моя племянница, придет ко мне и попросит пощады городу; я думаю, что тогда я вам обещаю такие условия сдачи, за которые вы в тяжкую минуту поблагодарите меня.
— Тогда нам надо осмелиться совершить великий грех и силой взять ее, — печально сказал Балиан, — но прежде убить рыцаря Вульфа, который не позволит ей идти, пока он жив.
— Нет, Балиан, это огорчит меня, потому что, хотя он и христианин, рыцарь д'Арси мне по сердцу. Я сказал «пусть она придет ко мне», а не «приведите ее ко мне». Да, пусть придет по доброй воле, чтобы ответить мне за свой грех против меня, но пусть знает, что я ей ничего не обещаю, хотя в былые дни обещал многое и держал слово. Тогда она была принцесса Баальбека и пользовалась всеми правами, связанными с этим высоким положением; я ей поклялся, что не заставлю ее выйти замуж по моему выбору или изменить веру. Теперь я беру обратно клятвы, и если она придет, то придет как бежавшая невольница, поклонница креста, которой я предлагаю только или подчинение исламу, или позорную смерть.
— Какая высокорожденная девушка согласится на такие условия? — с отчаянием спросил Балиан. — Я думаю, она скорее захочет умереть от своей руки, чем от руки вашего палача, так как, конечно, никогда не отречется от веры.
— И осудит восемьдесят тысяч христиан? — сурово ответил Саладин. — Рыцарь Балиан, клянусь Аллахом и в последний раз, что, если моя племянница Розамунда не явится в мой лагерь добровольно, не принужденная никем, Иерусалим будет отдан на разграбление.
— Значит, судьба святого города и всех его жителей зависит от благородства одной девушки? — нетвердым голосом произнес, Балиан.
— Да, так мне открыло видение. Если ее душа достаточно высока, Иерусалим еще может быть спасен, если ее дух ниже, чем я думал, тогда святой город погибнет вместе с нею. Я все сказал, но с вами поедут мои гонцы и отвезут письмо, которое они должны собственноручно отдать моей племяннице, бывшей принцессе Баальбека. Пусть она или вернется с ними ко мне, или останется в городе. И тогда я пойму, что видел ложное видение, говорившее, будто мир и милосердие исходило из ее рук, и доведу эту войну до кровавого конца.
Через час Балиан ехал к городу под охранной грамотой и вместе с гонцами Саладина и письмом, которое они должны были передать Розамунде.
Стояла ночь; в освещенной лампадами церкви монахини Святого Креста, стоя на коленях, пели протяжную и торжественную песнь. От сердца пели они; смерть была так близко от них! И они молили Господа и милосердную Матерь Божию сжалиться над ними, спасти их и жителей несчастного города, в котором Он жил и страдал. Они знали, что конец близок, что стены готовы рухнуть, что защитники города истощены, что скоро-скоро лютые воины Саладина забегают по узким городским улицам. Их моление окончилось, настоятельница поднялась и обратилась к ним с речью. Она по-прежнему держалась гордо, но голос ее дрожал.
— Дочери мои во Христе, — сказала она, — гибель стоит почти у наших дверей, и мы должны приготовить сердца наши! Если правители города исполнят обещанное, они пришлют сюда людей, чтобы обезглавить нас в последнюю минуту, и мы перейдем во славе в другой мир, чтобы жить во Господе. Но, может быть, они позабудут о нас немногих среди восьмидесяти тысяч душ, из которых нужно убить около пятидесяти тысяч душ женщин. Может быть также, их руки устанут или сами они падут раньше, чем доберутся до нашей святой обители! Что же мы сделаем тогда, дочери мои?
Некоторые из монахинь прижались друг к другу и плакали от страха; некоторые молчали. Только Розамунда выпрямилась во весь рост и гордо сказала:
— Мать моя, я недавно пришла к вам, но я видела Гаттинское кровопролитие и знаю судьбу женщин и детей в руках неверных, а потому позвольте мне говорить.
— Говорите, — сказала настоятельница.
— Вот что я советую, — продолжала Розамунда, — мой совет короток и ясен. Когда мы узнаем, что сарацины в городе, подожжем монастырь, станем на колени и погибнем так.
— Хорошо сказано… Это лучше всего! — послышались голоса. Но настоятельница ответила с печальной улыбкой:
— Благородный совет, которого можно было ожидать от высокорожденной. Однако его нельзя принять, потому что самоубийстве — смертный грех.
— Будет мало разницы, — сказала Розамунда, — сожжем ли мы себя или протянем шеи под мечи друзей! Конечно, я не могу решать за других, но решаю за себя, так как я скорее совершу грех самоубийства, чем отдам себя в руки мусульман.
И она положила руку на рукоятку кинжала, который был скрыт в складках ее одежды. Настоятельница сказала:
— Вам, дочь моя, я не могу запретить этого, но запрещаю принесшим полный обет. Им я покажу другой, может быть, более ужасный способ спастись от судьбы невольниц. Некоторые из нас стары, им нечего бояться, что их отведут в гаремы; но остальные молоды и красивы; им я советую, когда приблизится конец, взять оружие, изрезать себе лица и тела и остаться здесь в виде обезображенных, внушающих отвращение фигур. Тогда их не возьмут в неволю, а быстро убьют. Они умрут, чтобы сделаться невестами неба!
Несчастные застонали от ужаса; они представили себя с обезображенными лицами, изуродованными. Так их сестры по вере ждали конца в осужденном монастыре святой Клары в Акре.
Однако одна за другой они подошли к настоятельнице и поклялись, что исполнят и это ее приказание, как все остальные. Только Розамунда объявила, что она умрет не обезображенная, а такая, какой создал ее Господь; еще две послушницы одна за другой поклялись поступить так же, как она.
И потом они опять опустились на колени, и запели «Мизерере».
И вот, покрывая их печальное пение, под сводчатым потолком пронесся громкий стук в дверь, и с криком: «Сарацины, сарацины! Дайте нам ножи», — они поднялись с колен.
Розамунда обнажила кинжал.
— Подождите, — вскрикнула настоятельница. — Может быть, это друзья, а не враги. Сестра Урсула, подойдите к дверям и узнайте.
Старая монахиня пошла шатающимися шагами и, дойдя до массивной створки, отодвинула засов и спросила дрожащим голосом:
— Кто стучится? — Остальные задержали дыхание, напрягая слух, чтобы уловить ответ.
И вот зазвучал серебристый голос женщины, который казался таким тонким в этой похожей на гробницу церкви.
— Я королева Сибилла со свитой.
— Что вам угодно, о королева?
— Я привела с собою посланных от Саладина. Они желают поговорить с Розамундой д'Арси, которая скрывается у вас.
Розамунда мгновенно подбежала к алтарю и остановилась подле него, не выпуская из рук обнаженного кинжала.
— Пусть она не боится, — продолжал серебристый голос. — Ничто не будет сделано против ее воли. Примите нас, святая настоятельница, примите ради Христа.
И аббатиса сказала:
— Примем королеву с достоинством. — Показав знаком монахиням, чтобы они заняли свои обычные места, она села в большое кресло во главе их; позади нее подле высокого алтаря стояла Розамунда с обнаженным кинжалом в руках.
Двери отворились, и показалась странная процессия. Впереди шла красавица королева во всех знаках своего королевского достоинства, нос головой, покрытой черным покрывалом; за нею придворные дамы числом двенадцать, дрожавшие от страха, но роскошно одетые; за ними трое суровых сарацин в кольчугах и с осыпанными каменьями саблями. Дальше двигалось множество женщин, по большей части в трауре, которые вели с собой испуганных детей; это были жены, сестры и вдовы дворян, рыцарей и граждан Иерусалима. Наконец, показалось около сотни предводителей и воинов, посреди них Вульф, а во главе Балиан. Последним вошел патриарх Гераклий в пышном наряде, вместе со своими священниками и помощниками.
Настоятельница и монахини поднялись и поклонились королеве, и одна из них предложила ей сесть на место епископа.
— Нет, — сказала королева. — Я пришла сюда как скромная просительница и буду просить на Коленях.
И она опустилась на колени на мраморный пол, а вместе с нею все дамы ее свиты и остальные женщины. Важные сарацины с изумлением посмотрели на нее; рыцари и благородные горожане столпились позади Сибиллы.
— Что же мы можем дать вам, королева? — спросила настоятельница. — У нас ничего не осталось, кроме сокровищ, которые мы готовы принести вам: честь и жизнь.
— О горе! — ответила королева. — Горе! Я пришла попросить жизни одной из вас!
— Чьей же, о королева?
Сибилла подняла голову и, протянув руку, указала на Розамунду. Розамунда побледнела, но скоро справилась и сказала твердым голосом:
— Скажите, какую услугу может оказать вам моя бедная жизнь, о королева, и кто ее требует?
Сибилла трижды старалась ответить и наконец прошептала:
— Я… не могу. Пусть посланные передадут ей письмо, если она умеет читать на их языке.
— Умею, — ответила Розамунда. Один сарацинский эмир вынул свиток, приложил его ко лбу, потом подал аббатисе, которая поднесла его Розамунде. Розамунда открыла пергамент и прочитала по-прежнему спокойным голосом, переводя каждую фразу:
— «Во имя единого Аллаха всемилостивого, моей племянниц: бывшей принцессе Баальбека, по имени Розамунда д'Арси, ныне бежавшей и скрытой во франкском монастыре в городе Эль-Кудо-Эш-Шериф, в святом граде Иерусалиме.
Племянница! Я исполнил все обещания, данные вам, сделал даже больше, пощадив жизнь ваших двоюродных братьев, рыцарей-близнецов. Но вы отплатили мне неблагодарностью и обманом, по обычаю вашей проклятой веры, и бежали от меня. Я сказал вам, что, если вы решитесь на это, вашим уделом будет смерть. Поэтому вы более не принцесса Баальбека, а только бежавшая христианка, раба, осужденная на смерть.
Вы хорошо знаете мое видение. Вспомните теперь его, раньше, чем ответить. Я требовал, чтобы вас привезли ко мне, на это требование мне ответили отказом; почему — не важно. Но я понял истинную причину: так было решено свыше. Я больше не требую, чтобы вас принуждали. Я желаю, чтобы вы пришли ко мне по доброй воле и вынесли печальный и позорный конец в виде возмездия за ваш грех. Если же вы хотите, оставайтесь там, где живете теперь, и пусть вас постигнет та судьба, которую пошлет Аллах.
Если вы придете и попросите меня за святой город, — я подумаю, не помиловать ли Иерусалим и его жителей. Если вы откажетесь прийти, я, без сомнения, подвергну их всех смерти от меча, за исключением тех женщин и детей, которых можно отдать в неволю. Итак, решите, племянница, и поскорее, вернетесь ли вы с моими посланными или останетесь там, где они отыщут вас. Юсуп Салахеддин».
Розамунда дочитала, и из ее руки письмо полетело на мраморный пол.
— Принцесса, — сказала королева, — от имени присутствующих и всех остальных мы просим от вас этой жертвы.
— И моей жизни? — громко говоря с собою, сказала Розамунда. — Больше у меня ничего нет. Когда я отдам ее — я буду нищей. — И ее глаза обратились на высокую фигуру Вульфа, который стоял подле колонны.
— Может быть, Саладин окажет милосердие? — заметила королева.
— Нет; — ответила Розамунда, — он всегда говорил, что, если я сбегу от него и снова буду застигнута, я умру. Нет, он предложит мне подчинение исламу или смерть, смерть от веревки или еще более ужасную.
— Но, если вы останетесь здесь, вы тоже умрете, — продолжала королева. — О, принцесса, ваша жизнь только одна, и, отдав ее, вы можете купить жизнь восьмидесяти тысячам человек…
— Разве это так верно? — спросила Розамунда. — Султан ничего не обещал; он сказал только, что, если я попрошу его, он подумает, не пощадить ли Иерусалим.
— Но, — продолжала королева, — он говорит также, что в случае вашего отказа отдаст Иерусалим на разграбление, а правителю Балиану сказал, что, если вы отдадите себя в его руки, он, вероятно, предложит нам такие условия, которые мы примем с удовольствием. Подумайте, подумайте, чем будет судьба вот этих, — и она показала на женщин и детей, — да и судьба всех этих монахинь… Если же вы умрете, то погибнете с честью, и ваше имя будут чтить как святой и мученицы в каждой церкви христианского мира. О, не отказывайте нам, докажите, что вы действительно велики и можете встретить смерть, которая придет к каждому из нас… Вы заслужите благословение половины мира и приготовите себе место на небесах подле Того, Кто тоже умер за людей. Молите ее, мои сестры, молите.
Женщины и дети упали перед ней на колени, со слезами и рыданиями просили ее пожертвовать своей жизнью ради них. Розамунда посмотрела, улыбнулась и сказала звонким голосом:
— А что скажете вы, мой двоюродный брат и жених, сэр Вульф д'Арси? Подите сюда и, как подобает в такую минуту, дайте мне совет.
Закаленный в боях Вульф подошел и, став подле ограды алтаря, поклонился ей.
— Вы слышали, — сказала Розамунда. — Что вы посоветуете?
— Трудно, трудно говорить, — сиплым голосом ответил Вульф… — Но… их много, а вы только одна.
Послышался ропот восхищения. Все знали, что он горячо любит эту девушку и что недавно он защищал ее в этой самой церкви.
Розамунда засмеялась, и нежный звук ее смеха странно прозвучал в этом торжественном месте, в эту торжественную минуту.
— Ах, Вульф, — сказала она, — он всегда говорит правду, даже когда это дорого стоит ему! Ну, я не хотела бы, чтобы было иначе. Королева и все вы — глупые люди, я только испытывала ваше терпение. Неужели мы считаете меня такой низкой? Неужели вы думаете, что я действительно стараюсь сохранить мою бедную жизнь, когда десятки тысяч жизней зависят от меня? Нет, нет, совсем не то! — Розамунда вложила в ножны кинжал, подняв с иола письмо, поднесла его ко лбу в знак повиновения и по-арабски сказала посланным султана:
— Я, раба Салахеддина, повелителя верных! Я пылинка под его стопами. Заметьте, эмиры, что в присутствии всех собравшихся здесь я, Розамунда д'Арси, прежде принцесса Баальбекская, по доброй воле решила идти с вами в лагерь султана, чтобы просить его пощадить жизнь граждан Иерусалима, а затем подвергнуться смерти за мое бегство, как решил мой царственный дядя. Только одного прошу, чтобы мое тело было принесено обратно в Иерусалим, к этому алтарю, где я охотно отдаю свою жизнь. Эмиры, я готова.
Посланцы в восхищении склонились перед ней; воздух переполнили благословения.
Когда Розамунда отошла от алтаря, королева обняла ее, поцеловала, а высокие граждане и рыцари, женщины и дети целовали ей руки, подол ее белого платья, даже ноги, называя ее святой и избавительницей.
Но она отталкивала их, говоря:
— До сих пор я ни то, ни другое, хотя надеюсь освободить вас. Ну, пойдем.
— Да, — отозвался Вульф, подходя к ней. — Пойдем.
Розамунда вздрогнула, и все взглянули на него.
— Слушайте, королева, эмиры и народ, — продолжал он. — Я родственник Розамунды д'Арси и ее нареченный жених, рыцарь, который присягнул служить ей до конца. Если она виновата перед султаном — я еще виновнее, и меня тоже должна поразить его месть. Идем!
— Вульф! — сказала она. — Нужна одна жизнь, а не обе.
— Однако необходимо отдать обе, чтобы мера возмездия переполнилась и Саладин захотел оказать милость. Нет, не останавливайте меня, — сказал Вульф. — Я жил для вас и для вас умру. Если меня удержат насильно, я все же умру в случае нужды от моего собственного меча! Когда я вам дал совет, я дал совет и себе. Неужели вы думали, что я отпущу вас одну, когда, разделив вашу судьбу, могу сделать ее легче.
— О, Вульф, — воскликнула она, — мне будет только еще тяжелее!
— Нет, нет, когда стоишь вдвоем перед смертью, она теряет половину своих ужасов. Кроме того, Саладин — мой друг, и я тоже буду молить его за народ Иерусалима.
И он шепотом прибавил ей на ухо:
— Милая Розамунда, не отказывайте мне в этом, иначе вы доведете меня до безумия и самоубийства, я не хочу жить без вас.
Полные слез глаза Розамунды засияли любовью, и она шепотом же ответила:
— Вы сильнее меня. Пусть исполнится воля Божья.
И никто больше не удерживал его.
Розамунда подошла к настоятельнице и хотела опуститься перед ней на колени, но вместо того сама аббатиса бросилась к ее ногам, назвала ее благословенной и поцеловала. Сестры-монахини тоже с поцелуями прощались с нею. Привели священника, не патриарха, к которому Розамунда не хотела подойти, а другого, человека праведного. Стоя близ алтаря, сначала Розамунда, а потом Вульф исповедовались перед ним, получили отпущение грехов и причастие в той форме, как оно давалось умирающим; и все, кроме эмиров, опустились на колени и молились как бы за отлетающие души.
Священный обряд закончился и в сопровождении двоих посланцев Саладина (третий под эскортом уже отправился предупредить султана), королевы, ее дам и всех остальных Розамунда и Вульф вышли из церкви, из монастырских стен и двинулись по узкой дороге «Страстей Господних». Вульф в качестве родственника взял Розамунду за руку и повел ее, как сестру, на брачный пир. Светила яркая луна; вести о странном событии разошлись по всему Иерусалиму, и во всех улицах толпились зрители, стояли они также на всех крышах, теснились у каждого окна.
— Розамунда! — кричали они. — Благословенна ты, Розамунда, идущая на мученическую смерть ради нашего спасения! Это чистая, святая Розамунда и ее храбрый рыцарь Вульф! — И они срывали цветы и зеленые листья в садах и бросали им под ноги.
Вдоль длинных извилистых улиц, наполненных толпами, скромно шли они, и солдаты очищали перед ними дорогу; встречные женщины поднимали своих детей, чтобы они могли дотронуться до платья Розамунды или взглянуть на ее лицо. Наконец они остановились перед городскими воротами. Пока отодвигали тяжелые засовы, вперед выступил Балиан Ибелинский с обнаженной головой и сказал:
— Госпожа, от имени народа Иерусалима и всех христиан я благодарю вас и вас также, сэр Вульф д'Арси; вы самый отважный и самый верный изо всех рыцарей.
Несколько священников с епископом во главе подошли к ним, размахивая кадилами, и торжественно благословили их во имя церкви и креста.
— Не благодарите и не прославляйте нас, — сказала Розамунда. — Лучше помолитесь, чтобы мы одержали успех, а потом, когда мы умрем, молитесь за наши грешные души. Если же нас постигнет неудача, что может случиться, помните только, что мы сделаем все, что можем. О, народ! Великие горести пали на эту страну, и крест Христов посрамлен. Однако он снова засияет, и перед ним все люди будут преклонять колени. Живите! Пусть не поразят вас новые бедствия! Это наша последняя мольба. Мы молим также, чтобы, когда впоследствии вы умрете, мы могли встретиться на небесах; теперь прощайте.
Обреченные вышли из ворот; эмиры объявили, что больше никто не должен провожать их. Они пошли одни; за ними послышались рыдания толпы. Свет месяца освещал две одинокие фигуры. Подле рядов мусульманских войск их встретил отряд и носильщики. Но Розамунда отказалась сесть в носилки. Они двинулись дальше пешком и наконец вышли на большую площадку среди лагеря на масличной горе рядом с сероватыми деревьями Гефсиманского сада. Тут их ждал Саладин, кругом султана собралась вся его большая армия.
Розамунда и Вульф подошли к султану и опустились перед ним на колени. Розамунда в одеянии послушницы, а Вульф в своей изрубленной кольчуге.
XII. ПОСЛЕДНИЕ КАПЛИ КУБКА
Саладин посмотрел на них, но не сказал обычного приветствия и, помолчав немного, произнес только:
— Вы знаете все. Вы знаете, что ваш высокий титул отнят от вас и что все мои обещания окончены; вы знаете также, что здесь вас ждет смерть неверной рабыни. Так это?
— Я знаю все, великий Салахеддин, — ответила Розамунда.
— Скажите же мне тогда, пришли вы добровольно и почему рядом с вами преклонил колени сэр Вульф, которого я пощадил и смерти которого я не ищу?
— Я пришел добровольно, Салахеддин; спросите ваших эмиров. Об остальном пусть скажет сам Вульф.
— Султан, — произнес Вульф. — Я посоветовал моей родственнице Розамунде идти сюда, хотя такого совета ей было и не нужно, и потом пошел с нею по праву крови и справедливости, ее преступление против вас лежит также и на мне. Ее судьба — моя судьба.
— Я вас простил и не сержусь на вас, — ответил Саладин, — значит, вы должны сами придумать средство последовать за нею.
— Без сомнения, — ответил Вульф, — я христианин посреди многих сыновей Пророка, а потому без труда найду дружественную саблю, которая поможет мне найти этот путь. Прошу вас оказать мне милость и сделать ее судьбу моей судьбой.
— Как? — сказал Саладин. — Вы готовы умереть с нею, вы, сильный и молодой, когда на свете столько других женщин?
Вульф улыбнулся и кивнул головой.
— Хорошо. Я не могу стать между безумцем и его безумием.
Я обещаю вам эту милость. Вы разделите ее судьбу; Вульф д'Арси, вы выпьете чашу моей рабы Розамунды до последних, самых горьких капель.
— Это я только и хочу, — спокойно ответил Вульф.
Теперь Саладин взглянул на Розамунду и спросил:
— Почему вы пришли сюда, не боясь моей мести? Говорите, если же вы желаете попросить о чем-нибудь.
Розамунда поднялась с колен и, стоя перед ним, сказала:
— Я пришла, могучий повелитель, чтобы молить за народ Иерусалима, так как мне сказали, что вы не желаете слышать другого голоса, кроме голоса вашей рабы. Вспомните, много месяцев тому назад видение показало вам меня. Вы трижды видели в грезах, что, благодаря моему поступку, вы спасете многие жизни и принесете на землю мир. Вы знаете, как меня привезли к вам и какими почестями осыпали, но мне, христианке, было тяжело видеть ежедневные убийства, я старалась бежать и наконец благодаря уму и самопожертвованию другой женщины бежала. Теперь я пришла, чтобы подвергнуть себя наказанию, и ваше видение исполнилось или, по крайней мере, вы можете его исполнить, если Господь тронет ваше сердце благодатью; ведь я по доброй воле пришла просить вас, Салахеддин, пощадить город, и за кровь его жителей принять в дар мою кровь. О, господин, будьте так же милосердны, как вы велики! Что скажете вы в день суда над вами, вспомнив, что вы прибавили еще восемьдесят тысяч убитых к числу погубленных раньше, а вместе с ними жизнь многих тысяч ваших собственных соплеменников? Ведь воины Иерусалима не умрут, не мстя за себя! Пощадите их жизнь, позвольте им уйти свободными и тем заслужите благодарность всего рода человеческого и прощение Бога в небесах.
Сказав это, Розамунда замолкла, протянув руки к нему.
— Я предлагал им это, и они отказались, — сказал Саладин. — Зачем я дам теперь такие милости, когда они побеждены?
— Сильный в помощи, — продолжала Розамунда, — неужели вы, такой отважный, порицаете рыцарей и воинов за то, что они бились, хотя знали, что их положение безнадежно? Разве вы не назвали бы их трусами, если бы они сдали город, в котором жил их Спаситель, не стараясь защитить его? О, я устала… Я больше не могу говорить, но снова смиренно и на коленях молю вас — скажите слова милосердия, не окрасьте кровью ваше торжество — кровью женщин и маленьких детей.
И, упав ниц, Розамунда схватила подол его царственного платья и прижалась к небу лбом.
Свет месяца обливал ее; вся громадная толпа вооруженных людей молчала; Саладин сидел неподвижно, как статуя, глядя на купола и башни Иерусалима, которые рисовались на темно-синем небе.
— Встаньте, — сказал он наконец, — и знайте, племянница, что вы поступили как подобало члену моего рода и что я, Салахеддин, горжусь вами. Знайте также, что я взвешу вашу просьбу, как не взвесил бы мольбы другого человека. Теперь я должен посоветоваться с моим собственным сердцем, и завтра ваша мольба будет или исполнена, или отвергнута. Вам, осужденной на смерть, и рыцарю, который желает умереть вместе с вами, я, по старому закону и обычаю, предлагаю принять ислам и тогда дарую вам жизнь и почет.
— Отказываемся, — в один голос ответили Вульф и Розамунда.
Султан наклонил голову; казалось, он не ожидал другого ответа и огляделся кругом, как все думали, для того, чтобы призвать палачей. Но он только сказал предводителю мамелюков:
— Раздели их, возьми под стражу и охраняй, пока я не прикажу убить. Ты отвечаешь жизнью за них. Накормить и напоить их, не делать им никакого зла, пока я не прикажу.
Мамелюк поклонился и подошел со своим отрядом. В последнюю минуту Розамунда спросила его:
— Скажите мне, мой друг, что сталось с Масудой?
— Она умерла за вас; отыщете ее там, за городом, — ответил Саладин. Розамунда закрыла лицо руками и вздохнула.
— А что с Годвином, моим братом? — вскрикнул Вульф.
Но ему не ответили.
Розамунда повернулась и, протянув руки к Вульфу, упала ему на грудь. И тут в присутствии бесчисленной армии они обменялись поцелуем жениха и невесты и вместе с тем поцелуем прощания. Ни он, ни она не сказали ни слова, только, уходя, Розамунда подняла руку и указала на небо.
И ропот прошел по толпе, все, как один человек, повторяли одно слово:
— Пощады!
Но Саладин не двигался, не сделал знака, и их увели в различные тюрьмы.
В числе многих тысяч, смотревших на эту странную и потрясающую сцену, были два человека в длинных одеяниях — Годвин и епископ Эгберт. Годвин трижды старался подойти к трону, но воины, стоявшие кругом него, получили особые приказания; они не позволяли ему ни шевельнуться, ни заговорить. Когда Розамунда проходила мимо него, он хотел приблизиться к ней, но они схватили и удержали. Однако Годвин успел закричать:
— Да будет благословение неба на тебе, святая Божия, на тебе и на твоем верном рыцаре.
Розамунда узнала звук этого голоса и оглянулась, но не увидела д'Арси, потому что кругом нее столпилась стража. И она пошла, спрашивая себя, донесся ли до нее голос Годвина, или прозвучало благословение ангела, или с ней просто заговорил один из франкских пленных.
Годвин ломал руки, епископ старался поддержать его, говоря, чтобы он не печалился, потому что Розамунда и Вульф избрали смерть славную и более желанную, чем тысячи жизней.
— Да, да, — сказал Годвин, — я хотел бы быть с ними.
— Их дело окончено, ваше — нет, — кротко сказал епископ. — Пойдемте в нашу палатку и станем на колени. Бог могущественнее султана, и, может быть, Он спасет их. Если на заре завтра они будут еще живы, мы постараемся добиться аудиенции у Саладина, чтобы попросить за осужденных на смерть.
Они вошли в палатку и молились, как жители Иерусалима молились за своими полуразрушенными стенами, прося Господа смягчить сердце Саладина. Вот полы палатки раздвинулись, и перед коленопреклоненными священниками остановился эмир.
— Встаньте, — сказал он, — и оба идите за мной. Султан приказал вам явиться к чему.
Эгберта и Годвина провели в спальню султана, и стража закрыла за ними полы шатра. На шелковом ложе полулежал Саладин, и свет лампы освещал его бронзовое — задумчивое лицо.
— Я послал за вами, франки, — сказал он, — чтобы вы передали мои слова Балиану Ибелинскому и гражданам Иерусалима. Вот что я говорю: пусть святой город завтра сдастся, и все его жители признают себя моими пленниками. Я дам им возможность в течение сорока дней внести выкуп, и в это время никому из них не будет сделано вреда. Каждый мужчина, который внесет за себя десять золотых, освободится, две женщины или десять детей будут считаться за одного мужчину и вносить такую же плату. Семь тысяч бедных будут отпущены с платой в тридцать тысяч безантов. Все, кто останется или не заплатит за себя выкупа (а в Иерусалиме еще много золота), сделаются моими невольниками. Вот мои условия; я предлагаю их, благодаря предсмертной просьбе моей племянницы госпожи Розамунды, и только благодаря ей. Передайте это Балиану; пусть он вместе с начальниками города ждет меня на заре и ответит от имени народа, согласен ли он. Если нет, я буду продолжать приступы, превращу город в груду развалин, которые прикроют кости его детей.
— Благословляем вас за эту милость, — сказал епископ Эгберт, — и повинуемся. Но скажите нам, султан, что нам делать дальше? Вернуться в лагерь с Балианом?
— Если он примет мои условия, нет, потому что в Иерусалиме вас ждет безопасность, и я без выкупа отпускаю вас на свободу.
— Султан, — сказал Годвин, — позвольте мне перед уходомпроститься с моим братом и с моей двоюродной сестрой Розамундой.
— Чтобы в третий раз задумать бегство? — сказал Саладин. — Нет, оставайтесь в Иерусалиме и ждите моего слова. Вы встретите их только в последнюю минуту.
— Султан, — просил Годвин, — пощадите их, потому что они поступили благородно. Ужасно, что они умрут; ведь они любят друг друга, и они так молоды, красивы и отважны.
— Да, — ответил Саладин, — их поступок благороден; я никогда не видывал ничего более высокого. Ну, тем вернее они попадут на небо, только поклонники креста могут войти в рай. Довольно; их судьба решена, и я не могу изменить моих намерений; вы до последней минуты не увидите их, как я уже сказал. Но, если хотите, в письме проститесь с ними и пошлите это письмо с посольством; оно будет передано им. Теперь идите, более великие вопросы стоят перед нами. Вас ждут воины.
Через час они стояли перед Балианом, передавая ему слова Саладина; выслушав их, он поднялся и благословил имя Розамунды. Пока Балиан сзывал своих советников и приказывал слугам седлать лошадей, Годвин отыскал перо и пергамент и наскоро написал:
«Вульфу, моему брату, и Розамунде, моей двоюродной сестре и его невесте. Я жив, хотя чуть не умер подле мертвой Масуды. Да упокоит Иисус ее благородную и любимую мной душу! Саладин не позволил мне повидаться с вами, обещав, впрочем, что я увижу вас в последнюю минуту; итак, ждите меня тогда. Я все еще осмеливаюсь надеяться, что Господь изменит сердце султана и спасет вас. В таком случае я вас прошу как можно скорее обвенчаться и вернуться в Англию; если я останусь в живых, я надеюсь со временем навестить вас. До тех пор не старайтесь отыскать меня; мне временно хочется жить одиноко. Но если суждено другое, тогда, очистясь от грехов, я постараюсь найти среди святых вас, которые за свое благородное деяние, конечно, получили милость Божию.
К султану едет посольство. Больше писать у меня нет времени, хотя я желал бы сказать еще многое. Прощайте. Годвин».
Условия Саладина были приняты; радуясь спасению, но и оплакивая падение святого города, снова попавшего в руки мусульман, население Иерусалима готовились уйти и переселиться в другие места. Большой золотой крест сорвали с мечети Эль-Акса, и на каждой стене развевалось желтое знамя Саладина. Все, имевшие средства, заплатили выкуп; неимущие занимали деньги, а не получив их, с отчаянием отдавались в рабство.
Саладин оказал большое милосердие: он освободил всех старых без платы и из собственной казны дал выкуп за сотни женщин, мужья и отцы которых пали в боях или в других городах были заключены в тюрьмы.
В течение сорока дней печальная процессия побежденных тянулась из ворот; впереди всех ехала королева Сибилла и ее придворные дамы: многие, проходя мимо победителя, сидевшего с парадной свитой, останавливались перед ним, прося его за тех, кто еще остался в городе. Некоторые также вспоминали Розамунду и то, что благодаря ее самопожертвованию они могли смотреть на солнце, и молили его, если она не умерла, пощадить ее и ее отважного рыцаря. Наконец все окончилось, и Саладин вступил в город. Он приказал очистить великую мечеть, омыть ее розовой водой и отслужить в ней службу, а потом разделил остальных жителей, которые не могли внести выкупа, как рабов, между своими эмирами и членами свиты. Так полумесяц восторжествовал над крестом, но не среди моря крови.
Все эти сорок дней Розамунда и Вульф были в заключении и ждали казни. Письмо Годвина принесли Вульфу, который прочитал его и обрадовался, узнав, что его брат жив. После этого пергамент передали Розамунде, и хотя она тоже обрадовалась, но и заплакала над ним и не могла понять его полного значения. Одно она увидела из него, а именно, что для них с Вульфом не осталось надежды на жизнь. Они знали, что Иерусалим пал, потому что до них долетели ликующие клики мусульман, и сквозь тюремные решетки видели вдали бесконечные толпы беглецов, которые выходили через старинные ворота, унося с собой свои вещи и уводя детей. И, глядя на эту картину, Розамунда чувствовала прилив счастья: она понимала, что пострадает не напрасно.
Наконец лагерь снялся. Саладин и многие солдаты двинулись в Иерусалим, но Вульф и Розамунда остались в унылых темницах, устроенных в старинных склепах. Раз, когда Розамунда стояла на коленях и молилась перед тем, чтобы лечь спать, дверь отворилась, и на пороге показалась фигура предводителя и нескольких солдат; предводитель поздоровался с нею и предложил ей идти с ним.
— Пришел конец? — спросила она.
— Да, — ответил он, — это конец. — Она кротко склонила голову и пошла за ним. Ее усадили на носилки, стоявшие подле дверей, и под лучами луны внесли в Иерусалим; двинулись по Дороге скорби, наконец остановились у знакомых дверей подле старинной арки.
Двери открылись, и Розамунда вошла в большой монастырский двор, убранный точно для праздника; повсюду среди колонн висели многочисленные лампы. Большой проход под колоннадой и все пространство двора было занято сарацинскими начальниками в парадных одеждах, и между ними сидел сам Саладин и его двор.
«Они хотят сделать великолепное зрелище из моей смерти», — подумала Розамунда. И вдруг слегка вскрикнула: против Саладина, облитый лунным сиянием и светом ламп, стоял в своей блестящей кольчуге высокий христианский рыцарь. Он услышал и повернул голову; перед Розамундой был Вульф, похудевший, бледный, но, несомненно, Вульф.
«Значит, мы умрем вместе?» — сказала она мысленно и гордо пошла вперед среди глубокой тишины; поклонившись Саладину, Розамунда взяла за руку Вульфа и стояла, не выпуская ее. Султан посмотрел на них и сказал:
— Как бы долго ни откладывался роковой день, он все же наконец должен наступить. Скажите, франки, готовы ли вы осушить последние капли кубка, о котором я говорил вам?
— Готовы, — ответили они в один голос.
— Сожалеете ли вы, что положили жизни свои за спасение всего Иерусалима? — спросил он опять.
— Нет, — ответила Розамунда, глядя на Вульфа. — Мы ликуем, что Господь был так благ к нам.
— Я тоже радуюсь, — сказал Саладин, — и тоже благодарю Аллаха, в былые времена пославшего мне вещее видение, которое отдало в мои руки святой город Иерусалим без кровопролития. Теперь все совершилось, что было суждено. Уведите их.
На мгновение они приникли друг к другу, но эмиры, разлучив их, увели Вульфа в правую сторону, а Розамунду в левую; она ушла с бледным лицом и высоко поднятой головой, думая сейчас увидеть палачей и спрашивая себя, встретит ли она перед смертью Годвина. Ее отвели в комнату, наполненную женщинами, но без палача, и закрыли за нею дверь.
«Может быть, эти женщины задушат меня, — подумала Розамунда, когда они подошли к ней, — чтобы не проливать царственную кровь?»
Но нет, нежными руками, молча, они сняли с нее платье, омыли ароматной водой, причесали ее волосы и перевили их жемчугом и драгоценными камнями. Они одели ее в тонкие льняные материи, набросили роскошные вышитые одежды и царскую мантию пурпурового цвета; покрыли ее драгоценностями, которые она носила в былые дни, и прибавили к ним другие, еще более великолепные; голову ее покрыли прозрачным покрывалом, вышитым золотыми звездами. Оно было совершенно похоже на ту вуаль, подарок Вульфа, которую она надела в памятный вечер, когда Гассан увез ее из Стипля. Розамунда заметила это и улыбнулась, как грустному предвестию, потом сказала:
— Скажите, зачем хотят насмехаться над моей гибелью, заставляя надевать эти великолепные одежды?
— Такова воля султана, — ответили они, — и из-за них вы заснете сегодня не менее счастливая.
Теперь все было готово, дверь отворилась; Розамунда вышла во двор, вся блестящая под лучами ламп. Затрубили трубы, и вестник крикнул:
— Дорогу, дорогу! Дорогу для высокой госпожи и принцессы Баальбека!
В сопровождении почтенных женщин, которые убирали ее, Розамунда прошла во двор и снова преклонила колени перед Саладином, потом остановилась перед ним молча.
И снова затрубили трубы, и с правой стороны закричал вестник:
— Дорогу, дорогу! Дорогу храброму и благородному франкскому рыцарю Вульфу д'Арси!
В сопровождении эмиров и знатных вельмож вышел Вульф в великолепных доспехах, отделанных золотом: на его плечах висела мантия, усеянная драгоценными камнями, а на его груди сверкала «звезда счастья Гассана». Он подошел к Розамунде и остановился подле нее, положив руки на эфес своего длинного меча.
— Принцесса, — сказал Саладин, — я возвращаю вам ваше положение и титулы, потому что вы показали великое благородство; и вас, сэр Вульф, я желаю почтить, как умею. Но своего решения не изменю. Пусть они пойдут вместе и выпьют кубок своей судьбы, как жених с невестой.
Снова затрубили трубы, снова закричали вестники, и Розамунду с Вульфом провели к дверям церкви: постучались в них, и тогда они открылись. Из церкви донесся звук пения женщин, но не печальную молитву пели они.
— Сестры ордена все еще здесь, — сказала Розамунда Вульфу, — и они хотят ободрить нас на нашем пути к небу.
— Может быть, — ответил он, — не знаю… Я изумлен.
У церковных дверей мусульмане остановились, но столпились при входе, точно желая видеть, что будет дальше. А через церковь шла одинокая фигура в белой одежде. Это была настоятельница.
— Что нам делать, мать моя? — спросила ее Розамунда.
— Идите за мною оба, — сказала она, и они подошли к решетке алтаря и по ее знаку опустились на колени.
Теперь они увидели, что по обеим сторонам алтаря стояло по христианскому священнику. С правой стороны был епископ Эгберт, он вышел вперед и начал читать над ними венчальные молитвы.
— Они венчают нас перед смертью. — прошептала Розамунда.
— Да будет так, — ответил Вульф.
Обряд совершился; сестры сидели на своих резных местах и ждали. Жених и невеста обменялись кольцами. Вульф назвал Розамунду своей женой; Розамунда назвала Вульфа мужем. Наконец старый епископ ушел к алтарю, и другой монах, закрытый капюшоном, выступил вперед и прочитал над ними благословение глубоким и звучным голосом, который странно взволновал их, точно голос, донесшийся из-за гроба. Он, благословляя, простер над ними руки и посмотрел вверх, капюшон спал с его головы, и свет от алтаря осветил его лицо.
Это был Годвин.
Они снова остановились перед Саладином; теперь их свита увеличилась благодаря присутствию настоятельницы и монахинь Святого Креста.
— Сэр Вульф д'Арси, — сказал султан, — и вы, Розамунда, моя племянница, принцесса Баальбека, последние капли вашего кубка, сладкие, или горькие, или сладко-горькие, испиты: та судьба, которую я задумал для вас, свершилась, и вы по вашим собственным обрядам сделались мужем и женой; только смерть, посланная Аллахом, нарушит ваш союз. Вы оказали милосердие осужденным на смерть, сделались средством милосердия, а потому я также, милую вас и дарую вам мою любовь и почесть. Теперь оставайтесь здесь, пользуйтесь вашим положением и богатством или, если желаете, уезжайте и живите за морем. Да будет над вами благословение Аллаха! Таково решение Юсупа Салахеддина, повелителя верных, победителя и калифа всего Востока.
Полные радости и изумления, они опустились перед ним на колени и поцеловали его руку. Потом, бросив друг другу несколько слов, замолчали, и Розамунда сказала:
— Султан, да благословит и да наградит вас Бог. Бог христиан и мусульман, Бог всего мира, хотя мир поклоняется ему различными путями; да пошлет Он вам счастье за ваше царственное деяние. Выслушайте же нашу мольбу. Может быть, многие наши единоверцы все еще живут в Иеруслиме и не могут заплатить выкупа. Возьмите мои земли и драгоценности, велите их оценить, и пусть это будет платой за свободу нескольких бедных рабов. Таково наше свадебное приношение. Мы же уедем в нашу страну.
— Да будет так, — ответил Саладин. — Я возьму земли и употреблю всю сумму их стоимости, как вы желаете. Драгоценности тоже оценят, но я возвращаю их вам в виде свадебного приданого. Этим монахиням я дарую позволение остаться здесь, в Иерусалиме, и без всякой опасности для себя ухаживать за больными христианами, если они того захотят; я делаю это, так как они приютили вас… Эмиры, отведите новобрачных в дом, приготовленный для них.
По-прежнему изумленные и все еще не доверяя своему счастью, они повернулись, чтобы уйти, но к ним подошел улыбающийся Годвин, поцеловав их обоих в щеку, и назвал: возлюбленные брат и сестра.
— А вы, Годвин? — прошептала Розамунда.
— Я, Розамунда, тоже избрал себе невесту, и ее имя церковь Христова.
— Ты вернешься в Англию, брат? — спросил Вульф.
— Нет, — шепнул Годвин с одушевлением и с пламенем в глазах, — крест пал, но не навсегда. У этого креста есть защитники и слуги за морями; они придут на призыв церкви. И здесь, брат, до конца нашей жизни мы, может быть, еще встретимся на поле сражения. А до тех пор прощай…
1
Генрих VII — английский король (1485-1509), первый из династии Тюдоров. Его приход к власти знаменовал конец войны Алой и Белой розы — кровавой феодальной борьбы за английский престол между двумя линиями королевской династии: Ланкастерской и Йоркской. После смерти короля Эдуарда IV, в 1843 году, его брат Ричард III захватил престол и убил малолетних сыновей Эдуарда. Казнями и преследованиями Ричард III восстановил против себя и ланкастерцев и йоркистов, которые объединились вокруг Генриха Тюдора, представителя младшей линии Ланкастеров, имевшего незначительные права на престол. В битве при Босворте 22 августа 1485 года Ричард III потерпел поражение и был убит. Генрих Тюдор стал королем Англии под именем Генриха VII.
(обратно)
2
Фердинанд и Изабелла — король и королева Испании, при которых произошло объединение разрозненных до того времени испанских государств. В 1469 году династическим браком наследника арагонского престола Фердинанда и будущей королевы Кастилии Изабеллы было положено начало формальному объединению обоих государств. В 1474 году Изабелла утвердилась на кастильском престоле, а в 1479 году Фердинанд стал королем Арагона. Последняя дата отмечает образование единого испанского государства.
(обратно)
3
В описываемое в романе время, после длительной борьбы за освобождение Испании от мавританско— арабского владычества (реконкиста), на территории Испании оставалось последнее мавританское государство — Гранадский эмират, образовавшийся в 1238 году.
(обратно)
4
Высшие сановники католической церкви носили пурпурные одежды.
(обратно)
5
Фут — мера длины, около 30,5 сантиметра.
(обратно)
6
Холборн — один из районов Лондона.
(обратно)
7
Мастер — молодой барин, дворянин.
(обратно)
8
Плантагенеты — английская королевская династия (1154-1399). В 1399 году король Ричард был низложен, и власть перешла к династии Ланкастеров
(обратно)
9
Альгамбра — дворец гранадских султанов. (эмиров).
(обратно)
10
Карлос, принц Вианский — законный наследник арагонского престола. Вел борьбу со своим отчимом королем Хуаном II, отцом Фердинанда. Согласно легенде, был отравлен второй женой короля Хуана.
(обратно)
11
Мыс Лизард — крайняя южная точка Англии.
(обратно)
12
Уэссан — самый западный из островов у побережья Франции.
(обратно)
13
Мыс Финистер — крайняя западная часть полуострова Бретань.
(обратно)
14
Мыс Сан-Висенти — крайняя юго-западная точка Пиренейского полуострова.
(обратно)
15
Бушприт — брус, выступающий наклонно впереди носа корабля.
(обратно)
16
Фальшборт — выступ борта судна над верхней палубой.
(обратно)
17
Такелаж — совокупность всех снастей судна.
(обратно)
18
Святая эрмандада — союз городов и крестьянских общин Кастилии, Леона, Астурии и Арагона; был использован королем Фердинандом и королевой Изабеллой для подавления феодальной знати. Впоследствии роль Святой эрмандады была сведена к функциям сельской полиции.
(обратно)
19
Замарра — балахон позора.
(обратно)
20
Кесария (Цезарея) — город на побережье Средиземного моря. (Здесь и далее примеч. перев.).
(обратно)
21
Ирод Агриппа I (ум. в 44 г. н.э.) при императоре Клавдии правил югом Сирии и Палестиной к востоку и западу от реки Иордан.
(обратно)
22
Клавдией (10 г. до н.э. — 54 г. н.э.) — римский император (41— 54 гг. н.э.).
(обратно)
23
Фарисеи — религиозно-политическая группировка (секта) евреев, отличалась от саддукеев (см. ниже) строгим соблюдением обрядности, верой в посмертную жизнь и приход Мессии. Саддукеи — религиозно-политическая группировка (секта) евреев; более свободно интерпретировали Священное Писание, отрицали посмертную жизнь и приход Мессии. Зелоты — радикальная группировка (секта) евреев, призывавшая к свержению римского ига. Левиты (по имени Леви, сына Иакова) — религиозная секта, послушники храмовых жрецов, учителя Священного Закона.
(обратно)
24
От Матфея, 6:34: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы».
(обратно)
25
Идумея (Эдом) — страна на юго-востоке Малой Азии.
(обратно)
26
См.: Иосиф Флавий. Еврейские древности, кн. XVII, гл. VI, разд. 7 и кн. XIX, гл. VIII, разд. 2. (Примеч. автора.).
(обратно)
27
Вибий Марс — римский наместник Сирии в 42—45 гг. н. э.
(обратно)
28
Коммагена — древнее государство в Малой Азии.
(обратно)
29
Эквиты — конные гладиаторы.
(обратно)
30
Веларий — навес над амфитеатром.
(обратно)
31
Вомиторий — большие арочные ворота, ведущие в амфитеатр.
(обратно)
32
Плутон — бог подземного царства — Аида.
(обратно)
33
Аполлония — порт на берегу Средиземного моря.
(обратно)
34
Иоппия — древнее название Яффы.
(обратно)
35
Харон — перевозчик душ умерших через Стикс.
(обратно)
36
Ессеи (эссены) — аскетическая еврейская секта. Их обычаи достаточно подробно описаны Г.Р. Хаггардом.
(обратно)
37
Куспий Фад — прокуратор Иудеи в 44—47 гг.
(обратно)
38
Вентидий Куман — прокуратор Иудеи в 48—52 гг.
(обратно)
39
Нево — вершина, откуда Моисей узрел Ханаан, землю обетованную (Второзаконие, гл. 34:1).
(обратно)
40
Февда — лжепророк, который поднял восстание, пообещав людям, что освободит их после того, как они перейдут через Иордан, воды которого должны расступиться. Восстание было разгромлено Куспием Фадом.
(обратно)
41
Альбин — римский прокуратор в 62—64 гг.
(обратно)
42
Гессий Флор — римский прокуратор Иудеи в 64—66 гг.
(обратно)
43
Мелит — Мальта.
(обратно)
44
Масада — знаменитая горная крепость недалеко от Мертвого моря.
(обратно)
45
Цестий Галл — римский наместник Сирии в 64—65 гг.
(обратно)
46
Имеется в виду Иосиф Флавий (Иосиф бен Маттиас; ок. 37 — ок. 100 гг.) — знаменитый еврейский военачальник и историк, автор книги «Иудейская война», из которой обильно черпал сведения и сам Хаггард. 11ачав с борьбы против римлян, впоследствии стал их верным союзником. Иосиф Флавий — герой трилогии Л. Фейхтвангера, первый роман которой — «Иудейская война» (1932).
(обратно)
47
От Луки, 21:20-24.
(обратно)
48
От Матфея, 26:52.
(обратно)
49
Тиропеон — долина, отделяющая Верхний город от Нижнего.
(обратно)
50
Сикарии (от лат. sica — кинжал) — радикальная политическая группа выступавшая против римского владычества и иудейской знати. Их ядpo составляли социальные низы, рабы.
(обратно)
51
От Матфея, 24:15.
(обратно)
52
Бытие, 22:1—14.
(обратно)
53
От Матфея, 24:28.
(обратно)
54
Самое священное место храма, куда дозволен был доступ только первосвященнику раз в год для совершения особой службы, установленной Моисеем.
(обратно)
55
Хлебы предложения — хлебы для жертвоприношения в Святая Святых (Исход, 25:30).
(обратно)
56
Ныне Реджо-де-Калабра.
(обратно)
57
От Моисея. Второзаконие, 28:68.
(обратно)
58
Осия, 9:3.
(обратно)
59
Сеют опустошения и называют это миром (лат. — Тацит).
(обратно)
60
Атрий — центральная комната римского дома, внутренний дворик.
(обратно)
61
Фасции — связки прутьев, в которые могли вкладываться секиры, символ высшей власти; несли их особые служители — ликторы.
(обратно)
62
Всадники — привилегированное сословие в Древнем Риме, богатые люди незнатного происхождения.
(обратно)
63
Сестерций — серебряная римская монета.
(обратно)
64
Женщина (лат.).
(обратно)
65
По-дружески, на слово, неофициально (лат.).
(обратно)
66
Т. е. по воскресеньям.
(обратно)
67
От Матфея, 7:6.
(обратно)
68
Книга Пророка Исайи, 55:6.
(обратно)
69
Притчи, 21:1. Полностью цитата: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод; куда захочет, Он направляет его».
(обратно)
70
Владычица (лат.).
(обратно)
71
От Матфея, 7:1.
(обратно)
72
От Луки, 20:35. «А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят».
(обратно)
73
Синдин — хлопчатобумажная ткань.
(обратно)
74
Мамзер — незаконнорожденный.
(обратно)
75
Титул императрицы.
(обратно)
76
Мульда — смесь воды, вина и меда.
(обратно)
77
По учению Гераклита.
(обратно)
78
Чужеземцев, иноверов.
(обратно)
79
Мишна — часть талмуда.
(обратно)
80
Левит — низшая степень священнослужителей.
(обратно)
81
Триклиния — столовая комната.
(обратно)
82
Эта глава написана по материалам книги Э. Ренана «Антихрист».
(обратно)
83
аббатство -большой католический монастырь; обычно аббатству были подчинены несколько малых монастырей
(обратно)
84
Генрих VIII — король Англии в 1509-1547 годах
(обратно)
85
Эдуард I — король Англии в 1272-1307 годах
(обратно)
86
Георг I — король Англии в 1714-1727 годах
(обратно)
87
Вильгельм Рыжий — король Англии в 1087-1100 годах
(обратно)
88
германские племена англов, саксов и ютов завоевали Британию в V веке нашей эры и создали там семь государств: два королевства англов на севере, одно королевство англов и саксов в центральной части страны, три государства саксов на юге и одно государство ютов на юго-востоке
(обратно)
89
аббат — в данном случае настоятель (начальник) аббатства
(обратно)
90
Кромуэл Томас, граф Эссекс (1485-1540), — английский политический деятель, занимавший в 1533-1540 годах высшие государственные должности — канцлера казначейства, государственного секретаря, генерального викария короля по церковным делам; в 1540 году было обвинен в измене и казнен
(обратно)
91
поводом для реформации церкви в Англии послужил конфликт между Генрихом VIII и папой римским Климентом VII, вызванный отказом папы разрешить развод короля с Екатериной Арагонской
(обратно)
92
капеллан — католический священник, в данном случае подчиненный аббата
(обратно)
93
в средние века короли, крупные феодалы (светские и духовные) имели право судить своих подданных и даже казнить их
(обратно)
94
рака -металлический ящик, гроб
(обратно)
95
тонзура — выбритая макушка у католических священников и монахов, отличительный признак духовных лиц
(обратно)
96
акр — старинная английская земельная мера, около 0,5 га
(обратно)
97
в 1534 году, после развода Генриха VIII с Екатериной Арагонской, был издан закон, лишающий права на престол детей Генриха VIII от первого брака
(обратно)
98
картезианцы — монахи, принадлежащие к одному из католических орденов (картезианскому); католические ордена вообще и картезианский в частности представляли собой монашеские организации, которые активно поддерживали папство в его борьбе со всякими отклонениями от католического вероучения
(обратно)
99
старинная крепость в Лондоне, превращенная в начале XVII века в тюрьму; здесь содержались важнейшие государственные преступники
(обратно)
100
место в Лондоне, где производились казни
(обратно)
101
имеется в виду испанский король и император так называемой Священной Римской империи германской нации -Карл V, ярый противник Генриха VIII и союзник папы римского
(обратно)
102
Твид — река в Шотландии
(обратно)
103
порода длинношерстых охотничьих собак
(обратно)
104
брат-мирянин — светское лицо, находящееся на службе в монастыре
(обратно)
105
йомены — средние и зажиточные крестьяне в Англии в XIV-XVIII веках
(обратно)
106
бенедиктинцы — монахи старейшего из католических монашеских орденов
(обратно)
107
плод кустарникового дерева из семейства розовых; употребляется в пищу в сыром и соленом виде, используется для приготовления пастилы и вина
(обратно)
108
в те времена запись актов гражданского состояния, то есть регистрация рождений, браков, разводов и смертей, находилась в руках духовенства; после разрыва с папой Генрих VIII присвоил право записи актов гражданского состояния себе, но католики долгое время отказались признать за светскими властями это право
(обратно)
109
Испания была главным оплотом католицизма, важнейшей опорой папы римского; Екатерина Арагонская была испанкой, родной теткой испанского короля Карла V; развод Генриха VIII с ней обострил англо-испанские отношения, и испанское правительство плело заговоры и интриги против Генриха VIII
(обратно)
110
при посвящении в духовное звание совершался обряд рукоположения, во время которого представитель высшего духовенства возлагал руки на голову посвящаемого
(обратно)
111
шериф — должностное лицо, осуществлявшее в графстве административные и судебные функции
(обратно)
112
графство — область, единица административного деления в Англии
(обратно)
113
Крануэл Тауэрс — «Башни Крануэла» (англ.)
(обратно)
114
велиал — то же, что и сатана — олицетворение зла
(обратно)
115
после развода Генрих VIII женился на бывшей фрейлине своей первой жены — Анне Болейн
(обратно)
116
Кимболтон — замок в Англии, куда была сослана после развода (в 1533 г.) Екатерина Арагонская и где она умерла в 1536 году; католики утверждали, что она была отравлена
(обратно)
117
Фишер Джон (1459-1535) — английский католический епископ, выступавший против развода Генриха VIII и против реформации церкви; король заточил его в тюрьму, а папа демонстративно произвел его в кардиналы; в ответ Генрих VIII казнил Фишера
(обратно)
118
Мор Томас (1478-1535) — выдающийся английский ученый и политический деятель, один из основоположников утопического социализма; в 1529-1532 годах был первым министром (лордом-канцлером) Генриха VIII; будучи противником реформации, вышел в отставку; за отказ принести присягу англиканской церкви был обезглавлен
(обратно)
119
в 1536 году по решению парламента было закрыто 375 малых монастырей, а в 1539 году — все остальные; большую часть захваченных земель и ценностей король продал придворным и спекулянтам
(обратно)
120
инквизиция — судебно-полицейское учреждение католической церкви, созданное в ХIII веке для борьбы с так называемыми еретиками; применяла к своим жертвам жесточайшие пытки, сжигала их на кострах; сильнее всего инквизиция свирепствовала в Испании
(обратно)
121
Вестминстер — часть Лондона, в которой расположены парламент и другие правительственные учреждения
(обратно)
122
красная шапка — головной убор кардинала
(обратно)
123
епископ Кентерберийский — сначала глава католической церкви в Англии, а после реформации — высший (после короля) сановник англиканской церкви; его резиденцией является город Кентербери в юго-восточной Англии
(обратно)
124
тиара — трехглавая корона папы римского
(обратно)
125
Плантагенеты — династия английских королей, представители которой правили Англией с 1154 по 1399 год
(обратно)
126
в 1536 году вторая жена Генриха VIII, Анна Болейн, была казнена по обвинению в измене королю; на следующий день после казни Генрих VIII женился на ее фрейлине — Джен Сеймур
(обратно)
127
епархия — обширная область, управляемая епископом
(обратно)
128
бабка Меггс переиначивает на свой лад латинское pax vobiscum («мир вам»)
(обратно)
129
имеется в виду дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской, Мария Тюдор, ярая католичка, лишенная прав на престол после развода родителей
(обратно)
130
настоятель небольшого католического монастыря, подчиненный аббату
(обратно)
131
католики рассматривали реформацию церкви как ересь
(обратно)
132
духовные власти имели право судить виновных в преступлениях против религии, но приводили в исполнение приговоры не они, а светские власти; только в исключительных случаях светские власти выдавали духовным властям специальные грамоты на право приводить в исполнение приговоры
(обратно)
133
вельзевул — то же, что и дьявол
(обратно)
134
библейский миф рассказывает, что жена придворного египетского фараона Пентефрия воспылала страстью к находившемуся в рабстве у ее мужа юноше Иосифу Прекрасному, но тот отверг ее домогательства
(обратно)
135
Новый Иерусалим — в христианской мифологии одно из названий рая
(обратно)
136
Уолси Томас (1475-1530) — английский политический деятель, кардинал; был лордом-канцлером при Генрихе VIII, протестовал против его развода и был уволен в отставку
(обратно)
137
нобль — старинная английская монета
(обратно)
138
Флодден -селение в Северной Англии, близ которого в 1513 году английские войска сдержали победу над шотландцами
(обратно)
139
уменьшительное от Генрих
(обратно)
140
Кромуэл уже предчувствовал свою близкую опалу; в 1540 году он был казнен
(обратно)
141
речь идет об Анне Болейн и Джен Сеймур — второй и третьей женах Генриха VIII
(обратно)
142
имеются в виду болотистые районы в графствах Кембриджшир и Линкольншир, где часто скрывались мятежники
(обратно)
143
по средневековому поверью, сера, как и другие воспламеняющиеся материалы, считалась обязательной принадлежностью ада, чертей и ведьм
(обратно)
144
Христианство было принято исландцами в 1000 г.
(обратно)
145
Берсерками (берсеркерами) скандинавы называли воинов, одержимых дикой яростью. От бешенства они грызли зубами края своих щитов и в припадке боевого исступления убивали всех, кто попадался им на глаза.
(обратно)
146
Речь идет об островах Вестманнаэйяр (островах Западных Людей) у южных берегов Исландии.
(обратно)
147
Норны — женские божества, определявшие судьбу людей при их рождении, которую не могли изменить даже всесильные боги.
(обратно)
148
Фрейя — богиня плодородия, любви и красоты.
(обратно)
149
Гекла — один из крупнейших вулканов Исландии.
(обратно)
150
Тралль — раб, слуга, — Примеч. перев.
(обратно)
151
По скандинавским народным обычаям в конце июня, в Иванов день, выбирают Невесту Мая, которая объявляет, кто из юношей станет Женихом Мая. Обычно в это же время юноши выбирают себе невест.
(обратно)
152
Ньерд — бог мореплавания, рыболовства, охоты на морских животных.
(обратно)
153
Скальды — древнескандинавские поэты и певцы, в качестве сюжетов для своих песен использующие предания о подвигах королей, легендарных героев, о битвах викингов. Часто в их песнях воспевалась история какого-нибудь знатного исландского рода.
(обратно)
154
Карлики (цверги) в скандинавских мифах воспеваются как искуснейшие кузнецы, изготовившие сокровища, ставшие атрибутами богов.
(обратно)
155
Один — верховное божество у древних скандинавов, бог войны, покровитель битв и жертвоприношений. От Одина вели свой род многие королевские династии (в Англии, Дании и др.).
(обратно)
156
Фрейр — брат Фрейи, бог растительности, урожая, богатства, о р — бог грома и молнии, бог силы. Браги— бог-скальд, бог поэтов.
(обратно)
157
Тролли по скандинавским народным поверьям — враждебные людям безобразные сверхъестественные существа. Бальдр — бог весны, солнца, света, прекраснейший юноша.
(обратно)
158
Ярл — правитель — Примеч. перев.
(обратно)
159
Вальгалла (Вальхалла) — палаты Одина, куда, согласно верованиям древних скандинавов, попадают после смерти герои, павшие на поле битвы. Хель — царство мертвых, куда попадают все умершие смертью, не подобающей героям.
(обратно)
160
Альтинг — годичное собрание свободных людей в Исландии, представляющее собою одновременно и парламент, и верховный суд. — Примеч. перев.
(обратно)
161
Вира — штраф за человекоубийство.
(обратно)
162
Стадия — восьмая часть английской мили. — Примеч. перев.
(обратно)
163
Страумей — самый южный из островов Оркней. — Примеч. перев.
(href=#r>обратно)
164
Речь идет об Агриппе I, правившем Иудеей в 37–44 гг. н. э.
(обратно)
165
Палестина — страна между Средиземным морем и Мертвым морем. Основными частями Палестины являлись Галилея, Самария, Иудея и Идумея.
(обратно)
166
Клавдий — римский император (41–54 гг. н. э.).
(обратно)
167
Фарисеи и саддукеи — политическо-религиозные течения в Иудее. Фарисеи признавали бессмертие души и присутствие судьбы в человеческих деяниях и являлись выразителями интересов средних слоев населения, тогда как саддукеи отрицали как загробную жизнь, так и предопределенность человеческой судьбы и выражали интересы иудейской аристократии.
(обратно)
168
Иегова — одно из имен Бога.
(обратно)
169
Проконсул — наместник римской провинции.
(обратно)
170
Коммагена — область в Северо-Восточной Сирии с центром в городе Самосата.
(обратно)
171
"Хвала тебе, цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!" (лат.).
(обратно)
172
Прокуратор — в эпоху Римской империи правитель небольшой провинции.
(обратно)
173
Ессеи — иудейская секта, возникшая в начале нашей эры. Ессеям было свойственно попечение о сохранении и возвышении чистоты нравов и благочестия. Ессеи веровали в единого Бога, в бессмертие души.
(обратно)
174
Лига — расстояние в три географических мили. — Примеч. автора.
(обратно)
175
Ессеи представляли себе блаженное жилище покинувших бренное тело душ за гранью океана. — Примеч. автора.
(обратно)
176
Нево — гора, с вершины которой Господь показал пророку Моисею всю землю Обетованную (библейск.).
(обратно)
177
Первосвященник — глава Иудейской церкви.
(обратно)
178
Сикль — крупная весовая и денежная единица.
(обратно)
179
Нерон — римский император в 54–68 гг. н. э.
(обратно)
180
Восточное приветствие, заменяющее поклон. — Примеч. автора.
(обратно)
181
Речь идет о Иосифе Флавии (37-100 гг. н. э.), прославившемся впоследствии своим историческим трудом "Иудейская война", повествующая о событиях, происходивших в Иудее с середины 170-х гг. до н. э. до падения Иерусалима и окончательного усмирения иудеев (70-е гг. н. э.). Перу Иосифа Флавия принадлежат также "Иудейские древности", в котором описывается история еврейского народа от сотворения мира до периода правления Нерона.
(обратно)
182
Тит Флавий Веспасиан — римский император (69–79 гг. н. э.), первый император несенаторского происхождения. В 67 г. Нерон поручил ему подавление восстания в Иудее. В 70 г. сделал своего сына Тита, завершившего Иудейскую войну, своим соправителем.
(обратно)
183
Префект — титул высших должностных лиц в римской армии и на гражданской службе. Всадниками первоначально называли сражавшуюся верхом патрицианскую знать. Они являлись вторым после сенаторов сословием в римском обществе. Должность префекта занимали только сенаторы или всадники.
(обратно)
184
Здесь идет речь о военных трибунах, офицерах в римских легионах.
(обратно)
185
Синедрион — верховное судилище иудеев, находившееся в Иерусалиме, которое состояло из 72 членов под председательством первосвященника.
(обратно)
186
Речь идет о серебряном изображении орла на древке, которое служило знаменем легиона.
(обратно)
187
Триумф — торжество в честь полководца, одержавшего значительную победу. Триумф мог состояться только с разрешения сената. Если повод для организации триумфального шествия казался недостаточным, то в этом случае полководцу-победителю устраивали небольшой триумф — овацию.
(обратно)
188
Форум — центр политической и культурной жизни римского города (площадь для народного собрания, отправления правосудия и т. д.).
(обратно)
189
Связка прутьев со вложенными в них топорами. — Примеч. автора.
(обратно)
190
Оглянись назад на меня и вспомни, что смертен (лат.).
(обратно)
191
Обол — мелкая весовая и денежная единица в Греции и Риме.
(обратно)
192
Перистиль — окруженный с четырех сторон колоннадой прямоугольный двор.
(обратно)
193
Гадес — согласно верованиям римлян загробное царство, которым правит одноименный царь.
(обратно)
194
Насколько я могу судить, это и есть сам Аменемхет. — Здесь и далее примеч. автора.
(обратно)
195
Несомненно, это были Аменемхет и его жена.
(обратно)
196
Искаж. арабск.: Конец — делу венец, здесь: обработан, убран как положено.
(обратно)
197
Искаж. арабск. Примерно то же что мафиш.
(обратно)
198
В этом свитке содержалась третья, незаконченная часть романа. Все три папируса написаны одним почерком, демотическим шрифтом.
(обратно)
199
Этим и объясняются пропуски в последних страницах второй части.
(обратно)
200
Примерно то же, что Аид у древних греков.
(обратно)
201
Хатхор — богиня судьбы у египтян, то же, что Парки у греков.
(обратно)
202
Считалось, что душа умершего воссоединяется с божеством.
(обратно)
203
С появлением на утреннем небе Сириуса начинается разлив Нила.
(обратно)
204
Похожее обращение можно прочесть в погребальном папирусе царевны Несикхонсу, принадлежащей к 21-й династии.
(обратно)
205
В древности близ Сиены (современный Ассуан) добывали знаменитый камень — сиенит.
(обратно)
206
Согласно верованиям древних египтян, человек состоит из четырех элементов: тела, его астрального двойника (ка), души (би) и искры жизни, которую в него вдохнул божественный творец (кау).
(обратно)
207
Систр — музыкальный инструмент, связанный с культом Исиды; представляет собой изогнутую пластину с металлическими язычками разной длины; их форме придается мистический смысл.
(обратно)
208
В Древнем Египте невежественных и нерадивых врачей жестоко карали.
(обратно)
209
Греки называли Сфинкса Гармахис, тогда как по-египетски это имя произносилось Хор-эм-ахет.
(обратно)
210
Горе побежденному! (лат.)
(обратно)
211
Иными словами: боги не нуждаются в человеческих восхвалениях.
(обратно)
212
Триумвиры, призванные установить порядок в государстве (лат.).
(обратно)
213
Верхняя пирамида сейчас называется Третьей.
(обратно)
214
Хор-эм-ахет означает «Гор на горизонте» и символизирует торжество сил света и добра над силами тьмы и зла, которые воплощает собой его враг Сет.
(обратно)
215
Речь идет о римском обычае приковывать преступника, совершившего тяжкое преступление, к трупу уже умершего преступника.
(обратно)
216
Тапе — современные Фивы.
(обратно)
217
Ричард II — король Англии, 1377—1399 (прим. пер.).
(обратно)
218
Бейлиф (исп.) — представитель короля, осуществлял власть в данном месте (прим. пер.).
(обратно)
219
Английский реформатор XIV в., теолог, переводчик Библии на английский язык (прим. пер.).
(обратно)
220
Чипсайд — ныне улица в северной части Лондона. В средние века на этом месте был главный рынок города (прим. пер.).
(обратно)
221
Непереводимая игра слов Birds и Zadybirds; Birds — птица, Zadybirds — леди-птица, устар. поэтич. «любимая», «возлюбленная» (прим. пер.).
(обратно)
222
Вероятно, мыло, которое, каким мы теперь его знаем, в то время еще не было известно (прим. пер.).
(обратно)
223
Из обычая древних египтян, которые перевозили своих умерших через Нил и хоронили на западном берегу (изд.).
(обратно)
224
Барбария — «Земля варваров». Так в средние века называли страны на северном побережье Африки, от Египта до Атлантического океана (прим. пер.).
(обратно)
225
Очевидно, Кари имеет в виду шахматы. (Прим. пер.).
(обратно)
226
Речь идет о гибели так называемой «Непобедимой армады», флота католической Испании, состоявшей из 130 кораблей с 2400 орудиями и 19 тысячами солдат, не считая матросов; с 21 по 27 июля 1588 года англичане в трех последовательных сражения нанесли испанцам значительный урон, а затем внезапный шторм, отогнавший испанские корабли к Оркнейским островам, завершил разгром.
(обратно)
227
Анауак — древнее туземное название государства ацтеков, расположенного на территории современной Мексики.
(обратно)
228
Дрейк Френсис (1545–1595) — английский мореплаватель и пират, получивший за сражения с испанцами дворянский титул сэра. Первым повторил кругосветное путешествие Магеллана; участвовал в разгроме «Непобедимой армады».
(обратно)
229
Гравелин — маленький порт на побережье Франции, близ которого 27 июля 1588 года произошло третье, решающее сражение английского флота с «Непобедимой армадой».
(обратно)
230
В действительности завоеватель Мексики Эрнандо Кортес (1485–1547) до конца своих дней был несметно богат и носил титул герцога.
(обратно)
231
Сквайр — дворянин, помещик.
(обратно)
232
Эрл — староанглийский титул знатного человека; с XI столетия и до наших дней равнозначен титулу графа.
(обратно)
233
Намек на библейскую легенду, согласно которой Авраам принес в жертву богу своего сына Исаака, которого ангел спас в последнее мгновение.
(обратно)
234
Двадцать пять золотых испанских песо равнялись примерно шестидесяти трем фунтам стерлингов.
(обратно)
235
Подобная жестокость может показаться невероятной и беспрецедентной, однако автор видел сам в музей города Мехико разрубленное на части тело молодой женщины, прежде замурованное в стене монастыря. Там же было найдено и тело ее ребенка. Не совсем ясно, что именно вменяли ей в преступление, однако то, что она была казнена, не оставляет ни малейших сомнений. На теле ее до сих пор сохранились следы веревки, которой она была связана при жизни. Таково было милосердие церкви в те дни! — Прим. авт.
(обратно)
236
Здесь и далее речь идет о Вест-Индии.
(обратно)
237
Эспаньола — испанское название острова Гаити.
(обратно)
238
Карака — средневековое парусно-гребное судно, широко распространенное до XVI века.
(обратно)
239
Вулканическое стекло, или обсидиан, — вулканическая горная города черного или красноватого цвета с режущим изломом; употреблялась с доисторических времен для изготовления наконечников стрел, ножей, скребков и т. п.
(обратно)
240
Кецалькоатль — бог ацтеков, который, по преданию, научил индейцев Анауака всем полевым ремеслам и искусствам, а также политике и управлению государством. Он был белокожим и темноволосым. Покинув Анауак, Кецалькоатль уплыл от его берегов в сказочную страну Тлапаллан на барке из змеиной кожи, но перед отплытием он обещал вернуться со своими многочисленными детьми. Ацтеки помнили это обещание, и когда появились испанцы, они приняли их за детей Кецалькоатля. Это заблуждение весьма пригодилось испанцам при завоевании Анауака. Возможно, что Кецалькоатль существовал в действительности и был скандинавом. Намеки на посещение викингами Америки можно найти в Сагах об Эйрике Рыжем и о Торфинне Карлсоне. — Прим. авт.
(обратно)
241
Майя — группа родственных по языку и древней культуре индейских — племен, населявших южную часть современной Мексики и прилегающие области.
(обратно)
242
Эскаупили, ацтекские панцири, представляли собой куртки из стеганого хлопка, предварительно вымоченные в рассоле; после такой обработки они приобретали жесткость и надежно защищали тело от стрел и ударов копий.
(обратно)
243
Автор имеет в виду американское алоэ, то есть агаву.
(обратно)
244
Правильнее — «Белая женщина», однако мы сохраняем тот перевод, который дает автор.
(обратно)
245
Другое, удержавшееся до нашего времени, название этого озера — Хочикалько.
(обратно)
246
Сады Монтесумы давно уничтожены, однако несколько гигантских кедров, несмотря на то что испанцы вырубали их беспощадно, все еще возвышаются в Чапультепеке. Ствол одного из них, по личным, а потому приблизительным измерениям автора, имеет около шестидесяти футов в обхвате. Говорят, что это было любимое дерево великого императора. Странно подумать, что от всего богатства и славы государства Монтесумы до наших дней суждено было дожить лишь нескольким хвойным великанам. — Прим. авт.
(обратно)
247
Тлачтли, или тлачко, — ритуальная игра, заключавшаяся в том, что игроки старались попасть тяжелым каучуковым шаром в установленные вертикально кольца, причем толкать шар можно было только корпусом и локтями; весь этот эпизод описан в ацтекских хрониках; автор допустил лишь одну неточность: Несауалпилли поставил свое царство не против шпор бойцовых петухов, а против трех индюков, в то время не известных европейцам.
(обратно)
248
Рассказ о воскресении Папанцин приводится в историческом труде Бернардино де Саагуна. — Прим. авт.
(обратно)
249
Бернардино де Саагун — один из первых историографов испанских колоний в Америке, автор многотомной «Общей истории Новой Испании».
(обратно)
250
Пульке — похожий на брагу хмельной напиток из перебродившего сока агавы; мескаль — ацтекская водка.
(обратно)
251
Конкистадоры — буквально «завоеватели» — исторический термин; так называют испанских наемников и авантюристов, поработивших в XV–XVI веках народы Центральной и Южной Америки.
(обратно)
252
Хочи — вероятно, Хочикецаль, или Шоцикецаль, — «перо цветка», богиня цветов; Хило — Хилонен, или Шилонен, «мать молодой кукурузы»; Атла — по-видимому, Тласолтеотль — «богиня грязи», мать земли; значение последнего имени — Клихто — выяснить не удалось, потому что транскрипция автора, к тому же сокращенная, крайне неточна.
(обратно)
253
Намек на библейскую легенду, согласно которой Иисус Навин приказал солнцу остановиться, и оно остановилось.
(обратно)
254
«Ночь печали» — с 29 на 30 июня 1520 года — ночь жестокого разгрома испанцев и их союзников при отступлении из Теночтитлана.
(обратно)
255
Речь идет о так называемом «чуде при Отумбе», когда обескровленная армия испанцев и тласкаланцев с помощью смелого маневра двадцати всадников близ селения Отумба разгромила 14 июля 1520 года многочисленное войско ацтеков и их союзников.
(обратно)
256
Такое же лечение применяется индейцами Мексики и по сей день, но, если верить тому, что мне рассказывали в этой стране, оно довольно часть приводит к выздоровлению больного. — Прим. авт.
(обратно)
257
С начала июля и до конца октября 1520 г.
(обратно)
258
Бригантина — легкое, обычно двухмачтовое парусно-гребное судно, близкое по типу к галере
(обратно)
259
Лига — старая мера длины, равная 4,83 км.
(обратно)
260
Людоедство действительно существовало у многих племен Америки, в том числе и у ацтеков, но у них оно носило, главным образом, ритуальный характер.
(обратно)
261
13 августа 1521 года.
(обратно)
262
Крупное хищное животное из семейства кошачьих, распространенное в тропической Америке.
(обратно)
263
Паленке — один из древних городов народов майя с великолепными циклическими зданиями, покинутый населением задолго до прихода испанцев; расположен у основания полуострова Юкатан, между реками Грихальва и Усумасинта; таких мертвых городов в Центральной Америке несколько: Чечен-Ица на севере Юкатана, Теотиуакан в долине Мехико и т. п.; существуют предположения, согласно которым огромные цветущие города, где обитали предки народов майя и других, опустели в результате войн и восстаний, но тайна эта до сих пор до конца не раскрыта.
(обратно)
264
Феокрит — древнегреческий поэт III века до нашей эры, представитель так называемой Александрийской школы, создатель жанра буколик, или идиллий; здесь дается краткий пересказ идиллии Феокрита «Вакханки».
(обратно)
265
2-я книга Царства, гл.18, стих 33.
(обратно)
266
Христианство было принято исландцами в 1000 г.
(обратно)
267
Берсерками (берсеркерами) скандинавы называли воинов, одержимых дикой яростью. От бешенства они грызли зубами края своих щитов и в припадке боевого исступления убивали всех, кто попадался им на глаза.
(обратно)
268
Речь идет об островах Вестманнаэйяр (островах Западных Людей) у южных берегов Исландии.
(обратно)
269
Норны — женские божества, определявшие судьбу людей при их рождении, которую не могли изменить даже всесильные боги.
(обратно)
270
Фрейя — богиня плодородия, любви и красоты.
(обратно)
271
Гекла — один из крупнейших вулканов Исландии.
(обратно)
272
Тралль — раб, слуга, — Примеч. перев.
(обратно)
273
По скандинавским народным обычаям в конце июня, в Иванов день, выбирают Невесту Мая, которая объявляет, кто из юношей станет Женихом Мая. Обычно в это же время юноши выбирают себе невест.
(обратно)
274
Ньерд — бог мореплавания, рыболовства, охоты на морских животных.
(обратно)
275
Скальды — древнескандинавские поэты и певцы, в качестве сюжетов для своих песен использующие предания о подвигах королей, легендарных героев, о битвах викингов. Часто в их песнях воспевалась история какого-нибудь знатного исландского рода.
(обратно)
276
Карлики (цверги) в скандинавских мифах воспеваются как искуснейшие кузнецы, изготовившие сокровища, ставшие атрибутами богов.
(обратно)
277
Один — верховное божество у древних скандинавов, бог войны, покровитель битв и жертвоприношений. От Одина вели свой род многие королевские династии (в Англии, Дании и др.).
(обратно)
278
Фрейр — брат Фрейи, бог растительности, урожая, богатства, о р — бог грома и молнии, бог силы. Браги— бог-скальд, бог поэтов.
(обратно)
279
Тролли по скандинавским народным поверьям — враждебные людям безобразные сверхъестественные существа. Бальдр — бог весны, солнца, света, прекраснейший юноша.
(обратно)
280
Ярл — правитель — Примеч. перев.
(обратно)
281
Вальгалла (Вальхалла) — палаты Одина, куда, согласно верованиям древних скандинавов, попадают после смерти герои, павшие на поле битвы. Хель — царство мертвых, куда попадают все умершие смертью, не подобающей героям.
(обратно)
282
Альтинг — годичное собрание свободных людей в Исландии, представляющее собою одновременно и парламент, и верховный суд. — Примеч. перев.
(обратно)
283
Вира — штраф за человекоубийство.
(обратно)
284
Стадия — восьмая часть английской мили. — Примеч. перев.
(обратно)
285
Страумей — самый южный из островов Оркней. — Примеч. перев.
(обратно)
286
Исход (библейск.) — бегство израильского народа из Египта. — Примеч. перев.
(обратно)
287
Каирский музей основан в 1858 г. французским ученым-археологом Огюстом Мариэттом первоначально как Булакский музей; в 1891 —1902 гг. — Гизехский музей. С 1902 г. открыт в Каире под названием Египетский музей.
(обратно)
288
Речь идет о первой мировой войне. — Примеч. перев.
(обратно)
289
Кемет — «Черная земля», древнеегипетское название Египта по цвету плодородной почвы. Слово «Египет» греческого происхождения.
(обратно)
290
Египтяне верили в божественность происхождения фараона. Бог солнца Ра , создатель мира, отец всех богов, считался также отцом египетских царей.
(обратно)
291
Осирис — бог умирающей и воскресающей природы, царь загробного мира. Осирис был коварно убит своим братом, злым богом пустыни Сетом. Сын Осириса Гор мстит за отца и убивает Сета, после чего происходит воскрешение Осириса из мертвых. Древние египтяне отождествляли умерших с Осирисом и считали, что человек после смерти может ожить подобно Осирису.
(обратно)
292
Птах — верховное божество города Мемфиса, почитавшееся как творец мира и всего в нем существующего, как покровитель искусств и ремесел.
(обратно)
293
Книги Мертвых рассказывают о странствиях души в загробном царстве.
(обратно)
294
Сихор — так египтяне называли реку Нил.
(обратно)
295
Ка — согласно представлениям древних египтян, одна из душ человека, его подобие («двойник»), продолжающее существовать и после смерти человека.
(обратно)
296
Пилонами назывались массивные трапециевидные башни, оформлявшие вход в храм.
(обратно)
297
Амон — в египетской мифологии бог солнца, почитался как «царь всех богов», бог-творец всего сущего.
(обратно)
298
Пунт — древнеегипетское название южного Красноморья.
(обратно)
299
Исида — в египетской мифологии богиня плодородия, богиня воды и ветра, символ женственности и семейной верности, позднее — богиня луны. Исида была сестрой и женой Осириса и матерью Гора.
(обратно)
300
Первоначально Египет представлял собой два государства — Верхний (Южный) и Нижний (Северный). В начале III тысячелетия до н. э. при фараоне Менесе (Мине) произошло объединение двух государств. После этого в титулатуре фараона стали упоминать название обеих частей Египта, а царский венец, как символ объединения, стал состоять из двух корон.
(обратно)
301
Хатхор — в египетской мифологии — богиня любви, веселья, пляски, музыки.
(обратно)
302
Друг царя — высший придворный титул.
(обратно)
303
Куш (Нубийская пустыня) — название страны, лежащей к югу от Египта, на территории современной Эфиопии.
(обратно)
304
Египтяне делали кирпичи из нильского ила и соломы. — Примеч. автора.
(обратно)
305
Анубис — в египетской мифологии бог-покровитель умерших, почитался в образе шакала черного цвета.
(обратно)
306
Ном — провинция, область в Древнем Египте.
(обратно)
307
Поля Иалу (Иару) — край вечного блаженства в загробном царстве.
(обратно)
308
Апис — в древнеегипетской мифологии бог плодородия в образе жа; центром культа Аписа был Мемфис.
(обратно)
309
Речь идет о скарабее — жуке, служившем в Древнем Египте символом созидательной жизни. Египтяне считали, что скарабей является воплощением Хепри, бога восходящего солнца, что он священен и приносит счастье.
(обратно)
310
Гиксосы (от древнеегипетского «властители чужих стран») — скотоводческие племена Передней Азии и Аравии, захватившие часть Нижнего Египта около 1700 г. до н. э. более чем на 100 лет.
(обратно)
311
Тейе — женщина не царского рода, жена Аменхотепа III, правление которого считается благословенным периодом в истории Египта, и мать Аменхотепа IV, Эхнатона, создателя новой, реформированной и более демократичной религии (2-е тысячелетие до н. э.). — Примеч. перев.
(обратно)
312
Египтяне считали, что царство мертвых находится на Западе.
(обратно)
313
Богиня Mут была супругой бога Амона.
(обратно)
314
Нейт — в древнеегипетской мифологии богиня войны и охоты, покровительница царской власти.
(обратно)
315
Фут равен 30,5 см.
(обратно)
316
В Книгу Судеб вписывалась судьба каждого человека.
(обратно)
317
Каменные ворота.
(обратно)
Оглавление
Генри Райдер Хаггард
Прекрасная Маргарет
ГЛАВА I. ПИТЕР ВСТРЕЧАЕТ ИСПАНЦА
ГЛАВА II. ДЖОН КАСТЕЛЛ
ГЛАВА III. ПИТЕР СОБИРАЕТ ФИАЛКИ
ГЛАВА IV. ВЛЮБЛЕННЫЕ
ГЛАВА IV. ТАЙНА ДЖОНА КАСТЕЛЛА
ГЛАВА VI. ПРОЩАНИЕ
ГЛАВА VII. НОВОСТИ ИЗ ИСПАНИИ
ГЛАВА VI. Д'АГВИЛАР ГОВОРИТ
ГЛАВА IX. ЛОВУШКА
ГЛАВА X. ПОГОНЯ
ГЛАВА XI. ВСТРЕЧА В МОРЕ
ГЛАВА XII. ОТЕЦ ЭНРИКЕ
ГЛАВА XIII. ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ
ГЛАВА XIV.ИНЕССА И ЕЕ САД
ГЛАВА XV. ПИТЕР ИГРАЕТ РОЛЬ
ГЛАВА XVI. БЕТТИ ПОКАЗЫВАЕТ КОГОТКИ
ГЛАВА XVII. ЗАГОВОР
ГЛАВА XVIII. СВЯТАЯ ЭРМАНДАДА[18]
ГЛАВА XIX. БЕТТИ ПЛАТИТ СВОИ ДОЛГИ
ГЛАВА XX. ИЗАБЕЛЛА ИСПАНСКАЯ
ГЛАВА XXI. БЕТТИ ИЗЛАГАЕТ ДЕЛО
ГЛАВА XXII. ОСУЖДЕНИЕ ДЖОНА КАСТЕЛЛА
ГЛАВА XXIII. ОТЕЦ ЭНРИКЕ И ПЕЧЬ БУЛОЧНИКА
ГЛАВА XXIV. СОКОЛ НАПАДАЕТ
ГЛАВА XXV. «МАРГАРЕТ» УХОДИТ В МОРЕ
ЭПИЛОГ
Падение Иерусалима
Предисловие
Генри Р. Хаггард
ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
Часть первая
Глава I
ТЮРЬМА В КЕСАРИИ[20]
Глава II
ГЛАС БОЖИЙ
Глава III
ЗЕРНОВОЙ СКЛАД
Глава IV
СМЕРТЬ МАТЕРИ
Глава V
ВОЦАРЕНИЕ МИРИАМ
Глава VI
ХАЛЕВ
Глава VII
МАРК
Глава VIII
МАРК И ХАЛЕВ
Глава IX
ПРАВОСУДИЕ ПРОКУРАТОРА ФЛОРА[42]
Глава X
БЕНОНИ
Глава XI
ЦАРИЦА ЕССЕЕВ ПОКИДАЕТ ИХ ОБЩИНУ
Глава XII
ПЕРСТЕНЬ, ОЖЕРЕЛЬЕ И ПИСЬМО
Глава XIII
ГОРЕ, ГОРЕ ИЕРУСАЛИМУ!
Глава XIV
К ЕССЕЯМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИХ ЦАРИЦА
Глава ХV
ЧТО ПРОИСХОДИЛО В БАШНЕ
Часть вторая
Глава I
СИНЕДРИОН
Глава II
НИКАНОРОВЫ ВОРОТА
Глава III
ПОСЛЕДНИЙ СМЕРТНЫЙ БОЙ ИЗРАИЛЯ
Глава IV
ЖЕМЧУЖИНА
Глава V
КУПЕЦ ДЕМЕТРИЙ
Глава VI
ЦЕЗАРИ И ПРИНЦ ДОМИЦИАН
Глава VII
ТРИУМФ
Глава VIII
НЕВОЛЬНИЧИЙ РЫНОК
Глава IX
ХОЗЯИН И РАБЫНЯ
Глава X
НАГРАДА САТУРИЮ
Глава XI
СУД ДОМИЦИАНА
Глава XII
ЕПИСКОП КИРИЛЛ
Глава XIII
СВЕТИЛЬНИК
Глава XIV
КАК МАРК ПРИНЯЛ ХРИСТИАНСТВО
Леонард Грен
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИЕРУСАЛИМА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Х
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XIV
XXV
XXVI
Разрушение Иерусалима[82]
Генри Райдер Хаггард
Хозяйка Блосхолма
1. СЭР ДЖОН ФОТРЕЛ
2. УБИЙСТВО У ЗАВОДИ
3. СВАДЬБА
4. КЛЯТВА АББАТА
5. ЧТО ПРОИЗОШЛО В КРАНУЭЛЕ
6. ПРОКЛЯТЬЕ ЭМЛИН
7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ АББАТА
8. ЭМЛИН ПРИЗЫВАЕТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА
9. БЛОСХОЛМСКОЕ КОЛДОВСТВО
10. БАБКА МЕГГС И ПРИЗРАК
11. СУД И ПРИГОВОР
12. КОСТЕР
13. ПОСЛАНЕЦ
14. ДЖЕКОБ И ДРАГОЦЕННОСТИ
15. ЧЕРТ ПРИ ДВОРЕ
16. ГОЛОС В ЛЕСУ
17. ЖИЗНЬ ИЛИ ЧЕСТЬ
18. ИЗ ТЬМЫ К СВЕТУ
Генри Райдер Хаггард
Эйрик Светлоокий
I. Как жрец Асмунд нашел колдунью Гроа
II. Как Эйрик сказал про свою любовь Гудруде Прекрасной в метель на Кольдбеке
III. Как Асмунд жрец пригласил Эйрика к себе на праздник
IV. Как Эйрик пришел через Золотой водопад
V. Как Эйрик добыл себе меч Молнии Свет
VI. Как Асмунд жрец помолвился с Унной
VII. Как Эйрик ходил против Скаллагрима берсерка
на холме Конская Голова
IX. Как Сванхильда обошлась с Гудрудой
X. Как Асмунд жрец говорил со Сванхильдой
XI. Как Сванхильда прощалась с Эйриком Светлооким
XII. Эйрик был объявлен вне закона и отплыл на судне викинга
XIII. Как Холль, помощник Эйрика, перерубил якорный канат
XIV. Как Эйрику приснился сон
XV. Как Эйрик пребывал в городе Лондоне
XVI. Как Сванхильда побраталась с жабой
XVII. Как Асмунд женился на Унне, дочери Торода
XVIII. Как ярл Атли нашел Эйрика Светлоокого и Скаллагрима на скалистом побережье острова Страумея
XIX. Как Колль Полоумный принес весть из Исландии
XX. Как Эйрик получил новое прозвище
XXI. Как Холль из Литдаля принес вести в Исландию
XXII. Как Эйрик Светлоокий вернулся на родину
XXIII. Как Эйрик пожаловал в гости на свадебный пир Гудруды Прекрасной и Оспакара Чернозуба
XXIV. Как продолжался пир
XXV. Как кончился пир
XXVI. Как Эйрик Светлоокий осмелился явиться в Миддальгоф и что он нашел там
XXVII. Как Гудруда ездила на Мшистую скалу к Эйрику Светлоокому
XXVIII. Как Сванхильда добывала сведения об Эйрике
XXIX. Как прошла брачная ночь
XXX. Что было на рассвете
XXXI. Как Эйрик Светлоокий отослал своих товарищей со Мшистой скалы
XXXIII. Как Эйрик Светлоокий и Скаллагрим берсерк бились в своей последней битве
Хаггард Г.Р. Жемчужина Востока
I. В тюрьмах Кесарии
II. Глас Божий
III. Уговор
IV. Рождение Мириам
V. Водворение Мириам
VI. Халев
VII. Марк
VIII. Марк и Халев
IX. Праведный суд Флора
X. Бенони
XI. Ессеи лишаются своей царицы
XII. Ожерелье, кольцо и письмо
XIII. Горе тебе, Иерусалим!
XIV. Опять среди ессеев
XV. Что произошло в башне
XVI. Синедрион
XVII. Врата Никанора
XVIII. Последний бой Израиля
XIX. Жемчужина
XX. О Марке и Халеве
XXI. Цезари и Домициан
XXII. Триумф
XXIII. Невольничий рынок
XXIV. Господин и рабыня
XXV. Награда Сарториуса
XXVI. Суд Домициана
XXVII. Епископ Кирилл
XXVIII. Последнее свидание
XXIX. Как Марк стал христианином
Генри Райдер Хаггард
Лейденская красавица
Книга первая. ПОСЕВ
ГЛАВА I. «Волк» и «барсук»
ГЛАВА II. Долг платежом красен
ГЛАВА III. Монтальво выигрывает
ГЛАВА IV. Три пробуждения
ГЛАВА V. Сон Дирка
ГЛАВА VI. Лизбета выходит замуж
ГЛАВА VII. К Гендрику Бранту приходит гостья
ГЛАВА VIII. Стойло Кобылы
Книга вторая. ЖАТВА ЗРЕЕТ
Глава IX. Адриан, Фой и Красный Мартин
ГЛАВА X. Адриан отправляется на соколиную охоту
ГЛАВА XI. Адриан выручает красавицу из опасности
ГЛАВА XII. Предупреждение
ГЛАВА XIII. Подарок матери - хороший подарок
ГЛАВА XIV. Меч «Молчание» получает тайну на хранение
ГЛАВА XV. Сеньор Рамиро
ГЛАВА XVI. Маг
ГЛАВА XVII. Обручение
ГЛАВА XVIII. Видение Фоя
ГЛАВА XIX. Борьба на башне литейного завода
ГЛАВА XX. В Гевангенгузе
ГЛАВА XXI. Мартин трусит
ГЛАВА XXII. Встреча и разлука
Книга третья. ЖАТВА
ГЛАВА XXIII. Отец и сын
ГЛАВА XXIV. Марта произносит проповедь и открывает тайну
ГЛАВА XXV. Красная мельница
ГЛАВА XXVI. Жених и невеста
ГЛАВА XXVII. Что Эльза увидела при лунном свете
ГЛАВА XXVIII. Возмездие
ГЛАВА XXIX. Адриан возвращается домой
ГЛАВА XXX. Две сцены
Генри Райдер Хаггард
Клеопатра
Посвящение
От автора
Вступление
КНИГА ПЕРВАЯ. ИСКУС ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о рождении Гармахиса, о пророчестве Хатхор и об убийстве сына кормилицы, которого солдаты приняли за царевича
Глава II, повествующая о том, как Гармахис нарушил запрет отца, как он победил льва и как старая Атуа рассеяла подозрения фараонова соглядатая
Глава III, повествующая о неудовольствии Аменемхета о молитве Гармахиса и о знамении, которое явили ему всемогущие боги
Глава IV, повествующая о том, как Гармахис отправился в Ана и встретился со своим дядей, тамошним верховным жрецом Сепа; о его жизни в Ана и о том, что поведал ему Сепа
Глава V, повествующая о возвращении Гармахиса в Абидос; о церемонии Мистерий, посвященных смерти и воскресению Осириса; о призываниях Исиды и о напутствии Аменемхета
Глава VI, повествующая о посвящении Гармахиса; о явленных ему видениях; о пребывании в городе, который находится в царстве мертвых; об откровениях Исиды — Вестницы Непостижимого
Глава VII, повествующая о пробуждении Гармахиса, о его коронации венцом Верхнего и Нижнего Египта и о совершенных ему приношениях
КНИГА ВТОРАЯ. ПАДЕНИЕ ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о прощании Аменемхета с Гармахисом; о прибытии Гармахиса в Александрию; о предостережении Сепа; о процессии, в которой Клеопатра проехала по улицам города в одеждах Исиды, и о победе Гармахиса над знаменитым гладиатором
Глава II, повествующая о приходе Хармианы и о гневе Сепа
Глава III, повествующая о том, как Гармахис пришел к царскому дворцу; как он заставил Павла войти в ворота; как увидел спящую Клеопатру и как показал ей свое искусство волхвования
Глава IV, повествующая о том, как Гармахис дивился повадкам Хармианы, и о том, как его провозгласили богом любви
Глава V, повествующая о том, как Клеопатра пришла в обсерваторию к Гармахису; о том, как Гармахис бросил с башни шарф Хармианы; как рассказывал Клеопатре о звездах и как царица подарила дружбу своему слуге Гармахису
Глава VI, повествующая о сцене ревности и о признании Хармианы; о том, как Гармахис рассмеялся в ответ; о подготовке к кровавому деянию и о вести, которую старая Атуа передала Гармахису
Глава VII, повествующая о загадочных речах Хармианы; о появлении Гармахиса в покоях Клеопатры и о его поражении
Глава VIII, повествующая о пробуждении Гармахиса; о трупе у его ложа, о приходе Клеопатры и о словах утешения, которые она произнесла
Глава IX, повествующая о пребывании Гармахиса под стражей; о презрении, высказанном ему Хармианой; об освобождении Гармахиса и о прибытии Квинта Деллия
Глава X, повествующая о смятении Клеопатры; о ее клятве Гармахису; и о тайне сокровища, лежащего в сердце пирамиды, которую открыл Клеопатре Гармахис
Глава XI, повествующая о том, как выглядела погребальная камера божественного Менкаура; о том, что было написано на золотой пластине, лежащей на груди фараона; о том, как Клеопатра и Гармахис доставали сокровище; о духе, обитающем в погребальной камере; и о бегстве Гармахиса и Клеопатры из священной гробницы
Глава XII, повествующая о возвращении Гармахиса; о его встрече с Хармианой и об ответе, который Клеопатра дала послу триумвира Антония Квинту Деллию
Глава XIII, повествующая об обвинениях, которые Гармахис бросил в лицо Клеопатре, о сражении Гармахиса с телохранителями Клеопатры; об ударе, который нанес ему Бренн, и о тайной исповеди Клеопатры
Глава XIV, повествующая о нежной заботе Хармианы; о выздоровлении Гармахиса; об отплытии Клеопатры со свитой в Киликию и о словах Бренна, сказанных Гармахису
Глава XV, повествующая о пире Клеопатры; о том, как она растворила в кубке жемчужину и выпила; об угрозе Гармахиса и о любовной клятве Клеопатры
Глава XVI, повествующая о плане побега, который замыслила Хармиана; о признании Хармианы и об ответе Гармахиса
КНИГА ТРЕТЬЯ. МЕСТЬ ГАРМАХИСА
Глава I, повествующая о том, как Гармахис бежал из Тарса; как его принесли в жертву морскому богу; как он жил на острове Кипр; как вернулся в Абидос и как умер его отец Аменемхет
Глава II, повествующая об отчаянии Гармахиса; о страшном заклинании, которым он призвал Исиду; об обещании Исиды; о появлении Атуа и о ее словах, сказанных Гармахису
Глава III, повествующая о жизни того, кто стал известен всем под именем ученого затворника Олимпия, в усыпальнице арфистов гробницы Рамсеса близ Тапе; о вести, что прислала ему Хармиана; советах, которые он давал Клеопатре; и о возвращении Олимпия в Александрию
Глава IV, повествующая о встрече Хармианы с мудрым Олимпием; б их беседе; о встрече Олимпия с Клеопатрой; и о поручении, которое дала ему Клеопатра
Глава V, повествующая о том, как Антоний был привезен из Тимониума к Клеопатре; о пире Клеопатры; и о том, какой смертью умер управитель Клеопатры Евдосий
Глава VI, повествующая о беседах ученого Олимпия с жрецами и правителями в Мемфисе; о том, как Клеопатра отравила своих слуг; как Антоний говорил со своими легатами и центурионами и о том, как великая богиня Исида навек покинула страну Кемет
Глава VII, повествующая о том, как войско и флот Антония сдались цезарю у Канопских ворот; о том, как благородный Антоний умер и как Гармахис приготовил смертельный яд
Глава VIII, повествующая о последнем ужине Клеопатры; о том, как Хармиана пела ей прощальную песнь; как Клеопатра выпила смертельный яд; как Гармахис открыл ей свое имя; как вызвал перед нею духов из царства Осириса и о том, как Клеопатра умерла
Глава IX, повествующая о прощании Хармианы с Гармахисом; о смерти Хармианы; о смерти старой Атуа; о возвращении Гармахиса в Абидос; о его признании в Зале Тридцати Шести Колонн и о приговоре, который вынесли Гармахису верховные жрецы
Глава X, повествующая о последних днях потомка египетских фараонов Гармахиса
Генри Райдер Хаггард
Дева Солнца
ВВЕДЕНИЕ
КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА I. МЕЧ И КОЛЬЦО
ГЛАВА II. ЛЕДИ БЛАНШ
ГЛАВА III. ХЬЮБЕРТ ПРИЕЗЖАЕТ В ЛОНДОН
ГЛАВА IV. КАРИ
ГЛАВА V. ПОЯВЛЕНИЕ БЛАНШ
ГЛАВА VI. ЖЕНИТЬБА, И ЧТО БЫЛО ПОТОМ
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА I. НОВЫЙ МИР
ГЛАВА II. СКАЛИСТЫЙ ОСТРОВ
ГЛАВА III. ДОЧЬ ЛУНЫ
ГЛАВА IV. ПРОРОЧЕСТВО РИМАКА
ГЛАВА V. КАРИ ИСЧЕЗАЕТ
ГЛАВА VI. ВЫБОР
ГЛАВА VII. ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРИ
ГЛАВА VIII. КРОВАВОЕ ПОЛЕ
ГЛАВА IX. КАРИ ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО
ГЛАВА X. ВЕЛИКИЙ УЖАС
ГЛАВА XI. ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ
ГЛАВА XII. НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ
ГЛАВА ХIII. ПОЦЕЛУЙ КУИЛЛЫ
Генри Райдер Хаггард
ДОЧЬ МОНТЕСУМЫ
Глава I
ПОЧЕМУ ТОМАС ВИНГФИЛД РАССКАЗЫВАЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ
Глава II
СЕМЬЯ ТОМАСА ВИНГФИЛДА
Глава III
ПОЯВЛЕНИЕ ИСПАНЦА
Глава IV
ТОМАС ПРИЗНАЕТСЯ В ЛЮБВИ
Глава V
ТОМАС ДАЕТ КЛЯТВУ
Глава VI
ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!
Глава VII
АНДРЕС ДЕ ФОНСЕКА
Глава VIII
ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
Глава IX
ТОМАС СТАНОВИТСЯ БОГАЧОМ
Глава X
СМЕРТЬ ИЗАБЕЛЛЫ ДЕ СИГУЕНСА
Глава XI
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Глава XII
ТОМАС НА БЕРЕГУ
Глава XIII
ЖЕРТВЕННЫЙ КАМЕНЬ
Глава XIV
СПАСЕНИЕ КУАУТЕМОКА
Глава XV
ДВОР МОНТЕСУМЫ
Глава XVI
ТОМАС — БОГ
Глава XVII
ПРОРОЧЕСТВО ПАПАНЦИН
Глава XVIII
ВЫБОР НЕВЕСТ
Глава XIX
ЧЕТЫРЕ БОГИНИ
Глава XX
СОВЕТ ОТОМИ
Глава XXI
ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ
Глава XXII
ГИБЕЛЬ БОГОВ
Глава XXIII
ТОМАС ЖЕНАТ
Глава XXIV
«НОЧЬ ПЕЧАЛИ»
Глава XXV
СОКРОВИЩА МОНТЕСУМЫ
Глава XXVI
ИМПЕРАТОР КУАУТЕМОК
Глава XXVII
ПАДЕНИЕ ТЕНОЧТИТЛАНА
Глава XXVIII
ТОМАС ОБРЕЧЕН
Глава XXIX
ДЕ ГАРСИА ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ НАЧИСТОТУ
Глава XXX
ПОБЕГ
Глава XXXI
ОТОМИ ГОВОРИТ СО СВОИМ НАРОДОМ
Глава XXXII
ГИБЕЛЬ КУАУТЕМОКА
Глава XXXIII
ИЗАБЕЛЛА ДЕ СИГУЕНСА ОТОМЩЕНА
Глава XXXIV
ОСАДА ГОРОДА СОСЕН
Глава XXXV
ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН ОТОМИ
Глава XXXVI
НА МИЛОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ
Глава XXXVII
ВОЗМЕЗДИЕ
Глава XXXVIII
ПРОЩАНИЕ С ОТОМИ
Глава XXXIX
ТОМАС ВОСКРЕСАЕТ ИЗ МЕРТВЫХ
Глава XL
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генри Райдер Хаггард
Луна Израиля
От автора
I. Писец Ана приходит в Танис
II. Разделение чаши
III. Таусерт
IV. Обручение при Дворе
V. Пророчество
VI. Страна Гошен
VII. Засада
VIII. Сети дает совет фараону
IX. Поражение Амона
X. Смерть фараона
XI. Коронация Аменмеса
XII. Миссия Джейбиза
XIII. Красный Нил
XIV. Ки приезжает в Мемфис
XV. Ночь ужаса
XVI. Джейбиз продает лошадей
XVII. Сон Мерапи
XVIII. Коронация Мерапи
Генри Райдер Хаггард
Принцесса Баальбека
ПРОЛОГ
ЧАСТЬ I
I. В ВОЛНАХ БУХТЫ СМЕРТИ
II. СЭР ЭНДРЮ Д'АРСИ
III. ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ
IV. ПРОДАВЕЦ ВИНА
V. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В СТИПЛЕ
VI. ЗНАМЯ САЛАДИНА
VII. ВДОВА МАСУДА
VIII. КОНИ — ОГОНЬ И ДЫМ
IX. НА ПАЛУБЕ ГАЛЕРЫ
X. ГОРОД АЛЬ-ДЖЕБАЛА
XI. ГОСПОДИН СМЕРТИ
ЧАСТЬ II
I. ПОСОЛЬСТВО
II. БОЙ НА МОСТУ
III. БЕГСТВО В ЭМЕССУ
IV. СУЛТАН САЛАДИН
V. Д'АРСИ УЕЗЖАЮТ ИЗ ДАМАСКА
VI. ВУЛЬФ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ОТРАВЛЕННОЕ ВИНО
VII. ПЕРЕД СТЕНАМИ АСКАЛОНА
VIII. СЧАСТЬЕ ЗВЕЗДЫ ГАССАНА
IX. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГОДВИНОМ
X. В ИЕРУСАЛИМЕ
XI. СВЯТАЯ РОЗАМУНДА
XII. ПОСЛЕДНИЕ КАПЛИ КУБКА
*** Примечания ***


 На палубе того корабля однажды стояла сама Бланш, смеялась и разговаривала со мной — ибо как-то раз перед свадьбой мы были там вдвоем, и я помню, как поцеловал ее в каюте. Теперь Бланш нет; она умерла от собственной руки, а я, крупный лондонский купец, объявлен вне закона — беглец среди дикарей в чужой стране, даже название которой мне не известно. Мой корабль, столь мужественно пронесший нас сквозь штормовые недели, должен лежать там со всем своим ценным грузом, пока не сгниет под солнцем и дождем, и никогда больше мои глаза его не увидят. О, как сжалось мое сердце в эту минуту! Ни разу еще с тех пор, как я уехал, убив Делеруа мечом Взвейся-Пламя, не испытывал я такого острого и глубокого чувства отчаяния и одиночества. И зачем только я родился на свет? Лучше умереть, и чем скорее, тем лучше — может быть, там я пойму причину моего рождения.
И я снова забрался в паланкин и, спрятав лицо, заплакал как дитя. Поистине, я — процветающий купец города Лондона, который мог бы стать его мэром и магистром и завоевать дворянский титул, — стал теперь ничтожнейшим авантюристом, лишенным прав и поставленным вне закона. Ну что ж, видно, так судил Бог, и ничего с этим не поделаешь.
Первую ночь мы провели на вершине холма, над быстрой рекой, которая протекала внизу, в долине. Нас мучила жара, изводили насекомые, которые жужжали и жалили нас и к которым я еще не успел привыкнуть; и мы ели взятую в дорогу пищу — вяленое мясо и зерна.
На следующее утро, как только рассвело, мы снова двинулись в путь, поднимаясь в горы и спускаясь в долины, проходя через леса, следуя течению реки или изгибам озер. И так продолжалось до тех пор, пока на третьи сутки вечером с высокого плато мы вдруг не увидели внизу море — не то, от которого мы ушли, а совсем другое; видимо, мы пересекли перешеек, и притом не очень широкий, так что при умении и сноровке можно было бы прорыть канал и соединить эти два больших моря.
Именно отсюда и началось по-настоящему наше путешествие, именно здесь Кари свернул на юг. Перед этим он долго смотрел на звезды и размышлял, уединившись, Я не принимал в этом никакого участия, поскольку мне было все равно, куда он свернет. Да и сам он не разговаривал со мной на эту тему, ограничившись замечанием, что его Бог и те немногие воспоминания, которые сохранились у него от периода его безумия, говорят ему, что земля его народа лежит на юге, хотя и очень далеко отсюда.
Итак, мы отправились на юг, пробираясь лесными тропами и все время оставляя океан справа. В конце недели этого утомительного похода мы попали в места, где обитало другое племя, язык которого оказался настолько знаком сопровождавшим нас туземцам, что они смогли рассказать им нашу историю. Впрочем, до них уже дошел слух о появлении из моря белого бога, и они были подготовлены к тому, чтобы оказать мне соответствующие почести. Здесь наши спутники покинули нас, говоря, что они не смеют уходить так далеко от своей родины.
Сцена прощания была странной и необычной: каждый из них подходил ко мне, склонялся на колени и терся лбом о землю, а потом уходил, пятясь и кланяясь. Их уход, однако, мало что изменил в нашем положении. Новое племя почти не отличалось от них, разве что одежда их была, если возможно, еще более скудной, а люди еще грязнее. Они также безоговорочно приняли меня за бога и снабдили нас необходимой пищей, Более того, когда мы распрощались с ними, они предоставили нам людей, которые понесли нас и нашу поклажу.
И таким образом, переходя от племени к племени, мы продвигались на юг, все на юг, всегда обнаруживая, что нам предшествовал слух о появлении «Бога». И какими добрыми и мягкими были эти люди! Ни разу не встретили мы никого, кто бы попытался нанести нам вред или украсть что-нибудь из наших вещей, или, наконец, отказать нам в лучшем, что у них было, Правда, приключений у нас было достаточно. Так, дважды мы оказались среди племен, воевавших друг с другом, но при моем появлении они сложили оружие, по крайней мере, на время, и понесли нас дальше,
Иногда же мы встречали племена, которые были людоедами, и в таких случаях мы весьма страдали, от недостатка мяса, поскольку не решались дотрагиваться до их пищи за исключением растительной. В поселении одного из этих народов я, охваченный яростью, убил человека, собиравшегося умертвить девочку и съесть ее; я отрубил ему голову моим мечом. Я ожидал, что за этот поступок мы будем тут же убиты. Ничуть не бывало! Они лишь пожали плечами и, сказав, что Бог может поступать, как ему угодно, унесли убитого и съели его.
Иногда наш путь пролегал через ужасные леса, где большие деревья преграждали доступ дневному свету, а подлесок был так плотен и густ, что приходилось прокладывать дорогу топором. Нередко такой лес кишел тиграми или древесными львами, что вынуждало нас быть постоянно настороже, особенно ночью, когда нам приходилось зажигать костер, чтобы отпугивать хищников. Иногда мы должны были переходить вброд большие реки или, что еще хуже, перебираться через них по зыбким мостам из каната, сплетенного из тростников; от этих качающихся мостов, пока я не привык к ним, у меня кружилась голова, хотя я ни разу не позволил себе выказать перед туземцами одолевавший меня страх, А однажды мы пришли в болотистые земли, где водилось множество змей, что привело меня в ужас, особенно после того, как несколько ужаленных ими туземцев на моих глазах умерли несколько минут спустя после укуса.
Были и другие змеи, толстые, как тело человека, в четыре-пять шагов длиной, которые жили на деревьях и убивали свою добычу, обвиваясь вокруг нее и удавливая ее насмерть. Говорили, что эти змеи могут таким же образом погубить и человека, хотя я ни разу не видел такого случая. Как бы то ни было, вид их был ужасен и напоминал мне их предка, устами которого Сатана говорил с нашей праматерью Евой в садах Эдема и таким образом навлек на всех нас беды и страдания.
А в другой раз на берегу большой реки я увидел такую змею, что у меня затряслись поджилки. Клянусь Св. Хьюбертом, эта бестия была футов шестьдесят в длину, если не больше; голова ее была величиной с бочку, а кожа переливалась всеми цветами радуги. Более того, она как будто парализовала меня взглядом, потому что пока она не соскользнула в реку, я не мог пошевелить и пальцем.
Так мы шли месяц за месяцем, покрывая, пожалуй, миль пять в день, поскольку иногда мы выходили на открытую местность и могли двигаться быстрее. И как ни странно, несмотря на столь многие опасности, за все это время, даже в самую сильную жару, ни один из нас не заболел — думаю, благодаря той траве, которую Кари нес в своем мешке и которая, как я узнал, называлась кока; мы умножали ее запас, находя ее по пути, и время от времени поедали ее. В сущности, мы не страдали и от голода, поскольку при недостатке пищи мы ели ту же траву, и она поддерживала нас, пока мы не находили настоящую еду. Все эти благодеяния я приписываю добрым заботам Св. Хьюберта, который с небес следил за мной, своим бедным тезкой и крестником, хотя, пожалуй, известную роль играли также ловкость и мужество Кари, спасавшие нас во всех затруднениях и от всех опасностей.
Наконец на девятый месяц нашего путешествия (Кари вычислил это по количеству узлов, которые он завязывал на туземных нитках, ибо сам я давно потерял счет времени) мы подошли к краю большой пустыни, которая, по словам туземцев, простиралась на сто лье и больше в южном направлении и была совершенно безводной. Более того, к востоку от этой пустыни вздымалась цепь гор, окаймленных пропастями и ущельями, преодолеть которые не мог ни один человек. Похоже было, что наше путешествие здесь и закончится, ибо Кари не имел никакого представления о том, как он пересек или обошел эту пустыню во время своего безумия минувших лет — если он вообще шел по этой дороге, в чем я далеко не был уверен.
Неделю, а может быть и дольше, мы жили среди людей племени, заселявшего прекрасную, обильно орошаемую долину на границе этой пустыни, ломая голову над вопросом, что же нам делать. Лично я уже так устал от скитаний в бесконечных походах, что с радостью остался бы у этих добрых дружелюбных людей, веривших, как и все другие, что я Бог; здесь я нашел бы себе прибежище и прожил бы среди них до самой смерти. Но это совершенно не совпадало с намерениями Кари, все мысли которого яростно устремлялись к одной цели — вернуться на родину, которая, как он был уверен, лежит где-то на юге.
День за днем мы набирались сил, питаясь дарами этой долины и поочередно вглядываясь то в пустыню на юге, то в горные кряжи и ущелья слева от нас, то, наконец, в расстилавшийся справа океан. Следует сказать, кстати, что приютившее нас племя добывало свои богатства не только на суше, но и в море, поскольку эти люди были отличными рыбаками и выходили на лов в грубо сделанных лодках или, точнее, на плотах, состоявших из деревянной рамы, к которой накрепко привязывались надутые воздухом звериные шкуры и связки сухого тростника. На этих хрупких на вид суденышках, подобных тем, что в южных странах называются «бальза», они совершали весьма серьезные путешествия на отдаленные острова, где вылавливали огромное количество рыбы, частично используемой на удобрение их земель. Мало того, на этих плотах они устанавливали квадратный парус, сотканный из хлопка, так что при благоприятном ветре они могли сушить весла и управлять судном с кормы при помощи широкого весла или гребка.
Во время нашего пребывания там я заметил, что когда задул северный ветер, хотя и небольшой силы, все плоты причалили и были вытащены на берег достаточно далеко от линии прибоя. Когда я спросил через посредство Кари о причине этого, мне ответили, что сезон рыбной ловли закончен, поскольку этот северный ветер будет дуть, не меняя направления, очень долго, и может отнести тех, кто вышел бы в море, далеко на юг, откуда нет возврата. Мне рассказали даже о многих отважных смельчаках, которые бесследно исчезли именно таким образом.
— Вот способ попасть на юг, если ты хочешь, — сказал я Кари.
Он ничего не ответил, но на следующий день неожиданно спросил меня, готов ли я отважиться на такое путешествие.
— Почему бы и нет? — сказал я. — Умереть в море так же легко, как и на суше. Я устал скитаться по бесконечным лесам и болотам, переправляться через бурные реки и перелезать через горные хребты.
Кончилось тем, что в обмен на нож и несколько гвоздей Кари раздобыл самую большую «бальза», какая нашлась у этих людей, и нагрузил ее таким количеством сушеной рыбы, зерна и воды в глиняных кувшинах, какое только она могла выдержать, не считая нас двоих и тех из оставшихся у нас товаров, которые мы хотели взять с. собой. Потом он заявил, что я — Бог, вышедший из моря, желаю вернуться в море вместе с ним, моим слугой.
И вот в одно ясное утро, когда с севера дул ровный, но не очень сильный ветер, мы взошли на этот плот, в то время как простодушные дикари провожали нас почестями и удивленными взглядами, подняли квадратный парус и отправились в одно из самых, на мой взгляд, безумных плаваний, какие когда-либо совершал человек.
Хотя и неуклюжая, наша «бальза» шла, разрезая волны на хорошей скорости, делая, я бы сказал, два лье в час под свежим и устойчивым ветром. Вскоре деревня, которую мы покинули, исчезла из виду; потом вздымавшиеся за ней горы потеряли четкость очертаний, слились в одну линию и тоже исчезли, и не осталось ничего, кроме дикой пустыни слева и огромного моря вокруг нас. Направляя плот дальше от берега, чтобы не наскочить на подводные камни, мы плыли весь день и всю ночь, и когда снова рассвело, увидели, что мы идем вдоль побережья, обрамленного стеной высоких гор с кое-где покрытыми снегом вершинами. К концу второго дня эти горы выросли до огромных размеров, и среди них я увидел долины, по которым сбегали водные потоки.
Так мы шли три дня и три ночи. Ветер не изменил своего направления, «бальза» благополучно справлялась с волнами, и к концу этого срока я высчитал, что мы прошли вдоль побережья такое же расстояние, какое покрыли за шесть месяцев, двигаясь по суше. И я обрадовался. Кари тоже радовался, потому что, по его словам, очертания и высота гор, мимо которых мы плыли, напоминали ему горы его родины, и он считал, что мы уже приближаемся к цели.
На четвертое утро, однако, начались наши бедствия, так как дружественный нам северный ветер стал неуклонно крепчать и наконец перешел в шторм. Наш парус сорвало и унесло, как тряпицу, но, подгоняемые волнами, мы все же мчались вперед с большой скоростью.
Я подумал было повернуть к берегу, но обнаружил, что при помощи весел мы не в силах противодействовать течению, которое гнало наше неуклюжее суденышко в открытое море. Поэтому нам оставалось только одно — стараться удерживать плот на прямой линии, хотя даже это не всегда помогало, и, несмотря на все наши усилия, его часто кружило на месте.
Около двух часов пополудни небо затянуло тучами, и на нас обрушилась сильная гроза с потоками дождя, а ветер все крепчал и крепчал.
Теперь мы не могли больше ни править, ни грести, и нам оставалось только лежать ничком, крепко держась за скреплявшие плот канаты, иначе волны смыли бы нас в море своими пенистыми гребнями, которые то и дело перекатывались через нас. Просто чудо, что это хрупкое суденышко вообще не рассыпалось, но благодаря легкости тростников и надутых воздухом шкур оно держалось на воде и, кружась и вращаясь, неслось по своему курсу — на юг. Однако я знал, что это ненадолго, и, собрав последние силы, препоручил свою душу Богу, желая лишь одного — чтобы мои страдания кончились.
Спустилась тьма, но гром все еще гремел, и сверкала молния, и при ее вспышках я на мгновение увидел увенчанные снегом горы на далеком берегу, а рядом со мной Кари, который вцепился в тростники нашего бальзового плота и время от времени целовал золотое изображение Пачакамака, висевшее на шнурке у него на шее. Однажды он приблизил губы к моему уху и крикнул:
— Мужайтесь! Наши боги не оставляют нас и в бурю!
— Да, — ответил я, — и скоро мы будем с нашими богами — в тишине и покое.
После этого я его больше не слышал и, насколько мой ум еще был способен мыслить, стал думать о том, как много опасностей мы преодолели с тех пор, как покинули берега Темзы, и как печально, что все это было зря — уж лучше было бы погибнуть в самом начале, чем теперь, после стольких мучений. Потом блеск молнии высветил рукоятку меча Взвейся-Пламя, который все еще был на мне, и я вспомнил руну, прочитанную мне моей матушкой в день сражения с французами. Как это было там?
«Тот, кто взметнет высоко Взвейся-Пламя,
Прожив в любви, умрет на поле брани.
Носимый бурями, моря пересечет
И в чуждых странах свой приют найдет.
Став победителем, он будет побежден,
В дальнем краю уснет со мною он».
Все так и есть, хотя любви мне на долю выпало не очень-то много, да и та была глубоко несчастной, и битва, в которой я должен умереть, — это битва с морем, Да и победителем я не стал, а, наоборот, сам побежден судьбой. Словом, эти стихи можно понимать двояко, подобно всем пророчествам, и только одна строчка не вызывает сомнений — Взвейся-Пламя и я действительно уснем вместе.
Немного позже молния вдруг вспыхнула с ужасающей силой, как будто целая армия ангелов-разрушителей взмахнула мечами, — так что все небо запылало огнем. В ее свете я на мгновение увидел впереди огромные бурные валы, а за ними — темную массу, что-то вроде берега. И тут же эти алчные пенящиеся волны подхватили наш плот, подбросили его вверх с головокружительной силой и швырнули вниз, в глубокую водяную долину. За первым валом налетел второй, потом третий, и все мои чувства закачались, сбились и погасли. Я крикнул, призывая Св. Хьюберта, но он был сухопутным святым и не мог помочь мне; тогда я воззвал к другому, кто более велик, чем он.
Последнее, что я увидел, было — я сам, несущийся на гребне огромной волны, как на коне. Потом — страшный грохот и темнота.
Мне казалось, что кто-то зовет меня, возвращая из глубины сна. С трудом я открыл глаза, но тотчас зажмурился от ослепительного света. Через некоторое время я приподнялся и сел, чувствуя, что у меня все болит, как будто меня всего избили, и снова открыл глаза. Надо мной в глубокой синеве неба сияло солнце; передо мной расстилалось море, почти совсем спокойное, а вокруг были горы и песок, по которому ползали рептилии: я сразу узнал в них черепах, поскольку видел их во множестве во время наших странствий. Более того, рядом со мной, стоя на коленях и все еще опоясанный мечом, снятым с тела Делеруа, был Кари, запачканный кровью — видно, его где-то ранило — и почти белый от высохшей морской соли, но в остальном жив и невредим. Я уставился на него, не в силах произнести ни слова от изумления, так что он заговорил первым, с какой-то ноткой торжества в голосе:
— Разве я не говорил, что боги помогают нам? Где же твоя вера, о Белый Человек? Посмотри! Они привели меня обратно в страну, в которой я — Правитель!
При всей моей слабости что-то в тоне Кари рассердило меня. Почему он прошелся насчет моей веры? Почему назвал меня «Белым Человеком», а не господином? Может быть, потому, что он достиг страны, где он — важное лицо, а я — никто?
Я предположил последнее и ответил:
— А это — твои подданные, о благородный Кари? — и я указал на ползающих по песку черепах. — И это вот та богатая и чудесная страна, где золото и серебро все равно что грязь? — и я указал на голые скалы и песок на берегу.
Он улыбнулся моей шутке и ответил более смиренно:
— Нет, господин, моя земля — там.
Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел на расстоянии многих лье водного пространства два покрытых снегом пика, выступавших из неподвижной массы облаков.
— Я узнаю эти горы, — продолжал он, — несомненно, это — одни из тех, что образуют ворота в мою страну.
— Тогда у нас столько же надежды пройти через эти ворота, сколько вернуться в Лондон, Кари. Но скажи мне, что произошло?
— Думаю, вот что: очень высокая волна подхватила нас и выбросила прямо через эти камни на берег. Посмотрите, вон наша «бальза», — и он указал на груду изломанных камышей и порванных шкур.
С его помощью я поднялся и подошел к ней. Теперь никто бы не узнал в этой груде морское судно. И все же это была «бальза», и не что иное, и в этой запутанной массе обломков виднелись некоторые вещи, которые мы взяли с собой, — например, мой черный лук и мои доспехи; но все кувшины разбились вдребезги.
— Она хорошо послужила нам, но теперь ей конец, — сказал я.
— Верно, господин. Но если бы мы были у меня на родине, я бы сложил ее обломки в шкатулку из золота и поместил бы их в Храм Солнца как памятник.
Потом мы пошли к водоему, образовавшемуся во время дождей в углублении ближней скалы, и вдоволь напились, утолив мучившую нас жажду. Среди обломков «бальзы» мы нашли также остатки сушеной рыбы и, промыв ее, поели. После этого, хромая, мы кое-как взобрались на гребень скалы и увидели, что находимся на островке площадью что-то около двухсот английских акров, на котором не растет ничего, кроме дикой жесткой травы. Однако этот остров был прибежищем множества гнездившихся на нем морских птиц, а также упомянутых мной черепах и некоторых животных, похожих на тюленей и выдр.
— По крайней мере, мы не умрем с голоду, — заметил я, — хотя, если будет засуха, вполне можно умереть от жажды.
Четыре долгих месяца провели мы на этом острове.
Пищей нам служили черепахи, и мы готовили их на костре, который Кари развел хитроумным способом — вращая заостренную палочку, выточенную из выброшенного морем дерева, в ямке, выдолбленной в деревянном бруске и наполненной высушенной травой, растертой в порошок. Не знай он этого способа добывать огонь, мы бы голодали или ели сырое мясо. А так мы жили в изобилии, потому что, кроме черепашьего мяса, мы имели мясо птиц и их яйца, а также рыбу, которую вылавливали из луж, остающихся на берегу во время отлива. Из панцирей черепах мы при помощи камней соорудили нечто вроде хижины, чтобы прятаться от солнца и дождя; в этом теплом климате такая хижина служила достаточно надежным кровом. В такие же панцири, когда из них выветривался дурной запах, мы собирали дождевую воду, сохраняя ее, как могли, на случай засухи. Наконец из моего лука, сохранившегося вместе с доспехами, я застрелил несколько морских выдр, и из шкурок, натертых черепашьим жиром и обработанных до мягкости, мы смастерили себе одежду.
Так вот мы и жили, от полнолуния до полнолуния, в этом пустынном месте, пока я не почувствовал, что сойду с ума от одиночества и отчаяния, ибо ждать помощи было неоткуда. Далеко-далеко виднелись горы материка, но между ними и нами на много лье простиралось море, которое мы не могли переплыть, а построить лодку или плот было не из чего.
— Здесь мы и останемся до самой смерти! — вскричал я наконец в безнадежном состоянии.
— Нет, — ответил Кари, — наши боги по-прежнему с нами и спасут нас, когда придет срок.
И они действительно спасли нас — самым странным образом.
На палубе того корабля однажды стояла сама Бланш, смеялась и разговаривала со мной — ибо как-то раз перед свадьбой мы были там вдвоем, и я помню, как поцеловал ее в каюте. Теперь Бланш нет; она умерла от собственной руки, а я, крупный лондонский купец, объявлен вне закона — беглец среди дикарей в чужой стране, даже название которой мне не известно. Мой корабль, столь мужественно пронесший нас сквозь штормовые недели, должен лежать там со всем своим ценным грузом, пока не сгниет под солнцем и дождем, и никогда больше мои глаза его не увидят. О, как сжалось мое сердце в эту минуту! Ни разу еще с тех пор, как я уехал, убив Делеруа мечом Взвейся-Пламя, не испытывал я такого острого и глубокого чувства отчаяния и одиночества. И зачем только я родился на свет? Лучше умереть, и чем скорее, тем лучше — может быть, там я пойму причину моего рождения.
И я снова забрался в паланкин и, спрятав лицо, заплакал как дитя. Поистине, я — процветающий купец города Лондона, который мог бы стать его мэром и магистром и завоевать дворянский титул, — стал теперь ничтожнейшим авантюристом, лишенным прав и поставленным вне закона. Ну что ж, видно, так судил Бог, и ничего с этим не поделаешь.
Первую ночь мы провели на вершине холма, над быстрой рекой, которая протекала внизу, в долине. Нас мучила жара, изводили насекомые, которые жужжали и жалили нас и к которым я еще не успел привыкнуть; и мы ели взятую в дорогу пищу — вяленое мясо и зерна.
На следующее утро, как только рассвело, мы снова двинулись в путь, поднимаясь в горы и спускаясь в долины, проходя через леса, следуя течению реки или изгибам озер. И так продолжалось до тех пор, пока на третьи сутки вечером с высокого плато мы вдруг не увидели внизу море — не то, от которого мы ушли, а совсем другое; видимо, мы пересекли перешеек, и притом не очень широкий, так что при умении и сноровке можно было бы прорыть канал и соединить эти два больших моря.
Именно отсюда и началось по-настоящему наше путешествие, именно здесь Кари свернул на юг. Перед этим он долго смотрел на звезды и размышлял, уединившись, Я не принимал в этом никакого участия, поскольку мне было все равно, куда он свернет. Да и сам он не разговаривал со мной на эту тему, ограничившись замечанием, что его Бог и те немногие воспоминания, которые сохранились у него от периода его безумия, говорят ему, что земля его народа лежит на юге, хотя и очень далеко отсюда.
Итак, мы отправились на юг, пробираясь лесными тропами и все время оставляя океан справа. В конце недели этого утомительного похода мы попали в места, где обитало другое племя, язык которого оказался настолько знаком сопровождавшим нас туземцам, что они смогли рассказать им нашу историю. Впрочем, до них уже дошел слух о появлении из моря белого бога, и они были подготовлены к тому, чтобы оказать мне соответствующие почести. Здесь наши спутники покинули нас, говоря, что они не смеют уходить так далеко от своей родины.
Сцена прощания была странной и необычной: каждый из них подходил ко мне, склонялся на колени и терся лбом о землю, а потом уходил, пятясь и кланяясь. Их уход, однако, мало что изменил в нашем положении. Новое племя почти не отличалось от них, разве что одежда их была, если возможно, еще более скудной, а люди еще грязнее. Они также безоговорочно приняли меня за бога и снабдили нас необходимой пищей, Более того, когда мы распрощались с ними, они предоставили нам людей, которые понесли нас и нашу поклажу.
И таким образом, переходя от племени к племени, мы продвигались на юг, все на юг, всегда обнаруживая, что нам предшествовал слух о появлении «Бога». И какими добрыми и мягкими были эти люди! Ни разу не встретили мы никого, кто бы попытался нанести нам вред или украсть что-нибудь из наших вещей, или, наконец, отказать нам в лучшем, что у них было, Правда, приключений у нас было достаточно. Так, дважды мы оказались среди племен, воевавших друг с другом, но при моем появлении они сложили оружие, по крайней мере, на время, и понесли нас дальше,
Иногда же мы встречали племена, которые были людоедами, и в таких случаях мы весьма страдали, от недостатка мяса, поскольку не решались дотрагиваться до их пищи за исключением растительной. В поселении одного из этих народов я, охваченный яростью, убил человека, собиравшегося умертвить девочку и съесть ее; я отрубил ему голову моим мечом. Я ожидал, что за этот поступок мы будем тут же убиты. Ничуть не бывало! Они лишь пожали плечами и, сказав, что Бог может поступать, как ему угодно, унесли убитого и съели его.
Иногда наш путь пролегал через ужасные леса, где большие деревья преграждали доступ дневному свету, а подлесок был так плотен и густ, что приходилось прокладывать дорогу топором. Нередко такой лес кишел тиграми или древесными львами, что вынуждало нас быть постоянно настороже, особенно ночью, когда нам приходилось зажигать костер, чтобы отпугивать хищников. Иногда мы должны были переходить вброд большие реки или, что еще хуже, перебираться через них по зыбким мостам из каната, сплетенного из тростников; от этих качающихся мостов, пока я не привык к ним, у меня кружилась голова, хотя я ни разу не позволил себе выказать перед туземцами одолевавший меня страх, А однажды мы пришли в болотистые земли, где водилось множество змей, что привело меня в ужас, особенно после того, как несколько ужаленных ими туземцев на моих глазах умерли несколько минут спустя после укуса.
Были и другие змеи, толстые, как тело человека, в четыре-пять шагов длиной, которые жили на деревьях и убивали свою добычу, обвиваясь вокруг нее и удавливая ее насмерть. Говорили, что эти змеи могут таким же образом погубить и человека, хотя я ни разу не видел такого случая. Как бы то ни было, вид их был ужасен и напоминал мне их предка, устами которого Сатана говорил с нашей праматерью Евой в садах Эдема и таким образом навлек на всех нас беды и страдания.
А в другой раз на берегу большой реки я увидел такую змею, что у меня затряслись поджилки. Клянусь Св. Хьюбертом, эта бестия была футов шестьдесят в длину, если не больше; голова ее была величиной с бочку, а кожа переливалась всеми цветами радуги. Более того, она как будто парализовала меня взглядом, потому что пока она не соскользнула в реку, я не мог пошевелить и пальцем.
Так мы шли месяц за месяцем, покрывая, пожалуй, миль пять в день, поскольку иногда мы выходили на открытую местность и могли двигаться быстрее. И как ни странно, несмотря на столь многие опасности, за все это время, даже в самую сильную жару, ни один из нас не заболел — думаю, благодаря той траве, которую Кари нес в своем мешке и которая, как я узнал, называлась кока; мы умножали ее запас, находя ее по пути, и время от времени поедали ее. В сущности, мы не страдали и от голода, поскольку при недостатке пищи мы ели ту же траву, и она поддерживала нас, пока мы не находили настоящую еду. Все эти благодеяния я приписываю добрым заботам Св. Хьюберта, который с небес следил за мной, своим бедным тезкой и крестником, хотя, пожалуй, известную роль играли также ловкость и мужество Кари, спасавшие нас во всех затруднениях и от всех опасностей.
Наконец на девятый месяц нашего путешествия (Кари вычислил это по количеству узлов, которые он завязывал на туземных нитках, ибо сам я давно потерял счет времени) мы подошли к краю большой пустыни, которая, по словам туземцев, простиралась на сто лье и больше в южном направлении и была совершенно безводной. Более того, к востоку от этой пустыни вздымалась цепь гор, окаймленных пропастями и ущельями, преодолеть которые не мог ни один человек. Похоже было, что наше путешествие здесь и закончится, ибо Кари не имел никакого представления о том, как он пересек или обошел эту пустыню во время своего безумия минувших лет — если он вообще шел по этой дороге, в чем я далеко не был уверен.
Неделю, а может быть и дольше, мы жили среди людей племени, заселявшего прекрасную, обильно орошаемую долину на границе этой пустыни, ломая голову над вопросом, что же нам делать. Лично я уже так устал от скитаний в бесконечных походах, что с радостью остался бы у этих добрых дружелюбных людей, веривших, как и все другие, что я Бог; здесь я нашел бы себе прибежище и прожил бы среди них до самой смерти. Но это совершенно не совпадало с намерениями Кари, все мысли которого яростно устремлялись к одной цели — вернуться на родину, которая, как он был уверен, лежит где-то на юге.
День за днем мы набирались сил, питаясь дарами этой долины и поочередно вглядываясь то в пустыню на юге, то в горные кряжи и ущелья слева от нас, то, наконец, в расстилавшийся справа океан. Следует сказать, кстати, что приютившее нас племя добывало свои богатства не только на суше, но и в море, поскольку эти люди были отличными рыбаками и выходили на лов в грубо сделанных лодках или, точнее, на плотах, состоявших из деревянной рамы, к которой накрепко привязывались надутые воздухом звериные шкуры и связки сухого тростника. На этих хрупких на вид суденышках, подобных тем, что в южных странах называются «бальза», они совершали весьма серьезные путешествия на отдаленные острова, где вылавливали огромное количество рыбы, частично используемой на удобрение их земель. Мало того, на этих плотах они устанавливали квадратный парус, сотканный из хлопка, так что при благоприятном ветре они могли сушить весла и управлять судном с кормы при помощи широкого весла или гребка.
Во время нашего пребывания там я заметил, что когда задул северный ветер, хотя и небольшой силы, все плоты причалили и были вытащены на берег достаточно далеко от линии прибоя. Когда я спросил через посредство Кари о причине этого, мне ответили, что сезон рыбной ловли закончен, поскольку этот северный ветер будет дуть, не меняя направления, очень долго, и может отнести тех, кто вышел бы в море, далеко на юг, откуда нет возврата. Мне рассказали даже о многих отважных смельчаках, которые бесследно исчезли именно таким образом.
— Вот способ попасть на юг, если ты хочешь, — сказал я Кари.
Он ничего не ответил, но на следующий день неожиданно спросил меня, готов ли я отважиться на такое путешествие.
— Почему бы и нет? — сказал я. — Умереть в море так же легко, как и на суше. Я устал скитаться по бесконечным лесам и болотам, переправляться через бурные реки и перелезать через горные хребты.
Кончилось тем, что в обмен на нож и несколько гвоздей Кари раздобыл самую большую «бальза», какая нашлась у этих людей, и нагрузил ее таким количеством сушеной рыбы, зерна и воды в глиняных кувшинах, какое только она могла выдержать, не считая нас двоих и тех из оставшихся у нас товаров, которые мы хотели взять с. собой. Потом он заявил, что я — Бог, вышедший из моря, желаю вернуться в море вместе с ним, моим слугой.
И вот в одно ясное утро, когда с севера дул ровный, но не очень сильный ветер, мы взошли на этот плот, в то время как простодушные дикари провожали нас почестями и удивленными взглядами, подняли квадратный парус и отправились в одно из самых, на мой взгляд, безумных плаваний, какие когда-либо совершал человек.
Хотя и неуклюжая, наша «бальза» шла, разрезая волны на хорошей скорости, делая, я бы сказал, два лье в час под свежим и устойчивым ветром. Вскоре деревня, которую мы покинули, исчезла из виду; потом вздымавшиеся за ней горы потеряли четкость очертаний, слились в одну линию и тоже исчезли, и не осталось ничего, кроме дикой пустыни слева и огромного моря вокруг нас. Направляя плот дальше от берега, чтобы не наскочить на подводные камни, мы плыли весь день и всю ночь, и когда снова рассвело, увидели, что мы идем вдоль побережья, обрамленного стеной высоких гор с кое-где покрытыми снегом вершинами. К концу второго дня эти горы выросли до огромных размеров, и среди них я увидел долины, по которым сбегали водные потоки.
Так мы шли три дня и три ночи. Ветер не изменил своего направления, «бальза» благополучно справлялась с волнами, и к концу этого срока я высчитал, что мы прошли вдоль побережья такое же расстояние, какое покрыли за шесть месяцев, двигаясь по суше. И я обрадовался. Кари тоже радовался, потому что, по его словам, очертания и высота гор, мимо которых мы плыли, напоминали ему горы его родины, и он считал, что мы уже приближаемся к цели.
На четвертое утро, однако, начались наши бедствия, так как дружественный нам северный ветер стал неуклонно крепчать и наконец перешел в шторм. Наш парус сорвало и унесло, как тряпицу, но, подгоняемые волнами, мы все же мчались вперед с большой скоростью.
Я подумал было повернуть к берегу, но обнаружил, что при помощи весел мы не в силах противодействовать течению, которое гнало наше неуклюжее суденышко в открытое море. Поэтому нам оставалось только одно — стараться удерживать плот на прямой линии, хотя даже это не всегда помогало, и, несмотря на все наши усилия, его часто кружило на месте.
Около двух часов пополудни небо затянуло тучами, и на нас обрушилась сильная гроза с потоками дождя, а ветер все крепчал и крепчал.
Теперь мы не могли больше ни править, ни грести, и нам оставалось только лежать ничком, крепко держась за скреплявшие плот канаты, иначе волны смыли бы нас в море своими пенистыми гребнями, которые то и дело перекатывались через нас. Просто чудо, что это хрупкое суденышко вообще не рассыпалось, но благодаря легкости тростников и надутых воздухом шкур оно держалось на воде и, кружась и вращаясь, неслось по своему курсу — на юг. Однако я знал, что это ненадолго, и, собрав последние силы, препоручил свою душу Богу, желая лишь одного — чтобы мои страдания кончились.
Спустилась тьма, но гром все еще гремел, и сверкала молния, и при ее вспышках я на мгновение увидел увенчанные снегом горы на далеком берегу, а рядом со мной Кари, который вцепился в тростники нашего бальзового плота и время от времени целовал золотое изображение Пачакамака, висевшее на шнурке у него на шее. Однажды он приблизил губы к моему уху и крикнул:
— Мужайтесь! Наши боги не оставляют нас и в бурю!
— Да, — ответил я, — и скоро мы будем с нашими богами — в тишине и покое.
После этого я его больше не слышал и, насколько мой ум еще был способен мыслить, стал думать о том, как много опасностей мы преодолели с тех пор, как покинули берега Темзы, и как печально, что все это было зря — уж лучше было бы погибнуть в самом начале, чем теперь, после стольких мучений. Потом блеск молнии высветил рукоятку меча Взвейся-Пламя, который все еще был на мне, и я вспомнил руну, прочитанную мне моей матушкой в день сражения с французами. Как это было там?
«Тот, кто взметнет высоко Взвейся-Пламя,
Прожив в любви, умрет на поле брани.
Носимый бурями, моря пересечет
И в чуждых странах свой приют найдет.
Став победителем, он будет побежден,
В дальнем краю уснет со мною он».
Все так и есть, хотя любви мне на долю выпало не очень-то много, да и та была глубоко несчастной, и битва, в которой я должен умереть, — это битва с морем, Да и победителем я не стал, а, наоборот, сам побежден судьбой. Словом, эти стихи можно понимать двояко, подобно всем пророчествам, и только одна строчка не вызывает сомнений — Взвейся-Пламя и я действительно уснем вместе.
Немного позже молния вдруг вспыхнула с ужасающей силой, как будто целая армия ангелов-разрушителей взмахнула мечами, — так что все небо запылало огнем. В ее свете я на мгновение увидел впереди огромные бурные валы, а за ними — темную массу, что-то вроде берега. И тут же эти алчные пенящиеся волны подхватили наш плот, подбросили его вверх с головокружительной силой и швырнули вниз, в глубокую водяную долину. За первым валом налетел второй, потом третий, и все мои чувства закачались, сбились и погасли. Я крикнул, призывая Св. Хьюберта, но он был сухопутным святым и не мог помочь мне; тогда я воззвал к другому, кто более велик, чем он.
Последнее, что я увидел, было — я сам, несущийся на гребне огромной волны, как на коне. Потом — страшный грохот и темнота.
Мне казалось, что кто-то зовет меня, возвращая из глубины сна. С трудом я открыл глаза, но тотчас зажмурился от ослепительного света. Через некоторое время я приподнялся и сел, чувствуя, что у меня все болит, как будто меня всего избили, и снова открыл глаза. Надо мной в глубокой синеве неба сияло солнце; передо мной расстилалось море, почти совсем спокойное, а вокруг были горы и песок, по которому ползали рептилии: я сразу узнал в них черепах, поскольку видел их во множестве во время наших странствий. Более того, рядом со мной, стоя на коленях и все еще опоясанный мечом, снятым с тела Делеруа, был Кари, запачканный кровью — видно, его где-то ранило — и почти белый от высохшей морской соли, но в остальном жив и невредим. Я уставился на него, не в силах произнести ни слова от изумления, так что он заговорил первым, с какой-то ноткой торжества в голосе:
— Разве я не говорил, что боги помогают нам? Где же твоя вера, о Белый Человек? Посмотри! Они привели меня обратно в страну, в которой я — Правитель!
При всей моей слабости что-то в тоне Кари рассердило меня. Почему он прошелся насчет моей веры? Почему назвал меня «Белым Человеком», а не господином? Может быть, потому, что он достиг страны, где он — важное лицо, а я — никто?
Я предположил последнее и ответил:
— А это — твои подданные, о благородный Кари? — и я указал на ползающих по песку черепах. — И это вот та богатая и чудесная страна, где золото и серебро все равно что грязь? — и я указал на голые скалы и песок на берегу.
Он улыбнулся моей шутке и ответил более смиренно:
— Нет, господин, моя земля — там.
Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел на расстоянии многих лье водного пространства два покрытых снегом пика, выступавших из неподвижной массы облаков.
— Я узнаю эти горы, — продолжал он, — несомненно, это — одни из тех, что образуют ворота в мою страну.
— Тогда у нас столько же надежды пройти через эти ворота, сколько вернуться в Лондон, Кари. Но скажи мне, что произошло?
— Думаю, вот что: очень высокая волна подхватила нас и выбросила прямо через эти камни на берег. Посмотрите, вон наша «бальза», — и он указал на груду изломанных камышей и порванных шкур.
С его помощью я поднялся и подошел к ней. Теперь никто бы не узнал в этой груде морское судно. И все же это была «бальза», и не что иное, и в этой запутанной массе обломков виднелись некоторые вещи, которые мы взяли с собой, — например, мой черный лук и мои доспехи; но все кувшины разбились вдребезги.
— Она хорошо послужила нам, но теперь ей конец, — сказал я.
— Верно, господин. Но если бы мы были у меня на родине, я бы сложил ее обломки в шкатулку из золота и поместил бы их в Храм Солнца как памятник.
Потом мы пошли к водоему, образовавшемуся во время дождей в углублении ближней скалы, и вдоволь напились, утолив мучившую нас жажду. Среди обломков «бальзы» мы нашли также остатки сушеной рыбы и, промыв ее, поели. После этого, хромая, мы кое-как взобрались на гребень скалы и увидели, что находимся на островке площадью что-то около двухсот английских акров, на котором не растет ничего, кроме дикой жесткой травы. Однако этот остров был прибежищем множества гнездившихся на нем морских птиц, а также упомянутых мной черепах и некоторых животных, похожих на тюленей и выдр.
— По крайней мере, мы не умрем с голоду, — заметил я, — хотя, если будет засуха, вполне можно умереть от жажды.
Четыре долгих месяца провели мы на этом острове.
Пищей нам служили черепахи, и мы готовили их на костре, который Кари развел хитроумным способом — вращая заостренную палочку, выточенную из выброшенного морем дерева, в ямке, выдолбленной в деревянном бруске и наполненной высушенной травой, растертой в порошок. Не знай он этого способа добывать огонь, мы бы голодали или ели сырое мясо. А так мы жили в изобилии, потому что, кроме черепашьего мяса, мы имели мясо птиц и их яйца, а также рыбу, которую вылавливали из луж, остающихся на берегу во время отлива. Из панцирей черепах мы при помощи камней соорудили нечто вроде хижины, чтобы прятаться от солнца и дождя; в этом теплом климате такая хижина служила достаточно надежным кровом. В такие же панцири, когда из них выветривался дурной запах, мы собирали дождевую воду, сохраняя ее, как могли, на случай засухи. Наконец из моего лука, сохранившегося вместе с доспехами, я застрелил несколько морских выдр, и из шкурок, натертых черепашьим жиром и обработанных до мягкости, мы смастерили себе одежду.
Так вот мы и жили, от полнолуния до полнолуния, в этом пустынном месте, пока я не почувствовал, что сойду с ума от одиночества и отчаяния, ибо ждать помощи было неоткуда. Далеко-далеко виднелись горы материка, но между ними и нами на много лье простиралось море, которое мы не могли переплыть, а построить лодку или плот было не из чего.
— Здесь мы и останемся до самой смерти! — вскричал я наконец в безнадежном состоянии.
— Нет, — ответил Кари, — наши боги по-прежнему с нами и спасут нас, когда придет срок.
И они действительно спасли нас — самым странным образом.
 — Итак, ты — леди Куилла. Красивая женщина, очень красивая; такая, какая способна вести Урко по верной дороге — если кто-нибудь может. И имя хорошее — в честь луны, ибо в твоих глазах как будто сияет лунный свет, леди Куилла. Право же, право же, будь я лет на двадцать моложе, я бы велел Урко искать другую царицу, а тебя оставил бы себе.
Тут Куилла сказала, первый раз за все это время:
— Да будет твоя воля, о Инка. Я обещана в жены Сыну Солнца, а которому сыну — мне все равно.
— Хорошо сказано, леди Куилла, да и чему тут удивляться? Хотя я и старею, говорят, что я все еще красив, гораздо красивее Урко, если сказать правду, ибо он — человек грубый и более сурового типа. Спроси у моих жен, когда приедешь в Куско; на днях одна из них сказала, что во всем городе нет никого красивее, и заслужила прекрасный подарок за свою приятную речь. Что это ты сказал, Ларико? Почему ты вечно вмешиваешься в мои дела? Ну, впрочем, может быть, ты и прав. И, леди Куилла, если ты готова, пора и в путь. Нет, нет, спасибо, Курака, но я не останусь ни на какое пиршество. Я хочу добраться до своего лагеря еще засветло, ибо кто знает, что может случиться с человеком в темноте в чужой стране?
И тут наконец Хуарача не сдержал гнева.
— Будь по-твоему, о Инка, — сказал он, — но знай, что ты наносишь мне тройное оскорбление. Во-первых, ты отказываешься от пиршества, которое приготовлено было специально для тебя и на котором ты должен был встретиться со всеми знатными людьми моего царства. Во-вторых, ты именуешь меня, царя, титулом мелкого вождя, который признает над собой твою власть. В-третьих, ты ставишь под сомнение мою честь, намекая на то, что я замышляю убить тебя в темноте. У меня сильное желание сказать тебе: «Уходи из моей бедной страны, о Инка, цел и невредим, но оставь здесь мою дочь».
В этот миг я, Хьюберт, заметил, что при этих словах в больших глазах Куиллы вспыхнул огонь надежды, так же как и в моем сердце, ибо не означало ли это, что она в конечном итоге ускользнет от Урко? Но, увы, он погас, как гаснет горящий уголь, брошенный в воду.
— Ну, ну! — сказал старый идиот. — Уж больно ты горяч, друг Хуарача. Знай, что я никогда не хочу есть, кроме как поздно вечером; и что прохладный воздух после того, как уходит мой отец — Солнце, причиняет боль моим старым костям; а что до титула, то бери любой, за исключением одного — титула Инка.
— Может статься, что именно его я и приму в конце концов, — прервал его разъяренный Хуарача, которого не могли утихомирить его советники, шептавшие ему что-то в оба уха.
Именно в этот момент министр и верховный жрец Ларико, который следил за всем происходящим с бесстрастным лицом, холодно сказал:
— Не гневайся, о царь Хуарача, и не придавай столько значения случайным словам славного Инка, ибо временами даже боги дремлют под бременем лет и забот Империи. Никто не хотел тебя обидеть, а меньше всего Инка и любой из нас воображает, что ты запятнал бы свою честь, учинив насилие над своими гостями днем или ночью. Однако знай, что если после всех клятв и обещаний ты не отпустишь свою дочь, леди Куиллу, в дом Урко, который должен стать ей господином, это немедленно вызовет войну, поскольку, едва эта весть дойдет до Куско (а это будет не дольше, чем через двадцать часов, так как по всему пути расставлены вестники), великие армии Инка, стянутые туда, выступят в поход. Суди же сам, имеешь ли ты силы противостоять им, и выбирай, что лучше — жить в славе и почете или погибнуть самому и ввергнуть народ свой в рабство. Так вот, царь Хуарача, говоря от имени Урко, который через несколько полнолуний станет Инка, я спрашиваю тебя: отпустишь ли ты леди Куиллу с нами в Куско и тем провозгласишь мир между нашими народами или оставишь ее здесь, вопреки своим и ее клятвам, и тем самым объявишь войну?
Хуарача сидел молча, погруженный в мысли, и старый Инка Упанки снова залепетал:
— Очень хорошо сказано, я и сам бы не мог лучше; впрочем, именно я и сказал это, потому что этот самодовольный Ларико, который воображает себя таким умным только потому, что я сделал его верховным жрецом Солнца под моей властью, и что он — из моего рода, а на самом деле только язык у меня во рту. Ты ведь все-таки не хочешь умереть, Хуарача, не так ли, после того как увидишь гибель твоих людей и разорение твоей страны? Ты ведь знаешь, что именно так и будет. Если ты не пошлешь к нам свою дочь, как ты обещал, то через несколько часов сто тысяч людей двинутся на тебя, а за ними будут готовиться в поход еще сто тысяч. Во всяком случае, решай, пожалуйста, в ту или другую сторону, ибо я желаю покинуть это место.
Хуарача подумал еще немного. Потом он сошел с трона и поманил к себе Куиллу. Она подошла к нему, и он отвел ее в глубину палатки, позади и немного левее места, где я сидел, где никто не мог их услышать, кроме меня; но он не обращал на меня никакого внимания, либо вовсе забыл обо мне, либо желая, чтобы я знал все.
— Дочь, — сказал он, понизив голос, — что скажешь? Но прежде подумай о том, что если я откажусь послать тебя, я первый раз в жизни нарушу свою клятву.
— Таким клятвам я придаю мало значения, — ответила Куилла. — Но я придаю очень большое значение другому. Скажи, отец, если Инка объявит войну нам и нападет на нас, сможем ли мы противостоять его армиям?
— Нет, дочь, едва ли, пока к нам не присоединятся юнка. У нас ведь недостаточно людей. Более того, мы не готовы и не будем готовы еще два или три полнолуния.
— Тогда так, отец: если я не еду, начнется война, а если я поеду, то, видимо, она оттянется до тех пор, пока ты не будешь готов к отпору или, может быть, навсегда, потому что я буду залогом мира. И будет считаться, что я, твоя наследница, получу твое царство как свою долю в замужестве, и его присоединят к империи Инка после твоей смерти. Ведь так?
— Так, Куилла. Только тогда ты будешь действовать так, чтобы земля инка присоединилась к земле чанка, а не наоборот, так что настанет день, когда, став царицей чанка, ты будешь править обоими народами, а после тебя — твои дети.
Тут я, Хьюберт, следивший за Куиллой уголком глаза, увидел, что она побледнела и задрожала.
— Не говори мне о детях, — сказала она, — ибо я думаю, что никаких детей не будет; не говори о славе и богатстве, ибо мне до них нет дела. Я забочусь только о нашем народе. Ты можешь поклясться мне, что если я не поеду, твои армии будут разбиты, а те, кто спасется от копья, попадут в рабство?
— Клянусь твоей матерью Луной, а также в том, что я умру вместе с моими воинами.
— Однако если я еду, я покидаю здесь то, что люблю, — при этом она взглянула в мою сторону, — и предаю себя позору, что еще хуже смерти. Ты этого ли желаешь, отец?
— Я этого желаю. Вспомни, дочь, ты ведь тоже участвовала в этом плане, больше того — он возник именно в твоем далеко видящем уме. Все же теперь, когда твое сердце говорит тебе другое, я бы не хотел связывать тебя твоим обещанием — ведь больше всего на свете я желаю видеть тебя счастливой и рядом со мной. Поэтому выбирай — и я повинуюсь. На твою ответственность.
— Что я скажу, о Повелитель, спасенный мной из моря? — спросила Куилла пронзительным шепотом, но не поворачивая ко мне головы.
Страшная мука овладела мной, ибо я знал, что она сделает так, как я скажу, и что от моего ответа, быть может, зависит судьба всего этого большого народа чанка. Если она уедет, они будут спасены, если останется — она, возможно, станет моей женой, хотя бы ненадолго. Мне не было дела ни до чанка, ни до -куичуа, но Куилла была всем, что мне осталось в жизни, и если, бы она уехала, то к другому. Я хотел сказать ей, чтобы она осталась. И все же… все же… Если бы я был на ее месте и от моего слова зависела бы судьба Англии, что тогда?
— Скорее! — прошептала она снова.
Тогда я заговорил — или что-то заговорило через меня, и я сказал:
— Поступи так, как велит тебе честь, о дочь Луны, ибо что такое любовь без чести? Может быть, обе останутся с тобой в конце концов.
— Благодарю тебя, Повелитель, твое сердце говорит то же, что мое сердце, — прошептала она в третий раз; потом, подняв голову и глядя Хуарача в глаза, сказала:
— Отец, я еду, но выйду ли я за этого Урко, — не обещаю.
— Итак, ты — леди Куилла. Красивая женщина, очень красивая; такая, какая способна вести Урко по верной дороге — если кто-нибудь может. И имя хорошее — в честь луны, ибо в твоих глазах как будто сияет лунный свет, леди Куилла. Право же, право же, будь я лет на двадцать моложе, я бы велел Урко искать другую царицу, а тебя оставил бы себе.
Тут Куилла сказала, первый раз за все это время:
— Да будет твоя воля, о Инка. Я обещана в жены Сыну Солнца, а которому сыну — мне все равно.
— Хорошо сказано, леди Куилла, да и чему тут удивляться? Хотя я и старею, говорят, что я все еще красив, гораздо красивее Урко, если сказать правду, ибо он — человек грубый и более сурового типа. Спроси у моих жен, когда приедешь в Куско; на днях одна из них сказала, что во всем городе нет никого красивее, и заслужила прекрасный подарок за свою приятную речь. Что это ты сказал, Ларико? Почему ты вечно вмешиваешься в мои дела? Ну, впрочем, может быть, ты и прав. И, леди Куилла, если ты готова, пора и в путь. Нет, нет, спасибо, Курака, но я не останусь ни на какое пиршество. Я хочу добраться до своего лагеря еще засветло, ибо кто знает, что может случиться с человеком в темноте в чужой стране?
И тут наконец Хуарача не сдержал гнева.
— Будь по-твоему, о Инка, — сказал он, — но знай, что ты наносишь мне тройное оскорбление. Во-первых, ты отказываешься от пиршества, которое приготовлено было специально для тебя и на котором ты должен был встретиться со всеми знатными людьми моего царства. Во-вторых, ты именуешь меня, царя, титулом мелкого вождя, который признает над собой твою власть. В-третьих, ты ставишь под сомнение мою честь, намекая на то, что я замышляю убить тебя в темноте. У меня сильное желание сказать тебе: «Уходи из моей бедной страны, о Инка, цел и невредим, но оставь здесь мою дочь».
В этот миг я, Хьюберт, заметил, что при этих словах в больших глазах Куиллы вспыхнул огонь надежды, так же как и в моем сердце, ибо не означало ли это, что она в конечном итоге ускользнет от Урко? Но, увы, он погас, как гаснет горящий уголь, брошенный в воду.
— Ну, ну! — сказал старый идиот. — Уж больно ты горяч, друг Хуарача. Знай, что я никогда не хочу есть, кроме как поздно вечером; и что прохладный воздух после того, как уходит мой отец — Солнце, причиняет боль моим старым костям; а что до титула, то бери любой, за исключением одного — титула Инка.
— Может статься, что именно его я и приму в конце концов, — прервал его разъяренный Хуарача, которого не могли утихомирить его советники, шептавшие ему что-то в оба уха.
Именно в этот момент министр и верховный жрец Ларико, который следил за всем происходящим с бесстрастным лицом, холодно сказал:
— Не гневайся, о царь Хуарача, и не придавай столько значения случайным словам славного Инка, ибо временами даже боги дремлют под бременем лет и забот Империи. Никто не хотел тебя обидеть, а меньше всего Инка и любой из нас воображает, что ты запятнал бы свою честь, учинив насилие над своими гостями днем или ночью. Однако знай, что если после всех клятв и обещаний ты не отпустишь свою дочь, леди Куиллу, в дом Урко, который должен стать ей господином, это немедленно вызовет войну, поскольку, едва эта весть дойдет до Куско (а это будет не дольше, чем через двадцать часов, так как по всему пути расставлены вестники), великие армии Инка, стянутые туда, выступят в поход. Суди же сам, имеешь ли ты силы противостоять им, и выбирай, что лучше — жить в славе и почете или погибнуть самому и ввергнуть народ свой в рабство. Так вот, царь Хуарача, говоря от имени Урко, который через несколько полнолуний станет Инка, я спрашиваю тебя: отпустишь ли ты леди Куиллу с нами в Куско и тем провозгласишь мир между нашими народами или оставишь ее здесь, вопреки своим и ее клятвам, и тем самым объявишь войну?
Хуарача сидел молча, погруженный в мысли, и старый Инка Упанки снова залепетал:
— Очень хорошо сказано, я и сам бы не мог лучше; впрочем, именно я и сказал это, потому что этот самодовольный Ларико, который воображает себя таким умным только потому, что я сделал его верховным жрецом Солнца под моей властью, и что он — из моего рода, а на самом деле только язык у меня во рту. Ты ведь все-таки не хочешь умереть, Хуарача, не так ли, после того как увидишь гибель твоих людей и разорение твоей страны? Ты ведь знаешь, что именно так и будет. Если ты не пошлешь к нам свою дочь, как ты обещал, то через несколько часов сто тысяч людей двинутся на тебя, а за ними будут готовиться в поход еще сто тысяч. Во всяком случае, решай, пожалуйста, в ту или другую сторону, ибо я желаю покинуть это место.
Хуарача подумал еще немного. Потом он сошел с трона и поманил к себе Куиллу. Она подошла к нему, и он отвел ее в глубину палатки, позади и немного левее места, где я сидел, где никто не мог их услышать, кроме меня; но он не обращал на меня никакого внимания, либо вовсе забыл обо мне, либо желая, чтобы я знал все.
— Дочь, — сказал он, понизив голос, — что скажешь? Но прежде подумай о том, что если я откажусь послать тебя, я первый раз в жизни нарушу свою клятву.
— Таким клятвам я придаю мало значения, — ответила Куилла. — Но я придаю очень большое значение другому. Скажи, отец, если Инка объявит войну нам и нападет на нас, сможем ли мы противостоять его армиям?
— Нет, дочь, едва ли, пока к нам не присоединятся юнка. У нас ведь недостаточно людей. Более того, мы не готовы и не будем готовы еще два или три полнолуния.
— Тогда так, отец: если я не еду, начнется война, а если я поеду, то, видимо, она оттянется до тех пор, пока ты не будешь готов к отпору или, может быть, навсегда, потому что я буду залогом мира. И будет считаться, что я, твоя наследница, получу твое царство как свою долю в замужестве, и его присоединят к империи Инка после твоей смерти. Ведь так?
— Так, Куилла. Только тогда ты будешь действовать так, чтобы земля инка присоединилась к земле чанка, а не наоборот, так что настанет день, когда, став царицей чанка, ты будешь править обоими народами, а после тебя — твои дети.
Тут я, Хьюберт, следивший за Куиллой уголком глаза, увидел, что она побледнела и задрожала.
— Не говори мне о детях, — сказала она, — ибо я думаю, что никаких детей не будет; не говори о славе и богатстве, ибо мне до них нет дела. Я забочусь только о нашем народе. Ты можешь поклясться мне, что если я не поеду, твои армии будут разбиты, а те, кто спасется от копья, попадут в рабство?
— Клянусь твоей матерью Луной, а также в том, что я умру вместе с моими воинами.
— Однако если я еду, я покидаю здесь то, что люблю, — при этом она взглянула в мою сторону, — и предаю себя позору, что еще хуже смерти. Ты этого ли желаешь, отец?
— Я этого желаю. Вспомни, дочь, ты ведь тоже участвовала в этом плане, больше того — он возник именно в твоем далеко видящем уме. Все же теперь, когда твое сердце говорит тебе другое, я бы не хотел связывать тебя твоим обещанием — ведь больше всего на свете я желаю видеть тебя счастливой и рядом со мной. Поэтому выбирай — и я повинуюсь. На твою ответственность.
— Что я скажу, о Повелитель, спасенный мной из моря? — спросила Куилла пронзительным шепотом, но не поворачивая ко мне головы.
Страшная мука овладела мной, ибо я знал, что она сделает так, как я скажу, и что от моего ответа, быть может, зависит судьба всего этого большого народа чанка. Если она уедет, они будут спасены, если останется — она, возможно, станет моей женой, хотя бы ненадолго. Мне не было дела ни до чанка, ни до -куичуа, но Куилла была всем, что мне осталось в жизни, и если, бы она уехала, то к другому. Я хотел сказать ей, чтобы она осталась. И все же… все же… Если бы я был на ее месте и от моего слова зависела бы судьба Англии, что тогда?
— Скорее! — прошептала она снова.
Тогда я заговорил — или что-то заговорило через меня, и я сказал:
— Поступи так, как велит тебе честь, о дочь Луны, ибо что такое любовь без чести? Может быть, обе останутся с тобой в конце концов.
— Благодарю тебя, Повелитель, твое сердце говорит то же, что мое сердце, — прошептала она в третий раз; потом, подняв голову и глядя Хуарача в глаза, сказала:
— Отец, я еду, но выйду ли я за этого Урко, — не обещаю.
 После этого они оба удалились, сопровождаемые только Ларико и двумя-тремя советниками из рода Инка. Позже я узнал, что они рассказывали друг другу о том, что с ними было, и строили планы, как бы обойти, а в случае необходимости — уничтожить Урко и его фракцию.
На следующий день Кари водворился в дом, который отныне стал его резиденцией. Этот дом был похож скорее на крепость, чем на дворец, — построенный из крупного камня, с узкими воротами, он стоял на открытом месте, где расположилась лагерем стража. Состояла она из всех, кто дезертировал на сторону Кари в битве на Кровавом поле и вернулся в Куско, когда Кари был признан наследником Инка. Поблизости были расквартированы также другие войска, которые сохраняли верность Инка, тогда как приверженцы Урко тайно отбыли в тот город, где он лежал больной. Кроме того, было официально объявлено, что в день, когда народится новая луна — этот день маги считали особенно благоприятным, — Кари будет публично представлен народу в Храме Солнца как законный наследник престола вместо Урко, лишенного наследства из-за преступлений, которые он совершил против Солнца, Империи и своего отца Инка.
— Брат, — сказал мне Кари, когда я пришел поздравить его с высоким положением, ибо так он теперь называл меня, став законным принцем, — брат, не говорил ли я тебе, что мы должны верить своим богам? Как видишь, я верил не напрасно, хотя, правда, впереди еще много опасностей, и, возможно, гражданская война.
— Да, — ответил я, — твои боги явно собираются дать тебе все, что ты хочешь, но со мной и с моими богами дело обстоит не так.
— Чего же ты желаешь, брат, если ты можешь владеть даже половиной царства?
— Кари, — сказал, — мне нужна не Земля, а Луна. Он понял, и лицо его посуровело.
— Брат, Луна — единственное исключение, ибо она живет на небе, тогда как ты пока еще на земле, — ответил он, нахмурившись и переводя разговор на заключение мира с Хуарача.
После этого они оба удалились, сопровождаемые только Ларико и двумя-тремя советниками из рода Инка. Позже я узнал, что они рассказывали друг другу о том, что с ними было, и строили планы, как бы обойти, а в случае необходимости — уничтожить Урко и его фракцию.
На следующий день Кари водворился в дом, который отныне стал его резиденцией. Этот дом был похож скорее на крепость, чем на дворец, — построенный из крупного камня, с узкими воротами, он стоял на открытом месте, где расположилась лагерем стража. Состояла она из всех, кто дезертировал на сторону Кари в битве на Кровавом поле и вернулся в Куско, когда Кари был признан наследником Инка. Поблизости были расквартированы также другие войска, которые сохраняли верность Инка, тогда как приверженцы Урко тайно отбыли в тот город, где он лежал больной. Кроме того, было официально объявлено, что в день, когда народится новая луна — этот день маги считали особенно благоприятным, — Кари будет публично представлен народу в Храме Солнца как законный наследник престола вместо Урко, лишенного наследства из-за преступлений, которые он совершил против Солнца, Империи и своего отца Инка.
— Брат, — сказал мне Кари, когда я пришел поздравить его с высоким положением, ибо так он теперь называл меня, став законным принцем, — брат, не говорил ли я тебе, что мы должны верить своим богам? Как видишь, я верил не напрасно, хотя, правда, впереди еще много опасностей, и, возможно, гражданская война.
— Да, — ответил я, — твои боги явно собираются дать тебе все, что ты хочешь, но со мной и с моими богами дело обстоит не так.
— Чего же ты желаешь, брат, если ты можешь владеть даже половиной царства?
— Кари, — сказал, — мне нужна не Земля, а Луна. Он понял, и лицо его посуровело.
— Брат, Луна — единственное исключение, ибо она живет на небе, тогда как ты пока еще на земле, — ответил он, нахмурившись и переводя разговор на заключение мира с Хуарача.