
Издательство «Прогресс» выпускает на иностранных языках книги серии «Свидетельства об СССР», которые адресованы зарубежному читателю. Авторы книг этой серии — посетившие СССР прогрессивные журналисты, писатели, общественные и политические деятели из разных стран — рассказывают, что они видели в нашей стране, о своих встречах с советскими людьми, о различных сторонах жизни общества развитого социализма.
Книги этой серии в переводе на русский язык в несколько сокращенном виде предлагаются вниманию советского читателя. Сокращения сделаны в основном за счет приводимых авторами общих сведений об СССР, фактических данных по истории, политике, экономике, культуре, которые, несомненно, интересны для зарубежного читателя, но хорошо известны каждому советскому человеку. Хотя в этих книгах, возможно, много общеизвестного, тем не менее наш читатель с интересом прочтет о личных, непосредственных впечатлениях иностранных авторов о Советском Союзе, о том, какой они видят и как воспринимают советскую действительность.
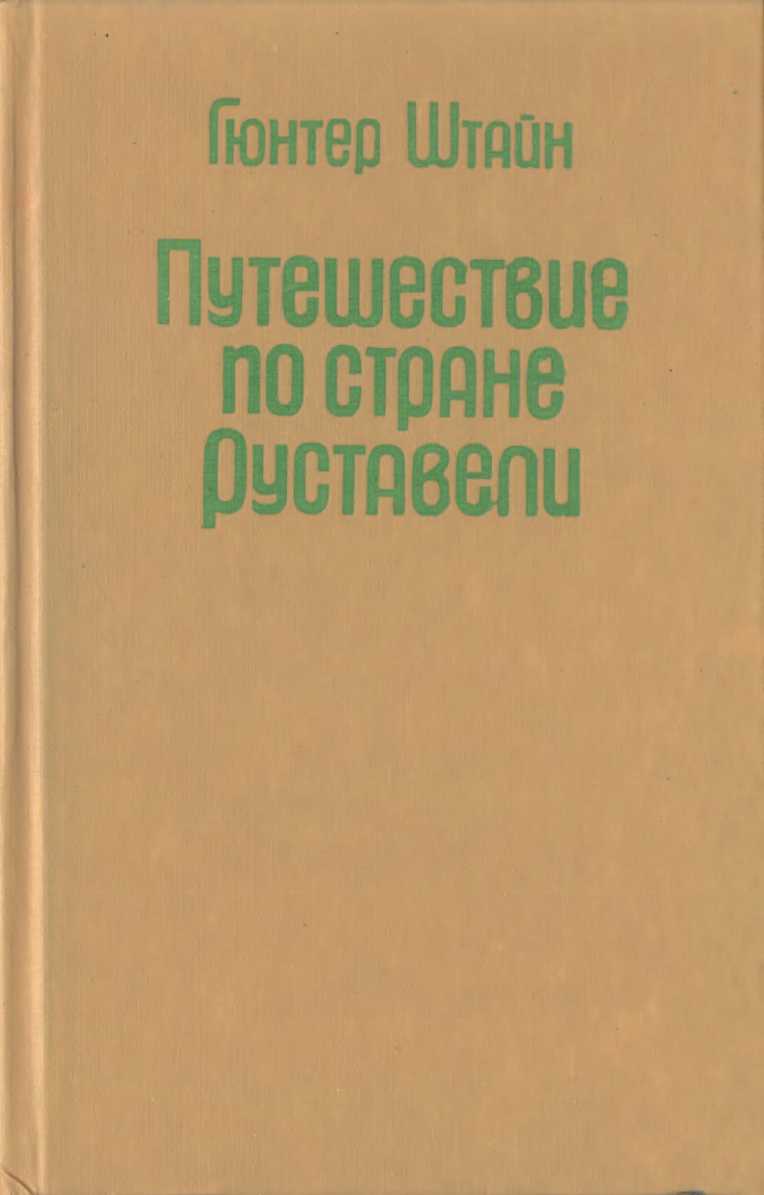
G. Stein
ICH WEIS EIN GEORGIEN
Berlin, Verlag der Nation, 1981
Зарубежные авторы о Советском Союзе
Гюнтер, Штайн
Я ЗНАЮ ГРУЗИЮ
Издательство «Ферлаг дер Нацьон», 1981
Перевод на русский язык «Прогресс», 1984
Горячий прием
Все накалено, все волнуется и шумит в этой адской котловине, гигантской эллиптической сковородке под курящимся голубой дымкой прозрачным колпаком. По зеленому, как море, полю туда-сюда носятся одетые в белоголубую форму толпы людей, сопровождаемые то как бы настороженной, выжидающей тишиной, то страстным, возбуждающим ревом. Как бы пятнами сажи покрыты отвесно поднимающиеся стены этой котловины, черные от черных костюмов, черных волос и черных глаз шестидесяти тысяч курящих грузин, среди рук и ног которых от моих костей, кажется, ничего не останется. Все плавится под палящим зноем: персикового цвета мороженое в моей правой руке, фотоаппарат — в левой, черная рубашка Нодара, сидящего рядом со мной, бетонные дорожки, воздух. На раскаленные скамейки садятся лишь тогда, когда нападающие тбилисцев быстро возвращаются от ворот москвичей на свою половину поля. Но вот уже все вскакивают опять.
«Ва-аша-а!.. Ва-аша-а!» — грузинское «ура» — проносится над стадионом.
Снова атакуют тбилисцы.
Громко выражают неудовольствие при неудачах, громко смеются, когда удается перехитрить противника. В ушах постоянный шум. Нодар смотрит на меня почти осуждающе, потому что я лижу свое мороженое, внешне не реагируя на внезапно наступающую тишину, сквозь которую лишь иногда раздаются подстегивающие, пронзительные крики.
Вдруг снова раздается оглушающий грохот, громоподобные крики: «Ва-аша-а!.. Ва-аша-а!» Будто подброшенные какой-то гигантской пружиной, нет, подхваченные невиданной реактивной силой межпланетного корабля, все вскакивают с мест.
«Г-о-о-о-л!.. Г-о-о-о-л!.. Г-о-о-о-л!» — кричат они, жестикулируя. — Ва-аша-а!"
Мужчины бросаются друг другу в объятия, вафля от моего мороженого "приземляется" на чьей-то черной рубашке. Высоко в воздух взлетают кепи и фетровые шляпы, даже пиджаки и сумки, а затем — когда я хочу сфотографировать это столпотворение — и мой фотоаппарат.
"Ва-аша-а!"
Черт побери! Ну и прекрасный прием готовит мне Тбилиси! А еще и трех часов не прошло, как я нахожусь здесь, в Грузии, в этой стране, которую весь мир прославляет за ее гостеприимство и в которую я с таким воодушевлением решил отправиться путешествовать, после того как перевел книгу "Я вижу солнце"…
Нодар Думбадзе, автор этой книги, встретил меня самым радушным образом, сразу же накормил и повез на матч, билеты на который приготовил заранее. Но теперь он обо мне не заботится, суетится, как и все в этой сутолоке, и, совсем не замечает, как из этого лабиринта коленок и сумок я судорожно вылавливаю свой фотоаппарат.
Никто, кажется, за мной не наблюдает. Но как только грохот прекращается и я с помощью неуклюжих движений снова поднимаюсь на ноги, то в некотором отдалении от меня слышится сдержанный смех. Немного смущенный, немного рассерженный, я оборачиваюсь назад и встречаю явно смеющийся взгляд больших черных глаз. Справа, тремя-четырьмя рядами выше, сидит, словно пламя на сплошном черном фоне, молодая женщина в огненно-красной одежде и смотрит на меня сверху вниз. С едва заметной улыбкой на привлекательном смуглом лице, обрамленном черными как смоль волосами, она наблюдает за мной.
— Господи, на что похожа ваша камера?! — кричит в этот момент Нодар.
Волны восторга снова прибили его ко мне. Он берет из моих рук фотоаппарат, смущенно осматривает его со всех сторон, рукавом рубашки вытирает с него пыль.
— Его выбили у вас из рук случайно, не преднамеренно, — говорит он подавленно, неодобрительно качая головой. — Я думаю, что мне надо извиниться перед вами за моих земляков. Мы, грузины, ужасные люди, ужасные! Мы не произносим ни одного слова, не жестикулируя руками. Да что там руками! Мы размахиваем руками и ногами, дергаемся всем телом, когда разговариваем. Тем более если какой-нибудь праздник. Крестины или свадьба… А на футболе — тут уж ничто не удержит! Но чтобы преднамеренно — нет!
Нодар выглядит трогательно в своем стремлении утешить меня. Но, взглянув на мое лицо, он приходит в изумление.
— Вы сияете так, словно вам кто-то преподнес подарок!
— Может быть… Почему нет? — отвечаю я неопределенно, когда мы садимся.
— Знаете, что говорит наша народная мудрость? Послушайте: "Когда смеется один — он смеется над самим собой, когда смеются двое — они смеются друг над другом, а когда смеются трое — значит действительно есть над чем посмеяться!" Видите, — прыская от смеха, он стучит себя по ляжке, — здесь смеются двое!
Это рассеивает остаток моего раздражения: Нодар не замечает, что смеются трое. Или все-таки?.. От внимания такого писателя, как он, подобного рода вещи едва ли могут ускользнуть…
Нодар Думбадзе, представитель среднего поколения писателей Грузии, относится к числу популярнейших из них. Своими романами и пьесами он завоевал признание авторитетной публики и по ту сторону Кавказских гор. И не так, как некоторые эквилибристы от литературы, которые, стремясь поразить своих читателей захватывающими дух произведениями, возносятся на головокружительную высоту, откуда сами они людей на земле видят или расплывчато, причудливо искаженно, или совсем их не видят. Думбадзе из другого теста — это писатель с большим, теплым сердцем, которое понимает радость и страдание других. Я ощутил это во время перевода его книги, этой тонко пересказанной истории о достойной любви, о смелой девушке Хатие, которая ничего не различает в мире, кроме солнца, и ее друге Сосо, который надежно поддерживает и усиливает ее веру в возвращение зрения. Так поэтично и при этом не сентиментально, иногда даже с освежающим зарядом юмора, может писать лишь тот, кто живет с людьми, кто им близок, кто тесно связан с лучшими представителями народа.
Все это снова вспоминается мне тогда, когда после незабываемого футбольного матча, который закончился победой "Динамо" (Тбилиси), мы с Думбадзе выбираемся со стадиона. Крепкого телосложения, он идет впереди меня. Его, как и меня, со всех сторон толкают и подталкивают, однако его это ничуть не нервирует. Наоборот, лишь в центре этой человеческой массы он, кажется, по-настоящему хорошо себя и чувствует, приветствуя повсюду друзей и знакомых, иногда громким возгласом через головы людей, иногда рукопожатием, а иногда объятиями и поцелуем. Представлял ли я его себе таким дома, сидя за письменным столом? Трудно сказать.
Не зная его книги о юноше Сосо и слепой Хатие, я бы искал в произведениях этого жизнерадостного мужчины любые, какие угодно достоинства, но уж наверное не нежную поэзию; в лучшем случае я искал бы то чувство бесстрашия, с каким его литературные герои идут навстречу жестоким ударам судьбы, искал бы ту самоотверженную смелость, которую я не могу назвать иначе как рыцарской.
Но, как говорится, внешность обманчива часто даже у соотечественников. И как литературный переводчик я знаю: хочешь составить себе мнение об иностранце — остерегайся вдвойне поспешного суждения. Если какой-то человек вырос под другим небом и воспитывался на других традициях, если он живет и работает в других исторических и общественных условиях, то как мне о нем судить или даже его понять, не зная вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня его народа? Почти тридцать лет перевожу я древнюю и современную украинскую и русскую прозу и всегда снова и снова ищу непосредственных контактов с теми народами, которые создали эту литературу, с людьми, чьи мысли, чувства и стремления отображаются в ней. И разве не это любопытство увлекает меня так часто ездить по Советской стране — в Ленинград на Неве, в огромный морской порт Одессу, в Казань на Волге, в Киев на Днепре, в Харьков и Полтаву, в село Кандыбино и бесчисленное множество других деревень, в Новосибирск, Ульяновск, Луцк и все снова и снова в Москву? Конечно же, любопытство к людям, другим традициям, обычаям и привычкам, к жизни русских, украинцев и татар…
А теперь меня интересует Грузия, и виноват в этом прежде всего Нодар Думбадзе, так как прежде, чем начать переводить его книгу, я читал различную литературу по грузинской истории и культуре. То, что я открыл для себя в процессе ознакомительного чтения, увлекло меня настолько, что я стал читать все больше и больше книг о Грузии. Очарованный этим чтением, я решил обязательно хоть раз съездить туда, чтобы спокойно посмотреть все самому. Спокойно…
Однако Грузия и спокойствие, как я быстро замечаю, — это все равно что огонь и вода. Я не могу прийти в себя. Едва мы покинули стадион, как Нодар жестом и возгласом: "Хе, Амиго Николо" подзывает такси, и вот мы уже мчимся по улицам Тбилиси. По дороге Нодар обращает мое внимание то на одно, то на другое. Он хочет показать и разъяснить мне абсолютно все.
— Видите горную цепь вокруг? Тбилиси расположен в огромной котловине. Поэтому здесь редко бывает холодно и почти не выпадает снега зимой. "Тбили" означает "теплый". Наша столица получила свое название от теплых серных источников… Видите на горе руины? Это древняя крепость Нарикала. Вы, разумеется, знаете, сколько лет Тбилиси?
— Полторы тысячи, — отвечаю я сразу же. — Я недавно прочитал об этом.
— Да, в V в. город был основан царем Вахтангом и за это время сорок раз разрушался и, — он многозначительно поднимает брови, — сорок раз возрождался! Какая жизнеутверждающая сила, не правда ли?! От Трои, Вавилона, Милета и Карфагена остались всего лишь развалины!
Мы едем по берегу Куры, которую грузины называют Мтквари, и Нодар обращает мое внимание на старую церковь, которая возвышается на отвесной скале на другом берегу реки. Это храм Метехи. Позади него некогда находился дворец царицы Тамары, при которой страна пережила свой расцвет, а грузинский национальный поэт Шота Руставели создал дошедшую до наших дней эпическую поэму "Витязь в тигровой шкуре".
Вдруг Нодар прерывает свой рассказ.
— Ах, я еще не представил вам нашего водителя, он является тоже своего рода достопримечательностью Тбилиси. Николай Георгадзе.
Водитель поворачивает голову назад. Простое, загорелое лицо с густыми белыми бровями и белыми усами.
— Меня называют Амиго Николо, — говорит он усмехаясь и смотрит на меня молодыми сияющими глазами.
— Откуда у вас итальянское имя?
— О, да это долгая история, — отвечает он скромно и умолкает.
Я узнаю эту историю от Нодара: во время войны Георгадзе тяжело раненным попал в плен, оказался в одном из лагерей в Германии, после выздоровления бежал, попал в Италию и в предместьях Турина присоединился к итальянскому партизанскому отряду. Там во время одного дерзкого налета он взял в плен немецкого генерала вместе с его элегантным итальянским автомобилем "Лансиа". В этом автомобиле он возил затем своего командира, будущего сенатора Джовани Бурландо, отступал с боями вместе с отрядом за Альпы, к французским маки, а после… А после всего этого снова сел за руль и на такси возит пассажиров по двум тысячам — длиной более восьмисот километров — улиц Тбилиси, по сохраненным на территории столицы рощам с пятьюдесятью двумя тысячами деревьев, хотя здесь и было уложено свыше полумиллиарда квадратных метров асфальтового покрытия. Таков Амиго Николо, один из тысяч водителей такси Грузии, которые ежегодно накатывают почти полмиллиарда километров, советский гражданин Николай Георгадзе, которому Луиджи Лонго после войны прикрепил на грудь памятную медаль города Турина и Звезду Гарибальди.
Когда мы, проехав огромный район новостроек, расположенный у подножия горы, немного в стороне от оживленных улиц, выходим из машины, я крепко жму этому внушающему уважение мужчине большую добрую руку, хочу ему что-нибудь сказать и ищу подходящие слова, которые не были бы ни затасканными, ни высокопарными. Он замечает это, тактично не подает виду и желает мне счастливых дней в Грузии. "Прежде всего друзей, много новых и по крайней мере одного хорошего друга! Зачем так прощаться? Люди всегда встречаются снова! Нах-вамдис — до свидания!"
Прежде чем я пришел в себя, Нодар представляет мне нескольких вежливых мужчин, которые явно уже нас ожидали, и, оставив меня стоять с незнакомыми, уносится с Амиго Николо в такси.
— Нахвамдис!
Вежливые мужчины, как я узнаю, являются сотрудниками одного из литературных журналов. Мне бросается в глаза один мужчина, лет сорока пяти, стоящий в середине. С первого же взгляда меня привлекает его ясное, вызывающее доверие лицо, энергичные черты которого позволяют предположить, что он занимает какой-то руководящий пост. Во время знакомства он представляется: Зураб Ахвледиани. Он заботливо осведомляется, хорошо ли я доехал, получил ли приличную комнату в гостинице и ел ли я уже что-нибудь. Когда я благодарю за заботу и уверяю, что всем очень доволен и уже пообедал, он, снисходительно улыбаясь, говорит, что это был, вероятно, "обычный" обед, а сейчас, заверяет он, предстоит "настоящий", и приглашает меня на него. Но сначала…
С некоторой торжественностью Зураб Ахвледиани приглашает меня проследовать за ним через широкие и высокие ворота парка так, будто я давно уже был готов к этому моменту. Однако Нодар говорил мне перед этим о посещении музея грузинского искусства и ни слова не сказал о кладбище, ибо я вижу, что это — своего рода пантеон, мемориальное кладбище города. Над стройными кипарисами возвышается белая многоугольная башня с высокими узкими окнами, которая венчает красивое круглое строение — церковь Давида.
Я готов к тому, что меня подведут к одной или нескольким мемориальным могилам, где захоронены знаменитые грузины, и мне становится неловко оттого, что я пришел сюда с пустыми руками, без цветов. Притом будучи немцем, участником войны. Может, это такой же мемориал, как на Унтер-ден-Линден у нас в Берлине? Может, надгробный памятник неизвестному солдату, воздвигнутый в честь павших граждан Грузии, воевавших в составе армии генерала Леселидзе, которая в 1942 году изгнала фашистов с Кавказа, и тех шестисот тысяч жителей республики, которые, как и Амиго Николо, защищали Советскую страну на всех фронтах войны?
…Когда по отлогому склону горы мы поднимаемся в другой пантеон и проходим сквозь длинные ряды ухоженных могил, я мысленно учитываю, как мне кажется, любую неожиданность. И не учитываю лишь одну-единственную, о которой смутно начинаю догадываться лишь тогда, когда мы останавливаемся возле могилы, на надгробном мраморном камне которой под надписью на грузинском языке, наполовину скрытой ветками, что-то написано латинскими буквами.
— Если позволите, Гюнтер, — Зураб Ахвледиани указывает на памятный обелиск, — именно к этой могиле мы хотели вас привести. Здесь вы сами можете убедиться в том, как на грузинской земле дорожат памятью о вашем знаменитом соотечественнике, — говорит он своим глухим голосом.
Соотечественник? Кто же это? Может, Рихард Меке-лайн? Бегло вспоминаю симпатичного профессора, который после войны, будучи сам ориенталистом, на первых курсах Гумбольдтского университета в Берлине вел семинары по русскому языку; он часто рассказывал нам о Грузии. Как только речь заходила о стране его мечтаний, он тут же страстно увлекался и забывал обо всем на свете, даже если он находился на проезжей части оживленной Фридрихштрассе. Профессор Рихард Мекелайн сделал многое для развития культурных связей между Германией и Грузией. В двадцатых годах он составил грузинско-немецкий словарь и создал немецкую грамматику для грузин, основал в Берлине "Общество Руставели", издавал журнал "Восток", который бесплатно сам же и редактировал, и поддерживал творческие контакты со многими грузинскими учеными и писателями. Однако в стране Руставели ему, как мне кажется, вплоть до своей преждевременной смерти в 1948 году так и не удалось побывать. Значит, на этом месте погребен кто-то другой? Но кто?
Я подхожу к памятнику, осторожно отодвигаю в сторону ветки, наполовину закрывающие надпись, и читаю: "Здесь покоится прах Артура Лейста. Родился 8.VII. 1852 в Бреслау. Умер 22.III.1927 в Тифлисе".
Значит, Артур Лейст! Его имя, как автора многих книг о Грузии и грузинском народе, повстречалось мне совсем недавно; из-под его пера вышел и сокращенный перевод "Витязя в тигровой шкуре", изданный в 1889 году в Лейпциге. А о том, что он окончил свои дни в Тбилиси, я ничего не знал. Однако теперь, когда я нахожусь всего лишь несколько часов в этом чарующем городе, в котором есть река и горы, дворцы и простые дома, скалы и пропасти, асфальтированные аллеи и булыжные мостовые, мне кажется почти само собой разумеющимся, что Артур Лейст избрал своей второй родиной Грузию, — страну, в которую на протяжении всей жизни профессора Мекелайна влекла болезненная ностальгия… После освежающей прохлады бурной Мтквари пахнет дорожным ветром, который обдувает меня в "Волге", когда мы снова едем по улицам города. По широким тротуарам в тени огромных деревьев со смехом и шутками, оживленно разговаривая, — может быть, все еще о футбольном матче, — прогуливаются красиво одетые юноши и девушки, молодые супружеские пары с детьми, пожилые люди, настроенные по-праздничному, как и я.
Таинственная шкатулка
— Теперь, уважаемый Гюнтер, я покажу вам "шкатулку", — поясняет Зураб Ахвледиани, после того как его коллеги распрощались с нами на одном из перекрестков.
Значит, не музей грузинского искусства, думаю я и скрываю свое разочарование за словами уверения, что мне интересно будет посмотреть на эту "шкатулочку для драгоценностей". Слово "шкатулка" ассоциируется у меня с обозначением увеселительного заведения, с одним из тех — ах, таких уютных — пивных погребков, какие бывают у нас дома, с "национальным" колоритом и "интернациональным" надувательством. Заведующие гастштет-тами на Шпрее, Плейсе и Эльбе — с целью привлечения большего числа иностранцев — назвали бы, может быть, подобного рода увеселительные заведения "тавернами" или "караван-сараями".
Зураб, кажется, чувствует мою досаду. Не показывая этого внешне, он как бы мимоходом заверяет меня, что эта "шкатулка" еще никого не разочаровывала, и просит моего разрешения попутно показать мне старый Тбилиси. Он просит меня! Усмехаясь при воспоминании о фамильярной любезности Нодара, я искренне даю согласие.
Машина сворачивает на довольно узкую улицу, покрытую булыжником, которая извивается между старыми, большей частью двухэтажными, домами, расположенными на склоне горы, верхние этажи которых часто обрамлены деревянными балконами. Перед фасадами более солидных зданий иногда стоят колонны, висят фонари из кованого железа.
Расположенные друг над другом, как бы приклеенные к горе, тянутся переулки и переулочки, выделяются балконы и маленькие дворики, в которых деревья возвышаются над домами. Бесчисленные, узкие, прямые и неровные ступеньки соединяют между собой мини-улицы, бегущие параллельно склону. Они вырублены в скале столетия тому назад, исхожены многими поколениями. Но наряду с этим в Тбилиси имеются — я сам это видел из машины — и новые, автоматические средства подъема: подвесные канатные дороги, которые доставляют тбилисцев из городских аллей и проспектов, где жизнь бьет ключом, в тихие парки в горах, из одного района города в другой.
Мы останавливаемся, выходим из машины, не спеша бродим по переулкам, с трудом поднимаемся по ступенькам вверх. По возможности незаметно я заглядываю во дворы, на балконы, в окна, в отгороженную забором жизнь…
— Здесь люди развешивают свое белье на одной общей веревке, — говорит Зураб, отвлекая меня от размышлений, — они вместе играют в нарды, шахматы и другие всевозможные игры. Они дебатируют друг с другом о боге и мире, о политике, обсуждают телевизионные программы и цены на рынке. Все прекрасно, пока жизнь протекает мирно. Но небольшое разногласие в какой-нибудь семье молниеносно становится событием всего двора и выходит далеко за его рамки. Ничто не проходит незаметным в жизни. Ничто невозможно скрыть от другого: ни свое настроение, ни то, что ты ешь на обед, не говоря уже о новом поклоннике твоей дочери.
Зураб придерживает меня за руку и обращает мое внимание на двор, расположенный под нами. Там женщины и мужчины, девушки и парни обступили солдата.
— Еще вчера, наверное, — говорил Зураб, — он мальчуганом носился по двору; не успели оглянуться, как у него появился пушок над верхней губой, и надо провожать в армию; затем он устроится на работу где-нибудь в другом месте, обзаведется там семьей. И местные девушки повыходят замуж тоже в других местах. Молодежь стремится в новые дома, да и люди постарше — тоже, хотя им подчас и тяжело на это решиться. А старые дома постепенно сносятся.
Что это? Своего рода извинение? Украдкой я рассматриваю Зураба Ахвледиани со стороны. На его лице, обычно таком ясном и энергичном, угадывается скрытая озабоченность. Да, то, что еще не все люди в его стране имеют современное жилье, угнетает его. За годы Советской власти в Грузии было построено более 50 миллионов квадратных метров жилой площади; причем жилой фонд только в Тбилиси за последние 50 лет увеличился впятеро. И все же современного жилья не хватает. Мой спутник сжимает губы и, вздыхая, покачивает головой. В первый раз я вижу в его живых сияющих глазах волнение, голубоватые искорки нетерпения.
— Темпы жилищного строительства ускоряются с каждой пятилеткой, — рассказывает он, закуривая сигарету, — но темпы прироста населения — тоже. Население нашей республики выросло с 1921 года более чем вдвое, до пяти миллионов человек! Кроме того, надо принять в расчет то, что до революции около 80 процентов населения жило на селе, сегодня же более половины проживают в городе.
Мы останавливаемся на небольшом дворе, и я прослеживаю взгляд Зураба, направленный поверх домов и балконов. На самой вершине горы на фоне голубого неба в лучах солнца возвышается серебристая фигура — гигантская монументальная статуя женщины в длинном платье; в ее приподнятой левой руке — плоская круглая чаша для вина, а в правой — меч. С добродушно-строгим материнским лицом, чуть склонив голову, покрытую спадающим на плечи платком, она смотрит на людей в долине, на нас.
— Это "Мать-Грузия", — говорит Зураб, погруженный в свои мысли. — Кто приходит к нам как друг, того мы как дорогого гостя приветствуем виноградным вином наших гор. Ну, а врага… Столетиями вынужден был грузинский крестьянин держать в одной руке рукоятку плуга, а в другой — меч, и все же он создал материальные ценности, свою культуру.
Несколько позже дорога приводит нас к украшенному колоннами фасаду высокого старого здания, в живительной прохладе которого быстро исчезает все мое первоначальное недоверие к обещанной "шкатулке": мы находимся в Музее искусства Грузинской ССР.
Вместе с Зурабом я бодро следую за встретившей нас сотрудницей музея, удивительно белокурой голубоглазой грузинкой по имени Лия. Хрупкая, но с достоинством владелицы замка, она шествует впереди нас по широкому, кажущемуся бесконечным коридору. Связкой ключей, такой же увесистой, как у какого-нибудь средневекового тюремщика, она открывает и закрывает одну дверь за другой. Шесть дверей, и за каждой тишина становится все ощутимее. Если перед первой дверью нам приходилось прокладывать дорогу сквозь толпы посетителей музея, а за второй и третьей все еще слышались их приглушенные голоса и уличные шумы, то теперь в этой таинственной тишине глухо раздаются лишь наши шаги.
Лестница приводит нас в слабо освещенный подвал, где любой шорох отдается глухим эхом, журчащим рокотом, в котором я пытаюсь разобрать слова, звучащие как призыв, совершенно отчетливо произносимые возвышенным голосом, голосом женщины: "Горе… Горе тебе!.. Ключи от шести дверей возьмешь ты здесь, но горе тебе, если ты откроешь седьмую дверь!"
Одним рывком я оказываюсь возле хрупкой грузинки. Словно сказочная фея, держит она над собой связку ключей, из которой зловеще торчит "седьмой" ключ.
Кто жаждет в эту комнату ступить, тот пред судом всевышнего колени должен преклонить! Коль праведник — взойдешь, коль грешник — наказан будешь ты сурово! — произносит белокурая фея совершенно серьезно.
Когда же я с лицом кающегося грешника действительно собираюсь преклонить перед ней колени, то она, ошарашенная, роняет ключи, суетливо тянет меня за руки вверх и извиняется, как она считает, за неподходящую шутку, которую она непростительным образом позволила себе по отношению к гостю.
Вместе с Зурабом мы успокаиваем ее, а она все еще несколько смущенно говорит:
— Видите ли, когда я привожу сюда наших туристов, всегда использую это заклинание и всегда находятся "праведники", которые помогают мне открыть дверь.
Лукаво улыбаясь, она отступает в сторону. Тут я замечаю дверь и понимаю: мы стоим перед "шкатулкой"! Вне всякого сомнения, это она: мощный железобетонный сейф — сокровищница музея! Еще более слабой, нуждающейся в защите кажется голубоглазая Лия на фоне стальной двери — этого рыцаря в стальных доспехах, несущего вахту перед входом в сокровищницу.
— Да это ведь не дверь, — говорю я, покачивая головой, — это настоящий Георгий Победоносец!
— Георгий играет значительную роль в истории нашей культуры, как вы сейчас увидите, — улыбается Лия.
В то время как Лия "седьмым" ключом (и еще двумя другими) открывает бронированную дверь, набирает цифровой код, поворачивает какую-то ручку, еще несколько раз что-то поворачивает, — во время этого скрежета, громыхания и щелкающих звуков, издаваемых сталью, она повествует о том, что у грузин, одного из древнейших народов мира, каменный век закончился уже в III тысячелетии до н. э., и к этому времени относится начало примитивной обработки мягкого металла. Вслед за этим предки грузин научились плавить металл и изготавливать из бронзы, а затем и из железа оружие и орудия труда, в результате чего очень интенсивно стало развиваться земледелие и скотоводство, ставшие важнейшими отраслями хозяйственной жизни. В изготовлении металлического оружия грузины достигли такого совершенства, что оружейники многих других народов приходили к ним на выучку.
— Ах, извините… — Лия поворачивается вдруг ко мне. — Это звучит, наверное, как самовосхваление, но это так.
Смущенно она смотрит на моего спутника.
— Я сказала что-нибудь не так?
Находясь явно под впечатлением этих страстных слов, Зураб Ахвледиани, однако, спокойно отвечает:
— Кто не знает заслуг своего народа, тот не мог бы его любить. Ну, а кто не любит свой собственный народ, тот не может уважать другие народы. — Он снова поворачивается ко мне. — Знаете, мне часто приходится быть свидетелем того, что прежде всего западные европейцы не желают правильно воспринимать достижения нашего народа. Их подчас даже шокирует, что бронзовый век в Грузии, наступивший уже во втором тысячелетии до нашей эры, ознаменовался появлением не только совершенных орудий труда и оружия, но и совершеннейших произведений искусства, и что все это происходило в то время, когда во всей Европе такой же высокой ступени развития достигли лишь минойская культура на Крите и эллинская культура в Греции…
Я не могу не подтвердить этого, и когда мы совместными усилиями открываем стальную дверь, мне снова приходит в голову мысль, которая часто занимала меня и раньше: "дети" Европы в течение столетий привыкали рассматривать свой континент как центр вселенной, привыкали думать и действовать евроцентристски, чувствовать себя "носителями культуры" и миссионерами, в действительности же, выступая как захватчики, они стали работорговцами и колонизаторами. Для моей страны — Германской Демократической Республики — все это, без сомнения, уже в прошлом. Но достаточно ли мы знаем о других, не европейских, народах, об их истории, материальной и духовной культуре, чтобы отдать им дань понимания и уважения, которых они заслуживают? О чем думаем мы, например, когда слышим слово "Грузия"? Может, о сверкающем изобилии искусно обработанного серебра и золота, об удивительно выразительных творениях живописи или о сияющих красных, голубых, сиреневых, зеленых и желтых драгоценных камнях?
"Шкатулка". Одна стеклянная витрина за другой, заполненные драгоценнейшими изделиями из металла, обработанного в холодном состоянии, главным образом методом ковки, но также и методами чеканки и гравировки. Это большая, состоящая из нескольких комнат и залов, сокровищница; в которой каждая драгоценность, каждый кусочек металла и каждый камень имеют свою историю и являются как бы живыми свидетелями жизни давно исчезнувших поколений, свидетелями их труда, их знания и умения, их устремлений, борьбы и любви.
С чего начать осмотр среди этого изобилия красоты и блеска? Может, прямо с первой витрины, с богато украшенного серебряного кувшина, или оттуда, где стоит золотой кубок, предназначенный для торжественных случаев? Или с позолоченного жертвенного сосуда?
— Позвольте вас спросить… — Лия, стоящая несколько в стороне, чтобы не прерывать моих раздумий, медленно направляется ко мне. — Вы не против, если я дам вам некоторые пояснения? Выставленные в этой витрине предметы найдены при раскопках в окрестностях города Триалети, расположенного в полутора часах езды на машине в юго-западном направлении от Тбилиси. Триалети, расположенный на берегу реки Храми, являлся важнейшим культурным центром Грузии в период бронзового века, где и были изготовлены все эти предметы.
— …Во II тысячелетии до н. э., — добавляет Зураб.
— Правильно, — продолжает Лия. — В период позднего бронзового века продолжалось дальнейшее развитие культуры наших предков, к этому времени они объединились в крупные племенные союзы, например в Колхидской низменности, которые просуществовали вплоть до VIII в. н. э.
— Колхида? — прерываю я рассказ. — Это слово напоминает мне греческую мифологию.
Лия обрадованно кивает головой.
— Легенда об аргонавтах, которые доставляли в Грецию Золотое руно, в поэтической форме отображает реальные события, в которых речь идет об искусстве обработки металла в Грузии: промывка золотого песка с помощью овечьей шерсти, которую просто-напросто укладывали в речку, богатую золотоносным песком. То, что греки называли "страной Колхидой", — это возникшее в VI в. до н. э. Колхидское царство, которое чеканило уже свои монеты и поддерживало торговые отношения с греками, основавшими там несколько колоний. Однако не все приходили в Грузию с такими же мирными целями, как греки. В I в. до н. э., например, страну опустошили римские легионы Помпея, затем иранцы с огнем и мечом прошли по Восточной, а полчища византийцев — по Западной Грузии. Затем пришли арабы, а за ними — турки-сельджуки…
Лия явно заметила, что я с возрастающим любопытством поглядываю на следующие витрины, и подошла к очень древней иконе, изготовленной из металла.
— Эта икона "Спаса Преображения" из Зарзмы, как и другие расположенные здесь экспонаты, является произведением искусства уже IX в. н. э. Они говорят о том, что в период от бронзового века до IX в. н. э. культура нашего народа достигла очень высокой ступени развития, однако многие произведения искусства промежуточного периода до нас не дошли, почти все они стали жертвами опустошавших страну варваров. Это тоже характерный момент для судьбы маленького народа.
Лия подводит меня к следующему стенду.
— Я уже говорила, что Георгий Победоносец играл большую роль в истории нашей культуры. Почитаемым в христианской религии святым он мог стать, конечно, лишь начиная с IV в., после принятия Грузией христианства, и только потом — объектом искусства. Главным же героем в нашем народе и богатой полуторатысячелетней традицией древней литературе считался и считается "Дитя Солнца", Амирани, который, как и Прометей у греков, выступил против богов, украл на небе огонь, подарил его людям и за это был прикован к одной из вершин Кавказа. Обладая такими же добродетелями, как и Амирани, который посвящает свою жизнь борьбе за счастье людей, святой Георгий становится популярной личностью в нашем народе, олицетворением идеала, ради которого стоит жить, и одновременно символом веры в то, что добро победит зло, символом веры, которая нужна была нашему народу в его многовековой кровавой борьбе за национальное самоутверждение. Поэтому этот образ окрылял творческую фантазию наших художников. Вот это — одна из древнейших в мире икон с изображением Георгия. Десятый век. А там висят более поздние иконы…
На каждом стенде среди икон, сосудов, крестов и книг висят все новые, более искусно выполненные и украшенные изображения смелого Георгия, изготовленные из тончайших листов позолоченного серебра.
…Солнце стоит уже за горами, и я попадаю в объятия какого-то нереального, изумрудно-зеленого мира, когда мы выходим из этого незабываемого подвала, этой удивительной сокровищницы прошлого в реальный мир, мир летнего вечера; мы попадаем в живой поток гудящих автомобилей и автобусов, в поток смеющихся женщин и девушек, дискутирующих мужчин и молодых ребят, попадаем в манящую, пьянящую суету уходящего воскресенья…
Доверие
Приехав в гостиницу "Иверия", некоторое время я не спеша брожу по обширному фойе среди многоязычной публики. Небольшая передышка. Зураб Ахвледиани делает несколько срочных телефонных звонков и заказывает для нас в ресторане столик.
У газетного киоска я бросаю взгляд на разложенные здесь зарубежные и местные газеты. Выбор впечатляющий. В Грузии выходят в свет более 140 газет и около 80 журналов и альманахов. С сожалением мне приходится констатировать, что большая часть местной печатной продукции выходит на грузинском языке, которым я не владею. Я покупаю брошюру о Грузии на русском языке.
Я уже собираюсь отойти от киоска, чтобы еще побродить по фойе, как вдруг меня что-то останавливает, мой взгляд задерживается на обложке какого-то журнала, по-видимому, театрального: улыбающийся взгляд больших темных глаз, смуглое привлекательное лицо, огненно-красного цвета платье — молодая женщина с зажженной сигаретой в руке… Нет сомнения, это она! Значит, она актриса? Справа на обложке написано ее имя. Грузинскими буквами, конечно. С помощью своего карманного словаря я читаю: Элисо Мгеладзе… Элисо!
— Гамарджвеба, добрый день! — приветствует меня миловидная молодая женщина из бюро обслуживания, которая быстро оформила все необходимые документы, когда я приехал в эту гостиницу. Мимоходом она интересуется, удалось ли мне уже осмотреть какие-нибудь достопримечательности города, получить интересные впечатления. Я с готовностью подтверждаю это. Глядя ей вслед, я снова вспоминаю послеобеденное время, стадион, улыбку…
"Элисо", — бормочу я про себя и осматриваю фойе. Оно сделано с размахом и оборудовано по-современному. Как, впрочем, и все здание 22-этажного отеля, который теперь, когда любители поплавать покидают расположенный на крыше бассейн, сверкает всеми своими пятью тысячами зажженных лампочек. Современные отели имеются во всем мире. И часто случается так, что как только гость попадает в один из них, то у него появляется как бы провал памяти, ибо он тут же забывает, где находится: в Хельсинки или Каире, в Лейпциге или Будапеште, потому что все, что он здесь видит, могло бы быть в любом отеле мира.
Гостя, едущего по центральному проспекту Руставели, гостиница "Иверия" приветствует уже издалека, возвышаясь словно символ Грузии, три четверти территории которой покрыты горами. Располагаясь на отвесном скалистом берегу Мтквари, "Иверия" царит над городом так же, как и 5000-метровый вулкан Казбек царит над другими горными вершинами Кавказа тоже вулканического происхождения. Местной вулканической породой — бирюзовым туфом облицована и эта гостеприимная гигантская гостиница.
Традиционно по-грузински входящего гостя встречает декоративно оформленная перегородка в фойе. Украшенная грузинской чеканкой, она тем самым придает особый колорит помещению, является как бы визитной карточкой этой своеобразной страны и ее жителей. Традиционным является не только способ обработки металла, но и прежде всего выбор мотивов, выбор изображаемых фигур и орнаментов, равно как и их стилизация. Я вижу изображения тигров, пантер, быков, павлинов, горных козлов, различные изображения солнца, охотящихся лучников, и в центре всего этого изображен на коне Георгий Победоносец, поражающий дракона, — современная интерпретация. По сравнению с древними изображениями это кажется несколько поверхностным, более символическим…
Вдруг ко мне подбегает молодая женщина из бюро обслуживания и обрушивает на меня нескончаемый поток слов. Я не чувствую за собой никакой вины и понимаю сначала лишь то, что ее гнев каким-то образом связан с моей национальностью. С каких это пор на территории Советского Союза вменяется в вину принадлежность к той или иной национальности?
— Вы — немец. Я вас очень прошу! — восклицает она по-русски и указывает на стеклянную дверь, отделяющую бюро обслуживания от фойе.
Ничего не понимая, я бросаю взгляд на дверь. На пороге появляется очень серьезный господин с багровым от гнева лицом. Молодая женщина подталкивает меня к нему, представляет меня по-английски как его земляка и с обиженным видом исчезает в своем бюро.
— Вы — немец? Слава богу! — Облегченно вздыхая, мужчина проводит рукой по своим седым волосам. — Может, вы сможете мне помочь, это было бы очень любезно с вашей стороны… Позвольте представиться: Дюринг… Из Ганновера.
Он подает мне руку, удовлетворяется тем, что я — берлинец, и взволнованно описывает мне, как он заказал авиабилет на Баку и оплатил его, а эта молодая женщина отказывается выдать ему квитанцию.
— Понимаете, квитанцию, кусочек бумажки, которая подтверждает, что я оплатил билет! — Он снова говорит с жаром, и его обычно, вероятно, добродушные глаза угрожающе поблескивают. — Это ведь мое право потребовать квитанцию или..? А эта молодая штучка, извините, эта дама говорит "нет!" Она отказывает мне в том, что мне полагается! Как вы находите все это?
— Другие страны — другие нравы, — отвечаю я неопределенно.
— Со мной еще нигде не случалось ничего подобного.
— Вы, вероятно, впервые в Советском Союзе? — спрашиваю я.
— Да. — Господин Дюринг вздыхает. — Я плачу, в конце концов, хорошие деньги, я могу требовать, чтобы со мной обращались прилично. А эта женщина…
Я предлагаю обсудить происшедшее спокойно, и мы садимся за один из столиков.
— Знаете, господин Дюринг, я, как и вы, считаю выдачу квитанций само собой разумеющимся делом, мы оба привыкли к этому. Как и мы с вами, все люди с детства накапливают определенный опыт в окружающей среде… Извините, пожалуйста, что я говорю так пространно, но ведь вы сами спросили мое мнение…
— Продолжайте! — подбадривает меня господин Дюринг, который, сидя в мягком кресле, явно начинает успокаиваться.
— Я хочу сказать, что, в конце концов, каждый считает само собой разумеющимся то, что принято в окружающей его среде. Я прав?
— Это мне понятно, — кивает господин Дюринг.
— На этом же самом основании эта женщина, очевидно, считает, что выдача квитанций не является само собой разумеющимся делом.
— Но тогда она просто-напросто не деловая женщина! Местным людишкам нужно бы поучится совершенству обслуживания в западных странах!
— Этих "людишек" насчитывается более четверти миллиарда человек, и я завидую, что достичь совершенства своего хозяйства, науки и техники им удалось без вырубки деревьев в лесу человеческих отношений. Без "совершенствования" человеческого индивидуализма. Взаимное доверие является для этих людей само собой разумеющимся. Поэтому ваше настойчивое требование выдать квитанцию эта женщина и восприняла как недоверие по отношению к ней. Понимаете?
— Откровенно говоря, не совсем. — С гримасой на лице господин Дюринг рассматривает свои загорелые руки. — Когда я собрался совершить поездку в Грузию, — продолжал он, — друзья предостерегали меня: "Что такое? Ты хочешь поехать в коммунистическую страну? Кто знает, какие неожиданности там тебя поджидают!" Один даже советовал мне написать сначала завещание, потому что я там помру с голоду или бесследно исчезну. Но я люблю путешествовать. Я показал им туристический проспект. "Посмотрите, — сказал я им, — какие там чудесные памятники старины! Какие живописные горы! Какая прекрасная природа!" И что же! Теперь из-за этой квитанции я испытываю такие разочарования!
Он огорченно покачал головой.
— Я сочувствую вам и могу понять ваше настроение в этот момент, — пытаюсь его утешить, — но не воспринимайте это так трагически, а считайте, в конце концов, простым недоразумением. Если вы как следует поразмышляете над этим, то найдете здесь и кое-что позитивное…
— Вы хотите надо мной посмеяться?
— Ничуть. А если и да, то я имею в виду не вас, а определенную категорию туристов, которые, совершив одно путешествие в какую-нибудь страну, разыгрывают из себя этаких знатоков этой страны, хотя, беспрерывно фотографируя достопримечательности, их взгляд, как правило, блуждает только по поверхности, а уж если они что досконально и знают, так это только винные погребки. А самую большую "достопримечательность" — людей — они…
— Хм. Интересно, как вы смотрите на вещи… Интересно… Я
подумаю над этим.
После того как мы распрощались, я собираюсь с духом и направляюсь в бюро обслуживания, чтобы урегулировать недоразумение. Воспринимаемый этой женщиной как "немец", я чувствую себя смущенно. Прежде всего как гражданин социалистического германского государства. Вопреки ожиданию женщина воспринимает мое подчеркнуто вежливое объяснение вовсе не сдержанно. Она даже улыбается, то ли снисходительно, то ли с пониманием или с тем и другим вместе. Во всяком случае, она не собирается читать мне никакой морали. Мораль мне и так ясна. Она является одной из характерных черт ее национального характера… Доверие, само собой разумеющееся взаимное доверие — разве это не прекрасно?! Кто не желал бы жить в атмосфере взаимного доверия? Есть ли вообще, строго говоря, жизнь, которую можно назвать достойной человека, если это жизнь без доверия, без желания защищать его, а если нужно, вновь его и завоевать?
Перед сном я заглядываю в книгу о Грузии, которую купил в газетном киоске. Главы об истории страны, о развитии ее науки и культуры я лишь пробегаю глазами: они не дают мне больше того, что я изучил уже основательно. Неожиданно останавливаюсь на главе со множеством цифр, которые, хотя Пифагор и называл их сущностью всех вещей, обычно меня мало интересуют. Но эти цифры излучают особую притягательную силу, которой я напрасно пытаюсь противостоять. Они поражают меня и крепко удерживают. Они открывают для меня то, что при прежних встречах с цифрами осталось, пожалуй, закрытым: жизнь людей. Ошеломляюще неожиданно предо мной вдруг выступают обычно почти невидимые, как бы покрытые вуалью — словно мечты — стороны жизни. Они проявляются на моих глазах. Скрывающие действительность покрывала падают, и из сокрытой от простых глаз неизвестности появляется еще более привлекательная захватывающая действительность.
Мечты и цифры…
Только мечтать могла раньше Грузия о таком быстром, равно как и всестороннем, развитии своего народного хозяйства. Чем она была до 1917 года? Полуколониальной окраиной Российской империи. Граф Канкрин, царский министр финансов, заявил однажды нагло, что Закавказье должно стать "русской Индией".
Поэтому Грузия служила тогда лишь сырьевой базой для промышленных районов России и одновременно рынком сбыта для производимых там товаров. Правда, в соответствии с законами развития капитализма и там возникло несколько промышленных центров, прежде всего в окрестностях Чиатури и Ткибули благодаря имеющимся там залежам марганцевой руды и каменного угля, а также в Тбилиси как столице Грузии; кроме того, строительство велось и в Батуми, являвшемся морским портом. Однако в Грузии не было ни металлургической, ни химической, ни цементной, ни машиностроительной промышленности. Земля находилась главным образом в руках крупных землевладельцев, сельское хозяйство было малоэффективным, не производилось достаточного орошения засушливых зон или осушения заболоченных областей. Несмотря на богатые запасы энергоресурсов, минерального и другого сырья, Грузия была бедной страной. Вследствие экономической и технической отсталости эти богатства не могли быть освоены и использованы на благо ее народа.
Первые, важнейшие, шаги на пути преодоления отсталости были сделаны в 1921 году — сразу же после установления Советской власти в Грузии — с братской помощью Советской России. Она предоставила молодой советской республике большую финансовую помощь на развитие ее хозяйства.
За это время в развитие народного хозяйства Грузинской Советской Социалистической Республики были вложены миллиарды и миллиарды рублей. Имевшиеся предприятия были реконструированы, возникли новые отрасли промышленности: черная металлургия, химическая промышленность и машиностроение. Было построено свыше тысячи новых предприятий.
Наряду с ускоренным развитием промышленности осуществлялась постоянная подготовка кадров: рабочих, инженеров, ученых.
Параллельно с индустриальным развитием происходило освоение всей территории республики, то есть осуществлялись поиски новых и освоение старых месторождений полезных ископаемых.
От бесчисленных цифр, характеризующих продукцию машиностроительной промышленности, у меня голова пошла кругом: металлорежущие станки, грузовые автомобили, электролокомотивы, сельскохозяйственные машины, землесосные драги, горное оборудование, телефонная аппаратура, сварочные установки, автоматические линии, средства связи…
Впечатляющими являются и достижения легкой промышленности Грузии: десятки и десятки миллионов метров различных видов ткани ежегодно сходят с ткацких станков и более 10 миллионов пар обуви ежегодно покидают обувные фабрики. При этом только пищевая промышленность производит почти две пятых всей валовой продукции! Для переработки сельскохозяйственной продукции также построено много новых предприятий. Десятки фабрик поставляют ежегодно более 200 миллионов консервных банок с овощами и фруктами. Сотни миллионов бутылок в год наполняются минеральной водой "Саирме", "Звари", "Дзау-Суар", "Набеглави" и, конечно же, "Боржоми". Свыше 70 фабрик перерабатывают и поставляют ежегодно на рынок более 60 миллионов тонн чая различных сортов. Бесчисленные предприятия производят сыр, вино, шампанское, коньяк…
Мечты и цифры…
Осуществленные мечты!
О чем говорят камни
Окутанная туманной дымкой, занимается заря моего первого утра в Грузии. Она не желает приподнимать вуаль с раскидистых высоких лип на центральной улице города. Окутанная золотистой паутиной сентябрьского утра, на высоком постаменте возвышается фигура поэта Шота Руставели, его левая рука покоится на сердце. Отсюда, с этой площади, начинается наша поездка в горы.
Проезжая мимо, я бросаю последний взгляд на освещенное солнцем, одухотворенное лицо поэта, вижу покоящуюся на сердце руку, и мне вспоминается женщина из бюро обслуживания. Доверие… Наполненный впечатлениями прошедшего дня и увлекаемый желанием все больше и больше научиться познавать и понимать Грузию, я вдруг понимаю, как бесконечно мало — несмотря на свои умные советы господину Дюрингу — я знаю о Грузии.
Доверие — это прекрасно. Но: "доверяй, да знай кому!" — советует наша пословица. Тайком я наблюдаю за водителем. У Арсена — этого тридцатилетнего мужчины с неподвижным лицом и фигурой легкоатлета — руки как у пианиста, но то, как он ведет свою машину, напоминает мне движения пантеры. Заметив своими горящими глазами справа или слева от себя "окно", он не ползет туда, крадучись, а делает элегантный прыжок. (Горе тому гостю, который в этот момент высунет из окна кончик своего носа или тем более весь нос!) Мне импонирует, как Арсен прокладывает путь нашей "Волге" из города. Молниеносная реакция и выдержка, сила и пластичность движений — настоящая пантера. Является ли Арсен "типичным" грузином?
А Зураб Ахвледиани? С ним я познакомился несколько поближе вчера вечером на "обеде". О себе самом он не очень-то много говорил, а на мои вопросы отвечал ровно столько, сколько обязывала его к этому вежливость. Что это? Личная скромность? Или черта национального характера? А может быть, это просто сдержанность? В конце концов, мы ведь только вчера впервые встретились. Я знаю о нем лишь то, что он изучал филологию, его жена — инженер и у него двое детей. Кроме того, он, кажется, довольно тесно связан с музыкой. О том, что он еще и переводит грузинскую литературу на русский, мне поведал Нодар Думбадзе, который вчера вечером отмечал за соседним столиком встречу со своими старыми друзьями из Венгрии и полчаса сумел посидеть с нами. Однако все это произошло несколько позже, когда мы уже оживленно беседовали.
Ахвледиани проявил особый интерес к моей республике, к проблемам ее хозяйственного и культурного развития. При этом он — в отличие от многих других иностранцев, которые проживают значительно ближе к нам, чем он, — проявил солидные знания о моей социалистической родине. Это для меня еще одно основание пополнить свои не очень-то глубокие знания о прошлом и настоящем его страны. Я прошу его помочь мне в этом.
Теперь, когда мы покидаем Тбилиси и едем вдоль берега Мтквари навстречу окутанным утренним туманом горам, он рассказывает мне историю Военно-Грузинской дороги, по которой мчится наша "Волга".
История. Я не знаю, как ее воспринимает кто-нибудь другой, для меня же история — это часть моей жизни, это неразрывно связанные друг с другом настоящее и прошлое как для маленького, так и для большого сообщества людей. Так, теперь под воздействием слов Ахвледиани крупнопористое асфальтированное шоссе превращается для меня в неровный, омываемый дикими водами караванный путь ушедших столетий. Стук копыт заглушает шум моторов огромных грузовиков, хромированных "Волг", "Москвичей" и "Жигулей". Отважные джигиты скачут между караванами верблюдов, мягкие экипажи и роскошные паланкины проносят утомленных путешествием сановников мимо колонн изнывающих от жажды солдат, а пастух со своей отарой терпеливо ждет на обочине. Среди этих шумных колонн медленно идут одинокие странники: русские поэты Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, а также Максим Горький и Маяковский…
Более чем двухсоткилометровое шоссе бежит почти точно на север через Главный Кавказский хребет и связывает Тбилиси с Орджоникидзе.
Уже со II в. до н. э. за горную дорогу велась ожесточенная борьба. Чтобы Восточную Грузию, тогдашнюю Иберию, защитить от набегов диких племен с севера, иберийский царь Мирван приказал перекрыть Дарьяльское ущелье. Позже, когда Римская империя, в состав которой входила Иберия, распалась, сарматские племена, жившие между Доном, Азовским морем и Дарьялом, и прежде всего аланы вместе с северокавказскими кочевыми племенами, начали совершать все более дерзкие разбойничьи набеги на Грузию. Поэтому грузинский царь Вахтанг Горгасал приказал возвести в Дарьяльском ущелье сильные укрепления и поручил проживающим там горным племенам охранять перевал.
Однако спокойным и безопасным путь по этой важной горной дороге стал лишь к началу XII в., когда грузинский царь Давид Строитель приказал построить там крепость. И все же курсирующие между Европой и Азией торговые караваны избегали этого пути вплоть до середины XVIII в., потому что местное население требовало с них высокие пошлины и караваны подвергались нападениям разбойников.
Рассказывая о начавшемся в XIX в. постоянном расширении дороги, Ахвледиани одновременно обращает мое внимание на старые и новые строения, мимо которых мы проезжаем. Он показывает мне современные жилые дома нового, построенного на высоком плато жилого района Сабуртало, институт по разработке вакцин и сывороток.
Мы пересекаем какую-то горную речку. В некотором отдалении расположены кемпинг и мотель. Вскоре мы оказываемся в густом смешанном лесу. Когда дорога снова возвращается к Мтквари, мы видим на другом берегу прильнувший к берегу большой поселок с уютными садами: Авчала. Едва ли можно подумать, что в этом зеленом местечке нашли приют многие промышленные предприятия. Здесь производятся электролокомотивы, перерабатывается чай, изготавливается коньяк, шампанское и многое другое.
В поселке Авчала находится первая гидроэлектростанция Грузии, черпающая свои силы в водах сливающихся здесь рек Мтквари и Арагви: Земо-Авчальская ГЭС имени В. И. Ленина.
Мы останавливаемся на плотине. Она невысокая. Давно уже есть плотины и повыше. Поэтому меня удивляет торжественное выражение лица Зураба, когда он идет по плотине.
Через некоторое время мой спутник взглядом показывает на памятник В. И. Ленину, стоящий на плотине.
— По его указанию, — говорит Зураб, — на этом месте началось большое строительство. Голыми руками. 22 сентября 1922 года коммунисты нашей республики организовали воскресник; четыре тысячи трудящихся Тбилиси последовали призыву и с помощью кирки и лопаты прорыли отводной канал. Мой отец тоже участвовал в этом.
Вслед за этой электростанцией в Грузии затем было построено много новых, более мощных станций. Крупнейшей на сегодня является электростанция на Ингури, высота плотины которой достигает 270 метров.
— До Октябрьской революции в Грузии вообще не было крупных электростанций, — говорит Ахвледиани. — За годы Советской власти мы построили дюжину больших и малых электростанций и вырабатываем теперь ежегодно добрую дюжину миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. До установления Советской власти в Грузии самая крупная электростанция вырабатывала лишь 700 киловатт-часов электроэнергии — для трамвайной линии в Тбилиси.
Мы едем дальше. Туман не рассеивается. Поднимается ветер, и кажется, он нагонит еще больше тумана. Не доезжая примерно семи километров до города Мцхета, Арсен обращает мое внимание на две большие впадины в отвесной скале на правом берегу Мтквари.
— Это "следы великана". — На лице Арсена проскальзывает улыбка. — Некогда на этой скале жил великан и охранял город Мцхета. Каждый день, когда солнце скрывалось за горой, он наклонялся к реке, чтобы утолить жажду; со временем от его колен и образовались эти впадины, "следы".
Прежде чем я успеваю рассказать водителю легенду о следе коня в Гарце, Ахвледиани рассказывает мне об одном подлинном событии, которое еще раз подтверждает, как много народов оставили свои следы в Закавказье.
В мае 1867 года во время взрывных работ по расширению дороги со скалы вдруг упала тесаная каменная плита. Дорожные рабочие, греки из города Ахалцихе, немало были удивлены, обнаружив на плите надпись, которую они могли прочитать: она была сделана на греческом языке в 75 году н. э. и напоминает о дружеской услуге, которую римляне оказали иберийцам. В ней сообщается о том, что "Император… Веспасиан… царю иберов Митридату, другу кесаря и любимцу римлян, и народу эти стены воздвигли". Имеются в виду, очевидно, стены на восточных подступах к иберийской столице Мцхета.
Ахвледиани тянет меня за рукав.
— Видите там крепостные руины? Со всех сторон подходы к городу были надежно защищены крепостями — целой системой стен, башен и мостов, которая удачно дополняла естественные преграды, образуемые реками Мтквари и Арагви.
Мы останавливаемся на смотровой площадке. Под нами раскинулся город, лежащий между обеими речками: Мтквари и Арагви, в плодородной долине. Трудно себе представить, что уже во II тысячелетии до н. э. в долинах этих рек селились люди и создавали собственную культуру! К началу IV в. до н. э. возникло раннеклассовое Восточногрузинское государство со столицей в Мцхете. Здесь скрещивались крупнейшие торговые пути Закавказья: с севера, через долину реки Арагви, на юг, в Армению, Иран и другие цивилизованные страны Ближнего Востока; от западного побережья Черного моря, через долины рек Риони, Квирила и Мтквари, на восток, к Каспийскому морю. Эти торговые пути имели тогда и военное значение: там, где скрещивались торговые интересы, скрещивались и мечи.
— Однажды там была Голгофа с крестом, — говорит вдруг Зураб и указывает на вершину горы, на пологом склоне которой мы находимся.
Я следую за его взглядом. Непонятно. И не потому, что слово "Голгофа" мне ни о чем не говорит. Но какое отношение Голгофа имеет к Грузии? Хочу об этом спросить и вруг немею от удивления, увидев на вершине скалы строение совершенно неповторимой красоты — базилику из серо-желтого камня. Чем ближе мы к ней подходим, тем поразительнее игра света и тени на ней…
— В IV столетии, когда Грузия приняла христианство, здесь был поставлен высокий деревянный крест, который должен был напоминать новообращенным христианам о Голгофе, — рассказывает мне Зураб. — В конце VI в. по указанию правителя Мцхеты Эристана на месте креста был воздвигнут христианский храм.
Внутреннее убранство храма, несмотря на относительно небольшие размеры, производит большое впечатление благодаря гармонии и четкости линий. Мы долго стоим перед порталом, перед надписями и рельефными изображениями, которые украшают фасад.
— Жаль, что сейчас туман, — говорит Зураб недовольно. — Отсюда такой прекрасный вид! Это место вдохновило русского поэта Михаила Лермонтова на поэму "Мцыри", написанную им в 1839 году.
Лермонтов. В то время как наша машина спускается с горы, я спрашиваю себя, какое, собственно, значение для творчества имели поездки Лермонтова и других великих русских поэтов в Грузию. Наверняка отношения между русской и грузинской литературами носили не односторонний характер, а служили их взаимообогащению. И все-таки своеобразную роль "стимулятора" Грузия играла особенно в XIX веке. И не только из-за "унаследованной" притягательности ее ландшафта и древней культуры.
Мы пересекаем Мтквари и останавливаемся на обочине у "памятника Арсену", как говорит Зураб. Я читаю даты жизни "1802–1843" и смотрю вопросительно на нашего водителя.
— Это памятник моему тезке, — улыбается Арсен, — народному герою Арсену Одзелашвили!
Арсен Одзелашвили был крепостным крестьянином. Он не пожелал терпеть издевательства своего хозяина и ушел в горы. В течение многих лет он держал в страхе помещиков и купцов. То, что отнимал у богатых, он отдавал бедным. Он не знал пощады к помещикам, которые мучили крестьян, и к купцам, которые их обманывали и эксплуатировали. Это снискало Арсену любовь простого народа. Длительное время царские власти безуспешно пытались схватить народного мстителя. В 1837 году его наконец арестовали, но ему удалось бежать. Он пал от рук наемных убийц в 1843 году. Грузинский народ хранит память о своем герое в "Песне об Арсене" и сегодня, воспевая его смелые подвиги, его мужество и — что для грузинского народа является, наверное, особенно характерным — великодушие.
Слышал ли в свое время Лермонтов об этом народном мстителе? Я считаю это вероятным. Ведь Лермонтов был не только почитателем грузинской природы, но и другом грузинского народа, он поддерживал связи с прогрессивными мыслителями Грузии, и прежде всего с теми, кто окружал известного грузинского поэта Александра Чав-чавадзе.
Пробиваясь сквозь туман, нависающий над крышами большей частью одноэтажных домов, над кронами лип и черных тополей Мцхеты, на нас бесшумно надвигается высокая, большая тень. Это тень многострадального гиганта, устоявшего подо всеми ураганами истории — под натиском турок, персов и монголов, это тень гиганта, построенного почти тысячу лет назад, тень собора Светицховели.
Мы проходим через ворота в мощной крепостной стене с бойницами; высота стен — пять, а толщина — полтора метра; посередине огромного двора горделиво возвышается величественное здание Светицховели — кафедральный собор патриарха грузинской церкви.
Я останавливаюсь возле ворот и пропускаю вперед молодых людей, только что подъехавших сюда на автобусах. Зураб молча стоит сзади. Он, без сомнения, не хочет мешать моему внутреннему диалогу с произведением древнегрузинского искусства. Этот его шаг сближает нас еще больше. Да и я тоже убежден в том, что настоящее искусство не требует какого-либо пояснения со стороны…
Мы медленно идем вокруг собора. Многочисленные орнаменты, барельефы и надписи украшают фасад. Зураб обращает мое внимание на то, что основание этого здания имеет форму креста, который вписан в длинный прямоугольник.
Вслед за молодыми девушками и ребятами мы тоже заходим в "дом божий", и я поднимаю голову вверх. Строение завершается на 50-метровой высоте сводчатым куполом. Несмотря на пасмурную погоду, на казавшиеся с улицы маленькими окна, здесь светло.
Вдруг мне кажется, будто я слышу пение. Или это лишь мое воображение? Бросаю взгляд в сторону алтаря. Он украшен изображениями Христа и различными орнаментами. Хочу рассмотреть его поближе, но красного цвета шнурок преграждает дорогу. Поверх голов молодых людей, толпящихся возле шнурка, я рассматриваю происходящее впереди.
Полдюжины старцев стоят перед тремя ступеньками, ведущими к алтарю. Они взирают на попа, который (значит, я не ошибся) поет. В сияющем золотом облачении он стоит тремя ступеньками выше. Никакого величия. Но его голос…
Украдкой я рассматриваю лица молодых мужчин и девушек, стоящих рядом со мной. Снаружи, на улице, они суетились, как и фанатичные болельщики на стадионе в Тбилиси, во дворе собора они вполголоса лишь перебрасывались шутками и смеялись, а в соборе они ведут себя уже совсем тихо. Даже когда поп перестает петь. С чувством такта они наблюдают за его дальнейшими действиями…
Множество различных строений, орудий труда, украшений и предметов быта открыто здесь под слоем многовековой пыли, и все они относятся к различным эпохам. Некоторые возникли, например, после разрушения Мцхеты легионерами римского полководца Помпея. Действительно потрясающе! И не только для меня. Но и для молодых черноволосых грузин, которые вместе со мной бегают от одного памятника к другому, от одного места раскопок к другому и внимательно слушают объяснения, которые "им дает гид. Какое несчастье, что я не понимаю по-грузински, и Зурабу все это приходится переводить на русский!
… Прежде чем отправиться на Военно-Грузинскую дорогу, Зураб преподносит мне еще один сюрприз. Он ведет меня вокруг крепостной стены и подводит к большому саду, террасами поднимающемуся вверх. Как только мы проходим узкую калитку, нас обволакивает волна пьянящего запаха. Повсюду — насколько хватает глаз — цветы! Одни прекраснее других, и — что сдерживает меня от "профессиональных" вопросов — почти все они для меня незнакомые. Едва ли с полдюжины из них я смог бы назвать правильно.
— Прекрасно! — восклицаю я. — Чьи же волшебные руки создали это великолепие?
— С этим волшебником вам надо познакомиться! — говорит Зураб.
Мы заходим в полностью заросший зеленью дом, и мой взгляд сразу же падает на него — на волшебника. Он, с отливающими серебром волосами, сидит в кругу семьи, своих помощников, и его натруженные руки — в то время как он посматривает на вошедших — продолжают работать, они плетут сотую, тысячную корзинку за свою 90-летнюю жизнь. Это Михаил Мамулашвили.
Зураб Ахвледиани почтительно кланяется. С радостным возгласом старик приветствует его и поднимается навстречу. Мой благородный спутник становится как бы молодым юношей, когда старик обнимает его, словно сына, за плечи. (Позже я узнал, что Зураб является сыном его друга.) Я приветствую остальных находящихся здесь женщин и мужчин, но мне необходимо рассмотреть этого старика грузина, чьи заслуги в области цветоводства и садоводства отмечены почетным званием "Заслуженный художник Грузинской ССР".
Михаил Мамулашвили — почти столетняя история Грузии! Какой жизненный путь! За свою долгую жизнь он видел те бесчисленные жертвы, которые понес грузинский народ в борьбе с царским самодержавием во время вооруженного восстания 1905 года в Грузии и затем в четырехлетней борьбе против поддерживаемых из-за рубежа меньшевиков, пока наконец Серго Орджоникидзе в один из февральских дней 1921 года не смог телеграфировать Ленину: "Над Тифлисом реет Красное знамя Советской власти! Да здравствует Советская Грузия!"
Все это пережил мужчина, перед которым я стою. Все это происходило на его глазах: и строительство Земо-Авчальской ГЭС, и пробуждающаяся жизнь в селах и городах, и горечь 40-х годов, и победа над германским фашизмом, и расцвет его родины.
Вот уже три десятилетия после выхода на пенсию этот человек продолжает работать изо дня в день, а если надо, то и ночью, и не воспринимает это как "мучение" или "жертву", потому что он познал высочайшее счастье: уметь быть полезным людям.
В его книге для гостей я выражаю то, что меня волнует: глубокое уважение к Человеку Михаилу Мамулашвили. И лишь несколько позже я вспоминаю цитату из поэмы Руставели, которая — сказанная иностранцем — доставила бы ему, может быть, удовольствие: "Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то твое".
Приятные неожиданности
Продолжаем наш путь по Военно-Грузинской дороге. Стрелка спидометра подскакивает выше ста. Оглушительно ревет радиоприемник. Передают концерт из Германской Демократической Республики, который здесь воспринимается как-то иначе. На обочине дороги мужчины, у каждого за плечом ружье — охотники. Небо светлеет. А по склонам гор, с которых почти повсюду в долину заглядывают развалины старых крепостей и храмов, стелется туман. Мы мчимся ему навстречу. Прощай, Мцхета!
Зураб Ахвледиани просит водителя убавить звук радио и рассказывает мне забавный случай. Проезжавшие здесь двое иностранцев встретили молодого пастуха с отарой овец и захотели с ним поговорить. У них была масса вопросов, но запас русских слов весьма скоро иссяк; говоря между собой по-французски, они подосадовали на то, что не могут выяснить цену на овечью шерсть. Неожиданно пастух ответил на их вопрос на французском языке.
— Оба иностранца были огорошены, — продолжает, улыбаясь, свой рассказ Ахвледиани. — Они думали, что в этих горах живут только дикари, с трудом умеющие считать по пальцам, а тут простой пастух говорит по-французски! Он их даже уверял в том, что по-французски здесь говорят почти все пастухи.
Ахвледиани смеется, а затем уже серьезно добавляет:
— Мнимый пастух был одним из наших известных писателей. В течение семи лет он жил тогда среди пастухов и стал позднее прозаиком, известным под именем Александр Казбеги.
Берега Арагви, вдоль которых все еще извивается Военно-Грузинская дорога, становятся все круче и сдвигаются в лесистое ущелье. На том месте, где скалы немного расходятся, на вершине склона я неожиданно замечаю крепость со сторожевой башней. Над высокими стенами крепости с бойницами возвышаются купола двух церквей. Это Ананури, один из самых примечательных памятников XVI–XVII вв.
Мы заворачиваем, чтобы посмотреть этот внушительный ансамбль, позднефеодальный замок-крепость. В конце XVII в. здесь была резиденция местных властителей Эристави, которые были в свое время одними из самых могущественных феодальных родов страны. Проехав несколько километров, сворачиваем в высокий лиственный лес и наконец останавливаемся у тихого озерка с с кристально чистой водой. В уютном придорожном ресторанчике нас ожидает то, что Ахвледиани назвал "небольшой закуской", — роскошно накрытый стол. Я смотрю на него с удовольствием: во время путешествия через тысячелетия по Мцхете я проголодался.
Несколько мужчин из ближайшего районного центра Душети — инженеры, журналисты, учитель и женщина-врач — любезно приветствуют заграничного гостя, и, не успев осмотреться, я оказываюсь в центре компании из 10–12 человек. Вопросы соседей слева, соседей справа, сидящих напротив, вопросы со всех сторон. Особенно много их задает Теймураз Насидзе, учитель, сидящий рядом со мной. Беседа прерывается тостами за мою республику, за плодотворное сотрудничество наших социалистических стран, за немецкую культуру.
К немецкой литературе Теймураз Насидзе испытывает большое почтение, читает он ее в оригинале. Хотя он преподаватель истории и возможности постоянно говорить по-немецки лишен, на моем родном языке Теймураз говорит так хорошо, что, и без того русый и голубоглазый, он почти совсем не похож на грузина. В основном ему известна литература XIX в., с современной литературой нашей республики он знаком меньше. С такой же любознательностью, какой Насидзе расспрашивает меня о тенденциях развития литературы и книжных новинках, я, используя то, что он учитель, спрашиваю его о развитии в его республике народного образования.
В то время как беседа за столом становится все более оживленной, Теймураз Насидзе называет мне некоторые сами за себя говорящие цифры. В 1914 году в Грузии было около 130 тысяч школьников; сегодня в социалистической Грузии — более миллиона учащихся. В вузах и средних специальных учебных заведениях обучаются сегодня около 150 тысяч молодых людей, половина из них — женщины. Ежегодно высшее или среднее специальное образование получают почти 30 тысяч человек. Если учесть, что население республики составляет чуть менее пяти миллионов, то можно увидеть, что цифра эта внушительная. Хотя в Советском Союзе ежегодно число выпускников высших и средних специальных учебных заведений вообще очень велико, все же по соотношению числа учащихся с числом населения Грузия находится впереди многих советских республик.
— Ну что… — Теймураз Насидзе, увлекшись беседой, уже давно снова перешел на русский, на котором ему, как и на своем родном языке, говорить, конечно, легче, чем по-немецки. — Ну что… Вы знаете, история с Александром Казбеги (товарищ Ахвледиани говорил, что он вам ее рассказывал) может, конечно, вызвать только улыбку. Но в принципе это был невеселый юмор, когда Казбеги выдавал свой народ за высокообразованный. Образование пришло к народу только с Октябрьской революцией. Конечно, то, что вы видели в сокровищнице в Тбилиси и в Мцхете, — свидетельство высокой культуры. Однако в отдельные исторические эпохи в результате иностранного господства Грузия отбрасывалась в своем развитии назад, и именно поэтому, как мне кажется, особого внимания заслуживают удивительные достижения в относительно мирные эпохи. Например, тот факт, что в IV в. вблизи теперешнего Поти находилась хорошо известная и за пределами Грузии школа философии и риторики, в которой учились и иностранцы, в частности греки. Центры науки и просвещения, способствовавшие развитию духовной культуры в международном масштабе, возникали в Грузии и в последующие века.
— Вы имеете в виду Гелатскую и Икалтойскую академии? — спрашиваю я.
— Да, Гелати, Икалто, а также Шиомгвимский монастырь были крупнейшими научными центрами страны. Кроме того, грузины создавали подобные центры в других странах, так, например, Крестовый монастырь в Палестине, грузинский монастырь на Черной горе в Сирии и Петрицовский монастырь в Болгарии. В этих учебных заведениях учились дети грузинских аристократов и в одном из них, что вам будет особенно интересно знать, — Шота Руставели.
— Мне только известно, что он изучал язык арабов, греков и персов, а также философию и литературу этих народов, об этом можно судить по его эпическим произведениям…
Увлекшись разговором, мы не замечаем, что наша веселая компания постепенно разошлась. Мы остались за столом одни.
— Давайте-ка выйдем немного на воздух, — говорит неожиданно Зураб, обращаясь ко мне.
Поднимаясь, я замечаю, что мои колени предательски подгибаются. Голос Зураба Ахвледиани доносится откуда-то издалека, он пытается мне что-то объяснить. Лес, до этого светлый и прозрачный, кажется теперь чрезмерно густым. Сплошные деревья, непроходимая чаща. Или, может быть, это оттого, что кругом чертовский туман? Зураб ведет меня к машине. Странно, тупо думаю я, коньяка я выпил всего лишь несколько рюмок… Опустившись на широкое мягкое сиденье "Волги", я погружаюсь в глубокий сон.
Не знаю, сколько я выпил, когда мне настойчиво и постоянно подливали. Не знаю, сколько прошло времени, пока Зураб Ахвледиани не разбудил меня дружески просящим голосом, мягко прикоснувшись к моей руке.
Я просыпаюсь, открываю глаза. Стемнело.
— Мы уже в Тбилиси? — спрашиваю я в полной уверенности, что могу перебраться в свой номер.
— Дорогой Гюнтер, — отвечает Зураб тоном, заставляющим меня насторожиться, — мы находимся в Гори, одном из наших старинных городов. Я ведь еще в Душети вам говорил, что здесь нас будут ждать.
Никакие просьбы и мольбы не помогают. Надо выходить. Зураб Ахвледиани поясняет, что хозяин дома, заслуженный и уважаемый в городе человек, ждет нас на ужин и что отказываться от приглашения нельзя, это будет воспринято как оскорбление.
Ужин! Уже одна мысль об этом заставляет меня стонать.
После того как Зураб заверяет меня в своей дружеской поддержке, я собираюсь с силами и через садик плетусь в дом. Что за люди эти грузины, спрашиваю я сам себя и пытаюсь представить, а пригласили бы мои соотечественники так же непринужденно в свой дом какого-то заблудшего иностранца? Но времени поразмыслить о различиях в гостеприимстве у меня нет.
Войдя в дом, я не знаю, на что смотреть. Все выглядит как-то по-особому празднично: длинный, необычно украшенный стол с напитками и закусками, большинство из которых я вижу впервые, в восточном стиле комната, окна которой украшены резным орнаментом, дорогие светильники из сверкающего грузинского стекла. Но привлекательнее всего — добрые лучистые взгляды собравшихся за столом людей, особенно — достойного главы дома, встречающего меня с почтительной, сдержанной торжественностью, и взгляды женщин, руки которых приготовили все это великолепие на столе.
В течение вечера они с любезными уговорами подставляют мне все новые блюда, и с каждой новой тарелки я вынуждаю себя съесть хотя бы кусочек. Противостоять их улыбкам невозможно. Мрачно восседать в такой радушной атмосфере только потому, что взбунтовался желудок, также невозможно. Здесь не придорожный ресторанчик, как в Душети, где обмениваешься нужными сведениями, споришь, рассуждаешь, ведешь дискуссии. За этим гостеприимным столом идет неторопливый разговор о семье, о детях, об отце, о матери, давшей тебе жизнь, о пройденном пути, об особой любви к родной земле и о том, как постоять за себя в жизни. Здесь идет речь о непосредственных отношениях между людьми.
Эту атмосферу передают и песни, очередь до которых доходит, к сожалению, только в конце застолья. Песни о грезах, возникающих на горных вершинах; песни о молодом пастухе, заключающем в свои объятия солнце, отчаянная молитва которого несется от вершины к вершине, над шумной горной рекой, через долину, куда влечет его страсть и откуда ему слышится тихий отклик. Удивительно привлекательный женский голос: мягкий, низкий, бархатистый и звонкий. Неповторимый голос.
Когда стихает последняя песня, я еще долго нахожусь под впечатлением ее мелодии, мягкого звучания, под очарованием музыки. Я наклоняюсь немного вперед и вглядываюсь в другой конец стола. Какой же из женщин принадлежит этот волшебный голос?
В этот момент ко мне вновь подходит отходивший на некоторое время от стола Зураб. Он склоняется над моей головой и тихо говорит, что хочет познакомить меня с запоздавшей гостьей, с артисткой, которую он очень уважает. Я напряженно жду. Неужели..?
Тут он выпрямляется и с почтительным поклоном объявляет:
— Элисо Мгеладзе!..
В гостях у абхазов
Когда же, наконец, в этот вечер я попадаю в гостиницу "Иверия", о которой мечтал уже после "закуски" в Душети, моей свинцовой усталости как не бывало. Как насыщены могут быть сутки, как щедро они могут одарить человека неповторимыми и незабываемыми впечатлениями! И после этого-то сразу в постель и спать? Нет, это мне кажется прямо-таки неприличным, неблагодарным, безответственным! Разве можно все это, как сувениры, уложить в чемодан, удалить из памяти?! Но ресторан в гостинице давно закрыт, уже далеко за полночь. Зураб Ахвледиани прощается, и мне не остается ничего иного, как отправиться к себе в номер.
Дежурный швейцар сообщает, что с самого вечера меня ждет мой московский знакомый, Александр Соломонович Малкин.
Саша! Это отлично. "Мой" фотограф приехал как нельзя кстати. Вместе с ним я через несколько дней собираюсь поехать в абхазское село Адзюжба, что неподалеку от Сухуми, чтобы подготовить репортаж для одного из журналов ГДР обо всем, что мы там увидим.
Александр Малкин, Саша. Один из сотен тысяч или миллионов Саш Советского Союза. Знакомы мы с ним давно и хорошо знаем друг друга по крайней мере после нашей совместной поездки в украинское село Кандыбино Николаевской области, во время которой я оценил его не только как толкового, вдумчивого фоторепортера, но и как отзывчивого, внимательного товарища, а также умного и тактичного советчика. Во всяком случае, мы знаем друг друга настолько, что во время продолжительных ночных бесед нам не нужно говорить обиняками о щекотливых вопросах прошлого или о чем-то личном…
Мне кажется, что лифт поднимается слишком медленно. Да еще к тому же он вместо девятого останавливается на шестом этаже: пожилой супружеской паре надо спуститься вниз. Черт знает что! Перепрыгивая через две ступеньки, я несусь наверх, а затем в конец коридора. Ключ! Где ключ? Дверь не заперта. Я распахиваю ее.
— Саша!
Мы бросаемся друг другу в объятия. Такое впечатление, что расстались мы только вчера. За чашкой черного, как деготь, чая, который заварил Саша, чтобы не заснуть до моего прихода, мы говорим, рассказываем о том, что накопилось за долгие месяцы, пока мы не виделись, общаясь друг с другом только мысленно.
Беседу мы продолжаем в последующие дни, которые нам осталось провести в Тбилиси и его окрестностях до поездки в Адзюжбу. Ходим в театры и музеи, пьем в прохладных погребках охлажденное вино, бродим по горам и улицам города. Все между нами так же, как и прежде, и все же иначе, будто бы пригрето солнцем юга, заставившим забыть туманный день в Мцхете, будто бы тронуто дружеским дыханием этого края и проникнуто очарованием душевного склада его жителей.
Дни летят быстро, хотя ритм здесь более размеренный, даже спокойный. Незаметно проходит и поездка ночным поездом в Сухуми, скучная, особенно если едешь один, да к тому же ничего не видишь. Когда показывается зеркальная гладь моря и пестрая толпа отдыхающих на пляже, меня отхватывает безумное желание искупаться. С помощью всяческих уверток я пытаюсь убедить Сашу, что мы тоже можем спокойно окунуться в море и тем не менее успеть в Адзюжбу.
— Ах вот что, тебе захотелось покупаться? — Улыбаясь, он изучает меня своим острым профессиональным взглядом. — Конечно, покупаемся! Как пить дать! Но только после того, как сделаем дело!
— Саша! После купания и работаться будет легче. Да и что мы сможем сделать невыспавшиеся и пропахнувшие потом? Освежиться надо!
— Освежимся по дороге, Гюнтер. (Мое имя он произносит как-то странно, но мне это даже нравится!) Мы же едем туда на машине!
Через полчаса мы покидаем Сухуми в направлении Адзюжбы. С тоской я бросаю последний взгляд на пляж и недовольно опускаю боковое стекло. Великолепное шоссе, широкое, ровное. Плавно извиваясь вдоль побережья Черного моря, оно тянется от знойного Сухуми на восток. Наш "Москвич" тащится еле-еле. По лицу Константина, абхазского поэта-лирика, стекают капельки пота. Обхватив баранку обеими руками, он напряженно следит за дорогой. Шум от проносящихся мимо автомобилей раздражает меня. С многозначительным видом я поворачиваюсь к Саше. Обвешанный фотоаппаратами, мой фотограф спокойно попыхивает папиросой. А шум обгоняющих нас автомобилей не прекращается.
Мое терпение лопается.
— Машина, видно, еще не обкатана?
— Почему нет? — На долю секунды Константин отваживается оторвать руки от руля, пот уже заливает его темные глаза. От откровенного разговора на эту тему я воздерживаюсь…
Мы продолжаем тащиться дальше, мимо нас с шумом проносятся автомобили. Перевожу взгляд с дороги на холмистое плато, поросшее редким лесом, одинокими кустарниками, и мысленно заставляю себя сосредоточиться на предстоящем деле: найти в небольшой абхазской деревушке на берегу реки Кодори следы того самого странника Алексея Максимовича Пешкова, который, путешествуя здесь в 1892 году, под открытым небом помог беспомощной роженице и позднее, будучи уже известным писателем, написал рассказ "Человек родился". Найти следы. Легко сказать! Женщина была нездешняя. Кто знает, откуда она пришла, кто знает, куда ушла? Да и вообще, знает ли кто-либо о ней и ее трудном часе под ореховым деревом?
Шум становится невыносимым. У меня невольно вырывается вопрос:
— Вы, наверное, только что поставили новый мотор?
Капельки пота на выпуклом лбу Константина стали, кажется, вдвое больше.
— Нет, это первый.
— Или, может быть, это новая коробка скоростей? Или…
Вдруг Саша толкает меня незаметно в бок и с упреком шепотом говорит:
— Гюнтер, какой ты невоспитанный человек, пойми, гость считается в Грузии подарком неба! Константин едет медленно, чтобы не подвергать тебя опасности!
Его величество гость! Сколько дней я уже здесь и все еще не могу этого понять! Еще на Украине, в Кандыбине, безграничное гостеприимство меня просто испугало. Из вежливости я выразил там восхищение ценным, очень редким цветком, который мне показал преисполненный гордости деревенский учитель биологии в своем саду. В то же самое мгновение блеснули ножницы, цветок был срезан и подарен мне. Так что и здесь мне придется позволить делать с собой то, что положено делать с гостем.
Когда вдали показываются разделяемые лесными полосами поля, Константин объясняет, что это чайные плантации.
— Вы находитесь в одном из районов, в котором выращиваются культуры, придающие сельскому хозяйству Грузии особый колорит. У нас растут субтропические культуры: чай, лимоны, мандарины, апельсины, оливы, гранаты, миртовые, инжир, целебные и декоративные растения. В Абхазии выращивается прежде всего чай. Большая часть производимого в Советском Союзе чая выращивается в нашей республике.
Но кто думает, что чай является традиционной культурой Грузии, тот ошибается. Чай был завезен сюда из стран Востока во второй четверти прошлого века, но и после этого культивировался в небольших масштабах, хотя чайные кусты прижились здесь хорошо. В 1913 году чайные плантации не занимали и 900 гектаров, сегодня они занимают площадь более 60 тысяч гектаров и дают урожай свыше 400 тысяч тонн чайного листа в год.
…Вскоре в отдалении показываются первые нарядные домики села Адзюжба. Как и восемьдесят лет тому назад, стоят исполинские, могучие деревья. Под каким же из них останавливался на привал Горький? Как и восемьдесят лет назад, буйствует густой кустарник. Куда же заползла тогда измученная женщина?
Мы выходим из машины, встречающие представители колхоза проводят нас к памятнику. Окруженная зеленью, передо мной возвышается трогающая своей простотой скульптура молодой матери с ребенком на руках. Неужели это единственный след, оставленный здесь писателем? — думаю я с испугом.
Мужчины Адзюжбы отвечают на мой вопросительный взгляд довольной улыбкой, как будто каменное изваяние — это идеальный объект для репортажа с иллюстрациями. Но я все же замечаю лукавинку в их глазах и смотрю по сторонам.
В некотором отдалении сквозь кустарники проглядывает белое здание, я иду по направлению к нему. Перед входом, на ступеньках, меня ожидает группа женщин и девушек, одетых в белое. Что это — больница? Константин подходит к этой белой "клумбе" и представляет мне одну из молодых женщин: доктор Цицино
Барганджия.
— Рада приветствовать вас в нашей женской клинике, — говорит симпатичная черноволосая главный врач.
— Так, значит, женская клиника. Здесь, на этом месте!
С гордостью главный врач показывает мне свою нарядную, современную клинику. Я нахожусь сейчас в одной из 500 клиник, которыми в настоящее время располагает Грузия. В 1913 году их было 41.
— Когда молодой Горький, идя по горной тропе, вынужден был взять на себя обязанности акушерки, — поясняет мне главный врач, — во всей Грузии для рожениц не было и сорока мест. Сегодня у нас 4300 мест, причем не только в роддомах, но и в специальных пансионатах для беременных женщин. В этих пансионатах в период пребывания там матерей содержатся их старшие дети, чтобы женщины не волновались перед родами. После революции в несколько раз возросло и число врачей. Если раньше на тысячу человек не приходилось и двух врачей, то сегодня их приходится сорок три. Из них, между прочим, — подчеркивает с достоинством Цицино, — почти 70 процентов — женщины.
Когда я, попрощавшись, иду на улицу, мне вдруг вдогонку раздается резкое "стойте!".
— Я хочу вам что-то еще сказать.
— Что же? — спрашиваю я, поворачиваясь. Почему так резко? Или это мне кажется?
— Прошу вас и сопровождающих вас друзей быть сегодня вечером моими гостями, — говорит она уже спокойно.
Поскольку я отвечаю не сразу, она грозно поднимает тонко очерченные брови.
— Смотрите, только не отказывайтесь! У нас это считается оскорблением!
Гостеприимство! Я быстро киваю, поперхнувшись, благодарю. Несколько раз я ее настоятельно заверяю, что у меня и в мыслях не было, чтобы отказаться, что, наоборот, я чувствую себя польщенным, что я искренне рад и непременно, несмотря ни на какие напасти, обязательно приду. Только после этого брови, поднятые над сверкающими глазами, взгляд которых я, кажется, чувствую на своей спине до самой улицы, опускаются.
— Цицино приготовит для вас старинное абхазское кушанье, которым в свое время угощали и Алексея Максимовича Горького, — поясняет мне Пилай Тандель, бывший председатель местного колхоза.
— В 1892 году? — недоверчиво спрашиваю я.
— Нет, в 1928-м. Мы пригласили его на открытие нашей женской клиники. Вот это был праздник! Потом дети еще долго вспоминали своего "дядю Алексея". Вы, наверное, знаете, Горький очень любил детей. Мы видели это своими глазами. Не успел он появиться в деревне, как детвора уже ходила за ним гурьбой. Как у всадника, который чувствует себя счастливым только в седле, так и у него в этой гурьбе раскрылась вся его душа. Он рассказывал истории, показывал всякие фокусы, вырезал дудочки. Вон там он сидел с ними под тутовым деревом.
В то время как старик, предавшись воспоминаниям, продолжает свой рассказ, мы садимся в приятную тень тутового дерева. Через некоторое время новый председатель колхоза, энергичный Георгий Карчаа, слегка трогает меня за плечо и спрашивает:
— А вы вообще знаете, на чем сидите?
"Снова эта улыбка!" — думаю я с раздражением и вижу: то, что я поначалу принял за мощный корень тутового дерева, уползает, круто изгибаясь в трех-четырех метрах от ствола, вверх, цепляясь за ствол, разветвляется и исчезает в кроне дерева. Вьюнок толщиной в четверть метра? Георгий Карчаа подавляет улыбку, делает знак рукой. Подбегает мальчик и, взяв в руку корзинку, быстро, как обезьяна, карабкается по "вьюнку" на верхушку тутового дерева. С любопытством я смотрю наверх.
Внезапно наверху становится совсем тихо. Через несколько секунд плетеная корзинка спускается по веревке вниз. От удивления я теряю дар речи. Корзина доверху наполнена виноградом. Я сижу в винограднике!
Во время прогулки по колхозу Карчаа обращает мое внимание на густые заросли, напоминающие джунгли. Я подхожу к краю посадки, поднимаю вверх руку — растение выше кончиков пальцев моей руки на полметра.
— Как, неплохая у нас кукуруза? — спрашивает сияющий Карчаа.
Я смотрю на мощные початки и спешу подтвердить, что кукуруза действительно очень хороша. Карчаа доволен.
— Не думайте, что у нас растет только виноград. Как видите, мы выращиваем и зерновые. Главным образом озимую пшеницу и кукурузу. В Грузии растет все. Овощи и фрукты, картофель и табак, который в большом количестве идет на экспорт.
Через несколько метров за кукурузными джунглями открывается вид на Черное море, и его просторы настраивают нас на другой лад. Карчаа просит меня рассказать о моей республике, где строят немало судов для Советского Союза.
Но дополнительный урок по биологии для меня еще не окончен. Своей кульминации он достигает в саду семейства Барганджия. Здесь главный врач Цицино с помощью нескольких женщин накрывает рядом с колодцем под широко раскинувшимся деревом стол для нашего пиршества.
Прежде чем сесть за стол, Карчаа ведет меня в дом Барганджия. Старый, простой дом, один из тех, которых немало на западе Грузии. Квадратный, целиком деревянный, крытый дранкой. По всей ширине торцовой части проходит крытая веранда. Дом древний, как снаружи, так и изнутри. Массивный стол, мощные табуретки и стулья. Около стены — похожий на Ноев ковчег сундук. В дальней комнате — железные койки. Над небольшой пристройкой вьется густой дым. Среди бочек и кадок я нахожу там главного врача Цицино Барганджия, стоящую у открытого очага, дым от которого вытягивается через дымоход, сделанный в потолке.
— Вы удивлены, не правда ли? Не отпирайтесь! — говорит Карчаа, когда мы вновь выходим на свежий воздух. — Главврач — и живет в таких скромных условиях! Так почему? Да потому, что обычай требует почитать отца и выполнять его волю. Отец Цицино хочет до конца своих дней жить вместе с дочерью и ее семьей в старом доме Барганджия.
— Что же, и вся молодежь соблюдает обычаи? — спрашиваю я.
— Вся.
Обычай. Когда мы садимся за стол, в первую очередь избирается тамада. Это своего рода церемониймейстер, который следит не просто за тем, чтобы за столом было хорошее настроение и все шло гладко, но также и за тем, чтобы все шло согласно традициям. Тамадой нашей небольшой компании выбирают Георгия Карчаа. Он сидит по левую руку от главы семейства Барганджия, который в свисающем с головы до плеч пастушьем башлыке занимает самое почетное место за столом; мне отводится место справа от него. Саша оказывается рядом со мной.
От Карчаа я узнаю подробности о муже Цицино, журналисте, которого все здесь из-за его роста зовут "полуторным человеком". Сам Карчаа еще подростком ходил за плугом своего отца и сеял дедовским способом; сегодня он один из самых уважаемых председателей колхозов Грузии, агроном и одновременно заслуженный ветеринар республики. Я удивлен: человек, закончивший два высших учебных заведения, имеющий заслуги в двух отраслях науки, — председатель колхоза? Кстати, выглядит он моложе своих лет. Как сорокалетний.
…Открывая небольшое празднество, тамада поднимает единственный на столе сосуд — аршинный рог, наполненный приятным белым вином, и произносит тост за обоих гостей: из Германской Демократической Республики и России.
Затем рог пускают по кругу, но, по-моему, иначе, чем трубку мира у индейцев. Снова в строгом соответствии с обычаем тамада определяет того, кто должен взять рог следующим, и представляет его присутствующим. То, что при этом говорится, опрокидывает все мои прежние представления о тостах.
За родителей, за детей, за родную землю — вот первое, за что тамада просит выпить вначале. Да, придется туго, думаю я…
Но чем больше я слушаю, тем больше растет мое удивление. Если одни, обдумывая свой тост, приводят интересные эпизоды из своей жизни, то другие, побуждаемые живой реакцией собравшихся, привлекают к себе внимание философскими обобщениями или юмором. В этом "состязании рассказчиков", которое все более разгорается под воздействием искрящегося отборного белого вина, каждый старается показать себя с лучшей стороны, и, когда рог передают мне, я, разумеется, не хочу отставать от других. Это какое-то особое чувство, находясь за тысячи километров от дома, представлять свою родину! Когда я говорю, все внимательно смотрят на меня. Наконец я приставляю рог к губам и пытаюсь сделать глоток, но ничего не получается. Да, думаю, надо опрокидывать одним рывком. Раз… И все содержимое выплескивается мне в лицо. Весь мой пиджак пропитывается вином. Под общий смех Саша говорит:
— Гюнтер, тебе еще надо научиться пить, как пьют взрослые!

Монумент "Мать-Грузия"

Памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасалу

Светицховели "слушает" оперу


Грузинские пейзажи



Вид на Тбилиси

Грузинский писатель Нодар Думбадзе

Новое в архитектурном облике Тбилиси

Продукция Грузинской ССР


Праздник на улицах Тбилиси


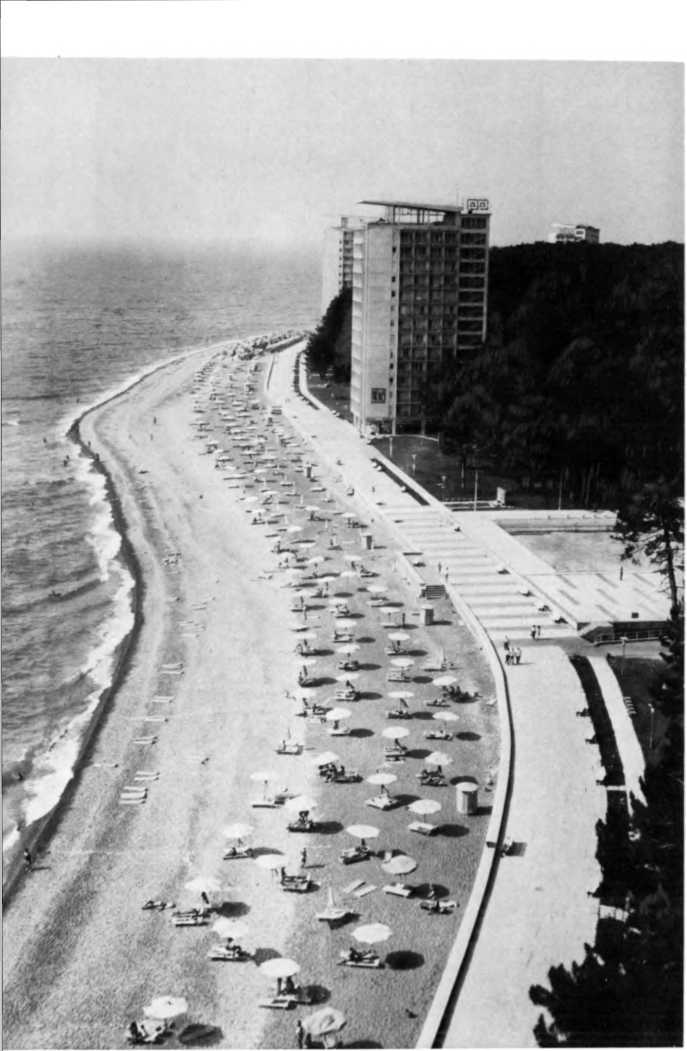
Курорт Пицунда
Атмосфера за столом имеет какую-то свою неповторимую прелесть. Неповторима эта негромкая торжественность, эта душевная настроенность людей, которые еще несколько часов назад не знали друг друга и познакомились по-грузински, выступая в роли "рассказчиков".
Ручейком из источника этой гармонии выливается негромкая песня, такая, которую поют с закрытыми глазами. Медленно старый Барганджия склоняет свою убеленную сединой голову…
Все барьеры, которые нас часто разделяют в жизни, все несхожие заботы, которые нередко разводят нас в противоположные стороны, — где они? За накрытым белым столом виден только венец из человеческих голов. Песней он расплывается в серебристом свете луны далеко по земле.
Кажется, что луна повисла в воздухе. Но на самом деле она движется по своей орбите. Я, выйдя за дом, следую за ней мысленно на луг, к ближайшему лесу, туда, где сходится горизонт…
Стрекочут цикады. На лугу сгущается туман, клубится дымом.
Я медленно опускаюсь на дурманящую запахами высокую траву, вслушиваюсь в дыхание ночи, которая не может охладить мою горячую голову…
Я засыпаю, и мне кажется, что сверкающие в лунном свете кусты парят в воздухе… Да, шаг ритмичный. Грузинские девушки в ниспадающих белых одеждах танцуют. Что это, сон или явь? Вдали едва слышно звучит необычная мелодичная песня. Как бы вопрошая о чем-то, она поднимается из круга парящих граций. Тихий отклик на нее слышится из зеленых сводов ближайшего леса. Ответная многоголосая песня, выливающаяся в торжественное ликование! Затем снова оглушительно трещат барабаны, трубят рога, стучат копыта.
Потоки яркого света заливают собравшихся под зелеными сводами людей, ликующую толпу. Из темноты высвечиваются красочные фрески, высокие овальные окна. Тронный зал царского дворца!.. Тихо звенят украшенные драгоценными камнями мечи, скрипят кольчуги. Вокруг трона стоят воины-горцы, к шепоту собравшихся в зале женщин примешивается неразборчивый говор старых сановников и рыцарей…
Скромно, но с достоинством к сановникам подходит человек с бородатым лицом и высоким, слегка загорелым лбом — поэт Шота Руставели. В руках у него пергаментный свиток. Спокойно он наблюдает за тем, как входит распорядитель празднества, начальник царской личной охраны, снимает мантию и поднимает жезл.
Вступает мужской хор. Высокие своды зала заполняют торжественные звуки гимна. Ликующе устремляется вверх дискант, ему вторят басы, мощно звучит финал.
В конце зала открываются золотые ворота, разбрызгивая вокруг себя сверкающие блики на блестящий металл и драгоценные камни. Двумя рядами входит вооруженная женская гвардия. Звенящие железом грации в ослепительно белом и нежно-голубом одеянии образуют бело-голубой полукруг. Вновь раздается многоголосое пение. Поют женщины. Из золотых чаш, которые покоятся по обе стороны трона на высоких треножниках, тончайшим облачком поднимается запах амбры и мускуса, который распространяется по всему дворцу. Пение смолкает, и тут входит она, размеренной походкой, высокая, стройная царица, повелительница могущественной державы Ближнего Востока. Перед единственной коронованной женщиной своего времени, перед ее мудростью, ее красотой склоняются все. Становится так тихо, что слышен только шум дворцовых фонтанов. И тут звучит густой грудной голос царицы Тамары.
— Я благодарю господа, что он оказал мне милость увидеть всех вас вместе в мире.
Распорядитель празднества три раза стучит своим жезлом по мраморным плитам пола. Все замирают, восхищаясь легкой походкой Восхитительной, тем, как она стоит у трона, заливаемая солнечным светом. На ней белоснежное платье, только края рукавов украшает светло-голубая, вышитая белым жемчугом парча. Белую, как и платье, корону украшают сапфиры с бирюзовыми обводами, темные густые волосы обрамляют умное лицо. Возраст этой женщины определить невозможно.
Царица садится, и в зале наступает выжидательная тишина. Ее ясный взор видит всех собравшихся.
— Нам стало известно, что казначей нашего царства, высокочтимый поэт и ученый Шота Руставели сочинил большую новую поэму о славном витязе и молодой девушке, которую он удостоил своей любви. — На какое-то мгновение ее длинные ресницы опускаются над черными очами. — Итак, послушаем, что нам скажет поэт.
Руставели откидывает назад длинные волосы, выбивающиеся из-под его остроконечной, высокой меховой шапки, и отделяется от группы сановников. Не отводя взгляда от царицы, он опускается перед троном на колено. Тишина в зале нарушается, все тянутся вперед, чтобы его увидеть. Подобно легкому дыханию ветра над вершиной Казбека, в зале шуршат всколыхнувшиеся одежды.
— Царица! — начинает наконец Руставели твердым, слегка хриплым голосом. — Великая, мудрая владычица Грузинского царства, простирающего свои границы от Каспийского моря на востоке до Черного моря на западе, от снежных вершин Кавказа на севере до иранских земель города Тебриза! Мудрая владычица царства многих народов, в котором вместе живут христиане и мусульмане, грузины, осетины, армяне, персы и турки! Истинно, я завершил свой скромный труд, которому ты оказываешь внимание своей милости. Это поэма "Витязь в тигровой шкуре". Я бы сказал, что вложил в нее свою душу, свое сердце, если бы они и так уже давно не принадлежали тебе, солнцеликая царица. Поэтому прошу тебя, царица, окажи мне милость, прими мой труд в подарок и считай его принадлежащим тебе!
Шота торжественно передает в руки царицы пергаментный свиток, и двое слуг ставят перед троном инкрустированный сундучок, наполненный такими же свитками. Поэт встает, еще раз отвешивает поклон царице и отступает назад.
Тамара отвечает на поклон едва заметным наклоном головы. Пергамент, который ей передал Шота, она передает молодому писцу царской канцелярии и повелевает ему прочесть его вслух. Писец, еще мальчик, торопливо разворачивает пергамент и одним взглядом пробегает первые строчки. Затем он, на секунду оторвавшись, начинает читать: "…он, что властию чудесной…"
Дальше слушать его становится все труднее. Голос молодого писца становится все тише, только видно, как шевелятся губы и приливает кровь к его лицу. Сановники в зале, изображая на лице удовольствие, аплодируют. Но расслышать что-либо нельзя, видны только хлопающие руки. Поэтому слова признательности, высказываемые царицей Тамарой, не слышны.
Наступившая тишина становится тягостной, опасной. Торжественное сияние в тронном зале внезапно меркнет. С глухими криками все убегают, несутся прочь. Залы пустеют, исчезают фрески, золото, серебро. Тронный зал заливает зеленая глазурь. Вторжение монголов? Но ведь оно произошло гораздо позже…
Стелющаяся розовато-серая пелена пропитывает все холодной влагой. Когда я открываю глаза, то вижу, что рядом со мной, с папиросой в зубах, небритый, в мокрой от росы траве сидит Саша, наблюдающий восход солнца…
Затонувший город
Невероятно синее, оно с левой стороны начинает наконец просвечивать через редкий лес, пробуждая своим терпким запахом предвкушение удовольствия окунуться в его волны. Многозначительно я смотрю на Сашу. Он, улыбаясь, кивает, уговаривать его мне больше не надо. Непреодолимое желание искупаться испытывает теперь и он.
Не доезжая какого-то поселка, Константин тормозит у обочины. Не успевает он еще остановиться, как я выскакиваю из машины и, сбегая по взъерошенному склону, стягиваю на бегу рубашку. Константин что-то кричит мне вслед. Не отрывая глаз от пенящегося прибоя, я вместо ответа лихо, с развевающейся на ветру рубашкой, длинными прыжками мчусь, огибая кусты, в сторону моря, шум волн которого сюда еще не доносится. Маленькие кустики я перепрыгиваю, а через большие бегу напролом. Ветки хлещут меня по лицу. Вдруг правой рукой, в которой я держу рубашку, защищая лицо, наталкиваюсь на что-то твердое, вероятно на выступ скалы. Нет, это стена из валунов, высотой с человеческий рост, местами обвалившаяся.
Растерянно я ощупываю тяжелые круглые камни, поглядываю по сторонам, пытаясь найти выход из кустарника. Стену не обойти. Ей, кажется, нет конца. Она становится то выше, то ниже, с левой стороны, видимо, подходит к берегу, а с правой — к проселочной дороге. Странно.
Тут я слышу, как меня по имени окликает Константин.
— Да здесь я, здесь, — отвечаю, с трудом поднимаясь на каменный вал.
Оказавшись наверху, я замечаю, что толщина его около двух метров. Там, где он упирается в берег, видны развалины старой башни. Такую же башню, густо увитую плющом, я замечаю по ту сторону дороги на склоне горы; обвалившаяся стена ведет, видимо, туда. Уцелевшие ее остатки возвышаются местами над молодым лесом.
Появившиеся из-за кустов Константин и Саша поднимаются на камни.
— Гюнтер, что ты бегаешь как ужаленный? — ворчит Саша. — Константин хотел показать тебе что-то интересное, а ты…
— Не страшно, — говорит Константин в своей скромной манере, примирительно. — Как видно, вы уже сами нашли то, что я хотел вам показать. Вы находитесь на Великой абхазской стене, на втором по размерам сооружении подобного типа, которое когда-либо воздвигали люди.
— Сколько же это километров? — спрашиваю я, от неожиданности растерявшись.
Константин улыбается.
— Примерно столько же, сколько от Берлина до Лейпцига. Сто шестьдесят километров. Правда, местами она проходит через мощные горные цепи.
— Пойдемте!
Во время спуска вдоль стены к пляжу я узнаю от Константина, что ее постройка была начата по меньшей мере полторы тысячи лет тому назад. Особенно интенсивное строительство велось в VI в. при византийском императоре Юстиниане, в империю которого входила Абхазия. Она должна была защищать побережье от нападений кочевников со стороны Северного Кавказа и в то же время обеспечивать безопасность главного караванного пути Закавказья, который проходил по ее территории. Поэтому стена была укреплена многочисленными боевыми башнями, а через более отдаленные промежутки — крепостями. Башни отстояли друг от друга на расстояние полета стрелы, примерно на пятьдесят-шестьдесят метров, так что сведения о продвижении вражеских войск с севера или высадившихся на побережье могли быть переданы от одного укрепленного пункта к другому буквально со скоростью полета стрелы.
На почти пустом пляже в тени четырехугольной башни мы останавливаемся. Она достигает высоты многоэтажного дома, хотя ее выступающую верхушку с бойницами уже полностью уничтожило время. В некоторых местах каменные, толщиной в полтора метра стены обнаруживают следы разбушевавшихся потоков, которым они противостояли в течение пятнадцати веков. Трудно себе представить, можно только догадываться, каких титанических усилий абхазцам стоило при тогдашних технических средствах возведение сооружения таких размеров: бесконечного ряда башен, стены с мощными крепостями длиной в несколько караванных переходов.
Громкие крики привлекают мое внимание к трем загорелым молодым мужчинам, которые примерно в сотне метров от нас барахтаются в воде. Купаться! Саша и я следуем их примеру и бросаемся в волны прибоя, в удивительно чистую морскую воду.
У Константина купальных принадлежностей нет. Он с улыбкой смотрит нам вслед и идет бродить по пляжу. Когда мы выходим на берег, он стоит рядом с молодыми людьми и машет нам рукой, чтобы мы подошли. Саша, увидев возможность поснимать, быстро вытаскивает свой фотоаппарат.
— Видно, аквалангисты, — говорит он, когда мы, подойдя поближе, замечаем кислородные баллоны и ласты.
Но Константин представляет нам троицу как ученых-историков, которые в данный момент находятся на работе. С гордостью самый высокий из них, курчавый брюнет с крупным лбом мыслителя и подкупающе сердечной улыбкой, показывает на какой-то мокрый предмет, лежащий у его ног, который я поначалу принимаю за кузнечный мех из сыромятной кожи.
— Что это? — спрашиваю я с любопытством, в то время как Саша уже начинает снимать.
— Амфора, глиняный сосуд времен античности, который когда-то служил для хранения масла и вина, — отвечает дружелюбный мыслитель.
Только теперь на тупом конце яйцеобразного сосуда я замечаю два ушка и под слоем ракушек, налипших на него, различаю, как мне кажется, типично греческую амфору.
— Но каким образом греческая амфора времен античности могла оказаться здесь, на побережье Черного моря, точнее говоря, на морском дне у подножия Кавказа?
— Здесь примерно две с половиной тысячи лет тому назад поселились греки из Ионии и основали город Диоскурию, — поясняет мне курчавый брюнет, которого Саша снимает уже в третий или четвертый раз.
Ничего не понимая, я слежу за размашистыми движениями его рук, когда он рассказывает мне о контурах сухумской бухты.
— Что же, это был такой большой город? Вокруг бухты? Да это ведь около пятнадцати километров!
— Нет, — дружелюбный мыслитель качает головой и показывает в центр бухты. — Диоскурия — затонувший город. Когда сюда из Малой Азии пришли греки, бухта была еще сушей, защищенной со всех сторон горами, это была равнина, которая как бы напрашивалась на то, чтобы здесь основали город.
Я осматриваюсь. Из сухумского порта выходит белоснежный лайнер. На верхней палубе отдыхающие пассажиры. Трудно поверить, что судно плывет над городом, поглощенным сияющим восхитительной голубизной морем.
— Откуда известно, что бухта раньше была сушей, а здесь был город? — спрашиваю я. — Ведь сосуды, подобные амфорам, могли быть и на затонувших судах?
— В античных и средневековых фолиантах ученые обнаружили описания древних крепостей и даже целых городов, которые когда-то были построены на побережье Черного моря, а затем погребены под его волнами. Но поиски их долгое время оставались безуспешными.
Дружелюбный мыслитель рассказывает, что в 1864 году двое жителей Сухуми обнаружили на берегу моря золотую тиару в форме тонкой, как гусиное перо, диадемы со многими подвесками. Находки, подобные этой, побудили одного из ученых предпринять с помощью двух ныряльщиков первую экспедицию на дно бухты. На глубине четырех — шести метров он нашел развалины нескольких античных построек.
План города, который он начал тогда составлять, был после 1953 года усовершенствован на основе результатов археологических подводных съемок.
— А найдено ли, кроме сосудов и развалин, что-либо еще, что давало бы представление о жизни древней Диоскурии?
Высокий брюнет явно рад моей заинтересованности.
— Конечно! Из зданий и защитных сооружений удалось извлечь различное оружие, орудия труда, домашнюю утварь, украшения и монеты. Сегодня нам известно, что Диоскурия поддерживала оживленные торговые связи с внутренними провинциями древнегрузинского Колхидского царства и другими странами. У кавказских племен жители города покупали прежде всего шерсть, мед, ценные породы дерева, а продавали им изделия городских ремесленников.
— То есть Диоскурию можно считать абсолютно мирным городом?
— Безусловно. Но сохранить мир ей не удалось, — продолжает брюнет. — В I в. до н. э. она была сильно разрушена в результате войны между римскими войсками Помпея и войсками понтийского царя Митридата. Римский историк Гай Плиний Секунд подробно сообщает об упадке города, население которого состояло тогда из трехсот различных национальностей, в результате чего для ведения дел римляне использовали сто тридцать разноязычных переводчиков. Видимо, в этот период и произошла катастрофа, в результате которой пострадала большая часть города.
Брюнет замолкает и склоняется над амфорой.
— О какой катастрофе идет речь?
— Судя по всему, это был гигантский оползень, опускание побережья. Старые абхазские хроники сообщают, не приводя подробностей, о землетрясении, которое поглотило город иноземных колонистов. Имеется ли при этом в виду Диоскурия, с точностью до сих пор не установлено.
Трое молодых ученых собирают свои вещи, дружески прощаются с нами и уходят, поднимаясь вверх по склону. Они торопятся доставить в институт свою новую находку. Константин провожает их до машины.
Задумавшись, мы остаемся с Сашей на берегу. Мы смотрим на синюю, теперь почти зеркальную поверхность Черного моря, похоронившего столько неожиданных тайн — жизнь, любовь, борьбу и смерть, надежды тысяч людей, внезапно застигнутых тяжелым бедствием. С шипением, будто попав на раскаленное железо, на каменистый берег накатываются волны и, как бы испаряясь, исчезают. Издали, из порта, вновь выходит с развевающимся над топом флагом пассажирское судно, направляющееся из сухумской бухты в открытое море.
В Сухуми отдыхают тысячи советских и зарубежных граждан, заполняющих летом курорты грузинского Черноморского побережья: Пицунду, Кобулети, Махинджаури, Гудауту и другие. Со всего Союза в высокогорный Баку-риани съезжаются любители зимних видов спорта. Масса отдыхающих и нуждающихся в лечении устремляется на десятки курортов с целебными источниками, расположенных в горных районах Грузии.
Со времени установления Советской власти число домов отдыха и санаториев увеличилось в Грузии в десятки раз; курортами Грузии, по праву заслужившей почетное звание всесоюзной здравницы, теперь ежегодно пользуются сотни тысяч трудящихся.
В Тбилиси Саша вынужден меня покинуть. В Баку его ждет неотложная работа. Главная тема нашего последнего совместно проведенного вечера в гостинице "Иверия" — Диоскурия, история и будущее грузинской земли. Почти до утра мы сидим за черным, как деготь, чаем, который вновь заварил Саша.
Восточный ренессанс
"Никогда не забуду, что не где-нибудь, а именно здесь, в этом городе, я сделал свои первые неуверенные шаги на пути, по которому я иду уже четыре десятка лет. Кажется, что величественная природа этого края и романтически кроткий нрав его народа, — именно эти две силы послужили для меня толчком, в результате которого бродяга превратился в писателя".
С этих слов, произнесенных Горьким на юбилейной встрече в Тбилиси, когда он уже был всемирно известен, начинается наша беседа с работниками Института истории грузинской литературы Академии наук Грузии.
По моей просьбе они охотно рассказывают мне об отношении Горького к Грузии. Сначала о его первом пребывании здесь в 1891 и 1892 годах, на которое в своей речи ссылается Горький. В свое время он зарабатывал себе на жизнь в качестве рабочего железной дороги, вступил в один из многочисленных тбилисских марксистских кружков и написал свой первый рассказ "Макар Чудра", который под псевдонимом "Горький" был опубликован в грузинской газете "Кавказ". Во время последующих приездов в Грузию у него возникли новые творческие контакты с целым рядом грузинских литераторов.
— Творческие связи между русскими и грузинскими писателями имеют, как мне хорошо известно, традицию, которая восходит к началу XIX в., — замечаю я утвердительно-вопросительно и ссылаюсь на Грибоедова, декабристов, Пушкина.
— Эта традиция гораздо старше, — возражает один из моих собеседников, профессор, в элегантном костюме стального цвета. — Сильное взаимное влияние было обусловлено и многочисленными литературными переводами. Кроме того, более тесные контакты между Грузией и Россией установились в результате брака царицы Тамары с сыном русского князя. Само собой разумеется, наш поэт Шота Руставели, бывший министром Тамары, знал не только ее русского мужа, но и был знаком с появившимся в это время русским эпосом "Слово о полку Игореве" и другими значительными событиями русской истории и культуры.
О поэме Руставели мне хочется узнать несколько подробнее. Все, что связано с его поэмой "Витязь в тигровой шкуре", представляет для меня особый интерес. Поэтому наша беседа все больше сосредоточивается на этой поэме и ее авторе.
— Для того, чтобы будущий писатель смог получить самое лучшее образование, возможное в то время, в Грузии были все условия, — поясняет мне профессор.
— Не хотите ли вы этим сказать, — спрашиваю я, — что и Руставели получил образование в Грузии?
— Сказать что-либо определенное о том, где и как он получил образование, было бы неплохо, — отвечает профессор, с сожалением пожимая плечами. — Согласно народному преданию, он учился в Константинополе или Греции, о чем, в частности, свидетельствуют его тонкие описания моря и литературные образы… С определенностью, во всяком случае, можно судить о результатах его учебы: он достиг вершин образования своего времени, разбирался в естествознании и философии, а также в светской и духовной литературе; кроме арабского и персидского, владел греческим языком. Знание греческого имело особо важное значение.
— Почему вы столь высоко оцениваете знание греческого?
— Тот, кто владел греческим, мог использовать труды античных и средневековых поэтов и философов, и Руставели использовал их в своем эпосе. В нем содержатся дословные цитаты или приводятся в свободном пересказе сентенции и реализуются переработанные вариации идей из работ Аристотеля, Эмпедокла, Гераклита, Платона и Псевдо-Дионисия. Несомненно, ему были известны произведения Гомера, а также Геродота и писателей Восточной Римской империи. Вы знаете, изучение греческого языка культивировалось в Грузии на протяжении всего средневековья. Для грузинского Возрождения это было чрезвычайно важно и давало Руставели преимущество перед основателями итальянского Возрождения Петраркой и Боккаччо.
Мне было известно, что Петрарка будто бы поцеловал рукопись Гомера, не сумев ее прочесть, а Боккаччо во время своего пребывания в Южной Италии воспринимал только звуки греческого языка. О чем я не знал и что меня поэтому поразило не менее, чем внезапный снегопад — аборигена Африки, было как бы мимоходом оброненное замечание обходительного профессора о существовании грузинского Возрождения.
— Правильно ли я вас понял? — переспрашиваю я. — Вы говорите о грузинском Возрождении и связываете с ним имя Руставели? Но это значит, что Возрождение имело место не только в Западной Европе, но также и здесь, причем не в XIV–XV вв., а уже где-то в XII в., то есть примерно на двести лет раньше!
— Совершенно верно. — Впервые за время нашей беседы профессор оживляется. — Известно, что по своему экономическому развитию восточные государства опережали в то время государства Европы. Значительно раньше, чем на Западе, здесь, на Востоке, возникли и совершенствовались ремесла; последние же в свою очередь создали условия для расширения торговли и тем самым для значительного подъема социальной и культурной жизни, что в конечном счете привело к развитию капиталистической общественной формации в недрах феодального строя. Короче говоря, для этой эпохи со всеми ее экономическими, социальными и культурными особенностями, свойственными странам Ближнего Востока, постепенно утверждается название "восточное Возрождение", составной частью которого является грузинское.
— Если какое-нибудь воззрение пробивает себе дорогу, то это значит, что существуют и противоположные точки зрения. Кто ваши противники?
— Буржуазные ученые на Западе. — Профессор уже больше не может усидеть на месте и то и дело подкрепляет свою речь жестами…
— Почему, — спрашиваю с недоумением я, — буржуазные ученые восстают против этих легко устанавливаемых фактов? Возрождение же было давно, столетия тому назад, это ведь прошлое?!
…Звонит телефон. Профессор снимает трубку, приглушенным голосом говорит несколько фраз по-грузински. По его подчеркнуто вежливому выражению лица, с которым он обращается ко мне, я понимаю, что его куда-то срочно вызывают. Поэтому от дальнейших расспросов о Руставели я отказываюсь. Я встаю и благодарю за беседу, которая дала мне столь материала для размышлений.
Профессор, извинительно улыбаясь, протягивает мне на прощание руку. Он, кажется, догадывается, что я понял смысл его слов, сказанных по-грузински. С подкупающей любезностью он приглашает меня продолжить нашу беседу после моего возвращения.
— После моего возвращения? — с удивлением спрашиваю я. — Откуда? Разве я куда-нибудь еду?
— Тогда я тоже ничего не знаю, абсолютно ничего!
Загадочно улыбаясь, он двумя пальцами поправляет свой темно-синий с жемчужинкой галстук и провожает меня до двери.
Двойная удача
Когда я, еще возбужденный интересной беседой, возвращаюсь в гостиницу "Иверия", меня ждут несколько приятных сюрпризов: стопка книг, переданных мне институтом литературы, и письмо с официальным приглашением на праздник поэзии.
— Ну что, принимаете приглашение? — спрашивает вдруг кто-то за моей спиной.
Я поворачиваюсь и обрадованно здороваюсь с Зурабом Ахвледиани.
— Да, конечно! Когда состоится праздник? Сегодня вечером?
— Через три дня, и не в Тбилиси, а в Рустави, — отвечает он.
— Ах, вот оно что. Значит поездка, на которую намекал профессор, состоится в Рустави! — Я чуть было не рассмеялся. — Рустави — это ведь промышленный город, в получасе езды на машине вниз по течению Мтквари?
— Нет, праздник будет в другом Рустави, там, где родился Руставели, в селе Рустави. Это за Малым Кавказским хребтом, под Ахалцихе, неподалеку от турецкой границы. Ехать туда придется долго, если вас это не пугает.
— Поедем в любом случае, что бы там ни было, — отвечаю, загоревшись, я. — Вы, надеюсь, тоже едете?
— Я не могу из-за работы, — произносит с искренним сожалением Зураб. — Но нашелся человек, который сможет быть для вас, пожалуй, лучшим попутчиком, чем я. Думаю, что вы с ним знакомы.
После этих слов он проводит меня к столу, за которым сидит усатый, примерно моего возраста, лысеющий мужчина. Испытующе я смотрю на его узкое, покрытое легким загаром лицо. Взгляд его больших черных глаз из-под поднятых густых бровей кажется особенно внимательным: он выражает неутолимое желание все сразу увидеть, осмыслить и полностью воспроизвести. И по уголкам его губ, слегка прикрытых усами, можно предположить, что скрывать свои мысли, воздерживаться от выражения своего мнения он не привык. Интересное лицо!
Когда я вижу его, маленького и юркого, поспешно встающего мне навстречу, то еще не понимаю, откуда, по словам Ахвледиани, я знаю этого человека. Только после того, как я слышу его имя, мне сразу все становится ясно. Это Реваз Джапаридзе.
Конечно! Я знаю его точно так же, как еще до моего приезда в Тбилиси знал Нодара Думбадзе. Книгу Реваза Джапаридзе переводил тоже я. Поэтому с его мыслями и чувствами я, быть может, знаком лучше, чем с теми людьми, которых знаю давно лично.
Радость от личной встречи — обоюдная, и, чтобы установить между нами контакт, Зурабу не надо брать на себя роль посредника. Решение принимаем сразу: едем завтра. Реваз уже заказал машину и берет с собой свою жену Кетеван.
— Обо всем остальном в дороге! — говорит Реваз своим хриплым, видимо от рождения, голосом, что еще больше подчеркивает его неугомонность. — Итак, до завтра! — Он протягивает мне свою поразительно нежную руку. — До свидания! Желаю как следует выспаться!
Выспаться! Совет добрый. Но человек полагает, а мои грузинские хозяева располагают. На этот раз они располагают мною в лице Зураба Ахвледиани, который ведет меня в Дом культуры трамвайного депо, где как раз проходит генеральная репетиция ансамбля песни и танца трамвайщиков.
На сцене большого зала, в который мы входим, выступает смешанный хор в старинных грузинских одеждах: женщины с длинными черными косами, в белых длинных платьях, мужчины в приталенных коротких черных куртках и в узких черных брюках.
Мягко звучит задушевная песня о Сулико, которую я не раз уже слышал дома и считал "типично грузинской". Но чем больше песен исполняет хор, тем больше я убеждаюсь в том, что "Сулико", может быть, даже самая "негрузинская" песня Грузии, что, видимо, отчасти зависит от репертуара, от вкуса хора. Во всяком случае, в большинстве песен преобладает не протяжная задушевность и мягкая нежность "Сулико", которая мне, несмотря на это, нравится, как и прежде.
Другие песни уже настораживают меня своей мелодией. Несколько непривычное для моего слуха сочетание звуков в мелодии на три голоса, усиливаемое к тому же различной ритмичностью отдельных голосов, создает какую-то совершенно необычную, заряженную энергией напряженность, которая поражает не силой голосов, а скорее тем, что не какой-то отдельный голос, не группа голосов ведут мелодию, а все голоса, то одни, то другие, как бы поддерживая, ободряя, зажигая и увлекая друг друга.
Я воспринимаю эти песни как песни гор, эхом разносящиеся по широким долинам, песни стройных черных всадников, которые они поют после бешеной скачки, после трудного боя, вокруг костра у подножия скалы; высоко к небу несется слышимый в них клич всадников, нередко резко прерывающий пение, как будто поющие начинают вслушиваться в понятную, казалось бы, только им мелодию, своеобразно сочетающую в себе сдержанную силу и глубокое чувство.
Хор отступает. На сцену вихрем врываются всадники. Теперь я их вижу живыми, такими, какими они только что рисовались в моем воображении. Но прежде чем вскочить в седло и пуститься в азартную скачку, они показывают то, что мне не приходилось видеть ни у одного народа мира: танец на кончиках пальцев! Да, мужчины в плотно облегающих сафьяновых сапогах из тончайшей кожи танцуют на кончиках пальцев! Как бы зазывая, они вихрем проносятся мимо парящих в своих длинных воздушных одеждах женщин, которые грациозно сходятся группами, парами или в один ритмично парящий круг. Это сочетание воздушно-прозрачного белого и по-рыцарски гордого черного, этот захватывающий контраст, который сдержанная страсть музыки превращает в гармоничное совершенство, — ничего подобного я еще никогда не видел. Не отводя глаз от сцены, я наклоняюсь к Зурабу.
— Это просто сказка!
— Очень рад, что вам нравится, — отвечает сдержанно Зураб. — Знаете, эти старинные песни и танцы значат для нас, конечно, много. В них сквозь столетия наш народ, переживший немало трудностей, сохранил свое самое сокровенное, что в своей поэме по-своему выразил и Руставели: стойкое мужество, братскую дружбу и глубокую любовь, основанную, как это, может быть, чувствуется и в этом танце, на взаимном уважении друг к другу, на уважении к женщине. Для Руставели женщина была не просто объектом любви, символом или каким-то высшим существом, но, равно как и мужчина, зрелой личностью, наделенной индивидуальными чертами, человеком, которого следует уважать просто как человека.
Не в силах оторваться от происходящего на сцене, я не могу сейчас сосредоточиться на внезапной мысли Зураба, на неожиданной связи Руставели и этого чудо-танца. Только на мгновение у меня появляется мысль, что такое отношение поэта к женщине, видимо, связано с гуманизмом Возрождения, о котором сегодня говорил профессор. Но вот уже следующий номер. Быстро чередуются танцы, пока наконец не наступает очередь действительно искрометного танца с саблями, который, подобно адской схватке конницы, сотрясает почти пустой зал.
Репетиция закончена. Зураб встает.
Почти отрешенным взглядом я оглядываю танцоров, медленно покидающих сцену. Вдруг меня осеняет идея, и я возбужденно дергаю Зураба за рукав.
— Вон с тем молодым человеком я должен поговорить, обязательно! — Я показываю ему на сильного молодого парня с лихо подрезанными усиками. Он как раз направляется за кулисы.
Не выразив ни малейшего удивления и ни секунды не мешкая, Зураб тут же передает мою просьбу какому-то товарищу, оказавшемуся комсомольским работником, и тот сразу же быстро идет за сцену. Гость выразил пожелание…
В помещении дирекции Дома культуры мы встречаемся. Зураб и комсомольский работник садятся в угол. Для чего я затеял эту встречу, никто из них не спрашивает. Да и сам я этого еще точно сказать не могу.
Просто мне хочется поближе познакомиться с человеком, которому я обязан сегодняшним удовольствием; к тому же у меня есть для него один вполне определенный вопрос.
…В комнату, заметно смущенный, входит молодой танцор с усиками и растерянно смотрит по сторонам. Комсомольский работник представляет его мне по имени: Тариэл, и говорит ему несколько, видимо, ободряющих слов по-грузински. Тариэл, держа в руках огромную грузинскую кепку, делает усилие и садится напротив меня, лицо его выражает решимость на все готового человека.
Заметив его смущение, я испытываю уже некоторую неловкость от того, что поставил его в такое положение. Поэтому с удвоенной энергией я пытаюсь устранить формальные неудобства как можно скорее. Я рассказываю ему об увиденном на его родине, о радушном приеме, который мне повсюду оказывают, о том, что выступление его ансамбля произвело на меня необычайное впечатление. Наконец он оставляет свою кепку в покое. Складки на переносице, над которой нависают темные брови, разглаживаются. Нашу беседу, которую мы ведем, конечно, по-русски, уже больше ничто не стесняет.
Я узнаю, что он электрик, в депо пришел учеником, ему 27 лет, четыре года как женат. Жена — продавщица. Двое детей.
— Вы, насколько
я могу судить, хорошо говорите по-русски, — замечаю я. — После школы вы, видимо, изучали русский язык на курсах или читали русские книги?
Молодой электрик мнет бежевую кепку, нерешительно произносит:
— Я служил в армии. Там говорить научишься.
— Почему у вас такое имя — Тариэл? — спрашиваю я, ожидая, что он свяжет его с национальным эпосом своего народа. — Я имею в виду, почему ваши родители дали вам это имя.
Этот вопрос кажется ему в высшей степени странным. Растерянно он смотрит на Зураба и молодого товарища из ЦК комсомола.
— Тариэл, как Тариэл! Чего тут непонятного.
В ответ я извинительно пожимаю плечами.
— Нет, для меня это не так уж и понятно.
— Как Тариэл из "Вепхисткаосани"…
— "Вепхисткаосани"? Что это такое? — спрашиваю я с недоумением.
— Грузинское название поэмы Руставели "Витязь в тигровой шкуре", — поясняет мне Зураб, которого ответ Тариэла немало позабавил.
— Конечно! — электрик утвердительно кивает. — Меня назвали Тариэлом по имени одного из героев поэмы Руставели. Одного из моих товарищей по работе зовут Автандил. Это имя тоже встречается в "Вепхисткаосани", так зовут упоминаемого там араба. У нас многих называют по имени тех, о ком идет речь у Руставели.
Перейти от Руставели к вопросу, который я решил задать, нетрудно, поскольку вся его поэма, кажется, посвящена именно этой теме.
— Что является для вас наивысшим счастьем? — спрашиваю я под конец.
— Счастьем?.. — Тариэл задумчиво смотрит на меня и поправляет правой рукой непослушные волосы, спадающие на лоб. — Наивысшим счастьем…
Он вздыхает и покачивает своей большой головой. Внезапно выражение его лица проясняется и, смущенно улыбаясь, он говорит:
— Знаете, мне пришла на ум пословица. Ее часто приводил мой дед. "Жизнь похожа на лестницу, одни поднимаются по ней вверх, другие спускаются вниз". — Внезапно лицо Тариэла становится серьезным. — У моего деда было два сына. Одного из них забрала война, а другого сделала инвалидом, который промучался еще десять лет…
Тариэл опускает голову. После продолжительного молчания он тихо добавляет:
— Это был мой отец.
Неожиданный поворот нашей беседы поражает меня в самое сердце, сегодня, спустя многие годы после того, как отгремели последние залпы войны. При мысли о том, что темных волос головы Тариэла, на которую сейчас падает свет лампы, возможно, никогда не касалась рука отца, мне становится не по себе. Ведь стрелял в его отца немец.
— У меня тоже два сына. — Тариэл медленно поднимает голову. — Они не должны расти без отца. Могу ли я для этого что-либо сделать?.. Конечно… Вот и ответ на ваш вопрос… — Тариэл встает.
После того как он, попрощавшись, уходит, некоторое время все молчат. Первым наступившее молчание нарушает Зураб. Он смотрит на часы, напоминает мне о том, что мне завтра надо рано вставать, и дает понять, что сейчас лучше поехать в гостиницу.
…В своем номере я вскрываю пакет с книгами, который, к моему удивлению, профессор прислал мне прямо в гостиницу. Наряду со многими научными работами по истории и истории культуры Грузии в нем оказался также томик стихов грузинских поэтов.
Неведомыми путями
Там, где это только возможно, Гоги выжимает из "Жигулей" все, а большая часть пути пока все еще впереди. Дорога заасфальтирована недавно, почти прямая, просматривается хорошо и настолько широкая, что без труда позволяет обгонять едущие на малой скорости грузовики. Мелькают деревья, мосты, крепости, тоннели, дома. Едва успеваешь посмотреть по сторонам. Проносимся мимо собора Светицховели, и вот уже бывшая столица Грузии Мцхета остается позади нас. Мы сворачиваем со старой Военно-Грузинской дороги и едем параллельно Мтквари на запад. Куда дальше? Мне очень хотелось бы наконец узнать, как будет пролегать наш дальнейший маршрут. Но на мои замаскированные вопросы Реваз Джапаридзе отвечает лукавым подмигиваньем. Он говорит, что хочет доставить мне фантастическое удовольствие от поездки неизведанными путями.
Приключения начались уже с того, что наш отъезд из Тбилиси затянулся до вечера. Медленно заходящее у нас на глазах солнце окрашивает в красный цвет горную гряду, над которой справа от нас возвышается пятитысячеметровая вершина Казбека, а слева — Малый Кавказский хребет. Гоги, бывший тбилисский таксист, еще больше набавляет скорость, словно боится, что обе горы сойдутся где-то впереди нас и преградят нам путь. Я сижу сзади него, бросаю иногда взгляд на спидометр, в то время как Реваз, сидящий рядом со мной, расспрашивает меня о моей работе, о моей республике и о моих впечатлениях от Грузии.
Когда он спрашивает меня о моей семье и я говорю ему, что у меня трое детей и что я вместе с женой перевел его книгу "Марухские белые ночи", Кетеван, его жена, сидящая рядом с водителем, поворачивается к нам и включается в разговор. Как и всех женщин, ее особенно интересует то, как супружеской паре удается сотрудничество в работе над одной и той же книгой, какими методами в работе мы пользуемся и какую пользу или неудобства это сотрудничество вносит в процесс самой работы и в семейную жизнь. Мне становится ясно, что с проблемами литературы она, безусловно, знакома. По ее высказываниям можно судить о том, что с литературой ее связывает нечто гораздо большее, чем просто диплом. Кетеван — статная женщина, у нее не только умный, так называемый греческий, профиль, выгодно оттеняемый стянутыми на затылке в густой пучок темными волосами, — она и в самом деле умна. Я не знаю, что делает ее особенно привлекательной: царственная осанка или как бы идущая от самого сердца приветливость ее агатовых глаз, ее манера разговаривать с людьми или мягкость поразительно красивых, изящных рук?
Мы проезжаем через Гори. У крепостной стены, которая упрямо взметнулась над крышами почтенного старого города, на склоне горы приезжающих встречает гигантский бронзовый барельеф: юноша, сидящий на льве и держащий в левой руке вместе с опущенным вниз мечом гроздь винограда. Это новый символ города Гори, который впервые упоминается в летописи в VII в.
Проехав Гори, мы вскоре сворачиваем с великолепной автострады на север. До Цхинвали 32 километра, читаю я на дорожном указателе. Дорога поднимается вверх, петляет, она уже не такая широкая и хорошая. Гоги приходится сдерживать свой темперамент. Ревазу, кажется, — тоже. Его голос звучит еще более хрипло, когда он, едва мы отъехали километра три от Гори, наклоняется к водителю и показывает на спидометр. Это повторяется несколько раз, пока Кетеван не останавливает его, делая ему спокойным голосом замечание.
Реваз усаживается, смотрит через боковое окно на приближающиеся отроги Большого Кавказа, проводит ладонью по затылку и показывает на лесистые горы впереди нас.
— Южная Осетия, — говорит он, лукаво улыбаясь.
— Осетия? Почему Осетия? Я думал, мы едем в Рустави.
— Так мы туда и едем…
— Почему же тогда на север? Рустави ведь находится на юге? — Недоверчиво я смотрю на Реваза. Его поездка неведомыми путями становится мне подозрительной.
Хрипло смеясь, Реваз кладет мне на плечо свою руку.
— Мы едем через Южную Осетию в Рустави. Путь не прямой, согласен, но мне хотелось показать вам по дороге мою дачу.
— О, это очень мило. — Я покорно смиряюсь со своей судьбой.
— А как вы относитесь к тому, что в лесах Осетии вы можете встретиться с дикими животными?
— Что за дикие животные? — Я ему не верю. Он, видимо, снова хочет надо мной подшутить.
— Здесь водятся дикие кошки, медведи, волки, — говорит Реваз вполне серьезно.
— Как, в горах? — Я не могу ему поверить, но Кетеван подтверждает слова своего мужа.
— Южная Осетия кишит различными хищниками, — поясняет Реваз.
— Южная Осетия — разве это все еще Грузия?
— Да, автономная область, входящая в Грузинскую республику.
Пока мы все выше поднимаемся по горным кручам, лес на которых становится все гуще и гуще, и все ближе продвигаемся к Цхинвали, Реваз рассказывает об истории этого края и напоминает мне о Великой абхазской стене, на которую я буквально натолкнулся в районе Сухуми.
— Вам, видимо, говорили, что эта стена была построена для защиты от аланов, степных кочевников. Аланы — это ираноязычные племена. В XIII в. они бежали от нашествия монголов в горы Центрального Кавказа и в Закавказье (Южная Осетия) и ассимилировались с местным кавказским населением. Прямыми потомками аланов являются современные ираноязычные осетины.
Уже в сумерках мы проезжаем Цхинвали — нарядный, несколько напоминающий село городок с населением около 25 тысяч жителей. Постепенно я начинаю ощущать голод. Кажется, что Реваз и не думает куда-нибудь завернуть. С нетерпением он снова подгоняет бедного Гоги, может быть чувствуя свою вину за то, что в расположенный на юге Рустави приходится ехать через север.
Голодными глазами я вглядываюсь в лиственный лес и пытаюсь обнаружить за мощными буками, платанами и дубами крупную дичь, которая подходила бы для моего аппетита. В лесу где-то раздается щелчок. Удачной охоты! Может быть, мне для того, чтобы перекусить, надо сначала уложить медведя?
Но послышавшиеся мне щелчки — это удары топоров, шум тракторов и электропилы. В местных лесах много пород ценного дерева. Навстречу нам движутся целые колонны тракторов со специальными длинными прицепами. Вслед за ними, и тем плотнее, чем ближе мы подъезжаем к местечку Кваиси, идут сверхмощные самосвалы, груженые огромными монолитами, взятыми из многочисленных здешних каменоломен. Медленно и натруженно ползут колонны машин вверх по горным серпантинам…
Темнеет — как это всегда бывает в горах — внезапно.
Свет фар высвечивает табличку с надписью на грузинском языке. Развилка. Реваз подается вперед и говорит Гоги, чтобы он свернул направо.
Не раздумывая, Гоги тормозит и съезжает с шоссе в лес. Машину бросает из стороны в сторону, раздается скрежет. То, что Реваз ошибочно принял за дорогу, оказалось просекой, по которой обычно, видимо, ходят только лесовозы.
— Куда же теперь? — спрашиваю я настороженно, с трудом удерживаясь на своем месте, чтобы не удариться головой о крышу машины.
— Поедем по более короткому пути, — решительно отвечает Реваз.
Но, кажется, в том, что это именно так, не уверен и он сам.
На разъезженной лесной горной дороге да еще в такую темень нас каждые 20–30 минут поджидают какие-нибудь неожиданности: огромные лужи, выступающие из-под земли корни деревьев, низко нависающие сучья. Затем дорога снова переходит в песчаную ложбину, все более круто поднимаясь в гору. Несколько раз нам приходится выходить и убирать с пути поваленные деревья и большие камни.
Во время всей этой суеты Кетеван сидит, сложив руки, рядом с Гоги, угощает нас конфетами, посасывая сладкие леденцы, которые хоть как-то утоляют голод. Ни малейшего нетерпения она не проявляет. Да и к чему накалять атмосферу, когда и так уже всем стало ясно, что попытка сократить путь оказалась весьма неудачной.
Только один раз, в тот момент, когда я и Реваз проталкиваем машину через вязкую колдобину, она бросает какое-то короткое замечание. Но относится оно к паре глаз, сверкающих из поросли вокруг огромного дуба.
— Медведь, — говорит Реваз, изображая на лице улыбку.
— Дикая кошка, — мрачно возражаете ему Гоги.
Чем выше мы поднимаемся, тем больше расступается лес и тем надежнее становится дорога. Уже поздней ночью мы выезжаем на каменистое плато и наталкиваемся на небольшое селение, которое на моей карте Грузии даже не значится. Мы останавливаемся на окраине, около дома, где уже стоит несколько больших грузовиков.
"Что же это может быть?" — гадаю я, в то время как Реваз исчезает внутри здания. Я прохаживаюсь около входа. Мертвая тишина. Вокруг ничего не видно. Дом деревянный, двухэтажный, за ним плещется вода. Может быть, источник.
— Что это может быть? — спрашиваю я Гоги, который, измученный трудной ездой, кряхтя, вылезает из машины.
— Понятия не имею. Судя по всему, это мотель.
В горах раздается звериный крик, многократно подхваченный эхом хриплый вой. Волки?
Примерно минут через пятнадцать в одном из нижних окон вспыхивает мигающий огонек. Еще через четверть часа на крытую терассу выходит средних лет женщина со свечой в руке, а за ней — похожий в отблеске свечи на привидение — Реваз. По обыкновению нетерпеливо, он машет нам рукой. Странно, почему он объясняется жестами?
Я помогаю Кетеван выйти из машины. Неуверенно мы поднимаемся втроем на террасу по деревянной лестнице, ступеней которой, несмотря на свет свечи, почти не видно.
— Осторожно! — говорит шепотом Реваз.
Показывая куда-то в темноту, он берет за руку Кетеван. "Почему осторожно?" — недоумеваю я, посматривая с вожделением на дверь, за которой не только надеюсь обрести ночлег, но и утолить голод.
Через четыре-пять шагов я, вдруг задеваю правой ногой за что-то мягкое, спотыкаюсь и, чтобы не упасть совсем, опираюсь на Кетеван. Мягкий предмет, о который я споткнулся, начинает шевелиться. Слышится ворчанье. Смотрю на освещенное свечой место и вижу лежащих на полу закутавшихся до головы в одеяло людей. Растерянно я осматриваюсь по сторонам. По всей террасе, один подле другого, двумя рядами лежат спящие мужчины. Среди них старые и молодые, бородатые и безбородые, щуплые и мощные. Раскинув сильные, по-юношески прямые и узловатые, с набухшими венами, расслабленные и сжатые в кулаки руки, они спят под одинаковыми шерстяными одеялами одного и того же светло-коричневого цвета. У всех на лице выражение усталости и удовлетворенности от прошедшего трудового дня. Их сон похож на сон солдат после битвы. Тех солдат, которые сорок лет назад неподалеку отсюда защищали перевалы Кавказа от рвущихся сюда немецких войск. Они напоминают солдат 18-й армии советского военачальника К. Н. Леселидзе, подвиг которых на Марухском перевале описал в своей книге Реваз Джапаридзе. Хозяйка дома отводит нам по-туристски скупо обставленную комнату с тремя железными кроватями, заваривает крепкий чай.
Из своего походного чемоданчика Кетеван извлекает различные жареные закуски и хлеб, и мы принимаемся за еду.
Чтобы не мешать Кетеван приготовиться ко сну. Реваз просит меня пройти в маленькую, заставленную шкафами прихожую. В свою очередь чтобы не мешать нам, Кетеван, когда мы входим в комнату, прикрывает своей изящной рукой глаза. Не подавая виду, что этот необычный жест меня забавляет, я быстро отворачиваюсь.
После того как гаснет свет, я еще долго не засыпаю. Мысленно еще находясь со спящими на террасе, я смотрю в окно на чистое небо. Холодным блеском, словно льдинки, сверкают звезды. Как тогда, во время белых ночей на Марухском перевале. Тогда над снежной шапкой Маруха дул пронизывающий ледяной ветер. Крепчавший мороз отбирал у засевших в мелких, с трудом пробитых во льду окопах людей последние частички тепла. Они уже давно ожидали помощь. Доставить на обледеневший перевал зимнюю одежду было нельзя, поэтому они надеялись получить хотя бы боеприпасы и немного провианта. Ряды защитников редели с каждым днем. В батальоне старшего лейтенанта Рухадзе уже оставалось не более ста человек, бои становились все ожесточеннее. Но за ними была Грузия, их отцы и матери, их жены и дети. Оставшиеся сто человек выстояли и наконец даже сами перешли в атаку, расстреляв последние патроны, с холодным оружием в руках. О них можно было бы сказать словами древних: "Путник, если возвратишься в Спарту, скажи согражданам, что мы полегли за свое отечество — как нам повелел суровый закон".
И на старуху бывает проруха
На следующее утро мы замечаем, что от скромного мотеля до шоссе меньше одного километра. По вполне понятным причинам Реваз не берется нас убеждать, что направление, в котором он предложил "укоротить" наш путь, было правильным.
И от этого он только выигрывает: уже не утаишь, что от выступа скалы или от корня дерева "укоротилась" выхлопная труба наших "Жигулей". Гоги лезет под машину. Несколько шоферов помогают ему снять трубу вместе с глушителями. На грузовике ее куда-то отвозят, чтобы наварить. Возможность продолжить путь появляется только в полдень.
Едем через горы. Пересекаем небольшую речушку и и оставляем пределы Юго-Осетинской автономной области. На одном из склонов горы близ городка Они меня поджидает сюрприз: дача Реваза и Кетеван.
При слове "дача" я, пожалуй, меньше всего думал о роскошных экземплярах дачных домиков у меня на родине, в которых комфорта иногда больше, чем в капитальном жилом доме. Под дачей я непроизвольно представлял себе скромный одноэтажный деревянный домик с одной или двумя комнатками, со сколоченной из досок будкой в конце садика. Но то, что я вижу на склоне горы близ Они, когда мы выезжаем из лесистой долины на каменистую, поднимающуюся вверх извилистую дорогу, то, что белокипенным цветом пробивается через густую листву деревьев, вырастая передо мной двумя этажами и террасами, походит на итальянскую виллу, сказочный дворец. Другого слова не подберу. Во всяком случае, от моих прежних представлений о даче не остается и следа.
— Ну как, нравится вам наш дом? — спрашивает меня с хрипотцой в голосе Реваз.
Он наслаждается моим замешательством и не считает за труд выслушивать выражения моего искреннего восхищения.
Реваз, насколько я могу судить как переводчик его произведений, относится к числу не только наиболее талантливых, но и плодовитых писателей Грузии. Новенькая дача, которая, между прочим, после того как будет отделана изнутри, станет постоянным местом жительства его семьи, с неба ему не свалилась. Его послужной список свидетельствует о том, что работает он весьма старательно. Первым произведением в прозе, которое принесло ему признание как писателю, был его двухтомный роман "Вдова солдата". Достойным внимания считается его четырехтомный исторический роман "Тяжелый крест". Оригинален и интересен его двухтомный роман "Страстная неделя", в котором он использует до сих пор не опубликованный материал о восстании грузинских военнопленных в 1943 году на голландском острове Тексел. Несколько небольших романов, два тома рассказов, два тома критической публицистики, один фильм, удостоенный нескольких международных премий, для которого он вместе с режиссером Тенгизом Абуладзе написал сценарий, — перечислить все, что написал этот человек, просто невозможно. Многие из его произведений переведены на русский, украинский, болгарский, венгерский, французский и другие языки.
Когда мы вчетвером сидим на террасе, с которой открывается живописный вид на долину и окружающие ее горы, и принимаемся за приготовленный от души завтрак, находившийся в походном чемоданчике Кетеван, я произношу тост за мир этой будущей семейной обители, а также за писательский труд Реваза. Для меня и то и другое — неразделимо.
Как выясняется, Они является самой северной точкой нашего маршрута. Теперь он проходит вдоль Риони, самой большой реки Западной Грузии, до Кутаиси.
Поддерживаемая в хорошем состоянии асфальтированная дорога проходит через мягкие изгибы долины Риони, и Гоги съезжает с нее весьма неохотно. В городе Амбролаури мы, руководствуясь дорожным указателем, сворачиваем в город горняков Ткибули. Вскоре мы поворачиваем на Никорцминду, где Реваз вместе со мной хочет посмотреть храм.
— Не потеряем ли мы, завернув сюда, слишком много времени? — задаю я ему неожиданный вопрос.
Реваз догадывается о причине моего беспокойства и смеется.
— Не показать вам храм Никорцминда я не могу. Вы ведь знаете, что Светицховели в Мцхете был построен в то же время, то есть в начале XI в. А это постройка еще более характерна для грузинской архитектуры того периода. Вы увидите это сами: хотя в композиции и много сходства, все же общее впечатление от храма Никорцминда совершенно иное, чем от Светицховели.
В том, что Реваз прав, я вскоре убеждаюсь сам. Мы останавливаемся в небольшой деревушке перед обнесенным забором храмом, у которого уже остановилось немало других машин.
С первого взгляда храм действительно напоминает мне своего близнеца Светицховели. Но чем ближе я подхожу, тем более убеждаюсь в том, что при всем внешнем сходстве у близнецов разный характер и несхожий язык.
В отличие от Светицховели, который произвел на меня впечатление именно возвышенной простотой своих ровных стен, продуманной соразмерностью своих архитектурных форм, меня привлекает здесь богатство декоративного убранства. Куда ни посмотришь — повсюду роскошные орнаменты и фигурные барельефы.
Реваз обращает мое внимание на то, что совокупность всех элементов конструкции образует целую декоративную систему, отличающуюся по способу исполнения от декоративной системы в Западной Европе в эпоху романтизма.
С объяснениями Реваза Кетеван, кажется, не согласна. Видимо, так могла объяснить и она сама. Она стоит в нескольких шагах от нас, запрокинув голову, погрузившись в созерцание этого произведения зодчества, покоящегося на горе в деревенской тиши, и что-то едва слышно говорит. Говорит в рифму, по-грузински. "Стихи", — догадываюсь я. Заметив, что я за ней наблюдаю, Кетеван кончает читать стихи и подходит к нам.
— Когда я стою перед этим храмом, — смущенно улыбаясь, говорит она, — мне вспоминается стихотворение, ода, которую написал о храме один из наших известных поэтов-лириков, Галактион Табидзе.
Когда мы обходим храм, она еще раз повторяет наиболее понравившиеся ей строфы по-грузински и пытается перевести их мне.
У главного портала слышим громкую речь. Гоги и Реваз идут вперед. Когда Кетеван и я сворачиваем за угол, то видим перед порталом нескольких бородатых пожилых мужчин. Отчаянно жестикулируя, они окружают молодого безбородого человека в белой с короткими рукавами рубашке и с возмущением что-то ему говорят.
С любопытством Гоги и Реваз подходят к спорящим и прислушиваются. Кетеван и я стоим в отдалении.
— Что они, выпили лишку? — спрашиваю я Кетеван.
— Не знаю, — отвечает она нерешительно, — молодой человек, видимо, чем-то не угодил старикам.
Да, на пьяных они не похожи. И вообще пьяных в Грузии я нигде не видал. Самое большее — иногда подвыпивших, подгулявших.
Нет, старики не пьяные. Но своими криками они действуют молодому человеку в белой рубашке на нервы. Несколько раз он поворачивается к ним спиной и порывается уйти, освобождая путь своими сильными руками. Но они его не отпускают, оттаскивают тут же назад, и даже бегут за ним вслед, когда ему удается сделать несколько шагов. Судя по всему, их распалил до такой степени не алкоголь, а неудержимый гнев.
С любопытством наблюдая за спорящими, я очень хочу узнать причину разгоревшегося спора. Но когда я поворачиваюсь к Кетеван, то вижу, что она уже идет к нашей машине.
Внезапно крики перед воротами храма стихают. Безбородый молодой человек в белой рубашке, преследуемый бородачами, бежит мимо меня к своей машине — ярко-зеленому "Москвичу". Ожидающие его двое других открывают дверцу, заводят мотор.
Едва молодой человек успевает исчезнуть в машине, как его преследователи оказываются на сельской улице. С ревом зеленый "Москвич" уносится прочь, а через несколько секунд за ним вдогонку устремляется светлая "Волга".
— Поехали, Гюнтер, нам нужно торопиться, — зовет меня Реваз, спешащий с плохо скрываемым возбуждением к "Жигулям".
Вдоль огромного водохранилища мы на бешеной скорости мчимся за уходящими от нас машинами, которые несутся на поворотах так, что только свистят и шипят шины. Внезапно "Волга" вырывается вперед, догоняет зеленый "Москвич" и обходит его. Но "Москвич" увеличивает скорость, обгоняет "Волгу" и оставляет ее позади. Но все же "Волга" вновь берет свое. Она почти настигает его, идет так близко, что кажется, будто уже вцепилась в него, вновь пытается обогнать "Москвич", находится с ним уже на одном уровне. На дороге столб пыли. Классическая гонка с преследованием! Но почему в ней участвуем мы? За кем мы гонимся и почему? За кем гонятся старики? За преступником, на которого объявлен розыск? Или они его в чем-то заподозрили?
Реваз отвечает на мои вопросы уклончиво. У первого же перекрестка нас останавливают. Двое милиционеров просят нас прижаться к обочине. Гоги останавливается и выходит. Дело ясное, думаю я, ему придется расплачиваться за превышение скорости. Но никаких претензий к нему милиционеры не высказывают. У них есть какое-то дело к Ревазу. Они просят пройти его к стоящему рядом тополю, в тени которого я вновь вижу бородатых стариков. Прохожу к перекрестку. Действительно, за углом стоит светлая "Волга". Теперь я уже вообще ничего не понимаю. Единственный человек, который может просветить меня, — это Гоги. Когда мы были у храма, он, находясь в непосредственной близости, мог наблюдать за всем сам. Сосредоточенно покуривая, он и сейчас слушает то, о чем идет речь в тени серебристого тополя.
Через некоторое время он бросает окурок в урну и неторопливо подходит ко мне.
— Что это значит? — с нетерпением спрашиваю я его.
Гоги украдкой смотрит по сторонам, медлит. Наконец он решается и начинает рассказывать.
То, что я слышу, поражает меня не меньше, чем если бы я сейчас на этом перекрестке внезапно увидел паланкин с царицей Тамарой и Руставели.
Бородатые старики, как выяснилось, вступили с молодым человеком в спор из-за того, что тот оставил свое местожительство в Грузии и поступил на работу в другой союзной республике. Хотя молодой человек ясно обосновал свой поступок тем, что работа, которую он нашел на новом месте, ему более по душе, что там он создал себе семью, старики тем не менее расценивают его поступок как предательство Грузии. "Бросить мать-Грузию — это такое бесстыдство", — негодовали они, предупреждая, что если он тут же не раскается в содеянном и не поклянется исправить свой поступок, то они применят силу. Они так бы и сделали, если бы ему не удалось бежать.
Старики не отставали от него на своей "Волге" до самого Ткибули. До этого перекрестка. Но здесь молодому человеку повезло: ему удалось проскочить перекресток на зеленый, а "Волга" вынуждена была остановиться. После этого трое стариков обратились к милиционерам и пожаловались на водителя зеленого "Москвича", который якобы нарушил правила уличного движения. Они настаивали на том, что "Москвич" помешал им сделать обгон и пытался столкнуть их в кювет. Подтвердить это мнимое хулиганство по требованию стариков должен был в качестве, так сказать, "нейтрального наблюдателя" Реваз. Разумеется, давать такие показания Реваз отказался, сообщив милиционерам то, что было на самом деле.
— Но почему он ничего не сказал об этом мне? — расстроенно спрашиваю я Гоги.
— Подождите, еще расскажет, — отвечает Гоги, пронзая меня своим орлиным взглядом.
Гоги прав, объяснять ничего не надо. Я знаю, что любовь к родине не имеет в своей основе ничего предосудительного. Но как немцу мне также понятно и то, что раньше на этом чувстве бесцеремонно спекулировали господствующие классы. В том числе и в Закавказье.
То, что народы Закавказья все лучше понимают друг друга и становятся более сплоченными, является результатом последовательной национальной политики Советской власти. Она предоставила всем народам и национальностям одинаковые права и создала одинаковые условия для развития, уничтожив почву для национальной розни, той розни, которая искусственно разжигалась буржуазией по принципу "разделяй и властвуй".
Опубликованная уже в ноябре 1917 года Декларация прав народов России заложила фундамент будущего союза пятнадцати республик, каждая из которых представлена в Верховном Совете СССР. Перечислить все то, что конкретно дает сотрудничество республик, народов СССР, здесь невозможно.
О грандиозности пройденного пути может судить только тот, кто знаком с историей Закавказья. Во всяком случае, эпизод наподобие того, который произошел с бородатыми стариками, представляет собой сегодня редкое исключение, тем более что Грузинская ССР сама может быть названа многонациональным государством.
Около 70 процентов населения — грузины, далее идут армяне, русские, азербайджанцы, осетины, греки, абхазы, аджарцы, украинцы, евреи и представители многих других национальностей. Особенно пестрыми по составу населения являются крупные города Грузии: Тбилиси, Батуми, Сухуми и Рустави. Только в Тбилиси проживают представители 80 различных национальностей.
Во всем Советском Союзе примерно с середины 20-х годов происходит то, к чему не могут легко привыкнуть пожилые люди, но что еще более ускоряется в результате бурного экономического развития: растущее смешение народов и национальностей. Уже в течение десятилетий тысячи молодых грузин получают профессии на Урале и в Донбассе, в Москве, Ленинграде и многих других промышленных центрах Советского Союза. С другой стороны, в Грузию направляются тысячи специалистов, которые готовят здесь молодую смену металлургов и строителей. Если молодой человек, к которому с таким непониманием отнеслись старики, принадлежит к числу тех, кто, получив образование, поселяется за пределами Грузии, то многие, приехавшие сюда из других республик, независимо от побудивших их на это причин, чувствуют себя здесь так хорошо, что остаются навсегда. Особенно наглядным примером многонациональности является промышленный город Рустави: плечом к плечу здесь трудятся представители 40 различных национальностей.
Продолжаем наш путь через город горняков Ткибули.
— Грузия богата углем, — поясняет мне Реваз. — Уже в конце прошлого века известный русский ученый Менделеев обращал внимание на то, что добыча угля обещает быть особенно высокой в районе Кутаиси, тем более что уже в то время из Кутаиси в Ткибули была построена железная дорога, а толщина угольного пласта в районе Ткибули достигает порой 15 метров.
Жаль, что из-за недостатка времени мы не можем сделать остановку в прекрасном старом городе Кутаиси. Здесь на Городской окраине сосредоточены гигантские предприятия тяжелой и легкой промышленности. Мощнейший завод грузовых автомобилей, построенный после войны, относится к числу крупнейших предприятий Советского Союза.
— Район Кутаиси — Ткибули — это один из трех промышленных центров, — объясняет мне Реваз. — Здесь, как видите, ведется интенсивная добыча угля и сосредоточены главным образом машиностроение и легкая промышленность.
— Три таких крупных промышленных центра — это меня, по правде говоря, удивляет. В республике с пятимиллионным населением, которую в Европе более склонны считать идиллическим краем виноградников, чайных плантаций, цитрусовых…
— …и раем, в котором люди просто пожинают плоды, — добавляет Реваз, его аскетическое лицо искажает досадливая гримаса. — Черт знает откуда берется такая глупость! Тот, кто так говорит, должен был бы прежде сам все хорошенько посмотреть.
— Вот видите, этого-то я и хочу! Мне хочется, например, посмотреть Кутаиси, а вы не даете этого сделать, — говорю я с деланным возмущением.
Все смеются. Но затем Реваз вновь просит меня проявить понимание. Праздник поэзии в Рустави из-за нас переносить не будут. А мы должны еще пересечь Малый Кавказ. Его высота почти три тысячи метров. Кто знает, какие там дороги!
Действительно, кто знает! Гоги вздыхает, и его орлиный взгляд омрачается.
— Если бы из Тбилиси мы поехали прямо на Ахалцихе и не свернули бы с пути в Гори, то никаких причин для беспокойства у нас не было бы. Тбилиси — Гори — Хашури — Ахалцихе — это все прекрасные дороги. А здесь? До Абастумани они проходят только через небольшие населенные пункты: через Маяковский, Саирме…
— Стоп! — Я трогаю его за плечо. — Вы только что сказали "Маяковский"?
Гоги заметно мешкает с ответом. Считая, что он уже и так много вмешивался в дела своих пассажиров, Гоги хочет, чтобы на мой вопрос ответил Реваз. Но поскольку Реваз тоже молчит, Гоги, наконец, говорит:
— Мы едем через Маяковский, прежний Багдади, он сегодня называется по имени поэта, который здесь родился.
Это известие действует на меня как электрошок. В то же мгновение у меня созревает решение: чтобы там ни было, но в Маяковском мы остановимся! У меня быстро возникает план, как уговорить Реваза. Но не все так просто. Он ведь и сам не промах. О Маяковском, разумеется, поначалу ни слова. Вначале я пытаюсь убедить Гоги в том, что дорога через Секарийский перевал, как мне будто бы рассказывал один шофер в Тбилиси, находится в отличном состоянии и не уступает лучшим дорогам столицы. Так я надеюсь сделать Гоги своим союзником. Но его серые глаза в отражении зеркала остаются неподвижными.
Внезапно Кетеван поворачивается к мужу и говорит (специально по-русски, чтобы ее слова мог понять и я):
— Реваз, а как ты смотришь на то, чтобы мы немного посмотрели Багдади? Ведь все равно мы будем проезжать мимо.
При этом в ее глазах мелькает едва заметная улыбка, и я еще раз убеждаюсь в том, что она женщина умная.
На родине Маяковского
Останавливаемся перед длинным высоким деревянным домом, окруженным мощными старыми деревьями. Деревянная лестница с дюжиной ступенек ведет на террасу, которую покрывает широкая, с острыми фронтонами крыша. Большая белая доска на просторном крыльце возвещает о том, что 7 июля 1893 года в этом доме родился русский поэт Владимир Маяковский.
Через некоторое время, протиснувшись через стремянки и банки с красками, мы проходим в просторную комнату, где нас знакомят с молодой женщиной, работающей в этом доме-музее. Она приносит пачку снимков, документов и других материалов и сразу же начинает рассказывать о годах юности, проведенных поэтом в этом селе.
Молодая женщина, которую, насколько мне помнится, зовут Нона, испытывает явное удовольствие от того, что может познакомить иностранца с жизнью поэта. Она буквально засыпает меня интересными подробностями из жизни семьи русского лесничего, в которой вырос Володя.
— Вот посмотрите на фотографию из семейного альбома. — Хотя очки у Ноны с очень толстыми стеклами, она так низко склоняется над фотографиями, наклеенными на большой белый картон, что гладкие черные волосы спадают ей на лицо. — На этой фотографии изображен отец Маяковского со своими собаками. Кличка той, что сверху, — Вега, а той, что ступенькой ниже, — Рона. Любовь к животным была отличительной чертой семьи Маяковских. У отца она заходила так далеко, что он, несмотря на свою профессию лесника, охотой не занимался. Людей, которым нравилось убивать животных, он не понимал. Отец был сама доброта и всегда оставался для детей — у Володи было еще две сестры — веселым организатором их игр. Спокойным его, правда, не назовешь, — скорее непреклонным, вспыльчивым. Темперамент он считал унаследованным от своих далеких предков, о которых он с гордостью говорил, что они были вольными запорожскими казаками. Однообразие, скуку он не выносил. Неутомимая творческая мысль постоянно толкала его вперед, прочь от застоя и рутины.
Мать же, напротив, очень сдержанная и строгая к самой себе, была воплощенным постоянством. Она отличалась завидным терпением и настойчивостью и стремилась воспитывать эти качества и у своих детей. Своим сильным характером мать объединяла и укрепляла семью. — Нона подкладывает мне большую белую папку с копией одного из писем. — Прочтите сами, что пишет об этом старшая сестра Володи Людмила!
Начинаю читать с того места, которое показала Нона."…В этом отношении Володя удивительно походил на нашу мать. Он был таким же сдержанным и немногословным, как и она. Свои чувства он выражал неохотно, да он и не умел их выражать. Всегда я чувствовала в нем тот же "настрой", который был во всем нашем доме, где основное время посвящалось работе, а не тому, что просто интересно и увлекательно".
Когда я отрываюсь от чтения, Нона тут же продолжает свой рассказ, извлекая из пачки очередную белую папку. Бросаю взгляд в высокие окна, в которые заглядывают покрытые густой листвой ветки деревьев, вижу в отдалении горы. О чем могло думаться Володе при виде этих гор, под шелест листвы деревьев?
Нона подает мне копию еще одного письма, тоже написанного Людмилой. Читаю: "…Осознавать себя и задумываться о жизни мы начали рано. Особенно Володя и я… Мы страстно верили в добро и столь же страстно ненавидели зло. Мне думается, что с самого детства мы были готовы к непосредственному участию в борьбе, к испытанию великими человеческими страстями, к чистым, неподдельным, настоящим чувствам. Более всего нас привлекало в людях благородство и внутренняя красота; но люди, встречавшиеся нам, далеко не все были такими. Реальная жизнь оказалась значительно сложнее, чем мы, дети, представляли это себе в нашем Багдади. Я убеждена, что в этом разладе кроется одна из причин трагической гибели Володи. Он шел навстречу людям с открытым, большим и горячим сердцем, считая, что так же по отношению к нему будут поступать и они… Мать, до самой своей смерти видевшая, как страдал Володя, как ему было тяжело и как болезненно он многое воспринимал, несмотря на то что за его судьбу она очень переживала, все же воздерживалась донимать его расспросами… Только после того, как Володя написал свое "Про это", она однажды растерянно его спросила: "Боже мой, Володя, что же это такое? Что с тобой происходит?" Как мать и предполагала, брат ответил мягко, но определенно: "Дорогая мама, давай к этому больше не возвращаться"".
Заметив, что Реваз украдкой посматривает на часы, я с большой неохотой решаюсь несколькими наводящими вопросами перевести рассказ Ноны на то, что представляет для меня особенный интерес. Влияли ли каким-либо образом родители на занятия юного Маяковского искусством, литературой?
Нона оживленно кивает.
— Даже очень. Отец и мать были в этом отношении людьми одаренными. Они учили детей познавать и любить красоту окружающего их мира, грузинской природы. Все дети умели рисовать. Володя начал увлекаться рисованием еще до того, как научился читать и писать, а рисовал он хорошо. Любили в доме Маяковских также музыку, пение и танцы. Не обходилось в семье и без чтения. Мать сама писала стихи и рисовала; среди русских писателей она любила Пушкина, Тургенева и Чехова. Любимым писателем отца был Салтыков-Щедрин благодаря сатирическому складу его ума. С почтением он относился и к Крылову за его жизненную мудрость и скрытую иронию, в разговорах отец часто ссылался на его басни. Особенно интересными и полезными для юного Володи были споры о литературе, которые порою велись между родителями.
— А какое мировоззрение прививали детям родители?
— Антимонархическое, демократическое. Они обладали на редкость широким для своего времени кругозором, и оба верили в торжество демократии и социализма в России; это проявлялось, в частности, в том, что вместе с детьми они пели студенческие песни…
Нона, кажется, не прочь привести и другие примеры. Я прерываю ее:
— Извините, но у нас совсем мало времени… Последний вопрос: как вы оцениваете связи Маяковского с Грузией?
— Они были тесными и многообразными! — Бледное лицо Ноны заметно оживляется. — Отвечу вам словами стихотворения, которое он написал, когда ему было 30 лет: "Едва ступив ногой на Кавказ, чувствую, что я — грузин. Я знаю: глупость все это — райские кущи! Но когда их воспевали поэты, то имели в виду они Грузию, этот радостный край…" Примерно так это звучит в вольном переводе.
— Что, Маяковский говорил и по-грузински?
— Да, грузинским языком владели все члены семьи, поэтому они и были тесно связаны с грузинским народом и его культурой. Эту связь Владимир поддерживал в течение всей своей жизни. На демонстрации рабочих во время первой русской революции одиннадцатилетний тогда гимназист бежал по улицам Кутаиси и громко, на грузинском языке, агитировал жителей, декламируя стихотворение "Вперед!", написанное нашим пролетарским поэтом Евдошвили… Такие грузинские поэты, как Симон Чиковани и Георгий Леонидзе, подтверждают, что по-грузински Маяковский хорошо говорил и в более поздние годы, с пристальным вниманием следил за развитием грузинской литературы, особенно лирики. "Товарищ Володя" — так с любовью называли его грузинские коллеги. Многие из них были его близкими друзьями.
Я горячо благодарю страстную почитательницу Маяковского Нону, и мы вновь оказываемся в пути.
Ночевка в домике виноградаря
Солнце уже заметно клонится к вершинам гор. Действительно, темнеет здесь чертовски быстро. Быстрее, чем рассчитывал Реваз. Но как ни старается Гоги, ночь надвигается неудержимо, и нам вновь приходится помышлять о ночлеге. До Абастумани, ближайшего крупного населенного пункта, нам под покровом ночи придется пересечь Малый Кавказ, преодолеть двухтысячеметровый Секарийский перевал.
Невзирая на темноту, Реваз предпочел бы без остановки ехать до Абастумани. Но после приключений минувшей ночи он, считаясь с женой и учитывая свою пошатнувшуюся репутацию, решает поступить иначе: снова просит свернуть с асфальта. И снова перед нами крутой подъем.
Поскольку поверхность дороги вначале скалистая, ровная, то в свете фар она кажется вполне приличной. Но уже после первых поворотов она превращается в узкую полоску гальки, напоминая более всего развороченное русло бурной горной речки. Бедный Гоги…
Нашему водителю пришлось изрядно попотеть уже прошлой ночью, когда после привычного асфальта Тбилиси под колесами его машины оказались сучья деревьев, камни и огромные лужи. Сейчас по кузову машины то и дело колотят камни, порой величиной с кулак, на поворотах ее опасно заносит на обочину так называемой дороги.
Насколько крутой рядом обрыв, мы начинаем догадываться только тогда, когда на несколько секунд прекращается град камней. Из глубокого ущелья доносится шум горной речки. Но затем оглушительный барабанный грохот возобновляется вновь. О том, чтобы остановиться или сбавить скорость, не может быть и речи. Дорога настолько скользкая, что, двигаясь на подъеме с места, можно было бы легко перевернуться. Внезапно стук камней заглушается скрежетом металла. Гоги вздрагивает, ничего не понимая, смотрит на щиток приборов и, прислушиваясь, высовывает голову из бокового окна. К шуму мотора примешивается какой-то посторонний звук. За выступом ближайшей скалы Гоги все-таки останавливается. Выключает мотор. Все ясно: авария.
Гоги выходит, открывает капот и некоторое время возится под ним. Реваз светит ему карманным фонариком. Оба о чем-то говорят, затем Реваз объявляет о том, чего я более всего опасался: дальше не поедем.
— Что же, придется ночевать в машине? — спрашиваю я, вовсе не скрывая, что это
известие меня не радует.
— Только без паники! — отвечает с наигранной веселостью Реваз. — Здесь на каждом шагу живут виноградари.
— На каждом шагу? Странно. Здесь ведь кругом лес!
Но с его предложением продолжать путь пешком я соглашаюсь. Лучше уж до самого восхода солнца шагать пешком, чем скорчившись коротать время в машине.
Гоги отъезжает назад к выступу скалы, закрывает машину на ключ, и мы вчетвером, словно потерпевшие кораблекрушение, отправляемся в путь по осыпающейся под ногами гальке. Дует приятный прохладный ветерок, в глубоком ущелье ободряюще шумит вода. Против ожидания идти даже не трудно. Трудно только одной Кетеван: высокие каблуки ее туфель то и дело застревают между камнями. Реваз помогает ей, и так мы вскоре оказываемся наверху. Лес отступает, дорога удаляется в сторону от русла реки.
Проходит еще не менее получаса, и на краю дороги мы замечаем утопающий в огромном саду крестьянский дом.
— Ну, что я вам говорил! — торжествует Реваз.
Не раздумывая, он направляется по дорожке, ведущей через глубокий ров, к калитке сада. Света в окнах не видно.
Смотрю на часы. Уже двенадцатый час. Неужели он наберется смелости поднять с постели в середине ночи совершенно незнакомых ему людей?
Я, Кетеван и Гоги с любопытством останавливаемся перед дорожкой, в то время как Реваз исчезает в темноте сада. Интересно, что скажут хозяева?
Через некоторое время в окнах вспыхивает свет. Сначала в одном, а затем сразу в нескольких. Слышатся голоса. Приветливые. Один мужской, а другой женский. В свете электрической лампы, включенной во дворе, я вижу хозяина и хозяйку, спешащих вместе с Ревазом к садовой калитке. Оба встречают нас с таким восторженным радушием, как будто мы старые добрые друзья, которых они с нетерпением уже давно ждут. Они многократно приветствуют нас, сначала по-грузински, а затем по-русски.
Не успеваем мы сделать и шага по узкой дорожке, как хозяин, которого зовут Леван, несколько раз заверяет нас в том, какая для них большая честь принять таких дорогих гостей в их скромном доме. Он приглашает нас в дом, а его жена Лела просит отведать то, что у них есть на кухне и в погребе.
После этого, столь же настойчивого, как и сердечного, приглашения они уступают нам дорогу, и мы следуем за Ревазом, которому уже известно, куда идти. Через небольшую прихожую проходим в просторную комнату с большим столом посередине и с массивной деревянной кроватью в углу. На стенах темные цветные обои, среди старой чистой мебели — шкаф, буфет с зеркалом, сервант.
Пока Лела возится на кухне, откуда вскоре раздается потрескиванье дров, и накрывает стол свежей белой скатертью, при свете лампы я замечаю, что она среднего роста и ей примерно тридцать лет, что у нее золотистые волосы и янтарного цвета глаза. Ее золовка, пышная, моложавая брюнетка, с насмешливым выражением персикового цвета лица, хлопочет вместе с ней на кухне. На несколько секунд в комнату с любопытством заглядывают разбуженные возникшим в доме шумом дети, в то время как Леван и Гоги начинают выяснять возможные причины случившейся аварии. Леван, сорокалетний шатен с широкими угловатыми плечами, которого мы приняли за виноградаря, оказывается, к моему удивлению, инженером, работающим в филиале одного из кутаисских заводов. В ответ на пессимистический рассказ Гоги о происшедшей поломке он приводит убедительные, технически обоснованные аргументы. Поскольку оба говорят по-грузински, то я прошу Реваза перевести мне смысл их дебатов на русский. Оба договариваются назавтра сразу же с восходом солнца отправиться к тому месту, где была оставлена машина, и устранить неисправность общими силами.
Это ободряюще действует не только на одного Гоги. Хорошее расположение духа возвращается и к Ревазу, тема разговора тут же меняется. Вспомнив о присутствии иностранного гостя, все снова опять говорят по-русски, и я спрашиваю у Левана, какая же профессия у него главная: инженер или виноградарь?
— Виноградарь, — отвечает кто-то за моей спиной. — Мы потомственные виноградари.
Я поворачиваюсь и встаю. Приземистый старик с белыми как лунь волосами и живыми черными глазами протягивает мне для приветствия руку.
Леван представляет его мне:
— Это мой отец.
Когда старик узнает, откуда я, он не выпускает моей руки.
— Немец, — обрадованно говорит он и смотрит на меня своими по-детски чистыми глазами. — Не может быть! Немец! Снова в нашем доме немец… Очень вам рад! Такая неожиданность!
Он садится, поправляет свой серый вязаный джемпер, ворот рубашки и добавляет:
— Так, чтобы вы знали, у нас в доме уже однажды были немцы.
"Вот тебе на!" — мелькает у меня в голове. И при мысли, что этими немцами могли быть солдаты из войск интервентов в 1918 году, мне становится как-то не по себе. С застывшей улыбкой я смотрю на загорелое, без единой морщинки лицо старика. Его радость кажется искренней, никакой скрытой иронии, часто свойственной пожилым людям, в ней нет. С другой стороны, на нашем веку немцы совершили много такого, за что, будучи немцем, испытываешь только стыд. Здесь, пожалуй, не найдется ни одной семьи, за столом которой после 1945 года по вине немцев не пустовало бы место. Сколько людей погибло только здесь, на Кавказе, на обледенелых кручах Марухского перевала!
Входят Лела с золовкой. Ставят на стол подносы с фруктами и тарелки с чудесными мягкими грузинскими лепешками.
— Да, немцы в нашем доме уже однажды были, — произносит снова старик, — они жили у нас целый месяц. Когда же это только было? В тысяча девятьсот… — Вопрошающе он смотрит на сына. — Да откуда тебе это знать! Тогда я еще и сам был мальчишкой, мне тогда не было еще и 10 лет. Ах, вспомнил, мне было столько же, сколько и их сыну. Это было в 1912 году!
С подноса, который мне протягивает Леван, я беру яблоко и с наслаждением кусаю его. Испытываю невероятное облегчение. Если немцы были здесь в 1912 году, то это не страшно.
— Это были очень симпатичные люди, действительно симпатичные, — продолжает свой рассказ старик. — Они приехали к нам из Тбилиси. Там в то время жило довольно много немцев, в том числе и эта семья, вот только никак не могу припомнить их фамилию. — Сокрушенно он пожимает плечами. — Помню только, что эта семья проводила у нас отпуск. Симпатичные люди, такие скромные, такие порядочные… Да, они были из Тбилиси, из того квартала, который в свое время в народе называли "бубличный". Знаете почему?
— Видно, потому, что там жил немец-пекарь, — отвечаю я с уверенностью, доедая сладкое, как виноград, яблоко.
— Вот и не угадали! — Старик довольно потирает натруженные руки. — Там жил немец — зубной врач по фамилии Бубликов, которого очень любили.
Все смеются, и я смеюсь вместе со всеми. А тем временем Лела с золовкой ставят на стол дымящиеся миски с едой, при виде которой у меня мелькает подозрение, что Реваза здесь хорошо знают и что этот прием он подготовил заранее.
За едой мне, разумеется, приходится отведать домашнего вина. В итоге разговор снова возвращается к тому, с чего начался.
Виноградарством, как я узнаю, Леван занимается не один, а вместе со своим братом, шахтером одной из ближайших угольных шахт, который сегодня работает в ночную смену, и его женой. Лела, конечно, помогает тоже, но вообще она работает библиотекарем. Таким образом, эти четверо в свободное от работы время продолжают дело своих предков, которое их старый отец не хочет передавать в чужие руки. Судя по его продубленному всеми ветрами лицу, он и сам находится на винограднике с утра до позднего вечера.
— Грузия — родина виноделия, — поясняет степенно старик. — Виноградарством здесь занимаются столетиями, а в Европу оно было завезено только римлянами. Почтительная любовь к виноградной лозе у нас передавалась из поколения в поколение и оставила в жизни нашего народа глубокие корни. Во многих старинных песнях поется о тяжелом труде виноградарей, и уже с древних времен виноградная лоза неизменно присутствует в орнаментах, украшающих различные постройки. В качестве символа она присутствует и в государственном гербе нашей республики. Вместе с виноградным соком наш народ впитал в себя силу наших родных гор. — Выражение его лица омрачается. — В XIII в. монголы опустошили наши виноградники, порубив лозы своими кривыми мечами!..
Леван рассказывает, что вина и коньяки, производимые из сортов грузинского винограда, уже в течение многих десятилетий получают высокое признание на международных дегустациях вин, завоевывают золотые и серебряные медали. Он называет мне некоторые из лучших марочных вин: "Хванчкара", "Киндзмараули", "Цинандали", "Твиши", "Мукузани" и "Гурджаани". Из коньяков он особенно рекомендует сорта "Варцихе", "Ениссели", "Греми", а также КС и ОС, возраст которых звездочками на этикетке уже обозначен быть не может.
— На какой площади в Грузии выращивается виноград? — спрашиваю я его.
— Сейчас это более 140 тысяч гектаров, — отвечает Леван. — В четыре раза больше, чем до революции.
…Лела, освободившаяся от домашних забот, негромко беседовала во время этого разговора с Кетеван и при этом несколько раз поглядывала в мою сторону. Теперь она спрашивает меня о том, много ли немцы читают, что читают, какие у нас выходят книги; некоторые она, может быть, не знает. Лела довольно хорошо знакома с немецкой литературой, особенно XIX в. Тем большее неудобство испытываю я, когда она спрашивает меня о том, какие книги грузинских авторов пользуются у нас наибольшим спросом. Я с трудом припоминаю с десяток имен грузинских писателей, книги которых уже вышли на немецком языке и вообще доступны нашим читателям. Кроме Нодара Думбадзе, Реваза Джапаридзе и, конечно, Шота Руставели, мне приходят на ум только несколько лириков, произведения которых появились в одном сборнике: Николоз Бараташвили, Давид Гурамишвили и Галактион Табидзе.
— А что известно в Германии о Константине Гамсахурдиа? — заинтересовавшись, спрашивает Лела.
— В Германии? Что вы имеете в виду: ФРГ или ГДР?
— У вас на родине.
— Стало быть, в ГДР. У нас опубликован его исторический роман "Десница великого мастера".
— И все? — удивляется Лела.
— Да! — признаюсь я.
— Только одна книга! — Лела покачивает головой. — И это при всем том, что его жизнь и работа столь многими гранями связана с вашей страной!?
Кетеван замечает мою вымученную улыбку и просит библиотекаря о том, чтобы она рассказала об отношении Гамсахурдиа к Германии, поскольку она, Кетеван, тоже об этом ничего не знает.
Я с благодарностью смотрю на Кетеван и слушаю:
— Гамсахурдиа учился в трех немецких университетах: в Лейпциге, Мюнхене и Берлине. С аттестатом об окончании кутаисской гимназии он в 1911 году на 8 лет поселился в Германии, учился там и опубликовал в одном из немецких издательств свое первое литературное произведение. В начале первой мировой войны, которая застала его в Мюнхене, его обвинили в шпионаже и неподалеку от города заключили в крепость. Из заключения в крепости он был освобожден в результате личного вмешательства Т. Манна. В 1919 году Константин Гамсахурдиа, получив степень кандидата философских наук, возвратился к себе на родину, в Грузию, и посвятил себя полностью литературной деятельности. Его наиболее значительными произведениями являются "Давид Строитель" и роман "Цветение лозы", а также работы, отражающие его постоянные связи с Германией. Так, например, главная героиня его трилогии "Похищение луны" — немка, а действие романа частично происходит в Германии. Кроме этого, Гамсахурдиа написал книгу о Гёте и перевел на грузинский "Страдания молодого Вертера".
— Вы заинтересовали меня этим человеком, — говорю я.
Но тему нашего разговора мне хочется все-таки сменить, и я прошу ее рассказать о постановке библиотечного дела в республике.
— В Грузии сегодня насчитывается несколько тысяч библиотек, многочисленные читатели которых имеют в своем распоряжении свыше 25 миллионов книг и журналов. Это неизмеримо больше того, что имелось в Грузии до 1917 года.
Что меня впечатляет больше всего, так это число читателей. Почти половина населения Грузии является постоянными читателями библиотек.
Обо всем этом Лела рассказывает мне с восторженностью человека, который любит свою профессию и живет ею. Поэтому и вопросы, которые она задает мне, постоянно вращаются вокруг того, что для нее является ценным и значимым, то есть вокруг литературы.
О своей жизни, работе рассказывают нам и другие члены семьи. Леван — о том, что делается на его предприятии, золовка — о сельском магазине, где она работает продавщицей, и все наперебой — о детях.
Старик, напоминающий мне своей неутомимой потребностью служить людям старого садовника Мамулашвили из Мцхеты, достает из буфета небольшую рамку с фотографией человека в военной форме, с пушистыми черными усами. Лела в знак своего живого участия одобрительно кивает старику.
Я вижу, что фотография уже изрядно поблекла. Может быть, поэтому усач выглядит слегка бледным, а твердый взгляд его черных глаз выражает не просто мужскую решимость, а властность. На нем форма советского офицера. На груди множество орденских планок.
— Это мой старший брат, — говорит сдержанно старик. — Он генерал!
— Ах вот оно что! — И я еще раз смотрю на снимок.
Но известие о том, что из скромных крестьянских семей, как эта, выходят люди, которые занимают в жизни важные посты и совершают действительно выдающиеся деяния, не удивляет меня ни здесь, в Грузии, ни вообще в Советском Союзе. Жизненный путь бесчисленного множества известных в стране личностей начинался в деревнях, в крестьянских семьях. И все же то, что среди членов этой простой семьи — генерал, дополняет мои непосредственные впечатления о многообразии жизни в Грузии, о столь различных формах ее проявления.
…Уже пора идти спать. Лела показывает мне на огромную деревянную кровать в углу и спрашивает, устраивает ли она меня.
— Спасибо. Конечно. Почему бы нет?
— Не будет ли она коротка для вашей гвардейской фигуры?
Под общий смех я успокаиваю Лелу, объясняя, что никогда не сплю, полностью вытянув ноги. Пока Реваз, Гоги и Леван что-то обсуждают по-грузински, по всей вероятности, "ремонтную экспедицию" к машине утром, я наблюдаю, как Лела и ее золовка застилают чистым бельем постель. Закончив, они уходят в соседнюю комнату, чтобы подготовить там постель для Кетеван и Реваза.
…Утром, открыв глаза, я вижу перед собой освещенную лучами солнца мужскую фигуру. Это — Реваз. В доме тихо. Кажется, что все еще спят. Шепотом Реваз просит меня по возможности скорее и потише одеться. Он хочет, чтобы мы украдкой, никого не беспокоя, ушли из дома. Гоги и Леван, говорит он, уже ушли ремонтировать машину.
Не без внутреннего сопротивления я поднимаюсь из пахнущей теплом постели и замечаю, что перед окном прогуливается Кетеван. Почему Реваз снова так спешит?
— По меньшей мере к обеду мы должны быть в Рустави, — тихо произносит Реваз. — Если мы будем ждать машину здесь, то нам ничего не останется, как завтракать. Иначе мы обидим хозяев.
Это мне понятно. Быстро я собираю свои вещи. Но уйти нам, видимо, не судьба. Не успеваю я одеться, как из кухни слышится шум и тихие женские голоса.
Несмотря на наши возражения, трогательно заботливая Лела не хочет отпускать нас, прежде чем мы не подкрепимся любовно приготовленным сытным завтраком. Вскоре появляются на нашей машине Гоги и Леван.
Завтракаем мы на тенистой веранде; окружающий дом виноградник заливают лучи солнца. Как раз в тот момент, когда Леван на прощание поднимает искрящийся в лучах утреннего солнца бокал красного вина, с ночной смены в шахте возвращается его брат. Все вместе мы пьем за благополучие наших детей, наших семей, наших народов.
…Далеко внизу, на дне долины, в которую можно заглянуть отсюда сверху, неслышно снуют, словно игрушечные, груженные углем поезда. Жаль, что не удалось больше поговорить с братом Левана, шахтером! Он понравился мне сразу, как только въехал во двор на своем мотоцикле. Его открытое лицо, застенчивый взгляд, манера, с которой он поздоровался со своей веселой женой, протянул мне руку и заговорил со мной, — все это сразу вызвало к нему доверие и симпатию.
Нахвамдис! До свидания!
Окольными путями
Дальнейший путь в сторону Малого Кавказского хребта проходит на головокружительной высоте. Секарийский перевал, по которому шоссе пересекает скалистый гребень хребта, должен быть где-то неподалеку. С трудом мы пробираемся вдоль отвесной скалы ущелья к вершине хребта. Молчим. В днище машины камни стучат так сильно, что не слышно даже собственного голоса.
За одним из многочисленных выступов, который мы огибаем, нам преграждает путь длинный толстый ствол дерева. Гоги останавливается, мы, трое мужчин, выходим.
Внушительных размеров дерево было, видимо, только что свалено со скалы. Оттуда его просто спихнули в ущелье. Пока мы осматриваем его со всех сторон и размышляем, как его убрать, сверху до нас доносятся крики, напоминающие "раз-два, взяли!".
Испуганно я отталкиваю Реваза в сторону. Ведь они могут свалить и еще несколько деревьев! Не теряя присутствия духа, Гоги бежит к машине, в которой, не трогаясь с места, сидит Кетеван, и отъезжает немного назад.
Реваз и я запрокидываем голову и что есть мочи кричим наверх лесорубам, чтобы привлечь к себе их внимание. Когда отзвуки нашего крика смолкают, наверху становится тихо, и через некоторое время на крутом утесе показывается мужчина. Облегченно вздохнув, мы вновь поворачиваемся к дереву-великану и втроем то с одной, то с другой стороны пытаемся сдвинуть толстый конец корявого ствола, упирающегося в скалу. Его верхний, более тонкий конец на несколько метров завис над ущельем и лишь еле-еле вздрагивает, когда мы изо всей силы налегаем на толстую часть дерева.
Гоги бросает на препятствие орлиный взгляд и ворчит: "На шоссе этого с нами не случилось бы".
Реваз, подбоченившись, тяжело дышит и делает вид, будто бы ничего не слышит.
После небольшого раздумья Гоги вынимает из машины топор и, ничего не говоря, срубает с одного из деревьев толстый, довольно прямой сук. Подсовывая его вдвоем под ствол, как лом, мы пытаемся свалить срубленный гигант, используя рычаг. Но наш рычаг трещит и скрипит, а ствол даже не шевелится. Выдохшись, подходим к машине и садимся.
Но в этот момент мы слышим на верхнем конце дороги грохот камней. Шум становится все ближе, а через несколько минут из-за ближайшего выступа скалы выезжает оливково-зеленый самосвал. Приближаясь с выключенным мотором, он останавливается примерно метрах в двадцати от преграды. Из машины выходят четверо мужчин. С надеждой Реваз подбегает к ним и что-то быстро говорит на своем родном языке.
Пассажиры машины, смеясь, смотрят наверх, засучивают рукава и оглядывают непреодолимое для нас препятствие. Затем двое из них приносят большой плоский камень и подсовывают его, насколько это возможно, под середину ствола.
С напряженным вниманием мы наблюдаем за тем, что происходит. Проходят секунды, минуты. Бревно не трогается, лежит, как застывший бетон. Но вот оно вздрагивает и медленно, еле заметно перекатываясь, делает оборот, поворачивается тяжелым концом к краю пропасти и с грохотом летит вниз. Вот это да! Мы выходим из машины и идем благодарить наших друзей по несчастью.
— Что? Вы немец! — говорит самый старший из них, неуклюжий, с огромной седой гривой волос, которого другие называют начальником, шефом. — Гость из Германской Демократической Республики? Так его нужно встретить как положено, по обычаю!
Реваз противится, но это не помогает. Не успеваем мы опомниться, как прямо на камнях — где же еще? — расстилают белую скатерть, режут хлеб, колбасу, сыр и из широких плетеных бутылей разливают в глиняные кружки красное вино.
…Солнце уже высоко в небе, когда мы наконец попадаем на голый, холодный гребень Малого Кавказа. Вместо ударов гальки нас теперь сопровождает шуршащий скрип: мы едем через заснеженные горные луга. У одной ровной впадины мы останавливаемся, чтобы пропустить пастуха с отарой овец.
— Там, впереди, уже турецкая граница, — говорит Реваз и показывает вдаль, через блеющих овец. — Километров пятнадцать, не больше.
— А до Рустави сколько? — спрашиваю я.
Реваз недовольно машет рукой. Нам нужно было бы быть там еще до обеда.
Наконец дорога свободна, и мы начинаем спускаться вниз. Дорога извивается между холмами и горами, и Гоги приходится только нажимать на тормоза. Правда, дорога уже не каменистая, но один резкий поворот следует за другим, и, чем их больше, тем меньше сдержанности проявляет Реваз. Неожиданно, в тот самый момент, когда Гоги подъезжает к следующему повороту, Реваз подается быстро к нему и говорит:
— К черту эти надоевшие повороты! Прямо, поезжай прямо!
У меня волосы встают дыбом. Он сошел с ума?! Не успеваю я опомниться, как Гоги, не моргнув глазом, выруливает прямо на край дороги и едет вниз по склону, который обрывается так круто, что я падаю со своего места вперед, почти на спину Гоги. Потеряв от ужаса дар речи, я пристально смотрю вперед. Кустарники, обломки скал. Боже мой, что же это такое? Не более чем в десяти метрах от нас зияет расселина. "Тормози же, чудак, тормози!" Обеими руками я цепляюсь за спинку сиденья Гоги, вижу жестикулирующую Кетеван. Нужно выскакивать, больше ничего не остается! Скрежещут камни. Распахиваю дверь, что-то кричу, выпрыгиваю, и… машина останавливается. Всего лишь в каких-то трех метрах от расселины. Мотор глохнет.
Минутное молчание. Покашливая, я стаскиваю с плеч пиджак и отсутствующим взглядом смотрю на Гоги. Как же он мог последовать такому безумному указанию? Съехать с дороги, да еще когда кругом скалы, — это же чистое безумие! На подобное способны только самоубийцы! Может быть, у Гоги вдруг кончилось терпение? Водитель-профессионал — и устраивает такие штучки? Непостижимо, просто непостижимо! Что же теперь будет? По крутому неровному склону он проехал не меньше 20 метров!
Не шевелясь, Гоги сидит за рулем с таким видом, будто он остановился здесь, чтобы спокойно передохнуть и затем снова двинуться в путь. Как ни в чем не бывало, он закуривает сигарету. Замечая мой отрешенный взгляд, он с недоумением пожимает плечами. Реваз успел уже тем временем осмотреть расселину шириной не менее полутора метров.
— Подай машину назад, — обращается он с невероятно уверенным видом к Гоги…
Кетеван, как всегда спокойная, выходит из машины.
Не говоря ни слова, Гоги заводит мотор и дает обратный ход. Задние колеса крутятся назад, а машина сползает вперед, ближе к расселине. Склон слишком крутой, к тому же покрыт крупнозернистым песчаником и мелкими камнями.
— Может быть, Гоги все же выедет, если мы все поможем? — предлагаю я.
Но наши усилия приводят только к тому, что машина перестает сползать вниз. Колеса вгрызаются в мягкий грунт. Не помогают и ветки, которые мы подкладываем под ведущие колеса.
— Без посторонней помощи нам не обойтись, — деловито заявляет Гоги. — Нам нужен трактор и длинный трос. Он вытащит нас наверх, на дорогу.
Реваз мрачно смотрит на шофера и наконец говорит:
— Пойду поищу помощь.
— Будь осторожен! — кричит ему вдогонку Кетеван, когда он решительно перепрыгивает через расселину и размашистым шагом, обходя каменные глыбы, начинает спускаться в долину.
Он вскоре исчезает за скалами. Кетеван еще некоторое время смотрит в мрачное ущелье, а затем снова садится в машину.
Гоги, прислушиваясь, занял пост наверху, на краю дороги. Где-то поблизости урчит мотор. Может быть, случайно здесь проедет трактор или большой грузовик?
Вдруг доносится громкий шум мотора. Мы напряженно прислушиваемся.
— Грузовик! — радостно восклицает Гоги и показывает на изгиб дороги под нами.
Действительно, по дороге движется большой грузовик. Гоги, размахивая рукой, бежит ему навстречу. Грузовик останавливается, и из кузова вылезают шестеро мужчин исполинского роста. Не спрашивая, кто и откуда мы, они тут же готовы вытащить "Жигули" на дорогу. Заметно, что они торопятся и их где-то ждут. Так как достаточно длинного троса у них нет, они быстро находят иное решение — прием, до которого могли додуматься, пожалуй, и мы сами. Один из них приносит лопату и черенком измеряет ширину колеи нашей машины. Затем спереди и сзади он нагребает обломки камней, щебень и гальку, в результате чего для наших "Жигулей" появляются достаточно пологие въезд и выезд. Не успеваю я как следует осмотреться, как трасса уже готова.
Гоги быстро садится за руль. В сопровождении исполинов, по три справа и слева, подталкиваемая, а когда нужно, то с одной стороны и приподнимаемая, наша машина, как рыболовный сейнер в бурном море, выбирается из опасной зоны и попадает на ровный зеленый луг долины.
Выехав на дорогу, Гоги останавливается и выходит, чтобы поблагодарить отзывчивых исполинов. Но они уже снова вскакивают на свой грузовик, не слыша, что он им кричит, и не видя, как он им машет.
Лучи солнца погружаются в воды небольшой речки, которая рядом с дорогой мчится по своему каменистому руслу. Гоги ступает на поросшую мхом скалу, вдающуюся в русло реки, наклоняется и пригоршнями льет себе на голову воду. Я присаживаюсь на корточки рядом с ним и ополаскиваю себе лицо и руки. Чтобы освежиться, к берегу подходит и Кетеван.
Когда мы возвращаемся к машине, мимо с треском проносится грузовик. Нам что-то громко кричат и оживленно машут руками. Мы машем в ответ. И грузовик уже исчезает за темными скалами.
— А куда же запропастился Реваз? — говорит с беспокойством Кетеван и убирает ладонью упавшую на лицо прядь волос. — Уж не свернул ли с дороги? А может быть, он все-таки нашел в лесу лесорубов с лебедкой и возвратится на это место с другой стороны, в то время как мы будем уже далеко отсюда?
Решив у следующей развилки остановиться и подождать Реваза, садимся и медленно едем вперед, внутрь мрачного ущелья, в котором омытая солнечными лучами, весело журчащая речка превращается в сердито бурлящий поток. Внимательно осматриваем каждую впадину, каждую щель в скалах, каждую узкую тропу…
Мы часто останавливаемся, я выхожу и, рупором сложив ладони, кричу: "Реваз! Реваз!"
Несколько раз нам кажется, что откуда-то из ущелья слышится ответ. Я зову его еще и еще раз, пока мы не убеждаемся в том, что нас обманывает эхо, отзвук которого здесь, под темным куполом крон огромных деревьев, распознать не так легко, как в открытой долине.
Чем дальше мы продвигаемся по глубоко врезавшейся в горы дороге, тем становится темнее и тем больше беспокойства проявляет Кетеван, как будто опасается, что из-за ближайшего выступа скалы на нас могут напасть разбойники. Такой возбужденной за время поездки я вижу ее впервые.
Действительно, куда же мог запропаститься Реваз? Уйти так далеко за короткое время он не мог. Непроизвольно Кетеван заражает меня своим беспокойством. Может быть, он действительно свернул на одну из высокогорных троп и начал карабкаться в гору? При его слабости к "путям коротким" это вполне возможно. Может быть, он где-нибудь там, наверху, оступился, упал и, потеряв сознание, лежит в расселине?
…Метров через пятьдесят дорога раздваивается. В тот момент, когда мы собираемся свернуть влево, на дороге появляется трактор, даже не трактор, а полыхающее красное чудовище. На подножке в позе римского полководца, одержавшего победу, возвышается фигура человека с развевающимися волосами. Кетеван как вкопанная останавливается и шепчет:
— Так это ведь… Так это ведь Реваз! Слава богу!
Народный праздник поэзии
Из длинного белого здания сельского Дома культуры Рустави, когда мы подъезжаем к нему на наших "Жигулях", доносятся воинственные возгласы всадников. Будто от мощной взрывной волны, порожденной этими возгласами, распахиваются двери, и из них вырывается поток мужчин и женщин, устремляющихся к стоянке, чтобы в массе стоящих там машин найти свою.
Праздник поэзии окончен. Хотя сомнений это не вызывает и изменить уже ничего нельзя, Реваз с мужеством обреченного бросается в толпу и против потока по-праздничному возбужденных и смеющихся людей пробирается к ближайшей двери.
Первым среди выходящих я замечаю знакомую коренастую фигуру Нодара Думбадзе. Он глубоко сожалеет, что я не мог попасть на праздник, который для меня, иностранца, интересен вдвойне. По поводу того, что я не попал на него, сокрушается и жена Нодара, с которой я познакомился в один из незабываемых вечеров во время дружеской беседы у него на квартире. В то время как я рассказываю им о причинах нашего опоздания, о дорожных происшествиях, он вдруг прерывает меня, вежливо кивает и берет под руку проходящего мимо нас крупного мужчину.
— Посмотрите, Гюнтер, на этого человека, как смело он шагает! Это наш уважаемый поэт Ираклий Абашидзе, наш Маяковский, который еще в 30-е годы открыл для грузинской литературы любовную лирику… Кстати, вам известен его цикл "По следам Руставели"?
Исполин Ираклий благодушно отмахивается. Не успеваем мы сказать друг другу и несколько фраз, как Нодар представляет меня писателю, который известен мне прежде всего своими историческими романами "Лашарела" и "Долгая ночь".
Не состоя с великаном Ираклием в родственных отношениях, не имея с ним никакого внешнего сходства, он носит ту же фамилию, что и Ираклий. Его зовут Григол Абашидзе. Этот человек благотворно сочетает в себе коммуникабельность и светскость с настоящим радушием. Дальнейшие наши доверительные встречи только усиливают это впечатление. То, что главными героями его исторических поэм и романов являются не только те или иные монархи, а народ, вернее, народы, солидарность которых в прошлом он преподносит как пример для настоящего, наводит меня на след, ведущий к важнейшему источнику его удивительной привлекательности.
При виде невзрачного худого мужчины с серебристыми висками, в очках, Нодар замолкает, а затем говорит:
— Гюнтер, я имею особую честь представить вам "лорда"!
— Очень приятно.
Подавая "лорду" руку, я припоминаю, что кое-кто не прочь пошутить, что Грузия кишит "лордами", "князьями", "графами" и прочими отпрысками аристократов. Но в жилах этого человека, как об этом, смеясь, говорит он мне сам, нет ни капли "голубой крови". Титулом "лорд" он обязан всего лишь своей фамилии Лордкипанидзе. Его творчество — очерки и рассказы и прежде всего роман "Заря Колхиды" свидетельствуют о том, что он как писатель самым тесным образом связан с жизнью народа. Константин Лордкипанидзе относится к числу тех пролетарских писателей, которые в 20-х годах определяли путь развития молодой грузинской советской литературы.
— У товарища Лордкипанидзе молодые писатели могут многому поучиться, — объясняет мне Нодар, после того как "лорд", попрощавшись, уходит. — Если бы все они так же настойчиво, как он, работали над своими рукописями, прежде чем передавать их в другие руки, то они давно уже были бы как Руставели! А теперь, — Нодар переходит на едва слышный шепот, — незаметно посмотрите вон на ту новенькую черную "Волгу". Видите, около нее стоит мужчина с длинным мундштуком в руке? Это академик.
— Настоящий лорд, — говорю я. — Кто же это?
— Наш классик Константин Гамсахурдиа.
— Ах, тот самый, который так долго прожил в Германии! — обрадованно восклицаю я.
Нодар обещает, что в Тбилиси он устроит для меня встречу с ним. Затем он знакомит меня с другими неизвестными мне писателями. Порою сразу с несколькими. Все здороваются приветливо и после нескольких слов выражают надежду на возможность пригласить меня к себе. Ото всех этих имен, от вопросов и ответов у меня кружится голова. Но Нодар неутомим. Он подзывает уже очередного автора, лирика, мужчину моего возраста, длинные волосы которого словно от неукротимого встречного ветра полегли назад. Это Иосиф Нонешвили. Пока он пробирается через постепенно поредевшую толпу к нам, Нодар громко декламирует начало стихотворения, которое он, очевидно, считает наиболее характерным для творчества Нонешвили.
— А теперь я представлю вам одного из наших самых талантливых прозаиков, — говорит Нодар Думбадзе и внезапно настораживается, когда видит, что оба мы от души смеемся.
— Мы уже знакомы и уже успели вместе съесть пуд соли, — отвечает Реваз и, сияя от удовольствия, просит меня пройти в зал на праздник поэзии.
— А разве праздник еще не окончен?! — удивляюсь я.
— Да, окончен, — улыбается Реваз. — Но организаторам праздника я сказал, что вместе со мной приехал гость из Германской Демократической Республики, и они тут же на радость всем решили повторить программу хотя бы в сокращенной форме.
Чудеса да и только! Тронутый этой честью, я прощаюсь с Нодаром Думбадзе и его женой, весьма сожалеющими, что они не могут составить мне компанию, и следую за Ревазом в Дом культуры.
Перед сценой меня приветствуют несколько мужчин и женщин: представители сельсовета, директор Дома культуры, руководитель ансамбля народного творчества, учителя, начальник добровольной пожарной дружины. Со всех сторон рукопожатия, вопросы и ответы.
Двери зала открываются для повторного представления. Входят празднично одетые молодые и пожилые женщины, молодые и пожилые мужчины. Загорелые и спокойные в движениях. Это жители Рустави. Последними в серой форме с ярко-красными петлицами входят члены добровольной пожарной дружины.
Неторопливо все занимают места за столом. Народу в зале становится так много, что пожарники вынуждены занимать места на стульях, расставленных у стен и окон.
Поднимается занавес. На сцену выходит плотный блондин лет тридцати пяти, видимо, работник сельсовета или учитель. Поприветствовав меня и выждав, пока смолкнут вызванные его приветствием аплодисменты, он объясняет цель проведения этих праздников поэзии. Они призваны служить развитию всех видов искусства, особенно литературы, и поддерживать на родине великого Шота живущий в его произведениях дух, самые благородные поступки и помыслы грузинского народа.
В начинающихся после этого выступлениях самодеятельных артистов меня подкупает и захватывает прежде всего то воодушевление, с которым молодые парни и девушки делают свое дело, как они читают старую и новую лирику, поют старые и новые песни, исполняют старые и новые танцы.
Сцена небольшая, со сценой Дома культуры трамвайного депо в Тбилиси, на которой могут свободно развернуться десятки танцевальных пар, не сравнить. Здесь могут разместиться две, самое большое три танцевальные пары, а из двадцати человек хора те, кто стоит на правом и левом краю, находится почти что за занавесом. Несравнима с оркестром трамвайщиков и маленькая капелла. В ней четыре молодых музыканта. Но играют они на старых народных духовых, струнных и щипковых инструментах, и играют превосходно…
Во время праздничного ужина, отвечая на многие тосты, которые провозглашаются за гостя из Германской Демократической Республики, я пытаюсь выразить словами то впечатление, которое на меня произвели исполнители народных песен и танцев, и благодарю за оказанную мне честь. Я заверяю собравшихся в том, что народ моей республики относится ко всем народам мира с открытым сердцем и искренней симпатией, а интернационалистская солидарность относится к числу наивысших достоинств граждан моей страны. Свое выступление я заканчиваю словами из поэмы Шота Руставели, которые мне запомнились в силу их поразительной актуальности:
Доказательствами дружбы служат три великих дела:
Друг не может жить без друга, чтобы сердце не болело,
С ним он делится достатком, предан он ему всецело,
Если надобность случится, поспешит на помощь смело.
Еще читая эти строки, я замечаю в зале движение. Не успел я закончить, как все собравшиеся в зале устраивают мне нескончаемую овацию, сопровождающуюся громкими возгласами. Несколько мужчин — колхозники, работники сельсовета, учителя, члены ансамбля, их руководитель, старики и молодежь окружают меня, жмут мою руку и усиленно подыскивают слова, чтобы выразить свой восторг в связи с тем, что их Шота понимают, чтят, уважают и любят в Германской Демократической Республике.
— Напишите о Шота! — настоятельно советует огромный блондин. — Напишите о нем! Вы должны о нем написать! Нет, не отказывайтесь! Не говорите, что не можете! Это вы можете, это все здесь почувствовали!
Блондин бросает взгляд в зал, в котором при его словах наступает тишина, и продолжает говорить:
— Писать о великом сыне нашего селения, великом сыне нашего народа Шота Руставели мы не доверяем каждому. Мы чувствуем свою ответственность за него. Полностью осознавая эту ответственность, мы торжественно просим вас? "Напишите о нашем Шота!"
Город в скале
Из Рустави на следующее утро мы едем по широкому асфальтированному шоссе в восточном направлении на Аспиндзу, где Кетеван остается, чтобы навестить знакомых, а мы продолжаем путь вверх по течению Мтквари, которая стремительно несет здесь свои воды среди довольно высоких гор.
Сквозь зеленый покров на склонах гор местами пробивается удивительная порода.
— Это туф. — Реваз показывает на свисающую часть скалы, под которой как раз проезжает наша машина.
Постепенно долина сужается. С противоположной горы нависает целая скала туфа. Ее освещают яркие лучи находящегося в зените солнца. В скале зияют черные ниши, напоминающие бойницы. На многие сотни метров они тянутся в четыре, а иногда и большее число рядов друг над другом.
— Вот он, наш знаменитый город в скале Вардзиа! — говорит с гордостью Реваз.
Пока мы подъезжаем к мосту через Мтквари, сопровождающий начинает мне объяснять значение этого сооружения, воздвигнутого в раннем средневековье.
Комплекс из нескольких сот помещений был выдолблен в горе горняцким кайлом и лопатой, молотом и долотом. Выбранная порода доставлялась наружу в кожаных мешках и на носилках. Целый город. С улицами, воротами, конюшнями, лестницами, проходами, винными погребами, залом заседаний, церквами, аптекой, складами для провианта и фуража… Построен в XII в.
— Невероятно! Целый город в сплошной скале? — говорю я, покачивая головой, когда, переехав мост, мы выходим из машины.
На желто-красном микроавтобусе читаю одно из немногих слов, которые я могу разобрать по-грузински: "Театр". Видимо, на экскурсию сюда приехали работники какого-то театра, предполагаю я и, ослепленный резкой голубизной неба, вижу, как несколько человек исчезают в главных воротах, среди них молодая женщина в темном костюме, ее черные волосы покрыты ярко-красной косынкой.
— А не легче было бы построить крепость просто на вершине горы? — спрашиваю я Реваза, не отрывая глаз от яркой косынки.
— Легче? Может быть. Но не такую крепкую и надежную!
Для раннего средневековья Вардзиа была действительно неприступной крепостью. Стены, высеченные в скале, не мог пробить ни один таран. Взять защитников крепости измором тоже было непросто. У них была своя вода и большие кладовые, в которых провианта было припасено на долгие месяцы осады. Кроме того, абсолютную безопасность гарантировали подъемные мосты, падающие ворота, бойницы, многочисленные тайные ходы и выходы. При этом нападающие должны были быть готовы и к тому, что осажденные могли напасть на них из тайных ходов с тыла.
Некоторое время я продолжаю осмотр один. Реваз занят поиском смотрителя музея. Возвращается он недовольный. Для осмотра город в скале сегодня, собственно, закрыт. Однако можем посмотреть Вардзию без экскурсовода, на собственный страх и риск, но нам надо поторопиться. К вечеру "городские ворота" закрываются.
Поднимаемся по крутой лестнице вслед за работниками театра. Когда мы по одному из проходов входим в первое помещение, нас охватывает приятная, умеренная прохлада. Такое помещение римляне называли "портиком", оно прямоугольной формы и вдается почти на десять метров внутрь скалы. Через оконный проем пробивается яркий солнечный свет. В одной из стен, рядом с нишей, похожей на альков, находится дверной проем, который ведет в так называемый зал; этот зал также имеет прямоугольную форму, пробит внутри скалы; дверь отсюда ведет в меньшую комнату, столовую. Расположенные друг за другом помещения образуют единый жилой комплекс: портик — зал — кладовая.
Возвращаемся в переднюю, в портик. Тут я замечаю, что напротив входа, через который мы вошли, находится еще один дверной проем. Он соединяет портик с такой же светлой передней, к которой снова примыкают зал и кладовая. Спускаемся вниз по вытертой лестнице и попадаем в конюшню. Здесь тоже все предусмотрено, все вырублено в скале: стойла для лошадей, желоба для стока, кормушки, а сзади, чуть повыше, — сарай. Совсем рядом плещется вода Мтквари, и мы замечаем замаскированный въезд, достаточно широкий для того, чтобы пропустить повозку с лошадьми. Тому, кто пользовался этими воротами, приходилось, правда, пересекать реку вброд.
Когда я хочу подняться по широкой, дугой поднимающейся лестнице, Реваз вдруг хватает меня за рукав.
— Стой! Осторожно! — кричит он с расширившимися от страха глазами и оттаскивает меня назад.
Недоуменно я смотрю на него, а затем снова на лестницу. Обычная лестница, выбитая в скале, прочная, только довольно стертая.
— Вот, посмотрите! — Реваз наклоняется и показывает на три ступеньки, средняя из которых, видимо, была вставлена заново позже.
Я не понимаю. Что в этом особенного? Тут на овальном потолке я замечаю широкую темную щель.
— Это вовсе не обычная щель, как вы, может быть, думаете.
— Ах вот оно что… — Кое-что для меня начинает проясняться. — Скрытое предохранительное устройство?
— Падающие ворота! Посмотрите-ка хорошенько наверх!
Действительно, в щели вырисовывается нижняя кромка толстой каменной плиты.
Непрошеные гости, проникавшие сюда, становились — как только они ступали на эти ступеньки — жертвами падающей переборки. Дальше этого места не проходил никто!
Прижимаясь спиной к стене, мы пробираемся мимо зловещих падающих ворот. Хотя они и блокированы, Реваз не хочет рисковать.
Спускаемся вниз. На самом нижнем этаже я с удивлением осматриваю винные погреба и множество встроенных в скалу амфор: огромные, без ручек глиняные сосуды, вмещающие в себя до 50 литров воды, масла или вина. На другом этаже размещена аптека — средней величины помещение, в стенах которого высечены не только полки, но и ряды круглых выемок для мазей и горшочков с травами.
Бросается в глаза то, что хотя жилые помещения и расположены по одинаковому принципу, но
различаются по размеру и тщательности убранства. Попадаются залы, отличающиеся более внушительными размерами. Потолки в них не горизонтальные и не имеют следов кайла, а сходятся в парящие ровные своды; и перемычки дверей, а также альков, изящно изогнуты и окружены по бокам колоннами. Часто в залах, выполненных безупречно с архитектурной точки зрения, находятся дополнительные ниши, даже целые покои и, кроме того, молитвенная ниша с алтарем. Эти просторные залы с самым богатым архитектурным убранством являлись, наверное, покоями царицы Тамары…
Я пытаюсь представить себе то время…
На стенах отражается уютный желтоватый свет от слабо мерцающих свечей в золотых подставках, изготовленных грузинскими мастерами. В развевающихся шелковых одеждах спешат служанки. Они вносят в серебряных сосудах превосходные вина, разносят в серебряных чашах инжир, яблоки и виноград и подают на серебряных подносах дымящиеся, ароматно пахнущие закуски. Царице они отвешивают глубокий поклон. Тамара только что прискакала со своей свитой из столицы и освежилась, приняв ванну за темно-синим занавесом. Из-под длинных ресниц она рассматривает поданные яства. Ростеван, ее любимая служанка, вопрошающе молча наклоняется к ней. Затем она подает знак в сторону одной из ниш. В тот же момент оттуда раздается задушевное звучание народных инструментов и пение придворных певцов.
Тамара поднимает глаза, смотрит на сводчатую дверь портика. Солнечный свет, падающий через окно, заставляет светиться голубизну ковра, голубое свечение вибрирует в воздухе, как небо этого лета, которое уже не раз заволакивали темные тучи войны…
Реваз прерывает мои мечтания:
— Где ты, Гюнтер? Сейчас будет самая большая достопримечательность: церковь Богоматери!
Его праздничное настроение передается и мне, когда я следую за ним в большой, почти десятиметровой высоты, зал. Все стены сплошь украшены росписями и орнаментами. Через несколько больших и маленьких окон на них падает свет, такой яркий, что, ослепленный им, я вначале не могу различить, что находится впереди: статуя или человек.
Я замираю за спиной Реваза. В центре города, в скале, среди всех покоев и гротов, в лабиринте этой многоэтажной крепости встретить еще и искусно выполненное место, предназначенное для раздумий, я и не ожидал. Про статую между окнами я забываю.
Так же как и в портике, все стены церкви украшены настенной росписью: евангельскими сюжетами, изображениями святых и различными орнаментами.
Реваз обращает мое внимание на тщательную обработку поверхности кладки, на отдельные росписи и орнаменты и, оживляясь, поворачивается ко мне. Его объяснений я больше не слышу. На том месте, которое он мне загораживал, на освещенной солнечными лучами стене я вижу картину. Она предстает передо мной во всем своем величии: в окружении святых и ангелов расположены две светские фигуры в богато расшитых жемчугом и украшенных парчой одеждах: царь и царица.
— Георгий III и его дочь Тамара, — шепчет Реваз.
Тамара. Мой взгляд переходит то на отца, то на дочь. Чем больше я рассматриваю оба лица, тем больше меняется мое первоначальное впечатление… Для художника Тамара была все же не просто какой-то, хотя и красивейшей, женщиной, а всемогущей повелительницей, и потому ее изображение на портрете должно было быть величественным. Женскую кротость и силу чувств, привлекательность округлых, белых, как лилия, щек он мог наметить только завуалированно. На властно сжатых губах запечатлено целомудрие…
Тихое поскрипывание по каменному полу напоминает мне о моем сопровождающем. Где он? Менее чем в десяти шагах от меня находится то, что я принял сначала за статую. Золотой фон настенных росписей отражает пурпурный свет солнца, падающий на стены, на стоящую там фигуру женщины.
"Тамара!" — вздрагиваю я, еще полностью находясь под впечатлением увиденного.
В царственной позе стоит она — с длинными ниспадающими волосами, — Элисо!
Когда я подхожу к ней, ощущая запах восточных духов, и приветствую ее по-грузински, она несколько рассеянно отвечает мне вначале по-грузински, не зная, куда деть красную косынку, которую она держит в руке.
В этот момент в одном из проходов раздается эхо торжественной речи, напоминающей богослужение.
С удивлением я смотрю по сторонам. Что это?
— В Вардзии есть привидения! — мгновенно по-русски отвечает Элисо и смеется над моим глупым выражением лица так тихо, как осенью поют виноградники. — Вы этого не знали? По вечерам скалы начинают говорить. Ну, а рассказать им есть о чем! Поторопитесь, чтобы выйти отсюда до наступления темноты! Ваш друг уже пошел вперед, вот здесь, по этому ходу!
Она подталкивает меня к дверному проходу.
— Видимо, он предназначался для царицы и непосредственно вел к ее покоям? — спрашиваю я, пробираясь вперед и надеясь услышать ответ Элисо сзади.
Ответа не последовало. Через некоторое время я оборачиваюсь. Элисо исчезла…
Спотыкаясь, я бегу к церкви Богоматери, заглядываю во все углы, за все колонны.
— Элисо! — вполголоса кричу я в направлении портика.
Затем громче:
— Элисо!
Безуспешно. В ответ слышится только эхо необычных ночных голосов Вардзии. И тем громче, чем темнее становится.
Таинственная ночь
С тех пор как я стоял здесь с Элисо, прошло, кажется, полчаса. В помещении остался только запах ее духов. Солнце уже перевалило за склоны гор, окутав их вершины медным отливом.
Пытаюсь увидеть из окна городские ворота. Безуспешно. Поеживаясь от холода, вспоминаю, что Реваз настоятельно говорил мне о необходимости покинуть город до наступления темноты, поскольку он будет закрыт. Только этого мне еще и не хватало, думаю я, направляясь через церковь в дверной проход: провести ночь в этом заколдованном замке. В полумраке таинственно светится на стенах золото, сверкают алмазы в коронах царской пары. Кажется, что едва слышно шелестят одежды…
На Элисо я зол.
— Реваз! — кричу я, входя в темноту, — Реваз! — Но, споткнувшись и больно ударившись плечом о каменную стену, я сдаюсь и злюсь еще больше, на Элисо и на самого себя.
Вытянув руки, я иду по извивающемуся проходу на ощупь. Там, где он разветвляется, я напряженно пытаюсь вспомнить, каким путем мы попали в церковь Богоматери.
А вот и лестница, ведущая наверх. Но мне все же надо вниз. А где же лестница вниз? В темноте различаются серые сводчатые проемы окон. Вдруг чувствую приток воздуха. Инстинктивно останавливаюсь и ощупываю стены… Ответвление вправо. Влево тоже. Стоп! Чиркаю спичкой, передо мной глубокая пропасть. Один, два шага вперед, и я провалился бы туда!
Как при виде змеи, подаюсь назад. Под подошвой моих ботинок что-то трещит, это белый капроновый флажок с красной каемкой на веревочке, которая была, видимо, протянута поперек прохода. Тяжело дыша, я на некоторое время останавливаюсь и пытаюсь отогнать ужасные привидения, которые рисует моя фантазия: тонкие руки, вцепившиеся в красную косынку и исчезающие в бездне…
Идти дальше! Но куда?
Чтобы не двигаться по кругу, решаю попеременно сворачивать то влево, то вправо. Продолжаю идти на ощупь. Не почувствовав ногой твердой опоры, не делаю ни шага. Каждые пять-шесть шагов зажигаю спичку, но затем — реже, только через двадцать шагов, поскольку коробка заметно пустеет.
Проход слева, проход справа. Лестница. Нет, всего лишь четыре ступеньки. Теперь прямо, только прямо. Никаких ответвлений больше нет. У меня остается единственная спичка. Кругом темнота. Но все громче становится странное пиликанье, какое-то писклявое повизгиванье. Или, может, это скрип шагов? Позади меня? Нет, видно, это я иду по направлению к ним. А может, это все-таки они идут мне навстречу?
Нет, это вовсе не шаги. Где-то булькает вода, плещется, шумит. Я приближаюсь к ней. А если зажечь спичку, последнюю?
Неожиданно передо мной на полу прохода грязной овечьей шкурой расстилается блеклое светлое пятно. Лунный свет сверху? Нет, это, наконец, лестница, ведущая вниз, к свету, туда, где булькает вода. Ощупью, ступенька за ступенькой я спускаюсь вниз. Теперь уверенно. Это не окно, а наверняка выход. Так светло, будто снаружи светит опрокинутая в молочные облака луна.
На этом молочном фоне что-то шевелится. Для человека слишком маленькое. Четвероногое? Оно возится там, будто разделывается с добычей; может быть, там у него нора? Какое же животное это могло бы быть? А не водятся ли здесь, как и в Осетии, волки? Или же это медвежонок или большая собака?
Вдруг среди шума воды и возни четвероногого я слышу речь. Снова ночные голоса Вардзии? Нет, нет, это голос человека. На ходу зажигаю последнюю спичку и вижу внизу перед собой склонившуюся фигуру Элисо.
Нисколько не удивившись, она поднимает голову кверху.
— Посмотрите вон туда, наверх! — показывает она.
Ничего не понимая, я смотрю вверх и к своему ужасу замечаю там щель для тайных падающих ворот.
— Ради бога, стойте! Ни шагу дальше!
Тесно прижимаясь к неровной поверхности стены, я торопливо спускаюсь по оставшимся ступенькам к Элисо; спичка гаснет.
— Ну как, страшно? — насмешливо шепчет Элисо.
Я бросаюсь в темноту, и мне удается ухватить ее за локоть. Не знаю, страх ли это за нее или раздражение, вызванное ее насмешками, но я резким рывком поднимаю ее к себе наверх, подальше от опасных ступенек.
Лунным серебром светится Мтквари. Мы видим ее, когда подходим к окну портика. Редкая полоска леса — у подножия гор и неуклюжие высокие кустарники на берегу отбрасывают узкие тени на жемчужно-серую землю. Из сверкающих вод реки то там, то здесь поднимаются необычные фигуры — всадники в черных папахах и женщины в белом. Они собираются в группы, кажется, весело переговариваются…
— Сейчас они выстраиваются к торжественному шествию, — говорит Элисо…
— И они выходят… сюда, к городским воротам Вардзии! — добавляю я, заразившись ее грезами.
Она еле заметно качает головой, ее волосы спадают с висков и закрывают лицо.
— Нет, там внизу их уже ждут паланкины, стоят оседланные кони, они двинутся в поле.
— Для чего?
— Там в честь Руставели, который недавно завершил свою поэму, состоится большой турнир.
— Турнир? А Тамара тоже там будет?
Элисо замолкает, смотрит на долину, а потом рассказывает мне легенду о турнире в честь поэта…
"Это был прекрасный солнечный день. Самые меткие рыцари Грузии, самые смелые воины, лучшие всадники, музыканты и поэты собрались на этот турнир.
В окружении блестящей свиты, кавалеров и дам царица Тамара восседала под дорогим, расшитым золотом балдахином, установленным на возвышенном месте.
Начались соревнования по джигитовке, метанию копья, были проведены поединки, а музыканты состязались на самых различных инструментах. Героем дня был Руставели. Не только потому, что турнир был организован в его честь, а и потому, что он оказался самым метким стрелком, самым ловким наездником и самым лучшим музыкантом.
Победителей ожидали почетные призы: кинжалы и сабли с богато украшенными ножнами, бархатные одежды и другие дары. Затем царица объявила: "Тот, кто захочет завоевать последний, самый дорогой почетный приз — золотой венец, должен пронзить стрелой яблоко, которое я собственной рукой буду держать над своей головой".
После того как герольды объявили об этом, среди народа послышался ропот: царица не должна подвергать себя такой опасности, неметко пущенная стрела может ранить ее или даже убить, а это принесет народу неописуемое несчастье.
Самые ловкие стрелки из лука, посоветовавшись между собой, подошли к царице и на коленях стали просить ее о том, чтобы она отменила состязание; на тот случай, если оно не будет отменено, они заранее просят прощения за то, что не смогут решиться принять в нем участие. "Ни у кого из нас не дрогнет рука, если ты, повелительница, дашь указание лишить самого себя жизни. Твоя же кровь, пролитая даже по воле случая, навлекла бы вечное проклятие на нас и наших детей. Поэтому мы просим тебя, повелительница, отврати от себя и от нас роковую опасность, отмени страшную затею!" — так они говорили с царицей.
Улыбаясь, Тамара ответила: "С дерзкой затеей это состязание не имеет ничего общего, нет здесь и ничего опасного. Тот, кто понимает задачу правильно и действительно настроен решительно, тот решит ее легко".
И все же рыцари настойчиво просили ее отказаться. Тут вышел вперед Руставели и сказал: "Повелительница, возьми яблоко в руку, я проткну его моей стрелой".
Двумя пальцами Тамара взяла яблоко и подняла его над головой. Все возмутились. Неужели Шота намерен стрелять?! Но он вытащил из колчана стрелу и, к всеобщему удивлению, встал перед повелительницей. Левой рукой он взял яблоко, а правой пронзил его стрелой. Тут все поняли, что Тамара задала им загадку, а Руставели ее ловко и быстро решил.
"Победил Руставели! — воскликнула царица. — Золотой венец принадлежит ему! Мои верные рыцари, я ведь вам говорила, что в этом состязании нет никакой опасности. Я поставила только условие: пронзить яблоко, но не сказала, и этого вы не заметили, с какого расстояния".
Собственноручно Тамара одела на голову поэта венец и оказала ему милость, разрешив поцеловать себе руку".
Рассказывая мне эту народную легенду, Элисо не изменяет позы. По-прежнему ее взгляд устремлен на долину, где теперь стало заметно больше света от перемещающейся по небосводу луны.
Величественно катит через долину свои воды Мтквари…
Мы делимся начатой пачкой печенья, которую я нахожу в кармане своих брюк.
На шоссе, на другом берегу, по которому мы приехали — когда это только было? — сегменты лучей фар автомобиля прощупывают темные утесы. Совсем далеко справа над одним из укрывшихся в садах крестьянских домов курится тонкий столб дыма.
…Народ окружил своего поэта многочисленными сказаниями и легендами, подобно тому как греки — Гомера. При этом народ создал легенды не только вокруг самого Шота, но и вокруг главных героев его поэмы. Особенно вокруг рыцаря Тариэла и его возлюбленной Нестан-Даред-жан. Многие строфы эпоса, иногда с совершенно различной мелодией, стали народными песнями, которые поют еще и сегодня.
Задумавшись, я через некоторое время говорю:
— Поэту, которого так любит его народ, можно позавидовать.
Шум и шорох реки сопровождает наш ночной разговор в долине. Когда бледная мгла неба начинает принимать сиреневую окраску и постепенно насыщается нежно-розовым цветом, Элисо вскакивает.
— А знаете, — восклицает она с блеском в глазах, — если уж у нас нечего есть, то почему мы должны еще и умирать от жажды! Пойдемте, поищем колодец! Ведь становится светло, может быть, теперь мы его найдем!
При слове "колодец" я вздрагиваю, невольно вспоминая колодец, в который я чуть было не провалился сегодня ночью. Пригнувшись, следую за Элисо через проходы. Вскоре мы входим на рыночную площадь Вардзии — высокое большое помещение, половину которого занимает огромный резервуар. Из отверстия в стене, булькая, течет сверкающая вода.
Взбегаем по ступенькам, ведущим к резервуару. С жадностью склоняемся над водой, черпаем ее пригоршнями и пьем…
— А теперь пойдемте! — Элисо соскакивает со стенки колодца. — Если мы нашли рынок, то теперь попадем и к городским воротам. Строгую ключницу ваш друг за это время наверняка нашел. Может быть, он уже со страхом ждет вас. Вы ведь могли умереть от голода и жажды, могли быть потрепаны летучими мышами или даже растерзаны дикими зверями…
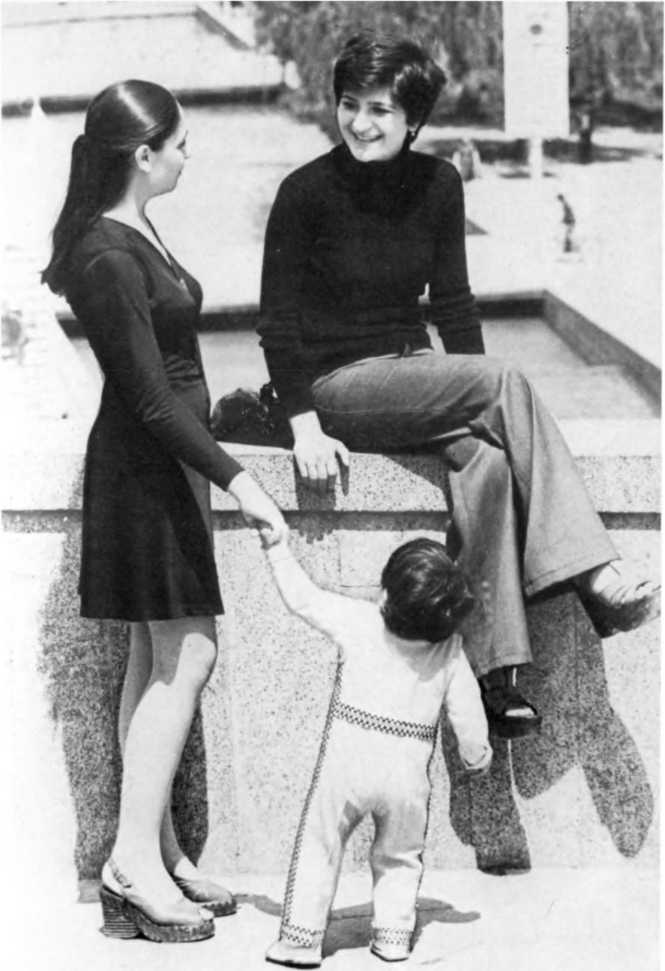
Тбилиси. Уличная сценка

Древняя Ананурская крепость
Строительство Ингурской ГЭС

Абастумская обсерватория


Юный горец
Грузинские чабаны



Военно-Грузинская дорога
Студенты Тбилисской Академии художеств оформляют своими работами фойе драматического театра

В Грузии бывает и такое: выпал снег


Грузинский тамада
— …или истлеть в глубоком подземелье, — добавляю я.
…Неповторимо это утро, несказанно прекрасно. Мною овладевает восторженное чувство, от которого хочется кричать: обнимитесь, миллионы. Этому чувству не может противиться и Реваз. Невероятно бледный, терзаемый мрачными предчувствиями, он встречает меня у городских ворот упреками, которые я, конечно, хорошо понимаю: ночью он не спал, предпринимал всевозможные попытки для моего "спасения". Но в конце концов он перестает меня упрекать.
— До встречи в Тбилиси! — кричит мне Элисо, которая тем временем уже прошла через мост и подошла к светлой "Волге".
Задумавшись, Реваз смотрит вслед "Волге", из которой мне своим красным платком машет Элисо, пока машина не скрывается за поворотом.
Вперед, в Тбилиси! Мы садимся в наши "Жигули".
Поучительный взгляд с вершины Мтацминды
Я встаю рано, рано просыпается и Тбилиси. Мне это отчетливо видно с горы Мтацминда, на которую я поднялся с восходом солнца, не дожидаясь, пока меня туда поднимет фуникулер. Повсюду в раскинувшемся у моих ног городе бурлит деловая жизнь, гудят троллейбусы, трамваи, автобусы, электропоезда и автомобили.
5 Только здесь, на вершине Мтацминды, у подножия телебашни, которая, как великан, возвышается надо мной в лучах восходящего солнца, мне становится ясно, что Тбилиси не просто столица, а промышленный центр республики.
Морис, молодой коллега Зураба Ахвледиани, не почел за труд спозаранку проводить меня на Мтацминду. Он объясняет мне, что производится на предприятиях города. Он журналист, специализирующийся по вопросам экономики.
Рядом со станцией фуникулера мы останавливаемся, и Морис показывает территорию большого завода. Это станкостроительный завод имени С. М. Кирова. Он производит самые различные металлообрабатывающие станки.
А это предприятие — он обращает мое внимание на другой комплекс зданий — машиностроительный завод имени С. Орджоникидзе, снабжающий, например, виноградода-вильни всего Советского Союза необходимым оборудованием, с полностью автоматизированными поточными линиями. Вообще же рабочие Тбилиси производят самую различную продукцию, которая экспортируется и в другие страны.
Когда я спрашиваю молодого Мориса о металлургическом комбинате в Рустави, то его лицо расцветает улыбкой. Этот гигант металлургической промышленности составляет гордость Грузии.
— В Рустави, — говорит с блеском в глазах Морис, — большинство технологических операций механизировано, а частично уже и автоматизировано.
…Далее наш разговор переходит на сельское хозяйство.
— Что достигнуто в этой области? Что, по-вашему, является специфичным для республики? — спрашиваю я.
Морис улыбается своей мальчишеской улыбкой.
— Вид Нашей страны с высоты полета самолета представляет собой мозаику, составленную из бесчисленных "камешков" различной расцветки… Плотность населения в Грузии большая, каждый клочок плодородной земли распахивается; но она относится к числу тех республик, которые обделены природой в том смысле, что именно не каждый клочок земли может быть обработан.
— Поскольку природные условия в Грузии сложные, то, видимо, особенно энергично ведется механизация сельского хозяйства? — говорю я, полагая, что сказал что-то по существу.
— Механизация здесь? Когда так много склонов, по меньшей мере таких же крутых, как в Тюрингии и Гарце? На лоскутных полях? Нет, современную технику здесь в больших масштабах использовать нельзя.
— Но что же тогда делать? И что делается?
— Необходимо проводить мелиорацию, как это рекомендовал В. И. Ленин. После 1921 года были созданы огромные комплексные мелиоративные системы. Искусственным орошением сегодня уже охвачены значительные площади. С другой стороны, в наших западных районах, подверженных влиянию влажных ветров с Черного моря, осушены десятки тысяч гектаров заболоченных земель, на которых сейчас произрастают субтропические, технические и овощные культуры. Прежде всего это относится к Колхидской низменности, которую раньше занимали огромные болота…
Морис смотрит на часы и говорит, что утреннюю прогулку пора заканчивать.
— Продукты нашего сельского хозяйства, — говорит он, — вам сейчас лучше попробовать в натуре, во время завтрака. Зураб Ахвледиани вас уже определенно ждет!
Спускаясь по мощеной извилистой дороге в город, мы продолжаем наш разговор о сельском хозяйстве, правда, уже о животноводстве.
— Самое оригинальное, что мы выращиваем, — говорит улыбаясь Морис, — это такие "звери", дюжину которых вы легко можете разместить в спичечном коробке. Тысячами их ежегодно отправляют в другие союзные республики и за границу. Это очень ценимые специалистами грузинские серые пчелы.
— А как обстоит дело, так сказать, с настоящим животноводством? — спрашиваю я.
— Поголовье крупного рогатого скота составляет у нас полтора миллиона, а поголовье овец — два миллиона, — с ходу отвечает Морис. Подобные цифры он держит в голове.
Когда мы, спустившись с горы, подходим к первым домам города, я высказываю предположение о том, что грузинские крестьяне раньше, видимо, были в первую очередь животноводами в силу того, что были обделены землей не только природой, но и помещиками.
Морис покачивает головой и не соглашается с этим.
— Свою полоску земли крестьянин обрабатывал даже в горах, даже на краю скалистого ущелья. Часто он владел виноградником, как минимум — фруктовым садом, выращивал табак. Но когда вы говорите, что наш крестьянин всегда держал свой скот, жил вместе с животными, которые были источником его жизни, то я с вами согласен. Привязанность сельских жителей Грузии к животным необычайно сильная. Об этом свидетельствуют, в частности, многие картины наших художников. Но зачем об этом говорить сейчас? Вы их еще увидите сами!
Сирота Нико
В продымленном подвале шашлычной шумно, но я с большим интересом слушаю историю, которую мне рассказывает Зураб.
Шумно завтракающие водители грузовиков, продавцы и рабочие, их оживленная беседа через столы и смех не мешают, а, кажется, наоборот, дополняют картины на стенах, на которые я, войдя, сразу же обращаю внимание.
Едва мы спускаемся по лестнице в подвал, с противоположной стены меня встречает картина пожилого, почтенного грузина в старинной одежде. Входящих гостей он приветствует наполненным вином рогом. С его бледным лицом резко контрастируют черные волосы и брови, черные усы. Его миндалевидные глаза смотрят на меня вопросительно, но спокойно.
На другой картине изображен охотник с ружьем. Голубизна неба и огненно-красная рубашка, сверкающая из-под черной накидки, создают подкупающее действие красок. Рядом рыбак в широкополой светло-желтой соломенной шляпе; он стоит в реке, между скалами, держа в одной руке ведро, а в другой — большую рыбу.
На других картинах изображены сцены из деревенской жизни: молотьба, сбор винограда; или животные: орел, поймавший зайца, оригинальный желтый лев, олень. Все изображено необычно, оригинально, как бы увидено глазами ребенка, но тем не менее не поверхностно.
Чем больше я рассматриваю картины и чем больше узнаю о жизни мальчика по имени Нико, который и является их творцом, тем больше мне раскрывается глубоко заложенный в них смысл.
Нико родился более ста лет назад, в 1862 году, в селе Мирзаани. Его отец был известным садоводом. Когда мальчику было восемь лет, он потерял отца и мать, и дети — у Нико было две сестры — по совету родственников нанялись в Тбилиси к "знатным людям". После того как через несколько лет сирот постигло новое несчастье: неожиданно заболела и умерла старшая сестра Мария, Нико и его младшая сестра возвратились в родное село, где мальчику доверили пасти овец. Впервые Нико попытался рисовать в 14 лет. От бродячих художников, расписывавших вывески, он усвоил основные навыки их ремесла. Но в селе ему помочь никто не мог. К тому же не на чем и нечем было рисовать.
Читать Нико научился сам. Чтению он отдавался со страстью, произведения грузинских прозаиков и лириков стали его лучшими друзьями. Подрастающий мальчик находил в них утешение и учился на них.
Потребность в учебе неоднократно толкала его в Тбилиси, где он зарабатывал себе на жизнь случайными заработками. Когда ему было двадцать, он вместе с другими художниками открыл мастерскую, от которой, однако, вскоре вынужден был отказаться. Нужда заставила его работать в течение трех лет на железной дороге кондуктором. Он подорвал здесь и без того слабое здоровье и вынужден был подать заявление об увольнении. Начальник управления дороги на обратной стороне нацарапал: "Увольнение крайне желательно, поскольку его постоянные болезни являются крайне дурным примером для других служащих".
Друзья собрали для Нико деньги и помогли найти ему жилье. Он открыл молочную лавку, которую украсил красочными изображениями коров. Эту настенную живопись, первую крупную работу, Нико рассматривал как начало своего жизненного пути. С этих пор каждую свободную минуту он использовал для рисования.
Несколько лет, владея лавкой, он жил в достатке. Но все же конец был неожиданным. Он познакомился с женщиной, в которую влюбился на всю жизнь: с француженкой Маргаритой, певицей и танцовщицей из кафе. Красивая, элегантная Маргарита окрыляла фантазию Нико; он восхищался и почитал ее самозабвенно. Человек с большим, верным сердцем, он считал "Марго" сказочно-прекрасным ангелом, спустившимся с неба. В состоянии блаженной восторженности Нико с радостью подарил ей не только свое сердце, но однажды и свое имущество. Это был последний день, когда элегантная Маргарита смотрела на него своими большими черными как смоль глазами. На следующий день она бесследно исчезла, оставив Нико на развалинах его жизни. Нико разорился. Он потерял "кредит и доверие" крупных торговцев и стал одним из беднейших жителей тбилисских окраин. Удар судьбы оставил в его душе глубокую рану, он разучился смеяться, стал неразговорчивым и замкнутым. Единственным смыслом жизни, утешением для него стало рисование. Но в обществе, в "большом" мире его картины были неизвестны.
Открыли его в такой же подвальной закусочной, как эта. Это было в 1912 году. Так же случайно, как мы сегодня, писатель Константин Паустовский зашел в один кабачок с двумя друзьями. Они удивились оригинальным картинам на стенах и спросили о художнике. Тут все гости заволновались. Все были просто удивлены, что существуют люди, которые не знают "художника Нико". "Ах, вы ведь обычно, видимо, ходите только в рестораны? Картины нашего Нико там не висят", — ответил хозяин, сочувственно улыбаясь.
Паустовский и его друзья узнали, что все считали Нико неисправимым чудаком, поскольку он постоянно занимался делом, которое ему ничего не приносило. Тогда у него уже долгое время не было постоянного жилья и он устраивался то у одного, то у другого заказчика, в большинстве случаев у трактирщиков или у хозяев лавок. За еду он рисовал для них в темных подвалах и чуланах при плохом освещении. Если картина заказчику нравилась, он получал и стакан вина. Затем он брал свой ящик с красками и шел дальше? Когда Паустовскому и его друзьям несколько дней спустя удалось разыскать Нико Пиросманашвили, то они увидели перед собой необычно высокого, худого мужчину. Несмотря на его потрепанный жакет, движения художника были неповторимо изящными, за что его друзья дали ему прозвище "граф".
То обстоятельство, что спутниками Паустовского были студенты петербургской Академии художеств, искренне одобривших его картины, заставило Нико против обыкновения разговориться, и он тихо, в своей манере, признался: "Я люблю рисовать простой народ: железнодорожников, крестьян, трактирщиков, бедный люд, носильщиков и уличных торговцев. Богатые меня не любят, у них свои художники. Я работаю иначе, чем другие художники, и поэтому меня не хотят знать, — добавил мягко Пиросманашвили. — Для того чтобы видеть, нужно иметь глаза, не замутненные предрассудками, и кое-что еще — вы меня понимаете?"
Механически я отмечаю, что люди за соседним столом встают и уходят, что официант убирает стол и входят другие посетители. Да, для того чтобы видеть, нужно иметь "еще кое-что". Мой взгляд возвращается назад, к картинам на стене. Какая ясность и правдивость! Только сейчас я замечаю, что при всем разнообразии красок они в большинстве случаев нарисованы на черном фоне и имеют много черного пространства.
— Чем это объясняется? — спрашиваю я Зураба.
— Бедностью Пиросманашвили, — отвечает Зураб. — Он рисовал на черной клеенке и был вынужден использовать ее черную фактуру в качестве фона. Но он сумел это обернуть в свою пользу. На большой площади он оставлял черный цвет для ландшафта, ночного неба, одежды и разрабатывал исключительно светлые фрагменты. Но это вы гораздо лучше увидите на оригиналах. Здесь висят только копии, художественные репродукции.
…В Музее искусств Грузинской ССР я вижу оригиналы лучших картин Нико Пиросманашвили, или Пиросмани, как он порой подписывал свои картины.
От Зураба я узнаю, что упорный самоучка Пиросманашвили в течение всей своей жизни не имел возможности обмениваться мнениями со своими коллегами-художниками и не мог показать свои картины где-либо на выставках. Те, кто помогал ему своими суждениями, были простые люди из кабачков. Он умер в 1918 году, за три года до установления в Грузии Советской власти, при которой началось нелегкое собирание его картин, разбросанных по всему Тбилиси, и была написана монография о художнике.
Такие писатели, как Георгий Леонидзе и Тициан Табид-зе, любовно почтили художника в многочисленных произведениях, и после первой выставки картин в 1930 году в Тбилиси, за которой уже в 1931 году последовала выставка на Украине, Пиросманашвили постепенно стал известен во всем Советском Союзе.
При знакомстве с его картинами мне бросается в глаза известное сходство со старинной грузинской настенной живописью, которую я видел в Мцхете и Вардзии. Зураб подтверждает это.
— Эти традиции сохранились в нашей живописи до начала XIX в., — объясняет он мне. — После присоединения Грузии к России в нашей жизни и искусстве произошел решающий поворот. В живописи начался отход от традиций эпохи феодализма и стали утверждаться принципы реализма. Поэтому наряду с настенной живописью развивались станковая живопись и тбилисская портретная школа.
— Означает ли эта школа определенный стиль, направление или высшую художественную школу? — спрашиваю я.
— К сожалению, только направление. — Зураб пожимает плечами. — До революции высшей художественной школы у нас не было. Когда Илья Репин в 1897 году приехал в Тбилиси, он заявил: "В Тбилиси пора создавать собственную художественную школу живописи, скульптуры и архитектуры, неукоснительно учитывая местные условия". Неоднократно Репин подчеркивал: "В Тбилиси необходимо создать оазис искусства!" Он считал немыслимым, что столь чудесная по своему характеру страна не породила никаких художественных сил. "Я считаю, — говорил он, — что эпоха искусства на Кавказе еще предстоит. Эта невероятно прекрасная страна породит художников, достойных преобразовывать ее средствами искусства".
— Застал ли Илья Репин создание тбилисской Академии художеств? — спрашиваю я, когда мы медленно идем по залу.
— Да, она была основана в 1922 году.
— А раньше грузинские художники были самоучками, как Пиросманашвили?
— Нет, конечно. Раньше они получали академическое образование прежде всего в России, но отчасти также и в Западной Европе.
Мы смотрим картины художников старшего поколения: Р. Гвелесиани, А. Беридзе, Г. Габашвили, А. Мревлишви-ли, к которым в первые десятилетия нашего века присоединились такие художники, как Д. Какабадзе, Л. Гудиашви-ли и другие.
Зураб обращает мое внимание на то, что некоторые из них сознательно стремились к продолжению традиций старого грузинского искусства и в процессе своего дальнейшего творческого развития пришли к стилизации. Я не раз замечал ее в новейшем грузинском искусстве, в чеканке на листовом металле, в керамике и особенно в архитектуре.
Как это уже не раз случалось при посещении выставок, я и здесь жалею о том, что не могу задержаться у некоторых картин дольше, хотелось бы возвратиться к ним еще раз. Например, к картинам Давида Какабадзе, выдержанных в легкой декоративной манере, строгим по композиции, нежным по краскам; или к картинам Ладо Гудиа-швили, которые порою уводят в царство легенд, сказок и аллегорий; или к портрету Ираклия Тоидзе, на котором изображена его сестра… Время, на все нужно гораздо больше времени!
И все же от работ книжных графиков я так быстро оторваться не могу. С первого взгляда видно, что изобразительное искусство республики отличается заметным своеобразием. Более всего бросается в глаза продолжение национальных традиций. Чрезвычайно богатые мотивы грузинского орнамента в совершенстве переведены на язык графики. Какой размах, какое привлекательное сочетание красок, какое изящество!
— Наш красивый, напоминающий орнамент шрифт, — объясняет Зураб, — конечно, помог художникам, поскольку предоставлял им возможность различных декоративных решений. Значительный подъем книжная графика получила благодаря Руставели. — Зураб, улыбаясь, смотрит на меня. — Я думаю, что вы уже больше не удивляетесь, встречаясь с ним здесь на каждом шагу, не правда ли? Посмотрите вот сюда! Эти новые иллюстрированные издания его поэмы "Витязь в тигровой шкуре" появились к его юбилею.
…Встречи с Руставели. Нет, им я больше не удивляюсь. В том числе и в музее грузинского искусства. Удивляет нечто другое: чтобы шире познакомить меня с грузинским искусством, Зураб приглашает меня в министерство финансов. Странно. Что общего у финансистов с искусством?
В вестибюле министерства финансов, мощного здания, построенного, видимо, в конце прошлого века, Зураб просит меня немного подождать. Я осматриваюсь по сторонам. Толстые, как в соборе в Мцхете, колонны, по бокам лестницы, которые ведут на верхние этажи. Но куда?..
Наконец Зураб вновь появляется передо мной в сопровождении худого мужчины лет сорока в позолоченных очках, которого он представляет мне как одного из руководящих сотрудников министерства финансов.
Финансист дружелюбно приветствует меня и ведет нас на второй этаж, чтобы показать, как он говорит, "самые драгоценные, золотые сокровища министерства финансов".
— Золотые сокровища обычно хранятся в подвале, — говорю я полувопросительно, когда мы проходим лестничную клетку второго этажа и поднимаемся на третий.
Улыбаясь только краешками глаз, финансист отвечает:
— Мы ценим это золото очень высоко. Поэтому и храним его на соответствующей высоте.
Когда мы наконец входим в большой зал, эти драгоценности поражают меня так, как не поразили бы богатейшие сокровища султана. Весь внушительных размеров зал превращен в картинную галерею. Но как! С каким вкусом! С какой любовью! Не менее удачно, чем в художественном музее!
Стены и передвижные перегородки обиты сукном и выдержаны в разных тонах, которые тонко подобраны как между собой, так и в отношении основного тона расположенных на них картин. Цветовая симфония, радующая глаз!
— И это в министерстве, да к тому же в финансовом?! — говорю я, удивляясь и восхищаясь, и признаюсь финансисту в том, что в министерстве моей республики ничего подобного я не видел.
— Художественные выставки в Грузии приняты, к сожалению, не во всех министерствах, — честно отвечает финансист. — Но в министерстве финансов они уже в течение ряда лет стали традицией.
— А почему именно здесь? Ведь в Тбилиси есть большая галерея в музее искусств и, кроме того, многочисленные другие залы, в которых выставляются картины и скульптуры.
— В это здание, — говорит мой собеседник, — приходят работники из самых различных крупных предприятий и управлений, изо всех областей нашей республики, приходят люди, у которых не всегда, пожалуй, найдется время для посещения художественного музея или картинной галереи. А здесь они могут посмотреть картины до или после совещания, во время обеденного перерыва. Кроме того, они могут купить здесь картины для своего предприятия.
Финансист прощается, у него есть другие дела. Начинаем с Зурабом медленный обход зала. Среди многочисленных графических работ и картин, среди многих мягких и резких тонов, среди возвышенных и трагичных по теме рисунков я, кажется, нахожу работу, которая чем-то мне знакома. Но поскольку мне сначала хочется получить общее представление о выставке и выявить то, что следует посмотреть более обстоятельно, я иду дальше. Однако выбор сделать трудно. Многие экспонаты вызывают соблазн погрузиться в их созерцание. Ландшафты, натюрморты, портреты. Картины, рассказывающие о труде и борьбе, о современности и прошлом, о величии человека, трагедиях и счастье. Замечательное многообразие тем и сюжетов…
Когда я снова подхожу к двери в зал и оглядываюсь на Зураба, то вижу, что он стоит в конце зала, погрузившись в самозабвенное созерцание. Я подхожу к нему, чтобы поблагодарить за то, что он привел меня на эту выставку-распродажу картин современного искусства, и бросаю взгляд на картины, которые он рассматривает. Это те же самые картины, стоя перед которыми я почувствовал знакомые мотивы. Теперь я улавливаю их вновь. За столом сидит пожилой мужчина и, как бы прикрывая пламя, держит руку около стоящей перед ним свечи, свет которой отражается в его больших, умных глазах, в их почти благоговейно спокойном взгляде. На нем темная одежда, шапка, в темное одеты и молодые мужчины, которые стоят в стороне от него. Темный цвет занимает три четверти площади картины. Вдруг меня осеняет: Пиросманашвили! Конечно, потому и знакомый мотив!
— Как сюда попала картина художника Нико?! — спрашиваю я Зураба.
— Ах, вы считаете Пиросманашвили автором этого портрета? — одобрительно кивает Зураб. — Подмечено неплохо!
— Я считал, что здесь висят только картины современных художников, — отвечаю я.
Зураб соглашается со мной и просит посмотреть картину более обстоятельно. Как и у Пиросманашвили, композиция построена фронтально, без отнесенного в глубину заднего фона, строго симметрично. Но лица, прежде всего лицо мужчины, сидящего за столом, не просто плоские, как у Пиросмани, а тщательно выписаны во всех их тончайших деталях…
Я делюсь с Зурабом моими наблюдениями и начинаю теперь уже сам сомневаться в том, что эта картина Нико Пиросманашвили. Он показывает на прикрепленную внизу табличку. Я наклоняюсь и читаю имя этого удивительного художника: Джемал Хуцишвили. Картина называется "Портрет Папуна Церетели".
— И все же то, что вам это напоминает Пиросмани, оправданно во многих отношениях. По своему стилю Джемал Хуцишвили напоминает Пиросмани, признавая, в частности, Пиросмани своим учителем. Между прочим, он тоже из Кахетии и тоже самоучка, как и Пиросмани.
— Но своему учителю он, видимо, подражает не рабски. Как он изображает лица!
— Не только лица, но и руки, одежду Хуцишвили изображает по-другому. Поскольку он видит их иначе, он применяет иные художественные средства.
— Кто этот мужчина, которого он здесь изобразил? — спрашиваю я.
— Папуна Церетели — известный коллекционер художественных ценностей, которого можно назвать патриотом грузинского искусства, — отвечает Зураб и показывает на другую картину, которую Хуцишвили назвал "Старики".
Под узловатым ореховым деревом в окружении животных спиной к спине, согревая друг друга, сидят белобородый крестьянин в зеленом халате и его жена в темно-синем платье, повязанная темно-синим платком. Их склоненные фигуры, столь же сильные, как ореховое дерево, их узловатые, натруженные руки, их морщинистые лица говорят сами за себя, они говорят обо всей их жизни, которую они бок о бок прожили во взаимном доверии, любви и душевном согласии.
— Только посмотрите, с какой поэтической наивной свежестью смотрит Хуцишвили на этих двух людей! В этом находит отзвук старая мечта о добре и счастье. Как Хуцишвили умеет показать в них вечный круговорот жизни: старое уходит и освобождает путь новому! При всей своей простоте его картины никогда не являются однозначными. Всегда они вызывают целый ряд ассоциаций и побуждают к размышлениям над жизнью.
Но в творчестве Хуцишвили Зураба больше всего привлекает не это. Он подводит меня к другой картине, подернутой сиреневой дымкой.
"Весна. Портрет археолога Кетеван Двали", — читаю я на табличке. На лугу, на котором цветут розовые деревца миндаля и редкие первые цветы, рядом с теленком и ягненком расположилась молодая женщина в ажурном черном сарафане, цветущая черноволосая красавица с темными мечтательными глазами. На заднем плане, на одной из гор в сиреневое небо, на котором матовым пятном повисло огромное солнце, уходит изящный силуэт древнего храма Джвари. На другой горе друг к другу прижались сельские домики.
— Знаете, — тихо говорит Зураб, осторожно беря меня под руку, — эта картина, на мой взгляд, наиболее наглядно олицетворяет кредо художника. Почему животные льнут здесь к человеку? Потому, что от него они ожидают только любви, только добра. Для Джемала Хуцишвили человек живет с природой в полной душевной гармонии. Портрет женщины гармонически сочетается с чудесным летним ландшафтом, который становится символом родины и по-весеннему вечно цветущей молодости. Человек мудр и добр, просто добр. Укрепление этой присущей народу веры, полное уверенности и в то же время требовательности напоминание об этом волнует Джемала Хуцишвили прежде всего.
Мы оба застываем в молчании. Под влиянием этой человечности…
Потайной подвал
Человечность… Здесь, где мы стоим сейчас с Зурабом, на глубине нескольких метров, под суетой большого города, под неприметным старым домом, — здесь более 70 лет назад люди трудились во имя восхода "солнца человечности". Здесь работали большевики. На этом месте они печатали призывы, листовки, прокламации, газету Кавказского союзного комитета РСДРП "Борьба пролетариата", произведения Ленина и Сталина.
Один из них, товарищ Михо Бочоридзе, разработал план, по
которому в первые годы нашего столетия была создана подпольная типография. Он нашел подходящую строительную площадку, уговорил слесаря Давида Ростомашвили выдать себя за официального застройщика и сам руководил строительством дома с потайным подвалом, в который можно было попасть лишь из сарая во дворе дома через колодец. Когда дом был готов, застройщик "передумал" и уступил участок тетке Михо Бочоридзе, которая затем "сдала" комнату наборщикам и печатникам подпольной типографии.
Тетя Михо взяла на себя обеспечение безопасности. Более двух лет "стояла" она на своем посту и наблюдала — если внизу работали — за улицей и калиткой. Если даже звонил телефон, то и в этом случае она не отрывала взгляда от окна, ибо, как только кто-нибудь приближался к калитке, ей надо было тотчас же нажать потайную кнопку сигнала опасности, чтобы печатники своевременно смогли отключить машины.
— Эта типография, — рассказывает Зураб, — внесла большой вклад в подготовку революции 1905 года.
Теперь в этом доме музей, который как бы позволяет окинуть взглядом развитие революционного движения в Грузии. Первые забастовки, демонстрации и подпольные маевки грузинских рабочих — все это возникает перед моими глазами, когда мы с Зурабом покидаем знаменитую подпольную типографию, о деятельности которой с похвалой отозвался на III съезде РСДРП В. И. Ленин. На древних улицах и площадях вновь, кажется, слышится мощное пение, слышатся боевые песни рабочих, которые перекрывали яростный вой царских жандармов, посвист нагаек и хлесткие удары выстрелов.
В 90-х годах прошлого века рабочий класс встал во главе освободительной борьбы грузинского народа против национального и социального угнетения. Одним из важнейших очагов революционного движения стали железнодорожные мастерские в Тифлисе. Во главе революционной борьбы в Грузии и Закавказье среди других стояли И. Сталин, М. Цхакая, Л. Кецховели, А. Цулукидзе, Ф. Махарадзе, С. Орджоникидзе, М. Бочоридзе и И. Стуруа.
В бурные дни 1905 года рабочий класс и крестьянство Грузии поднялись на открытую борьбу с царизмом. Этим было положено начало качественно новому этапу освободительного движения в Закавказье. Это проявилось не только в массовом участии крестьян, которые — в силу слаборазвитой промышленности — по количеству превосходили относительно небольшой рабочий класс Грузии. Впервые в истории Закавказья пролетарии всех наций и народностей поднялись на совместную борьбу.
Только благодаря боевому союзу рабочих и крестьян, братьев по классу всего Закавказья объясняется тот успех, который мог быть достигнут в этом регионе во время революции 1905 года. Почти во всех районах Грузии создавались революционные комитеты рабочих и крестьян. В некоторых местах создавались вооруженные "красные сотни", и во многих районах власть в свои руки фактически взял народ. Восстания были жестоко подавлены царизмом.
В 1912 году революционное движение здесь пережило новый этап подъема, по стране прокатилась новая волна забастовок. Во время первой мировой войны большевики Грузии, опираясь на ленинское учение о войне и революции, вели непримиримую борьбу против буржуазных националистов и прежде всего против меньшевиков, которые, прикрываясь лозунгом о "защите отечества", проводили политику соглашательства с буржуазией.
Когда в феврале 1917 года в России произошла буржуазно-демократическая революция и царизм пал, то в Грузии — как и повсюду — вначале возникло двоевластие. Власть рабочих и крестьян олицетворяли Советы, а власть буржуазии — комитеты Временного правительства.
…После победы Октябрьской революции борьба за окончательное установление Советской власти в Грузии продолжалась еще более трех лет.
— Только после 25 февраля 1921 года, — говорит Зураб, — после взятия власти в Грузии революционными рабочими, крестьянами и солдатами, отсталая, полуколониальная Грузия начала свой путь к национальному возрождению.
Замок "Цинандали"
Не останавливаясь в районном центре Телави, мы едем в одно местечко, название которого пользуется славой у любителей вина во всем мире: Цинандали. Действительно изысканным является играющее золотом вино, которое рождается на этой благодатной земле. Но намного благодатнее, по словам Зураба, являются плоды древа, которое начало здесь однажды произрастать благодаря самоотверженным усилиям грузинского князя и поэта Александра Чавчавадзе.
В ухоженном старом парке сквозь листву мощных деревьев поблескивает белое здание: замок Чавчавадзе. Освежающей чистотой и четкостью линий отличается и внутреннее устройство замка: все выдержано в стиле начала XIX в.
Зураб ведет меня через просторные залы к одной картине, на которой изображены двое мужчин: элегантный брюнет с изящно вскинутыми бровями, с бородкой и рядом с ним человек с узким, типичным для ученого мужа лицом. Читаю: "Александр Чавчавадзе и Александр Грибоедов".
— Что такое? Русский поэт Грибоедов, автор знаменитой комедии "Горе от ума", был знаком с Чавчавадзе? — спрашиваю я Зураба.
— Не только знаком, но и был его близким другом, а затем даже и родственником, — поясняет Зураб. — Он был одним из дипломатических работников, которые работали здесь в первые годы после вхождения Грузии в состав России. А поскольку Грибоедов был одним из прогрессивнейших людей своего времени и был связан с декабристами, то он, естественно, искал и скоро нашел контакт с прогрессивным представителем грузинской интеллигенции Александром Чавчавадзе.
— Но каким образом Грибоедов стал его родственником?
— Он, познакомившись с дочерью Александра Чавчавадзе Ниной, влюбился в нее и попросил ее руки у родителей. Родители, знавшие о взаимной любви молодых людей и уважавшие Грибоедова, дали свое согласие.
— Значит, Грибоедов был еще теснее связан с Грузией, чем Лермонтов?
— Ни один русский писатель прошлого столетия не имел таких тесных и многосторонних связей с Грузией, как Грибоедов, — говорит Зураб. — Он оставил после себя незаконченную романтическую трагедию "Грузинская ночь", в которой он описывал не только живописную природу, но и социальные отношения в тогдашней Грузии.
В небольшой комнате находится экспозиция, рассказывающая о связях Грибоедова с семьей Чавчавадзе. Здесь висит и портрет Нины Чавчавадзе-Грибоедовой.
— Я не знаю другой такой романтической и трагической любви, как та, которая связывала 16-летнюю Нину и Грибоедова, — задумчиво говорит Зураб.
— Почему она была трагической? — спрашиваю я.
— В августе 1828 года Нина надела подвенечное платье, а несколько месяцев спустя — траурное… Вскоре после свадьбы царь послал Грибоедова послом в Персию, где он и стал жертвой нападения на русское посольство: поощряемые духовенством, мусульмане-фанатики напали на посольство, Грибоедов защищался с саблей в руках, но, как и другие сотрудники посольства, нашел здесь свою смерть. Его тело было доставлено в Тифлис и захоронено на горе Давида. Когда траурный кортеж, сопровождаемый казаками, прибыл в Тифлис, население с плачем высыпало на улицы.
— Как объяснить такую симпатию к нему? — спрашиваю я. — Ведь он был царским чиновником…

Юные артисты





Юные спортсмены



Отдых в горах и… в бассейне

В детском городке в Тбилиси


Приход телевидения в горы

В лабораториях грузинских ученых: на ядерном реакторе

Курорт Боржоми


На чайных плантациях Грузии

Сбор мандаринов в Абхазии

Мимозы Аджарии

Из этого источника пил А. Пушкин, путешествуя по Военно-Грузинской дороге


Путешествуя по Грузии, хорошо полакомиться шашлыком

Юная горянка
— Формально да, — поясняет Зураб, когда мы снова выходим в парк. — Но как человек, посвятивший свою жизнь прогрессу, он проявил здесь чрезвычайно высокую общественную активность. Он хотел преобразовать жизнь народов Закавказья, особенности жизни и потребности которых хорошо изучил. Благодаря ему в жизнь были претворены ряд мероприятий, имевших важные последствия. Так, например, он способствовал основанию газеты "Тифлисские ведомости", учреждению народных школ, строительству общественной библиотеки и открытию торгового банка.
Мы присаживаемся в тени кедра на скамейку, и я рассматриваю освещенный ласковыми лучами солнца замок. Неужели Зураб назвал его духовным центром только потому, что хозяин замка и русский писатель нашли здесь общий язык? На что намекал Зураб, когда сказал, что плоды древа, которое взросло здесь тогда благодаря усилиям Чавчавадзе, намного благодатнее, чем вино "Цинандали"?
После этого вопроса Зураб ведет меня снова в замок, в одну из комнат, где наряду с другими экспонатами висит копия письма человека по имени К.А. Бороздин.
— Бороздина я не знаю, — говорю я.
Мой терпеливый попутчик объясняет:
— Это был русский чиновник, который в первой половине прошлого столетия также служил в Грузии.
Я читаю текст письма: "Главная заслуга князя Александра Чавчавадзе состояла в том, что он сумел превратить свой дом в прочное связующее звено между грузинским обществом и русскими людьми, которые прибыли на Кавказ, чтобы продолжить здесь свою службу. В совершенстве владея родным языком и прекрасно зная русский, уважаем и любим как русскими, так и местными, князь был не только прекрасным переводчиком между представителями обеих национальностей, объединенных политически, и все же до сих пор как по языку, так и по своей истории совершенно чуждых друг другу, но он был также и активным сторонником их объединения".
Теперь я понимаю, почему Зураб называет этот замок "духовным центром". На древе, взращенном при содействии Чавчавадзе, плоды действительно благодатнее, чем вино "Цинандали"!
— К числу русских поэтов прошлого столетия, которые поддерживали духовные контакты с передовой грузинской интеллигенцией, относится также и Пушкин, — продолжает Зураб, когда мы снова медленно возвращаемся в парк. — Когда он в 1829 году ехал на Кавказ, то встретил запряженную волами арбу, на которой везли тело Грибоедова. Об этой встрече он упоминает в своем "Путешествии в Эрзерум", не называя, правда, имени Чавчавадзе и его друзей, с которыми он встречался во время своего пребывания там.
С недоумением я смотрел на Зураба.
— Почему он не называет имен? Может быть, между ними были какие-то расхождения во взглядах?
— В таком случае Чавчавадзе не перевел бы, конечно, одним из первых пушкинскую лирику на грузинский. — Зураб отрицательно качает головой. — Нет, здесь были политические мотивы. Известно, что Пушкин из-за своих связей с декабристами находился под надзором царских властей, поэтому он, наверное, и не хотел подвергать своих грузинских друзей дополнительной опасности, так как они и без того поддерживали непосредственные контакты со многими декабристами.
Я пытаюсь восстановить свои познания в истории.
— Со многими декабристами? Они что же, бежали сюда?
— Нет, в Закавказье, где полыхала русско-иранская война, они были сосланы вместе со многими другими передовыми людьми, попавшими в царскую немилость. — Зураб приостанавливается на лестнице замка и смотрит на меня. — Теперь можете себе представить, что тогда происходило в этом доме и что это означало…
Он достает сигареты, одну предлагает мне, закуриваем. В то время как мы медленно идем по парку, Зураб продолжает свой рассказ:
— В лице декабристов в Закавказье прибыли самые передовые и образованные люди той эпохи, люди, которые прошли школу Отечественной войны 1812 года и революционной борьбы против царизма. Такое сосредоточение преследуемых царизмом борцов за свободу в "Южной Сибири", как называли тогда Закавказье, способствовало образованию антиправительственных тайных обществ, в которые входили и представители передовой местной интеллигенции.
— И этот замок служил им местом встреч? — спрашиваю я.
— Возможно, не единственным, но самым важным, во всяком случае для писателей.
— А какие писатели-декабристы бывали здесь?
— Среди многих других — Пущин, Бестужев-Марлинский и Александр Одоевский, который был близко знаком с Грибоедовым и был личным другом Чавчавадзе.
— Нашло ли пребывание в Грузии какое-нибудь отражение в их произведениях?
— Почти все они писали о Грузии, о Кавказе.
— О Кавказе? Значит, только о красотах природы?
Зураб отрицательно качает головой.
— В своих произведениях они осуждали разбойничью колониальную политику царизма и требовали экономического и культурного развития нашей страны, о которой они писали с большой симпатией.
— Оказали ли эти произведения какое-нибудь влияние на Россию?
— Да. Русский критик Виссарион Белинский в свое время указывал, что благодаря Пушкину и декабристам "Южная Сибирь" стала для русских не только олицетворением неукротимой любви к свободе и неисчерпаемой фантазии, но и олицетворением бурлящей жизни и смелых мечтаний…
Музыкальное интермеццо
Из горного ущелья мы бросаем последний взгляд назад, на мерцающую в вечерних сумерках белоснежную вершину Кавказа. В одном селе, за рекой Иори, в стороне от шоссе, мы нанесли визит Тенгизу, хорошему знакомому Зураба. Визит не импровизированный, как объяснил мне Зураб.
На крытой террасе красивого одноэтажного дома собралась вся семья: Тенгиз, в белой рубашке и темносиних отутюженных брюках, худощавый, примерно 40-летнего возраста; его приветливая, очень застенчивая и несколько робкая жена Бэла; 16-летний сын Шота, который удивляет меня своим необычным почтением ко мне, и 11-летняя дочь Этери, светловолосая, как и мать, но вовсе не застенчивая, по крайней мере не настолько, насколько обычно бывают застенчивыми хорошо одетые девочки с косичками. "Симпатичная, гармоничная семья", — думаю я про себя, не подозревая, какие приятные сюрпризы подарит мне вечер в кругу этих людей.
Под лучами заходящего солнца мы моем на террасе руки под обычным для сельской местности ручным умывальником, напоминающим перевернутый ручной огнетушитель. Хозяйка дома предупредительно держит наготове мыло и полотенце.
Просторная, по-современному обставленная жилая комната, в которой — как можно предположить — нас ожидает празднично накрытый стол, встречает нас приятной прохладой. Половицы натерты добела и покрыты бесцветным лаком, стены покрашены легким слоем розовой краски и со вкусом украшены ярко-красным орнаментом, самим хозяином, естественно…
Тяжелые руки Тенгиза, спокойными жестами которых он лишь изредка подчеркивает свои слова, рассудительная манера говорить — вся его манера поведения позволяет судить о нем как о человеке, который с молодых лет зарабатывает на хлеб своими собственными руками. В течение вечера я узнаю, что по профессии он слесарь и в настоящее время находится на партийной работе, что, однако, не мешает ему, а, скорее, наоборот, — он подчеркивает это — обязывает его читать хорошую литературу. Наряду с грузинскими писателями, такими, как Казбеги, Лордкипанидзе, Думбадзе и Чиладзе, которые ему нравятся, он называет и русских авторов, книги которых — даже если они переведены на его родной язык — он читает только на русском. Приученный, будучи слесарем, к максимальной точности в работе, он и от литературы требует высочайшей точности.
— Я хочу воспринимать содержание книги так, как его представил сам автор, а не как переделал переводчик, — требовательно заявляет он.
Я могу понять желание Тенгиза читать книги на языке оригинала. И все-таки его несколько поверхностное суждение затрагивает мою профессиональную честь…
Мы долго — поглощая мастерски приготовленные и любезно поданные Бэлой горячие и холодные блюда — дискутировали о литературных переводах и об отношении к ним читателей. Разговор за этим гостеприимным столом принимает характер дискуссии, хотя темы во время застолья все время меняются, и мы говорим как об общих жизненных вопросах и мировых событиях, так и о философских проблемах.
Ситуация резко меняется, как только, к моему, но не Зураба, удивлению, приходит еще один гость: Отар. Едва только этот неуклюжий, с проседью и блестящими глазами, человек — если я правильно понял, он работает в Тбилисском оперном театре — сел за стол, как он уже был в курсе всех наших дел и сыпал лукавыми вопросами, забавными историями и шутками, так что смеялась даже застенчивая Бэла, и у всех сидящих за столом и принимавших участие в дружеской откровенной беседе резко поднялось настроение.
Незабываемый вечер. Я вижу, как Зураб выходит на террасу, и следую за ним. Ясная и тихая ночь. Где-то неподалеку поют соловьи. Мы смотрим на звезды…
Во время возвращения в Тбилиси я расспрашиваю Отара о музыкальной жизни в Грузии, и прежде всего о композиторе Захарии Палиашвили, арии которого он исполнял в доме Тенгиза.
Это выливается в длинный разговор, который мы продолжаем и в ресторане гостиницы "Иверия". Собственно говоря, это менее всего напоминает беседу, а скорее походит на темпераментный монолог Отара, который время от времени прерывается добавлениями Зураба и моими вопросами.
По его словам выходит, что развитие грузинской музыки было на столетия задержано монгольским нашествием и последующими нашествиями других народов, и, может быть, даже в большей степени, чем другие виды искусства. Открытые недавно ноты церковных песен относятся к X в., а народная музыка является еще более древней.
На традициях народной музыки родилась и классическая музыка, расцвет которой приходится на вторую половину XIX в. Ее выдающимся представителем является Захарий Палиашвили. Благодаря его творчеству грузинская музыка пережила значительный подъем и заняла свое достойное высокое место в музыкальном мире. Он оставил большое музыкальное наследие. Его трагическая опера "Абесалом и Этери" стала классической национальной оперой.
…Уже довольно поздно. После такого напряженного дня давно пора идти спать, но я задаю Отару все новые и новые вопросы о музыкальной жизни в его стране, да он и сам не может остановиться, рассказывая такие вещи, о которых я дома не смогу прочесть ни в одном лексиконе или справочнике.
— Нашими народными песнями, — говорит он, — восхищались еще в прошлом веке многие выдающиеся русские композиторы, музыканты и певцы.
— Кто, например? — спрашиваю я.
— Антон Рубинштейн, Чайковский и Михаил Ипполитов-Иванов, который, например, в течение нескольких лет собирал и изучал песни грузинских виноградарей. Некоторые из них он использовал в своих музыкальных произведениях.
— Вдохновляла ли и Чайковского грузинская музыка?
— Да. Чайковский объездил всю Грузию, которая вдохновила его на такие музыкальные произведения, как "Спящая красавица", "Иоланта", "Пиковая дама".
…Прежде чем распрощаться, Отар берет с меня обещание, что в последний день перед отъездом на родину, то есть завтра, я обязательно приду на юбилейный концерт, посвященный дню рождения композитора Захария Палиашвили.
— На вечере вы получите представление как о музыке наших крупнейших композиторов, так и о мастерстве музыкантов, певцов и танцоров нашего оперного театра. Это будет праздничным завершением вашего пребывания в Грузии! Думаю, что более прекрасного прощания с Грузией, чем посещение этого концерта, нельзя себе и пожелать…
Трапеза из "тысячи и одной ночи"
Я выхожу на балкон. Подо мной простирается спящий город.
Тбилиси. Начало и конец моего путешествия по Грузии.
За городом лежит аэродром, на который я прилетел несколько бесконечно долгих недель назад. Там же я снова сяду в самолет и улечу. Скоро. Уже послезавтра. Прощание с Грузией, с Зурабом.
Неужели позади только недели, а не месяцы? Неужели за такое короткое время можно так много пережить?
Я уже давно в постели. Передо мной проходят картины увиденного и пережитого, и прежде всего… трапеза под тутовым деревом, которую мне устроили в одном абхазском селе. Все новые и новые картины, которые отгоняют усталость, оживляют беседы, воскрешают бесчисленные вопросы, побуждают к серьезному размышлению…
Я беру в руки книгу, которую со времени своего приезда сюда читаю каждый вечер и которая захватывает меня все с большей и большей силой. Это поэма Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". После всего здесь пережитого я читаю ее совсем другими глазами, воспринимаю не как простую историю из сказочного далекого прошлого с далекими от меня идеалами…
Чем дольше я нахожусь в этой стране, чем больше узнаю о ее настоящем и прошлом и чем больше узнаю людей, тем ближе становится мне поэт со своими героями, со всем тем, что он хочет сказать своим читателям, хочет сказать мне.
…Сильнее блеска луны над горами сияют слова Руставели:
Не вседневными хвалами, я кровавыми слезами,
Как молитвой в светлом храме, восхвалю в стихах ее.
Янтарем пишу я черным, тростником черчу узорным.
Кто к хвалам прильнет повторным, в сердце примет он копье…
О, теперь слова мне нужны. Да пребудут в связи дружной.
Да звенит напев жемчужный. Встретит помощь Тариэл.
Мысль о нем — в словах заветных, вспоминательно-приветных.
Трех героев звездносветных воспоет моя свирель.
Сядьте вы, что с колыбели тех же судеб волю зрели.
Вот запел я, Руставели, в сердце мне вошло копье.
До сих пор был сказки связной тихий звук однообразный,
А теперь — размер алмазный, песня, слушайте ее…
Тот, чей голос — звон свирели, нить свивая из кудели,
Песнь сложил я, Руставели, умирая от любви.
Мой недуг — неизлечимый. Разве только от любимой
Свет придет неугасимый, — или смерть к себе зови…
Взор, увидев свет однажды, преисполнен вечной жажды
С милой быть в минуте каждой. Я безумен. Я погас.
Тело все опять — горенье. Кто поможет? Только пенье.
Троекратное хваленье — той, в которой все — алмаз.
Я читаю поэму и постепенно засыпаю, усталость и масса накопленных впечатлений делают свое дело… И мне снится: я нахожусь в саду…
Откуда-то приближается разноголосый говор, сад наполняется смехом и пением. Мужчина в остроконечной меховой шапке и в шелковой накидке подходит к длинному столу. Сквозь листву тутового дерева на бледное, обрамленное бородой лицо падает лунный свет, играет в бездонной глубине его глаз. Это Шота Руставели. С нетерпением поглядывает он на приближающихся, среди которых я — совсем уже удивляясь — узнаю нескольких декабристов и Чайковского, и произносит:
— Да послужим только миру, и садитесь, чтоб воздать хвалу достойным!
Слышатся хвалебные возгласы Грибоедова, Маяковского и Одоевского, князь Чавчавадзе и Горький аплодируют, все садятся за стол и выбирают Шота тамадой, который, произнеся свой тост, передает рог с вином сыну Абхазии лирику Константину. В своем тосте он поддерживает призыв Шота к мудрости и добродетели, к дружескому единению и миру. Дальше следуют такие же тосты.
Совсем по-другому, взволнованно, говорит кто-то на другом конце стола. По хриплому голосу я узнаю Реваза Джапаридзе. Он напоминает Шота о том, что тот в своей поэме не ратует ни за мир любой ценой, ни за мир со всеми и каждым, а позволяет с ненавистью преследовать и мечом уничтожать каджей, персонифицированный образ сил зла.
— Мы тоже, — говорит Реваз, — в последней войне встречали каджей не с любовью и мирными песнопениями, а с ненавистью и мечом.
Шота твердым взглядом смотрит на Реваза.
— Верно. Человек не должен склоняться ни перед каким угнетением и должен защищать свою свободу, ибо лучше славная смерть, чем позорная жизнь. Об этом я и писал. Но ненависть?.. Не ненависть воспевал я, а любовь.
Степенно кивает в знак согласия чудо-садовник Мамулашвили:
— Ненависть — скверный учитель.
— Но пока имеются каджи, они будут беспрестанно угрожать миру и свободе людей, — вставляет Амиго Николо. — Я научился ненавидеть их во время войны в Италии.
— И все же, Шота, я в принципе согласен с тобой, — говорит Горький, стараясь приглушить свой громкий низкий голос. — Когда человек может по праву назвать себя Человеком? Не тогда ведь, когда его наполняет одна лишь ненависть? Ненависть разъедает то светлое, доброе, что дремлет в любом человеке.
Тут его перебивает Маяковский.
— Я всю свою жизнь полагался на доброе в человеке, так как был воспитан и вырос среди народа, чью любовь вы, — обращаясь к Руставели, — воспели в словах. Но потом…
Грустно в наступившей тишине звучит музыка…
Размышляя, Руставели прохаживается взад-вперед. Когда музыка стихает, он снова подходит к столу и обводит всех долгим взглядом.
— Мои дорогие соратники! — начинает он тихо. — Да, это верно, что в мире есть и Добро и Зло. Над этим я очень много размышлял, и каждый раз передо мной всегда вставал вопрос: что же, собственно, есть Зло, а что — Добро?.. Где я только не искал ответа! И нашел его наконец в нашем народе, в его древних сказаниях о смелом Амирани, который — хотя и подвергся жестокому наказанию — принес однажды людям огонь. У меня будто пелена спала с глаз… Ради кого пожертвовал Амирани своим счастьем и жизнью? Ведь не ради же самого себя, нет, — ради людей! Потому он и стал почитаемым и любимым героем. Добро есть то, что служит на благо человечества! Это вдохновило меня на создание поэмы. По примеру беззаветного друга человечества Амирани и его двух братьев и мои герои — Тариэл, Автандил и Фридон являются беззаветными борцами за счастье людей, являются воплощениями Добра, потому что своей победой над каджами они приносят счастье не только самим себе, но и человечеству…
— Согласен. Прекрасная картина социальной свободы и всеобщего благоденствия! — Горький скептически покачивает головой. — Из поэмы я знаю, как недоволен ты был условиями жизни людей твоего времени и как страстно ты мечтал о достойном человека будущем. И все же эта картина — сказочная, утопическая.
Шота поворачивается к нему.
— Конечно, вы сегодня знаете больше, вы учили историю. Вы отчетливее, чем мог тогда я, осознаете, как, каким образом человечество сможет проложить свой путь сквозь столетия, как в своем поступательном движении вперед оно учится с пользой для себя использовать эту Землю и пресекать происки тоже становящихся опытнее современных каджей.
— В нашей стране мы лишили власти каджей, — говорит Ираклий Абашидзе.
— Да, но в мире они еще существуют. Великая борьба, которую я называю борьбой между Добром и Злом, продолжается и в некоторых странах еще не достигла своего апогея.
— Шота, ты сомневаешься в победе? — Абашидзе поднимается с места. — Войско борцов во имя Добра растет на глазах.
Шота отрицательно качает головой.
— Сомнение в победе "сил Амирани" мне так же чуждо, как и тебе, дорогой Ираклий. Я лишь обращаю внимание на то, что каджи представляют собой еще мощную силу и властвуют над многими людьми, над их разумом. Вы можете считать мое представление о будущем утопическим, но в победе сил Добра — я знаю точно — не последнюю роль сыграет победа Разума.
Грибоедов, недовольный этим ответом, поправляет свои очки.
— Однако разум, уважаемый Шота, приносит страдания. Разве не ты писал об этом?
— Если он довольствуется изучением внешних, поверхностных явлений, тогда да — разум приносит страдания, — отвечает Шота уверенно, — тогда он сбивает с пути. Разум же человека должен исследовать взаимосвязи и взаимодействия различных сил в мире и через это стремится к постижению высшей мудрости.
— А что это означает, по-твоему? — спрашивает Грибоедов с любопытством.
Руставели поправляет свою накидку и, скрестив руки, говорит:
— Попытаюсь очень кратко пояснить… Я верю, что высшая мудрость — в познании того, что счастье от людей не будет скрываться вечно, потому что во все эпохи угнетатели были слабее свободолюбивых сил народа. Вопреки всякой покорности, в том числе и той, к которой призывает церковь, я призываю людей к активному устройству своей судьбы, к борьбе против страданий и зла. Вопреки заявлениям о "непостижимости бытия" я проповедую познаваемость жизни и необходимость познания жизни…
Максим Горький задумчиво поглаживает свои густые усы, покачивает большой головой. Возможно, он думает о своем герое Данко, который вырвал из груди свое пылающее сердце, чтобы осветить людям путь в темноте?
— Ты очень высокого мнения о людях, — говорит он.
Шота твердым голосом отвечает:
— Да, я верю в большие физические и духовные силы человека.
Горький какое-то время размышляет, смотрит на Руставели, а затем говорит:
— Я прошу нашего уважаемого тамаду извинить меня, если я несколько отклонюсь от темы… Говорить о грузинском народе, не чествуя его величайшего поэта, я не могу. Что все-таки объединяет трех витязей его поэмы для совместных действий? Как назвать стремление представителей трех народов к более тесному сближению, к самопожертвованию друг для друга? Где находит свой естественный приют настоящая, страстная любовь между Тариэлом и Нестан-Дареджан, между Автандилом и Тинатин, между мужчиной и женщиной? И наконец, где находит приют непоколебимая вера в окончательную победу Справедливости и Добра над Несправедливостью и Злом? Где возникают и процветают все эти добродетели и мечты, идеи и идеалы, если не в народе?!
Шота, стоя, выслушивает слова Горького и, глубоко тронутый, снимает свою меховую шапку. Под аплодисменты собравшихся Горький опорожняет свой рог. Шота, с обнаженной головой, подходит к нему и кладет ему руку на плечо.
— Благодарю, Максим, — говорит он тихо. — Ты открыл свое большое сердце для моего народа и моего скромного произведения.
Они обнимаются и целуются.
Все за столом приходит в движение. Декабристы произносят здравицы в честь грузинского народа. Чавчавадзе, Ираклий и другие грузины провозглашают тосты в честь русского народа. Слышится громкий гул голосов. Одоевский встает и хочет что-то сказать. Но тут Шота снова выступает во главу стола и движением руки просит тишины. Он начинает говорить, тихо, очень тихо. Я напрягаюсь, чтобы его понять, а он смотрит на меня и наполняет рог вином. Но я ничего не понимаю, ничего не слышу, кроме торжественной музыки. Лунная диадема парит над ним, обвивает венком его густые, мерцающие голубизной волосы. Таким он и подходит ко мне. Словно околдованный, смотрю я на поэта с сияющей лунной короной на голове. Хочу что-то сказать и не могу произнести ни слова, хочу взять наполненный вином рог и не могу поднять руки, протягиваю ее, наконец, с трудом вперед и выбиваю рог из рук Шота… Его лицо вдруг превращается в лицо Зураба…
С необычным шумом рог падает на стол, я от него просыпаюсь… Оглушенный, я приподнимаюсь на кровати и осматриваюсь. Зажмуриваю глаза. Луна ослепляет меня. В ее свете на полу я замечаю книгу, которая выпала у меня из рук, — "Витязь в тигровой шкуре"…
Цветодинамический музыкальный финал
"Тбилиси — это совершенно европейский город, удачно расположенный, красивый, с прекрасным климатом, солидными торговыми заведениями, с превосходным оперным театром, — короче говоря, город, который полностью соответствует притязаниям цивилизованного европейца. Но наряду с европейской частью в Тбилиси имеется и настоящий, совершенно азиатский город. В этом сочетании Европы и Азии — его главное очарование".
Эти слова, сказанные Чайковским почти сто лет назад, приходят мне в голову, когда я сижу в большом зале суперсовременного здания филармонии. Отчетливее, чем где-либо в Грузии, где я побывал, здесь мне становится ясным, насколько правильными были наблюдения Чайковского. Я ощущаю это в грузинских народных песнях, ариях, хоровом пении, в сценах из опер и балетов и в фортепьянных пьесах Палиашвили, Лагидзе, Чимакадзе и Цинцадзе; я чувствую это в совершенной своеобразной и в то же время пульсирующей гармонии, в которой грузинская музыка соединяется в одно прелестное целое с музыкой Моцарта, Шопена, Пуччини и Прокофьева. Уже феноменальное, приковывающее внимание и слух начало концерта, которое в программе называется "Цветодинамическая композиция финала оперы Палиашвили "Абесалом и Этери", действует на меня как живое слияние Европы и Азии, Запада и Востока…
Грузинские народные песни и танцы, арии из опер Пуччини, Прокофьева, Палиашвили, "Ноктюрн" Шопена, — и все снова и снова подкупающие цветосветовые эффекты, которые ненавязчиво подчеркивают мастерское музыкальное исполнение…
Отар явно не подозревал, какой хороший совет он мне дал, когда рекомендовал побывать на этом действительно праздничном концерте. Кто знает, когда бы мне еще удалось объединить все переживания и впечатления от пребывания в Грузии и выявить, в чем заключено притягательное очарование не только Тбилиси, но и всей Грузии…
Волнующим исполнением хора из второго акта оперы "Абесалом и Этери" — одним из лучших хоров, созданных Палиашвили, — заканчивается концерт, но не день, во всяком случае для меня.
В фойе, где я ожидаю Зураба, через толпу людей ко мне пробираются Нодар Думбадзе и его жена, позади них показываются Реваз Джапаридзе и Кетеван. Тариэл машет мне рукой через головы, сзади по плечу меня хлопает Амиго Николо, а когда я поворачиваюсь к нему, то передо мной стоят Отар и Элисо. Они спрашивают, как мне понравился хор, балет, оркестр, как понравилась Грузия, не хотят меня отпускать, хотят провести этот вечер со мной, хотят скрасить его, хотят меня пригласить к себе…
Зураб, только что подошедший, прилагает все силы, чтобы увести меня к себе. Последний вечер я обещал ему. И даже когда мы уже сидим в машине, то продолжают раздаваться слова прощания… Машина трогается, и тут мне на колени падает белая роза. Я оборачиваюсь: махая рукой, вместе с другими на тротуаре стоит Элисо. Громче других раздаются прощальные приветствия Амиго Николо.
Прощание с Грузией. Прощание с Зурабом…
… Неужели, сидя в квартире Зураба, мы празднуем отъезд? Разве что-либо подобное празднуют?
Зураб предоставил мне место рядом с собой, в честь меня он пригласил в гости трех своих лучших друзей с женами. Это делают здесь не для того, объясняет мне Отар, чтобы просто составить приятную компанию. Это делается лишь тогда, когда в свой дружеский круг принимают нового человека, хотят видеть его своим другом и сами стать его друзьями.
Беседа вращается вокруг музыки, затрагивает различные течения и тенденции, касается открытий нового и старого новыми и старыми композиторами; разговор идет о Чайковском, Палиашвили и Сергее Прокофьеве, который в Тбилиси завершил свою оперу "Война и мир"; обсуждается высказывание Рубинштейна о том, что из всей Европы только в Испании могут отбивать такие же ритмы, как в Грузии. Музыка является неисчерпаемой темой в обществе Отара. Временами он ведет разговор один, лишь изредка его дополняет Зураб и прерывают другие, чтобы задать вопрос или попросить поподробнее объяснить тот или иной момент.
Вдруг, словно вспомнив о главном, о собственно поводе нашей встречи, он смотрит на Зураба и на меня. Неожиданно серьезно, подчеркнуто торжественно он обращается на родном языке к Зурабу и явно спрашивает его о чем-то, продолжая посматривать на меня. Теперь и на лице Зураба появляется такая же торжественная серьезность. Он смотрит на меня, кивает и указывает на сервант, стоящий позади меня.
Степенной походкой Отар идет к серванту, достает странный, разделенный надвое, явно предназначенный для питья керамический сосуд и ставит его перед собой на стол.
— Это марани, — говорит Отар и поясняет мне, продолжая стоять, что это за сосуд.
Я рассматриваю его поближе. Он состоит из двух больших полукруглых, соединенных друг с другом кружек, между которыми вделана своеобразная, расположенная горизонтально ручка. Из марани пьют, как я узнаю, вдвоем и лишь по особо праздничным случаям, когда клянутся друг другу в верности, в верности на всю жизнь: обрученные — когда вступают в брак, и мужчины — когда пьют на брудершафт.
В комнате становится совсем тихо. Мое сердце трепетно бьется, и я импульсивно обнимаю Зураба за плечи и притягиваю его к себе.
Так мы и стоим рядом, пока Отар с наполненным белым "Цинандали" марани в руках не подходит к нам. Так мы и пьем оба, голова к голове, из нерасторжимо соединенных кружек марани.
Прощание с Грузией. Прощание с Зурабом…
До поздней ночи продолжается прощальный вечер. Ни один не смотрит на часы, никого не покидает хорошее настроение. Что это: неужели за окном проясняется небо? Неужели занимается заря? Не знаю. Лишь одно я знаю, и знаю определенно: я праздную прибытие в Грузию. Прибытие!
ИБ № 13069
Редактор русского текста А. Ф. Лаврик
Художник В. В. Киреев
Художественный редактор А. Д. Суима
Технические редакторы Т. И. Воскресенская и А. М. Токер
Корректор Н. И. Мороз
Сдано в набор 17.05.83 Подписано в печать 19.10.83. Формат 84х108
1/
32. Бумага офсетн № 1. Гарнитура литературная Печать офсетная. Условн печ л. 7,56 + + 2,1 печ л. вклеек. Усл кр. отт 10,6 Уч. — изд л. 10,05. Тираж 50 000 экз. Заказ № 426.
Цена 95 коп. Изд Хе 36818
Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17 Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Можайск, ул Мира, 93
1 руб.


Гюнтер Штайн родился в 1922 году в Дессау, в настоящее время живет и работает в Ленитце (ГДР). Свободный писатель, автор ряда романов и рассказов, переводчик советской литературы на немецкий язык. Перевел около ста произведений советских авторов. Лауреат Национальной премии ГДР и Литературной премии имени Фонтане.
Неоднократно бывал в Советском Союзе, хорошо знает советскую действительность.
Оглавление
Горячий прием
Таинственная шкатулка
Доверие
О чем говорят камни
Приятные неожиданности
В гостях у абхазов
Затонувший город
Восточный ренессанс
Двойная удача
Неведомыми путями
И на старуху бывает проруха
На родине Маяковского
Ночевка в домике виноградаря
Окольными путями
Народный праздник поэзии
Город в скале
Таинственная ночь
Поучительный взгляд с вершины Мтацминды
Сирота Нико
Потайной подвал
Замок "Цинандали"
Музыкальное интермеццо
Трапеза из "тысячи и одной ночи"
Цветодинамический музыкальный финал


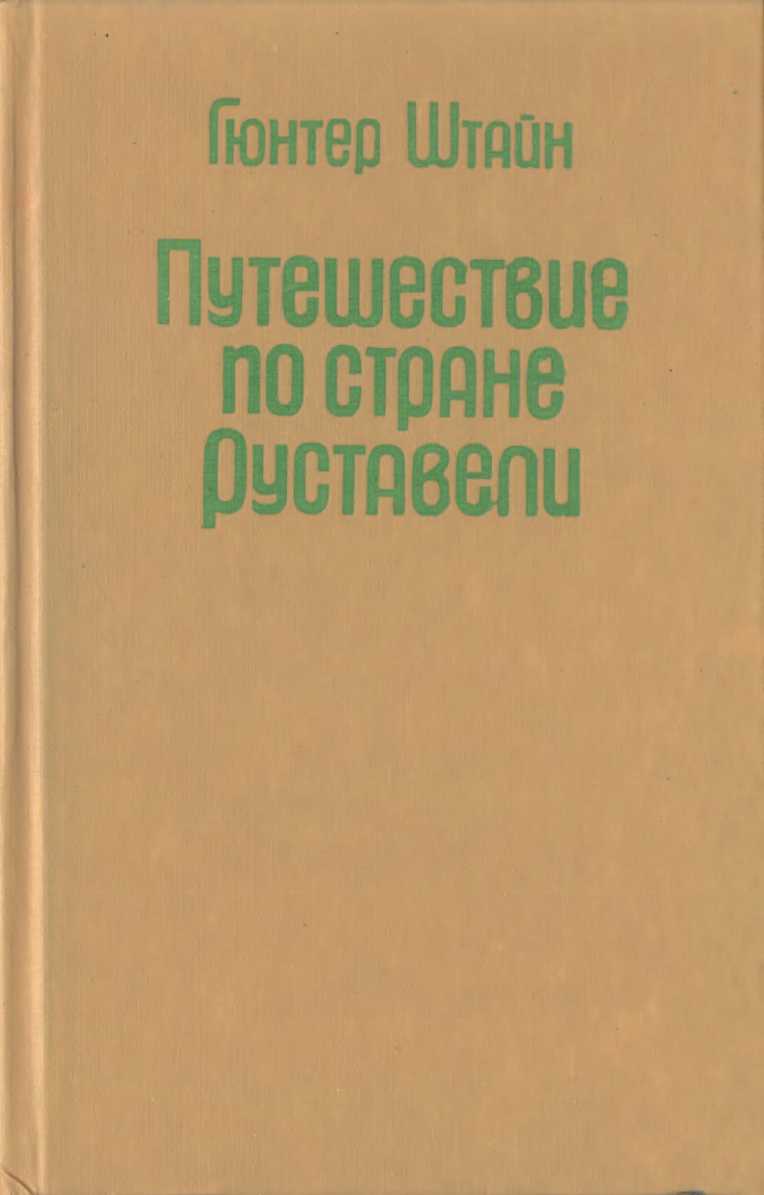
 Монумент "Мать-Грузия"
Монумент "Мать-Грузия"
 Памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасалу
Памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасалу
 Светицховели "слушает" оперу
Светицховели "слушает" оперу

 Грузинские пейзажи
Грузинские пейзажи


 Вид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
 Грузинский писатель Нодар Думбадзе
Грузинский писатель Нодар Думбадзе
 Новое в архитектурном облике Тбилиси
Новое в архитектурном облике Тбилиси
 Продукция Грузинской ССР
Продукция Грузинской ССР




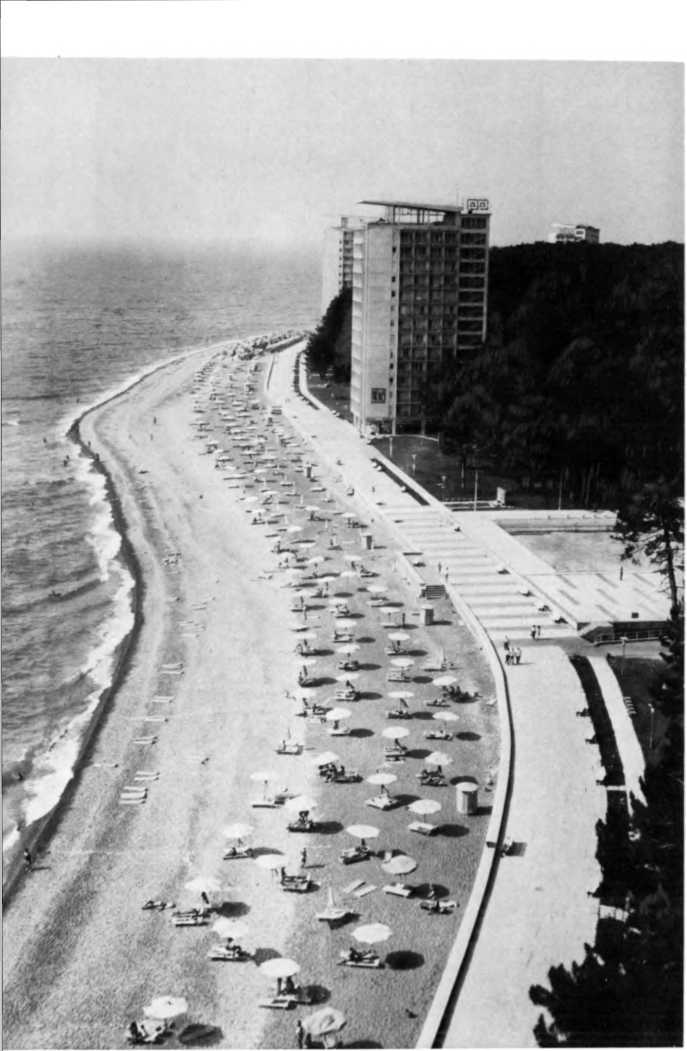 Курорт Пицунда
Курорт Пицунда
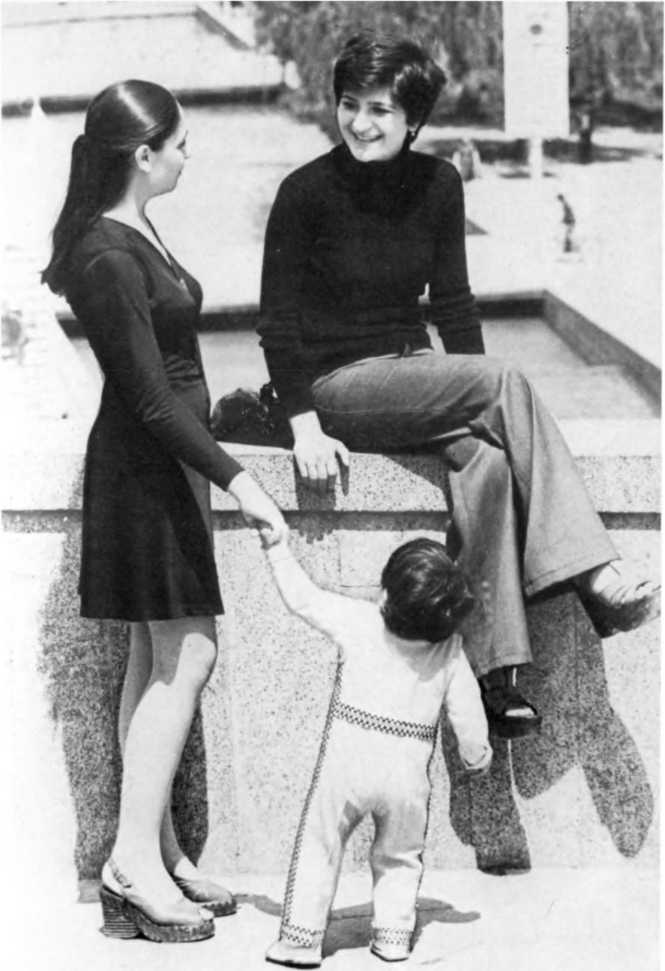 Тбилиси. Уличная сценка
Тбилиси. Уличная сценка
 Древняя Ананурская крепость
Древняя Ананурская крепость


 Юный горец
Юный горец


 Военно-Грузинская дорога
Военно-Грузинская дорога
 В Грузии бывает и такое: выпал снег
В Грузии бывает и такое: выпал снег

 Грузинский тамада
Грузинский тамада
 Юные артисты
Юные артисты




 Юные спортсмены
Юные спортсмены


 Отдых в горах и… в бассейне
Отдых в горах и… в бассейне
 В детском городке в Тбилиси
В детском городке в Тбилиси

 Приход телевидения в горы
Приход телевидения в горы
 В лабораториях грузинских ученых: на ядерном реакторе
В лабораториях грузинских ученых: на ядерном реакторе
 Курорт Боржоми
Курорт Боржоми

 На чайных плантациях Грузии
На чайных плантациях Грузии
 Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии
 Мимозы Аджарии
Мимозы Аджарии
 Из этого источника пил А. Пушкин, путешествуя по Военно-Грузинской дороге
Из этого источника пил А. Пушкин, путешествуя по Военно-Грузинской дороге

 Путешествуя по Грузии, хорошо полакомиться шашлыком
Путешествуя по Грузии, хорошо полакомиться шашлыком
 Юная горянка
Юная горянка

